Круг [Яныш Ялкайн] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

ЯНЫШ ЯЛКАЙН
КРУГ
РОМАН

*
Перевод с марийского Вл. МУРАВЬЕВА
Общественная редколлегия: Васин К. К., Иванов А. Е., Краснов П. В., Крупняков А. С., Липатов А. Т., Матюковский Г. И., Медяков К. Г., Муравьев В. Б., Столяров В. С.
© Марийское книжное издательство, 1980
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Амина — круглолицая, стройная и крепкая, как зрелая рожь, девушка — вышла со двора на улицу. Небо-горело алым заревом заката. В неподвижном, словно изнемогшем от усталости воздухе далеко по деревне разносились все звуки: вот заскрипела телега — видать, кто-то припозднился на поле и теперь торопится домой; вот брякнули пустые ведра — кто-то пошел по воду; вот где-то на задах, за сараем, залаяли собаки; в низинке, на лупу, заржала лошадь… Быстро бледнела и угасала заря, и на противоположной стороне темнеющего неба поднималась похожая на медную пуговицу яркая луна. Амина шла по улице, направляясь в конец деревни, где обычно собиралась по вечерам на гулянье деревенская молодежь. А все ее мысли — об Эмане. Да и что тут скажешь, всем взял Эман: и гармонист, и плясун, и песни петь мастер, и на язык востер. Как такого парня не полюбить? Гулянье в разгаре. Рассевшись на бревнах возле недостроенной избы, парни и девушки смеются, громко перекликаются, раздаются переливы гармоники. Амине в темноте не видно, кто играет, но она по звуку узнала гармонь Эмана. Второй такой гармони ни у кого нет не только в их деревне, но и в соседних. Она не похожа на все другие так же, как ее хозяин не похож на других парней деревни Кома. Эту гармонь Ардаш привез Эману из далекого города. Амина подошла поближе. Гармонь действительно Эманова, а играет на ней другой парень — по уличному прозвищу Кудряш. Но где же сам Эман? И спросить нельзя — засмеют… — Присаживайся, Амина! Что стоишь как бедная родня? Амина села на бревно рядом с подругами. Играли в «колечко». Кто-то из парней предложил: — Давайте поборемся. Кто на меня? — Я! — отсевался Кудряш, лениво перебиравший лады гармони, кинул гармонь на колени сидевшей рядом с ним девушки и вышел на середину круга. Гармонь, издав жалобный звук, затихла. Амине гармонь показалась живой, она от души пожалела ее и мысленно упрекнула гармониста в бессердечии. Ей хотелось взять гармонь к себе, но она не решилась. Но тут девушка, державшая гармонь, сказала: — Почему я одна должна ее держать? Подержите и вы! — и она бросила гармонь на колени другой девушке, та перекинула ее сидевшему рядом с ней парню. Амина не выдержала: — Разобьете, черти! — Ха-ха-ха, дайте и мне, я тоже подержу! — парни нарочно стали перекидывать гармонь друг другу, и каждый раз гармошка жалобно взвизгивала. Амина раскраснелась, чувствует, вот-вот брызнут слезы, хорошо, в темноте не видно. И вдруг гармошку бросили ей. — Кидай сюда! Кидай мне! — раздалось несколько голосов. — Хватит! — решительно сказала Амина. — Наигрались. Вон, уже один наугольник оторвали. Амина прижала гармонь к себе и, рассматривая ее блестящие наугольники, думала: «Где же все-таки Эман? Неужели он один ушел на свадьбу? Может быть, у него в той деревне тоже есть девушка?» — Амина, ты не играешь? — парень с кольцом, видя что она кивнула, прошел дальше. Тут на место вернулся Кудряш. — Дай-ка, еще сыграю, — потянулся он к гармони. — На, только ты поосторожней, — отдавая гармонь, предупредила Амина. — Вон с верхнего угла один наугольник уже оторвали. — Кто оторвал? С другого конца послышался писклявый голос. — Хи-хи, кто же, кроме тебя? Ты же играл! — Вот погоди, Эман даст тебе за это по башке, — добавил другой. Кудряш не обижается. — Возьми наугольник, — сказал он Амине. — А то потерею. Ну, что сыграть? Э-эх, играй, гармонь — малиновы меха! Амина спрятала наугольник за пазуху. Слушая игру Кудряша, она тихонько насвистывала грустный мотив, продолжая думать об Эмане. Грустно и на сердце у Амины. — Все уже собрались, пойдемте! — вдруг оказала одна из девушек. Несколько голосов подхватили: — Верно, свадьба нас не станет ждать, пошли! Сегодня в соседней деревне Луй играли свадьбу, поэтому парни и девушки из Комы заранее уговорились пойти посмотреть. — Гармонист, что расселся, как корова, пойдем! — Будете обзывать, с места не тронусь! — Прикажешь кланяться тебе? — Взял у Эмана гармошку и думаешь, сразу гармонистом стал! — Отстаньте, никуда я не пойду. — Умолять тебя что ли, нашелся барин какой. — Ладно бы, играть умел как следует! А то ведь — еле-еле, а нос задирает! — Пойдешь или нет — твое дело, а гармошку давай сюда. — Не дам! — Почему? — Оман никому не велел отдавать. Тут Амина осмелилась и спросила: — А сам-то он куда ушел? Кудряш не успел ответить, как парень, который требовал гармошку, выхватил ее у него из рук, растянул меха и громко заиграл. Тотчас его окружили парни и девушки и гурьбой пошли за околицу по дороге, ведущей в деревню Луй. Одна из девушек обернулась и спросила: — Амина, ты разве не идешь? — Она об своем Эмане страдает, — отозвалась другая, и обе, хохоча, исчезли в темноте. — Зря гармонь отдал, — сказала Амина Кудряшу. — Сердишься? — спросил он. — Хозяин рассердится. — Не об гармони ты скучаешь, а об ее хозяине, — вздохнул Кудряш. — Вот и неправда! Ну, ладно, мне пора, завтра рано вставать. — Девушка поднялась и пошла. — Амина!.. — Кудряш вскочил и пошел рядом с девушкой. Она зевнула и искоса посмотрела на него. — Амина, ты думаешь, Эман тебя любит? — Нужен мне твой Эман, — ответила она, но про себя думала: «Почему он не пришел? Ведь договаривались. Зачем обманул?» — Дочери такого богатого человека… — вновь заговорил Кудряш вкрадчиво. Амина нахмурилась. — Дочери такого богатого человека, — повторил Кудряш, — разве гоже идти замуж за нищего? Амина не ждала такого открытого разговора, вдруг остановилась, блеснула глазами. — Пусть бедный, пусть пастух, зато многие даже мизинца его не стоят. — Ты позоришь наш конец деревни. — Что же я могу поделать, если на нашем конце все богатые, а хорошего жениха нет. — Неужели ни одного? — Ни одного: каждый или дурак, или, как ты… теленок. — Так… значит, издеваешься? — Правду сказать, это, по-твоему, издевательство? Кудряш обозлился. — Ну, ладно. Плюнул — плевок обратно не подберешь. Но ты еще пожалеешь, что так оказала. — И не подумаю… — Амина, ну почему ты… — Шел бы ты отсюда, Кудряш, — перебила его Амина, — отеи увидит — отведаешь кнута. Он страсть ухажеров не любит. Кудряш остановился и- долго смотрел вслед удаляющейся девушке. Амина подошла к своему дому, срубленному из толстых, кряжистых бревен. В темноте весенней ночи поблескивали окна. От высокой изгороди падала тень на тропинку, протоптанную рядом с дорогой вдоль улицы мимо дома и забора. На высоких тесовых воротах в лунном свете, будто заячьи глаза, блестели прибитые для украшения железки. Взглянув на блестящие железки на воротах, Амина вспомнила про блестящий наугольник от гармошки Эмана, достала его из-за пазухи, присела на лавочку возле дома. Издали доносилась гармошка, веселая песня. «Как бы гармонь не разбили, — думает Амина, — наверняка наши сегодня передерутся с луйскими. Надо было мне тоже с ними пойти, я бы гармонь оберегала. Но где же все-таки Эман? Неужели он нарочно пошел на свадьбу один? Неужели у него есть уже там зазноба? Ах, надо было идти, зря не пошла! И гармошку сломают…» Песня, удаляясь, доносилась все тише и тише. Но вдруг Амина вскочила. Она услышала, что гармонь заиграла совсем по-другому: уверенно и легко, и девушка сразу решила, что это заиграл сам Эман. «Эман с ними? Ушел от меня тайком? — с обидой подумала она. — Ну, ладно, иди, иди! Раз так, то и ты мне не нужен, как этот твой наугольник!» Амина бросила наугольник и вдавила его ногой в землю. Ворота были на запоре, она не стала стучаться, перекинула вдруг отяжелевшее свое тело через изгородь. Вдалеке играла гармонь, пели девушки. Но звуки эти становились все тише и тише, вот они уже еле слышны, затем и вовсе замерли, словно растаяли. Пусто на деревенской улице. А возле дома Амины на тропинке тускло поблескивает под луной наугольник, оторванный от гармони Эмана.Матвей Матвеевич Эликов — этнограф, путешествующий по губернии с целью изучения и описания жизни и быта марийцев, выехал из деревни поздним вечером. Прежде он никогда не пускался в путь на ночь глядя. Зачем ездить по ночам, когда вполне хватает дня? Да и спешить особенно некуда. Правда, к досаде этнографа, образ жизни людей быстро меняется, однако это не причина, чтобы скакать по ночам, как исправник в мобилизацию, подгоняя ямщика тумаками. Но сегодня так уж сложились обстоятельства, что Эликов изменил своему обыкновению. Пара лошадей бойко бежит рысью, звонко переговариваются между собой колокольчики. — Э-эп, э-эп, яныка-ай![1]—погоняет ямщик пристяжную, и голос его звучит ласково, словно он обращается к любимой девушке. Но Эликов — русский, по-марийски не понимает, поэтому ему слышится, что ямщик называет лошадь «лентяйкой». Рядом с тарантасом, не отставая, бежит черная тень. В ней Эликову видится что-то зловещее, как и в той толпе, что собралась сегодня в деревне, из которой он удирает. Чтобы не вспоминать об этом, он старается не смотреть на тень. Но забыть сегодняшнее происшествие не в его силах. «Неужто и вправду убили бы?» — думает Эликов. Неделю назад он приехал в деревню Кома, велел ямщику везти себя прямо на постоялый двор. Ямщик остановился возле избы, к углу которой была приколочена вывеска: «Казенная квартира». Эликов вошел внутрь. «Казенная квартира» оказалась обыкновенной избой без перегородок, с бегающими по стенам тараканами. Пол-избы занимала печь, посреди стоял грубо сколоченный стол, вместо стульев — скамейки да еще широкие нары у стен. Рамы в окнах одинарные, стекла засижены мухами. Напротив, через сени, хозяйская половина. Оттуда навстречу приезжему вышла не старая еще, лет под тридцать, баба. — Ты что ли хозяйка? Где у вас тут останавливаются приезжие? — спросил Эликов по-русски. Баба заправила волосы под шынашовыч,[2] вытерла нос подолом рубахи, уставилась на Эликова и испуганно проговорила: — Не знаем, госпоин… — Ты чего, не понимаешь что ли? — Не знаем, госпоин, — повторила баба. — Позови кого-нибудь, — сдерживая раздражение, сказал Эликов, стараясь пояснить свои слова жестами. — Старосту, десятского, черта, дьявола — все равно, лишь бы понимал по-русски! «Не знаем, госпоин», — передразнил Эликов хозяйку. Баба в сердцах сплюнула и ушла, хлопнув дверью, во двор, где ее муж чинил борону. — Сам к нему ступай, — ворчливо сказала она. — Говоришь… авось не съест, а такой и съест — не подавится. Обругал меня чертом, дьяволом да еще язык, как дурак, высунул. — Сама ты дура! Я же тебя учил: спроси, поставить ли, мол, самовар. Скажет «да» — поставь, скажет «нет» — не надо. Э-эх, баба-баба, даже этого не сумела сделать! — Да он мне слова не дал сказать, залопотал, залопотал чего-то. — Эх, баба — она баба и есть. — Заладил одно и то же! Сам-то ты на что годишься, шайтан полудохлый! Видно, своим упреком она угодила в больное место— муж обложил ее матом и пошел в избу. Хозяйка направилась за ним и, войдя, встала у дверей. Пока муж разговаривал с приезжим, она разглядывала вещи этнографа, которые внес ямщик: какой-то чудной, обтянутый кожей ящик с ременной петлей, толстую черную палку с блестящими накладками, кожаную туго набитую сумку, из которой торчал угол книги, кожаный сундук с внутренним замком. «Наверное, подати собирать приехал, — думала хозяйка, — и то: недоимки за нами много, недаром говорили: кто не заплатит, того в чижовку посадят. Наверное, это и есть начальник по недоимкам. А я-то, дура, не сумела ему угодить. Вон как он рассердился! Кабы худа какого не сделал моему мужику. Ишь, схватил свою толстую палку и придавил таракана на стене. Да нешто можно давить тараканов — от них счастье в дому! Вот прошлый год вернулся с японской войны сын Калинки с нижнего конца и принялся заводить в доме новые порядки: в окна вставил вторые рамы, побелил стены известкой, пол заставил вымыть с мылом, морил клопов какой-то отравой, потом взялся за тараканов. Мать, само собой, была против, да что поделаешь! Пришлось ей со снохой и внучкой смести тараканов на простыню, вынести за ворота и вытряхнуть. Вытряхивали они да приговаривали: «Уходите подальше и деток с собой уводите!» Как раз в это время шла мимо соседка. «Что делаете?»— спрашивает. Калийка ей отвечает: «Сын вот требует, чтобы в избе тараканами и не пахло, приходится их выпроваживать». Соседка говорит: «Счастье свое вы выгоняете. Разве не знаешь, что от тараканов счастье в дому?» Тогда Калинка собрала оставшихся тараканов в горсть и унесла обратно в избу. Вечером вернулся сын, видит, тараканов стало меньше, но все равно шуршат по стенам. Послал он меньшую дочь к учителю Петру за отравой и поморил всех до единого. Тараканов-то повывел, да только месяц спустя дочка его качалась на качелях, упала и сломала ногу, жена выкинула, а в клеть к ним забрались воры. Вот после этого и мори тараканов! Я-то их никогда не трогаю. Рассказала мужу про Калинку, он в ответ: «Дура ты безмозглая, не в тараканах счастье, а в достатке». И давай меня ругать! Потом…» Громкий окрик мужа прервал ее размышления: — Чего встала, как пень! Бери, говорю, вещи! — Уходит что ли начальник-то? Куда? — Куда надо. На держи, там увидишь! Муж сунул ей в руку кожаный сундук, который приезжий называл чемоданом, сам подхватил сумку с ящиком, и они вышли на улицу. Идти пришлось недалеко: к лавочнику, всего за три дома. Приезжий по дороге все что-то говорил мужу, часто повторяя слова «тараканы» и «блохи».
Остановившись на квартире у лавочника, Эликов первый день отдыхал. Потом пошел бродить по деревне, при встрече с бородатыми стариками или сгорбленными старухами старался завести разговор, но те отвечали неохотно или, сославшись на незнание русского языка, спешили поскорее убраться восвояси. Однако через несколько дней в деревне к нему попривыкли. А так как он подолгу бывал в лавке, кто-то пустил слух, что приезжий — новый приказчик, и, решив, что он невелик барин, некоторые стали вступать с ним в разговор. Как-то приезжий провел целый день на нижнем конце деревни у богатого мужика Орлая Кости. Все, особенно женщины, были несказанно удивлены, когда узнали, что он там делал. Да и как тут не удивиться: оказалось, что в летней кухне он снял с котла закопченный сажей крючок и измерил его кожаным аршином, потом зарисовал карандашом в тетрадку, занимался и какими-то другими столь же непонятными делами. Потом по деревне распространился слух, что приезжий русский покупает старинные марийские вышивки, домотканные холщовые полотенца, дает за них хорошие деньги, и у всех спрашивает, нет ли у кого старинных стрел. Народ толпой повалил в лавку: кто несет старое вышитое платье, кто шымакш, кто еще что-нибудь. Пришел однажды с узелком в руке и Эман. Он пригладил усы и спросил лавочника: — Говорят, ты старинные вещи берешь? — Не я, а мой постоялец. — Новый приказчик что ли? — Какой он тебе приказчик? Ученый человек, вот он кто! — Вот оно что! Ну, тогда зови сюда своего ученого. — Ишь ты, быстрый какой! Не видишь что ли, люди раньше тебя пришли, и то дожидаются. — Что, они тоже стрелы принесли? — Неужто стрелу отыскал? — Мы не то, что некоторые! Я бы с какой-нибудь ерундой не пришел. Вот у тебя, тетушка, к примеру, что там такое? — У меня, милый, светец! — А у тебя. что, дедушка? — Да вот, принес лапти из бересты. — А ты что, сестренка? — Вышивку. — Вот видишь, уважаемый, — Эман повернулся к лавочнику, снова пригладив усы и уперев руки в бока. — Все принесли бросовые вещи, а у меня старинное, так сказать, марийское оружие. Можешь ты это понять? Иди, скажи своему ученому, мне долго ждать недосуг. Лавочник засмеялся, за ним засмеялись и остальные, собравшиеся в лавке, как бы угождая ему. — Ишь, барин какой нашелся, ждать ему недосуг! Ха-ха-ха!.. — Ну, коли так, я другому ученому продам. Как раз сегодня в город еду. Там один барин еще с прошлого года все ко мне пристает: «продай» да «продай». — Погоди, Эман, я ж смеюсь не со зла, не обижайся. Сейчас скажу постояльцу, он, небось, уже отобедал. Стрелами-то он особенно интересуется, наверное, возьмет, — сказал лавочник и почему-то вздохнул. Он ушел через левую дверь в другую половину дома и, вернувшись, сказал; — Господин ученый сейчас выйдет. А вы кончайте тут своей махрой дымить, запах от нее тяжелый. Бери-те-ка лучше папиросы «Шуры-муры». Дешево и мило! — Вот продам свой товар, куплю твои «Шуры-муры», — пообещал Эман. — То ли продашь, то ли нет, — вздохнула женщина, державшая в руках вышитый нагрудник. Вскоре дверь отворилась, в лавку вошел Эликов. Все столпились вокруг него. Он бегло осмотрел вещи, приговаривая: «Это не возьму, это не надо, такое уже есть». Потом спросил: — Кто принес стрелу? Эман снял шляпу, пригладил усы и протиснулся вперед: — Я принес, господин ученый, от прадедушки еще осталась. Кто-то в толпе засмеялся, но ученый взглянул строго, и смех оборвался. — Не шумите! — крикнул лавочник. — Кто не продает, не покупает — идите по домам! Приходите завтра, завтра привезу новые товары — ленты, соль, чай, кренделя. — Нельзя ли об этом попозже? — сухо спросил Эликов, и лавочник сконфуженно замолчал. Люди стали расходиться. Немного погодя из лавки вышел Эман с папиросой в зубах. С тросточкой в руках, как какой-нибудь барин, он важно вышагивал серединой улицы. — Продал стрелу, браток Эман? — спросил старик, сидевший возле своего дома. — Хе, я да не продам! На-ка, дед, папироску. Ох и душиста! — Правда, мороша. Ты знал, что он стрелы ищет? — Я такого дурака давно поджидал… — Нешто можно ученого человека дураком обзывать? — Был бы умным, не купил бы стрелу, которую я сам вчера сделал. А он, дурак, поверил, что она мне от прадеда досталась. — Да ну-у? — Вот те ну! Только никому не сказывай! — Ха-ха-ха, браток Эман, ло-овко! Но слух о том, что Эман, сын Орванче Кугубаева, надул ученого, пошел по деревне.
Хозяйка «казенной квартиры» гостила в Боярсоле — соседней деревне — у замужней сестры. Вечером там собралось несколько женщин, и пошли пересуды про приезжего, мол, не похож он ни на приказчика, ни на сборщика податей, и кто же он такой есть? Одна из соседок высказала предположение: — Видно, он из тех татар, что всякий хлам собирают. Говорят, потом из этого хлама бумагу делают. — Никакой он не татарин, — оказала другая, — и не похож на татарина. Русский он. Из себя видный такой… — Красивый? — Ха-ха, тебе-то что до его красоты? — Как что? Или забыла, что она солдатка? — Муж-то все еще в японском плену? — Ну да, где же еще быть ему? — Чего же он старые вещи покупает? Может, торговец все-таки или приказчик? — Да нет, наш лавочник говорит, что он ученый какой-то. Уж лавочнику-то лучше знать. — А какое старье он берет? — Не старье, а вещи старинные: вышивки, шымакши, поддевки, стрелы, ковши старые, светец и всякое такое. — Коли так, то вы там, в Коме, хорошо подзаработали, тетушка? — Куда там! Он же не все подряд берет, с выбором, да и платит не так уж много. Богатым, говорят, платил дороже. — Богатый всегда с прибылью, потому что есть чем угостить… — Вот я слыхала, что скоро опять война с Японией, поэтому, видать, и собирают одежду и стрелы. — Кого же нынче на войну брать? Мужиков и так мало. Остатки подберут, и на племя не будет… — Баб станут брать, остригут волосы и… — Будет вздор-то молоть! Пусть лучше тетушка расскажет, что еще делал в Коме этот русский. — Что делал? Чудной он какой-то. Гляжу, топчется вокруг летней кухни Орлая, углы ощупывает — мерит, по бревнам стучит. Вынес из кухни пивной котел и ну в наго колотить. Потом залез на крышу, посмотрел оттуда в какую-то длинную трубу и запел петухом. — Ой. бабоньки! — воскликнула одна женщина. — Я знаю, кто он такой! Он колдун! Ей-богу, колдун^ Или ведьмак. — Насылает на баб бесплодие, — сказала женщина в старом платке. — Откуда ты знаешь? — подозрительно спросила ее соседка в городской дорогой шали. — Да так уж, знаю. — Нет, ты скажи, почему ты всегда больше других знаешь? — Ты бы тоже рада знать, да ума не хватает. — У кого? У меня? — У кого же еще! — Да как ты смеешь так говорить, а? — Не ори, думаешь, если богатая, так все тебя боятся, бессовестная!.. — Перестаньте, не надо, — принялась унимать их хозяйка, но было видно, что на самом деле она была бы не прочь посмотреть, как эти двое вцепятся друг в друга. — Что ты сказала? А ну-ка, повтори! — И повторю! — женщина в старом платке осмотрелась кругом. Все выжидающе молчали. Тогда она повернулась к богатой соседке, которая стояла, скрестив руки на груди, засмеялась и вдруг, оборвав смех, со смаком плюнула богачке в лицо. Та, не утершись, рванулась к обидчице, вцепилась ей в волосы, и обе покатились по полу. Хозяйка, стоявшая возле окна, вскрикнула: — Кто-то на тарантасе с того конца едет! Из Комы, видать. Сестрица, не знаешь ли, кто такой? Гостья из Комы подошла к окну. — Ой, господи! Это же русский колдун! Ей-богу, он! — Ба-боньки! Нечистая сила! Прячьтесь! — Быстрей, быстрей! — женщины, толкая друг друга, кинулись к двери. Те. что дрались, вскочили с пола и, не поправив распатланных волос, выбежали из избы следом за другими. Хозяйка дома, встав у окна так, чтобы ее нельзя было заметить с улицы, осторожно наблюдала за проезжавшим по улице человеком, одетым в черное. На козлах сидел парнишка — младший приказчик из Комы. Когда они проехали мимо, хозяйка облегченно вздохнула. Между тем тарантас свернул к дому писаря. — Дядя, — сказал парнишка пожилому писарю, который что-то мастерил, орудуя ножом, — хозяин велел тебе сказать, чтобы получше за этим гостем ухаживал. — Добрый день, — поздоровался Эликов по-русски. — Добрый день, присаживайтесь, сейчас самовар поставлю, — засуетился хозяин. — Ты сельский писарь? — спросил Эликов. — Так точно, ваше благородие! — словно солдат, отрапортовал писарь. Эликов улыбнулся, положил на лавку свою сумку и черную палку, сел за стол. — Ну, что ж, давайте чайку попьем. Хозяин налил воды в небольшой серебряный самовар, дал парнишке углей и лучину, чтобы разжечь его, а сам подсел к гостю. — Позвольте узнать, издалека ли будете? Эликов вынул из кармана бумагу с царским гербом и протянул писарю. Тот взял ее, предварительно обтерев руки о поддевку, прочел. — A-а, понимаю, — сказал он, возвращая бумагу. — Сегодня же за дело приметесь или как? — Сегодня же. У тебя есть сведения, сколько у вас в деревне населения, кто чем занимается, какая у кого вера и прочее? — Нет, таких сведений не имеется. Я подготовлю… — Ладно, пока не нужно. Скажи, далеко ли до мольбища? — С версту будет. — После чая поедем, так что распорядись запрячь. — Ладно, ладно. — Я слышал, что в вашей деревне сохранился дом старинной постройки. Так ли это? — Как же, как же, есть такой дом. Через три двора отсюда. Хозяин как раз собирается ломать его на дрова — больше, говорит, — ни на что не годен. — На дрова? Погубить такую историческую ценную вещь? Да вы что, рехнулись? — Ваше благородие, мы народ лесной, темный… — Оно и видно. — Сегодня же скажу, чтоб не смел ломать. Может, старосту покликать? — Нет, не нужно. Едва приступили к чаепитию, как жена писаря через приоткрытую дверь позвала мужа: — Отец, выйди-ка поскорее! — с испуганным видом шепнула она. — Что случилось? Да ты зайди в избу-то! — Нет, не могу. Лучше ты выйди! Писарь вышел в сени. — Ну, что тут у тебя? — Отец, я как с поля шла — встретила наших баб… Этот, в черном-то, — колдун, ведьмак! Хозяин приоткрыл рот от удивления, судорожно вздохнул и схватил жену за руку: — С чего ты взяла? — Бабы сказали. Хозяин, видя, что у жены дрожат губы, и сам готов был поверить, но вовремя вспомнил, что он мужчина и притом не какой-нибудь мужик, а человек при должности. И хотя он ощутил на сердце какой-то холодок, решил не подавать виду. — Мало ли кто чего сболтнет! — Все в один голос говорят. Гнать его надо! В это время из-за двери послышался голос гостя: — Хозяин, где ты там? Писарша вцепилась в мужа: — Не ходи, не ходи! О боже мой! — Хозяин! — Ну, полно, полно, жена. Чего ты испугалась? Пусти! Писарь вошел в избу, немного погодя снова вышел в сени. Жена по-прежнему стояла под дверью. — Зря ты боишься, — сказал он. — Он из самой губернии приехал, при нем бумага с царским гербом. Ему нужно узнать, сколько людей у нас живет. Да еще хочет посмотреть старинные наши дома и мольбище. — Бумага-то в самом деле при нем? — Своими глазами видел. А вот, взгляни, это что? — Деньги… — Это он за чай отвалил, поняла? — Да что ты! Ну, коли так, значит, не колдун. Пускай живет. — Его к нам лавочник из Комы прислал, он там у него на квартире стоит. — Видать, у него денег много, раз столько платит. Надо бы его у нас подольше задержать. — Ха-ха-ха! — принужденно рассмеялся писарь. — Теперь ты, жена, я вижу, окончательно поверила, что он не ведьмак. Прошло два дня. Эликов жил в Боярсоле на квартире у писаря. Писарша, с кем ни повстречается, всем рассказывает о своем постояльце. Пойдет по воду на колодец, обязательно заведет речь о приезжем. — Нет, бабоньки, никакой он не колдун и не ведьма — объясняет писарша, — Начальник он, людей считает. Приехал из самой губернии, показывал мужу документ с царской птицей. И богатый к тому же. Я у него карточку видела, на ней — невеста его, уж такая, скажу вам, красавица! — Да ну! — удивленно ахают бабы. Но не всех убеждали слова писарши. Одна баба с сомнением ей возразила: — Если он приехал людей считать, чего на наше мольбище ходит? — Может быть, хочет сглазить наши священные березы? — подхватила другая. — Не болтай! Как можно сглазить священные березы? Вот человека или скотину — это другое дело, — сказала писарша. — Целыми днями в старом доме сидит. Коли не колдун, чего ему в пустом доме делать? — Это уж так… Тут и писарша засомневалась: — Кто его знает, может, и в самом деле нечистый… Господи, и зачем только этого ведьмака к нам принесло? — Так тебе и надо! — крикнула одна молодайка. — Верно, поделом вам, — подхватила другая. — Писарь ни одной буквы не напишет бесплатно: прошение надо писать — подавай ему па рубашку, придешь новорожденного записать — без масла и мела не суйся. За все подать собирает. — Ну и что? — вскинулась писарша. — Что же вам все бесплатно делать что ли? Да довелись вам самим, станете задарма работать? Она подхватила ведра, коромысла и пошла прочь. Молодайка крикнула ей вслед: — A-а, убегаешь! Из-за вашей жадности вся деревня будет страдать. Вот увидите, этот черный чем-нибудь да навредит! Женщины зашумели. Когда писарша, набрав воды, пошла обратно серединой улицы, женщины молча расступились перед ней: Но стоило ей удалиться, как снова скучились и загалдели. На третий день к вечеру по Боярсоле распространился слух: приезжий человек в черном заперся в погребе у писаря, никого не пускает, на стук не отвечает, а в щель из погреба пробирается красный свет, да слышно, как что-то гудит. Сначала во дворе писарского дома вокруг погреба собрались дети, потом женщины, немного погодя подошли и мужики. — Послушайте! — Да ничего не слыхать. — Давеча что-то гудело. Я как раз мимо шла, своими ушами слышала. — А где же сам писарь? — Кто его знает, ушел куда-то, и жены дома нет, вон и дверь на замке. Одноглазая женщина заговорила, размахивая руками: — Иду я вчера поздно вечером домой, подхожу к дому писаря, смотрю — в доме темным-темно, а в окне что-то вроде бы мелькает. Луна прямо в окошко светит. Я пригляделась: стоит у окна мохнатый, с двумя рогами и машет на меня копытом. Я бежать! Навстречу мне сосед попался, так я со страху его даже не узнала. Он спрашивает: «Куда бежишь?» Ну, я ему все и рассказала. А он мне: «Не бойся, оглянись, нет там ничего, это тебе просто померещилось». Я повернулась, посмотрела — и вдруг в доме писаря как пыхнет пламенем и сразу потухнет. Тут уж я от страху совсем сомлела. Сосед и сам перепугался и увел меня ко мне домой. — И я видела этот чертов огонь, — сказала другая женщина. Никто из собравшихся понятия не имел ни о фотографии, ни о вспышках магния. — В священной роще жертвенное кострище переворошил, и ничего ему не сделалось. И как только руки у него не отсохли? — Слушайте, слушайте! В погребе разговаривают. Сам с собой что ли он разговаривает? — Небось, черти там собрались. — Мой брат позавчера видел его в священной роще. Говорит, все был на глазах и вдруг пропал. — Ясное дело, шайтан принял образ человека. — Ой, смотрите, выходит! Прячьтесь! — женщина, стоявшая впереди других, попятилась и закричала что есть мочи — Черт выходит! Пустите меня! Пусти-и-те-е! И в самом деле, крышка погреба слегка приоткрылась, но в это время рослый мужик, подняв заранее принесенный большой камень, с грохотом бросил его на крышку. Она захлопнулась. Люди, откачнувшиеся было от погреба, теперь снова стали напирать вперед. Даже женщина, только что пятившаяся от страха так, что даже упала, проворно вскочила на ноги и снова протиснулась вперед. Все напряженно молчали. Вдруг вдалеке послышался гром, подул резкий ветер, и все увидели, что на Боярсолу плывет большая черная туча. — Посторонись! — крикнул кто-то. — Пропустите! — Кто там пришел? — Карт, карт пришел, — пронеслось по толпе. Толпа молча расступилась. Старик-карт с седой бородой до пояса, одетый в белый шовыр, подошел к погребу. — Там? — опросил он, указывая длинной палкой на погреб. Там. Выйти хотел, да не пустили, — разом ответило несколько голосов. — Не выпускайте. Если он увидит свет молнии, то потеряет облик человека, тогда нам его не изловить. — Неужто и впрямь черт? — опросил мужик в задних рядах. В ответ послышался смех, но тут же смолк. Карт повернулся к толпе, поднял палку и глухим низким голосом проговорил: — Поверьте мне, это не человек, а черт. Туча приближалась. Теперь раскаты грома грохотали прямо над головой. Все молчали. Карт из-под нависших бровей оглядел лица людей. — Как говорили наши предки, пока нечистая сила в облике человека или животного, нужно закопать ее глубоко в землю. Иначе народ мари перестанет плодиться. потом море затопит землю, и жизнь погибнет. Ясно вам? Стоявшие поодаль мужчины помоложе один за другим начали расходиться. — Ясно! — крикнули из толпы. — Тащите соломы. Молнии сверкали беспрестанно. В их отблесках седая борода карта казалась белой, как пена. Люди тащили из сарая охапки соломы и складывали вокруг погреба. Рослый мужик, тот, что недавно придавил крышку погреба камнем, теперь сдвинул его в сторону и чуть приоткрыл крышку. В одной руке у него был зажат жгут соломы. — У кого есть спички? — негромко спросил он. Из толпы — все стояли, словно онемев, — ему молча протянули коробок. Вдруг среди напряженной тишины раздался женский крик: — Эй, вы, убирайтесь отсюда! Все обернулись. — Что там такое? — спросил карт. — Писарева жена пришла. Писарша только что вернулась из Комы, куда ходила за водкой. Оставив на крыльце мешок, в котором звякнули бутылки, она подошла к толпе, не понимая, что происходит. — Что вам здесь надо? — спросила она. Кто-то из толпы ей ответил: — Ваш гость давно сидит в погребе, продрог, мы и хотим его немножечко согреть. В это время из погреба донеслось глухо, как из бочки: — Что вы делаете, соседи?! Толпа замерла. — Айсуло, где ты? — опять раздалось из погреба. Писарша узнала голос мужа и отозвалась: — Я здесь, отец! Здесь! Она протиснулась через толпу к погребу, наклонилась, чтобы откинуть крышку, но рослый мужик не дал ей сделать это. — Оттащите ее прочь! — приказал карт, грозно взмахнув своей палкой. Но писарша рвалась к погребу и кричала: — Не уйду, не уйду! Хоть убейте, не уйду! В погребе мой муж! Что вы хотите с ним сделать? Что-о? Ой-о-ой! — Всех богатеев надо бы сжечь! — крикнул кто-то, невидимый в темноте. — Не слушайте эту бабу! Это черт Писаревым голосом говорит. Поджигай! Рослый мужик снова приоткрыл крышку погреба, чиркнул спичкой. Он хотел поджечь жгут соломы, но спичка погасла. Мужик достал вторую. Вдруг из отверстия показался красный фонарь, прикрепленный к концу палки, снизу послышался голос: — Берегись, стреляю. Стоявшие у погреба отбежали в сторону. Крышка потреба открылась — показался приезжий с толстой черной палкой в руках. Он ударил землю — и палка стала длиннее почти на аршин, ударил второй раз — она стала длиннее на два аршина, ударил в третий раз… Женщины, стоявшие впереди, закричали истошными голосами: — Убь-ет! Толпа шарахнулась назад, зашаталась, как готовая развалиться поленница, и через минуту у погреба не осталось никого, кроме Эликова. Писарша сидела на крыльце и плакала. Следом за Эликовым из погреба вылез писарь. — Погоди, — остановил его Эликов, — Спускайся обратно, забери фотографии и принадлежности. — А вдруг они вернутся? — Не бойся, теперь не вернутся. Лезь скорее. — Ладно, ладно, ваш… благор… — писарь спустился в погреб и вскоре вылез наружу с широким блюдом в руках. Эликов слил из блюда воду и вынул только что отпечатанные фотокарточки, свернул каждую из них отдельно. — Вот что, — сказал он писарю, — запряги-ка поскорее лошадь да вынеси из дому мои вещи. Тучи заволокли все небо, от ударов грома небо как будто раскалывалось, зашумел дождь. Хозяин вынес вещи Эликова. — Куда их? — Клади в тарантас. — Может, дождь переждем? — Нет, запрягай. Эликов вынул из кожаного футляра фотоаппарат, убрал его в чемодан, в пустом футляре аккуратно расставил свернутые трубочками мокрые карточки, надел брезентовый плащ и уселся в тарантас. У его ног лежал чемодан, рядом в кожаном мешке — собранные экспонаты. — Да, чуть не забыл. Принеси-ка штатив, он у погреба остался. Хозяин запряг лошадь и сходил за штативом. Эликов сложил его, и тот снова стал длиной в аршин. Писарь уселся на козлы. Открывая ворота, писарша сказала: — Возвращайся скорее, я одна боюсь… — Довезу до тракта, там пусть сам добирается, как знает, — сказал писарь по-марийски. Они ехали довольно долго, и Эликов, удившись, что писарь все время молчит, заговорил первым: — Ты давеча дождя боялся, а он уже и прошел. — Прошел. — Что, сильно испугался? — Дождя что ли? — Да нет, когда у погреба люди собрались. — Ты, барин, и сам испугался… Помолчали, потом Эликов спросил: — Неужели и вправду подожгли бы? — Если карт скажет, люди что угодно могут сделать. — Вот погоди, дай мне в город приехать, я этому карту самому жару поддам! Писарь промолчал. Ему не хотелось ссориться ни с картом, ни с односельчанами, у него на это были свои веские причины. Корда миновали лес, примыкавший к деревне, Эликов присвистнул и громко рассмеялся: — Анекдот, как есть анекдот: щелчком обыкновенного штатива разогнал целую толпу! Как они побежали! Ха-ха-ха! Писарь молчал. — Так ты думаешь, и убить могли, а? — спросил Эликов. — Кто их знает… Может, только попугать хотели… — Я все-таки не пойму, для чего им понадобилась моя голова? Ну-ка, расскажи, что про меня в деревне болтали? Писарю не хотелось говорить, что Эликова посчитали в деревне колдуном: скажешь такое, потом от попа не откупишься, заставит молебны служить, а за каждый молебен платить надо. И писарь схитрил: — Ваше благородие, они тебя совсем за другого человека приняли. — За кого же? — За бунтовщика одного. В прошлом году он в нашей волости скрывался, никак его изловить не могли. — Ну-у? — Вот наши и подумали, что это он снова объявился. На тебя, значит, подумали. — Ты бы им растолковал! — Говорил, да они мне не поверили. «Ты и сам в его шайке», — толкуют. — Да что ты! — Ей-богу, не вру! Так и говорил всем: «Не бунтовщик, мол, он». Жена за тебя вступилась, так ее бабы избили. — Подумать только: в такое короткое время — столько событий! — Когда народ разозлится, за минуту может больших делов натворить… — Так ты говоришь, меня за революционера приняли? Забавно! — Истинно так, ваше благородие… — Чудеса! Прямо чудеса! Этнограф Эликов впервые выехал «на полевые работы», и то, что сразу же попал в переделку да к тому же благополучно из нее выбрался, наполняло его радостью настолько, что ему захотелось запеть во все горло. Проехали еще две версты, дорога начала пылить. Дождь задел Боярсолу только краешком, ближе к Коме дождя не было совсем. Доставив Эликова на почтовую станцию и поворачивая лошадь, чтобы ехать обратно, писарь как бы между прочим спросил: — А куда стеклышки твои девать? Может, они тебе и не нужны? — Какие стеклышки? — Да которые в погребе остались. — A-а, негативы… Нет, не нужны. — Если так, я их себе возьму, окошко в бане залатаю. — Делай, что хочешь. — Ты. барин, мой дом снимал да нас с женою. Может, пришлешь картинку? — Приеду в город, отпечатаю снимки, непременно пришлю. — Спасибо. До свидания. Счастливо доехать. — До свидания. Вот тебе «на чай». — Премного благодарен, ваше благородие. Писарь спрятал полтинник в карман, сел в тарантас, еще раз сняв шляпу, поклонился, хлестнул коня и уехал.
Из почтовой станции вышел мужик в картузе. — Ты начальник станции? — спросил Эликов. — Помощник его. — Есть лошади? — Из двадцати трех пар ни одной не осталось. Проезжающих много. А тебе, господин, срочно ли надо? — Очень срочно! — Эликов достал из бумажника деньги. Мужик с жадностью схватил деньги и зажал их в кулаке, стараясь, чтобы этого не заметили ямщики, которые сидели в стороне и лузгали семечки. — Не желаете ли чаю, ваше благородие? Или прикажете сейчас запрягать? — Запрягай, я здесь подожду. — Как желаете. Через десять минут повозка будет готова. — Лучше тарантас. Нет ли какого пошире? — Для хорошего господина все есть, — мужик повернулся к ямщикам и крикнул: — Эй, ребята, где Эман? Один из ямщиков ответил: — Только что на нижний конец ушел. Говорит, девушки без него соскучились. — Живо позовите его, вот его благородие надо в город везти. — Он не поедет: не его черед. — Как не поедет? Заставлю, так поедет. Быстренько позови! А ты, Айдуган, запрягай в тарантас Ваську с Генералом, да подвесь серебряные колокольчики. Ну. шевелись, шевелись! Двое ямщиков поднялись и нехотя пошли: один — в деревню, другой — на конюшню.
Вскоре тарантас, запряженный парой, рысью выехал из деревни, звеня колокольчиками и дразня деревенских собак. — Э-эх, милые! — взмахнул вожжами Эман и залихватски свистнул. По этому свисту даже ребятишки в деревне узнают: это Эман повез какого-то барина. «Эх, — с досадой думает Эман, подгоняя лошадей, — двух шагов ведь до нижнего конца не дошел — вернули. А барин-то про стрелу не спрашивает, не узнал меня… А зря я гармонь Кудряшу отдал, как бы не поломал он. Да-а, не думал, что в город придется ехать, а вот пришлось. Одно слово: не своя воля!..» — И-их, милые! Лай, ла-лай, лай, ла-лай! — запел Эман мотив знакомой песни, а потом и саму песню в полный голос, нимало не заботясь о дремавшем седоке.
В то время, когда Эман выехал из деревни с Эликовым, на двор к Орлаю Кости — отцу Амины — зашел Унур Эбат. Он поднялся на крыльцо, вошел в избу, снял шляпу, подкрутил усы и громко сказал: — Здравствуйте! Дома хозяин? — Нету, — ответила жена Кости — пожилая тощая женщина, похожая па сушеную рыбу. — Когда будет? — А на что он тебе? — Нужен. Ты скажи, когда вернется? — Скоро должен быть. — Ну, ладно, тогда я позже зайду, — Эбат хотел уйти, но в сенях столкнулся с хозяином. Тот не позвал его зайти в избу, так и разговаривали в сенях. — Чего надо? — хмуро спросил Орлай Кости. — Сегодня, понимаешь, в Луе свадьба, — начал Унур Эбат. — Дай свою медную сбрую, хочу в Дуй прокатиться. — Не дам. Тебе угодишь, а себя обидишь. — Тебе же она все равно сегодня без надобности. Дам, завтра рано утром верну. — Купи свою к катайся, сколько хочешь. Хитер ты, Эбат, хочешь чужими блинами поминки справлять. И не проси, не дам! — Не будь собакой на сене: сам не ешь и другим не даешь. — Сбруя моя: хочу — дам, хочу — нет. А захочу, так тебя со двора выгоню! — Не заносись, Кости! Выше бога все равно не вознесешься. — Я тебе не Кости, а Константин Иванович. — Будешь хвалиться, поганая кишка лопнет. Знаешь это, Кости Иваныч? — Вот тебе и раз! Ну, как у тебя язык поворачивается! Недаром говорят: собаку выкормишь, она тебя же и укусит. Вот ты такая собака и есть. — Когда ты меня кормил, Орлай Кости? Я сам себя, слава богу, кормлю. — Ишь какзаговорил! Молоко на губах не обсохло, а туда же! Старших положено бояться, младших — стыдиться. Если ты забыл об этом, я тебе ужо попомню твою дерзость! — Что ты мне сделаешь? — Дерево к дереву прислоняется, человек — к человеку. Погоди, еще придешь ко мне хлеба просить. — Ох-охо-хо! Не надейся, ноги моей больше не будет у тебя, у кровопийцы. Эбат, не простившись, зашагал к калитке. Из-под амбара, гремя цепью, вылезла огромная собака и облаяла его.
Унур Эбат в деревне слывет бедняком и нарушителем старых марийских обычаев, для него нет никаких запретов. Ему всего двадцать пять лет, но выглядит лет на десять старше. Он известен не только в Коме, но и по всей волости, и даже в уезде. Говорят, ого отец был и не мариец и не татарин, а переселенец из дальних краев. Кроме Эбата, у него было еще двое детей. В голодный год вся семья вымерла, Эбат остался один на белом свете. Эбат очень дерзок на язык. Не раз его за непочтительные речи об уряднике и — старшине сажали в кутузку, но он все равно не унимается. От отца осталась Эбату маленькая обветшалая избушка посреди деревни, наполовину ушедшая в землю. Стекла в двух ее перекошенных окнах такие старые и мутные, что похожи па воду в загнившем пруду: переливаются зеленым, голубым, желтым. В третьем окне от стекла остался только кусок, и дыра заткнута подушкой. А окна, выходящие во двор, наглухо, как ставнями, забиты досками. Изгородь вокруг избы обвалилась. Во дворе стоит сарайчик, в котором кое-как повернется одна лошадь, да навес для одной копешки сена. Иногда посторонние спрашивали у Эбата: — Какой же ты крестьянин — ни сохи, ни бороны у тебя нет. Эбат на это отвечает: — Я семь лет батрачил на богатого мужика, теперь и на себя батрачить неохота. — Разве на себя работать — значит батрачить? Тут ты сам хозяин. — Какой хозяин!.. У меня земли-то всего с ладонь. Стану я мучиться на этом клочке? Нашли дурака! — Чем же жить будешь? — Придумаю что-нибудь… Вот хоть тебя до города довезу. Немного, а подработаю, да еще «на чай» получу. Из города кого-нибудь прихвачу — опять деньги. Лошадь у меня хорошая — башкирский рысак! — Разве есть такая порода? Врешь, поди? — Никогда не врал, даже девок не обманывал. Кабы ты книги читал, то знал бы: еще в давние времена на башкирских рысаках из Уфы в Париж ездили! Вот те самые лошади приходятся моему рысаку дедушками и бабушками. Любит Унур Эбат все блестящее: рубашка на нем из черного сатина, рукавицы черные, кожаные, блестят и сапоги со шляпой, даже синие глаза его. Лошадь черной масти тоже блестит оттого, что он часто ее моет, и тарантас с дугой тоже блестят, как маслом смазанные. Как-то раз один мужик говорит ему: — У тебя, Эбат, наверное, и в брюхе блестит? — Это почему? — Потому что всегда в брюхе пусто. — Что-то не пойму, о чем говоришь. — Экий ты непонятливый! — Таким уж уродился, — глядя в небо, нехотя ответил Эбат и засвистел. — Чего свистишь? — Это ты мне? Вальс «На сопках Маньчжурии». Небось, не слыхали? Вам бы только картошки в живот натолкать да чаю надутся — что вы еще знаете? — А ты побывал бы сам на Маньчжурском фронте, от страха засвистел бы с другого конца! — Хо-хо-хо! __Он не виноват, — вступился за него сосед, — он просился на фронт добровольцем, да не взяли. Эбат взглянул своими колючими, как жало, глазами: — Уж вы-то герои! Небось, как японцы скружили вас под Порт-Артуром, так у вас засвистело, что штаны не успевали вытряхивать. — Ну-ну, потише, браток! — Чего тут потише! Не правда что ли? — Ах ты, сопляк, над солдатами издеваешься? — угрожающе крикнул однорукий мужик с Георгиевским крестом на груди. — Брось, солдат, не шуми, с Эбатом не столкуешься! — Нет, ты скажи, Эбат, разве русские солдаты трусы? Разве японцы потому победили? — Ну, скажи-ка, если знаешь, — добавил другой мужик. — Ну что вы пристали, как репьи? — махнул рукой Мужик с Георгиевским крестом. — К кому мы пристали? — К Эбату. — Нет, пусть скажет, почему нас японцы разбили? — Откуда ему это знать, министр он что ли? — Кому же тогда знать? Он всюду бывает, все видит и слышит. Ну, скажи, Эбат, про японцев. — Чего про японцев говорить? В том, что Япония войну выиграла, не солдат русский виноват. — А кто же? — Мы-то люди маленькие, а вот в городе мне один знающий человек сказывал, что во всем виноват царь. Его, говорит, петербургские рабочие совеем турнуть собираются… Вдруг кто-то крикнул: «Урядник!» — все поднялись и стали расходиться. Эбат сдвинул шляпу набекрень и опять засвистел. Урядник подошел к нему. — A-а, мистер Эбат! Что-то давненько ты мне на глаза не попадался. — Наверное, потому, что тюрьма по мне еще не соскучилась. — Хэ-хэ-хэ! Молодец, за словом в карман не лезешь. Слушай, Эбат, нам известно, что возле деревни какие-то люди по кустам в карты играют. Не видал ты этих людей? — Может, и видал. — Помоги мне поймать этих картежников. — Что дашь за помогу? — Что хочешь? — Дашь шнурок, на котором у тебя револьвер висит? — Хо-хо-хо, на что он тебе? — Штаны подвязывать. Пояс оборвался, сплести некому, жены, сам знаешь, у меня нет. — Но-но, ты у меня не шути, а не то… — урядник схватился за шашку. — Виноват, ваше высокопревосходительство! — Хэ-хэ, высоко не высоко, а до превосходительства могу дослужиться, это правда. — Я, ваше величество, всегда говорю правду. — Не то го-во-ришь, — оказал урядник, гнусаво растягивая слова. — Почему, ваше благородие? — Титуловать «величеством» дозволено только государя. Впрочем, что с тобой толковать! Пойдем лучше, покажи место, где эти самые в карты играют. Пойдем, пойдем, а то уж темнеет. «Хорошо, толстопузый, — сказал про себя Эбат, — я тебе покажу». Места, где обычно собирались деревенские картежники, хорошо известны и самому уряднику, но при помощи Эбата он надеялся обнаружить, где происходят встречи с агитаторами из города, которые под видом игры в карты проводили с мужиками тайные совещания. Эбат знал, что сегодня в этих местах никого нет, но нарочно решил обойти их с урядником. Трудный урядник вскоре начал задыхаться. — Вот черти! — ругался он. — Я слышал, что они сегодня должны быть здесь. Куда же они могли подеваться? А другие места знаешь? Небось знаешь, каналья! А ну, показывай! — Ей-богу, больше не знаю… Хотя, погоди, есть еще одно местечко, наверное, там они и сидят. Пошли быстрее! Уряднику хотелось передохнуть, но, надеясь захватить мужиков на месте преступления, вздохнул тяжело и зашагал за Эбатом. Эбат обернулся к уряднику. — Я вот спросить хочу… — Ну, спрашивай. — Кому вред от того, что люди в карты играют? — Сами себе вредят, кому же еще. — Зачем же их тогда ловить? — Много знать хочешь! — урядник погрозил пальцем. — Сма-атри у меня! — Да нет, мне-то все равно… — Ладно, когда их поймаем, тогда поговорим. — Поймаем, поймаем, будь спокоен, — обнадеживающе сказал Эбат. — Идем скорее, сейчас мы их накроем. — Погоди, тут же овраг. — Они в овраге как раз сидят. Иди быстрее! — Фу-фу, ноги скользят… — Давай сюда шашку, а то запачкаешь. — Пошел, пошел, какую тебе шашку! Урядник, тяжело дыша, спустился в овраг. На дне оврага была запруда, стояла вода, и он чуть не свалился в пруд. — Сейчас мы их схватим! — крикнул Эбат во весь голос. — Тихо, каналья! Чего разорался? — Виноват, ваше благородие! — гаркнул Эбат. Урядник рассвирепел. — «Благородие, благородие…» Я тебе сказал, чтобы не смел орать? Ты марийский язык понимаешь или нет? — Понимаю, очень даже понимаю, — потише ответил Эбат. — Иди-ка за мной. В темноте он долго водил урядника по кочкам и рытвинам, потом вывел на противоположный берег пруда и незаметно бросил что-то в заросли репейника. — Здесь! — сказал Эбат. Урядник достал из кобуры револьвер, жестом показал Эбату, чтобы он подошел к зарослям с другой стороны, кашлянул и слегка дрожащим голосом крикнул: — Никому не трогаться с места! Кто тронется — буду стрелять! — Стрелять буде-ем! — что было мочи заорал Эбат. В репейнике что-то зашуршало, кто-то кинулся уряднику под ноги, сбил его с ног и вмиг исчез в темноте. Когда урядник упал, ему послышалось, будто кто-то засмеялся, но тут раздался истошный крик Эбата: — Стой, стой! Стрелять будем! Когда все утихло, Эбат подошел к уряднику. — Эх, удрали! — Кто это был? — спросил урядник, садясь и ощупывая ушибленное колено. — Вот тебе и «кто». Я ж говорил, дай мне шашку! Я бы их поймал, а голыми руками разве возьмешь! — В твою сторону, значит, бежали? — На тебя они собак спустили, асами — на меня. Раз-два по шее, свалили и удрали. Ну, вставай, ваше превосходительство. — «Превосходительство, превосходительство». Дурак! Хоть бы одного схватил! — урядник встал, прихрамывая, сделал несколько шагов. — Что ж ты сам не хватал? — Кого мне было хватать, борова за хвост? — Какого борова? — Мы же свиней спугнули. — Да нет, это не свиньи. Самые настоящие собаки! — Не болтай, собаки залаяли бы. — Эти собаки специально выученные, они не лают. — Ври больше! Ей-богу, дурак. Самые настоящие свиньи. Свиным дерьмом воняет. — А разве собачье дерьмо по-другому воняет? Все-то ты знаешь, ваше благородие! — Но-но, лишнее болтаешь, смотри, язык отрежу! — Виноват. — Ясно, что виноват. Зачем привел сюда, зачем врешь? Никто в твою сторону и не бежал. — Как никто? Вот, пощупай мой лоб. — Мокрый… Вспотел? — Кровь это, самая настоящая кровь! Ударили меня здорово сильно. — А ну-ка, давай осмотрим это место. Они раздвинули репейник, урядник зажег спичку, Трава была помята. — Ясно, свиньи тут валялись. — Погоди, давай получше посмотрим. Зажги-ка еще, вот тут еще не смотрели. Господин урядник! — вдруг вскрикнул Эбат, показывая на вещь, которую сам бросил сюда несколько минут назад. — Что это такое? — А ну, подними, подними! — Махорка! Разве свиньи курят махорку, ваше высо… — Заткнись, идиот! «Ваше» да «ваше…» Гм-м, видно, и впрямь тут были люди. Вот и бумаги клок валяется. Так ты говоришь, крепко тебя стукнули? — И по голове, и по спине, хорошо еще, не покалечили. Теперь дашь веревку от револьвера? — Пойдем, по дороге поговорим. Табак-то у тебя? — Я его в карман спрятал. — Давай сюда, это не твоя махорка. — Моя. Ей-богу, моя. — То есть как твоя? — Я ведь нашел, значит, моя. — Вот чудак-человек! Ну как ты не понимаешь, что это вещественное доказательство! — A-а, ну если вещественное доказательство, тогда бери… — По голосу вижу, что не понял ты, ума не хватает! — урядник постучал Эбата пальцем по лбу. — Хэ-э, — улыбнулся Эбат. Они вышли на дорогу. Урядник, довольный, что все-таки напал на след злоумышленников, шагал бодро. Поднявшись по косогору, они вышли в проулок. Не доходя до главной улицы, урядник остановился. — Чего скучный? — спросил он Эбата, прищурясь. — Так ведь пачка табаку — не шутка… — начал было с обидой Эбат, но урядник перебил его: — «Табаку, табаку…» Да пойми ты, что табак и клочок бумаги — это вещественные доказательства, их требуется под сургучной печатью к делу приложить. Ясно? — Курить охота. — Эх, сам-то я не курю… Вот что: на тебе деньги, завтра не только махорки, папирос себе купишь. — Ну, коли так, давай! — А если поможешь их шайку изловить, будет тебе награда. — Спасибо, ваше благородие! — Теперь иди. — Вместе пойдем, нам по пути. — Нет, вместе не годится. Если со мной увидят, тебе народ доверять перестанет. Иди сам по себе. — Тогда ладно… Урядник пошагал по улице вниз. Эбат немного постоял, глядя ему вслед, потом засвистел и серединой, улицы пошел в другую сторону. Не получив у Орлая Кости сбруи с медными бляшками, Эбат запряг лошадь простой сбруей и поехал на свадьбу в Луй.. Когда он подъехал к дому, где должны были играть свадьбу, со двора на улицу выбежал мужик в вышитой рубахе, сердито посмотрел на него, хотел что-то сказать, но Эбат быстро проехал в раскрытые ворота и поставил телегу под навес. Мужик подошел к нему. — Ты здесь командуешь? — спросил Эбат. — Может, и я… — Нельзя ли кваску испить? — Зачем кваску? — Нынче водки не жалко. — Моя лошадь водки не пьет. — Что-о? — у мужика вытянулось лицо, но, видимо, что-то вспомнив, он пошел было к дому, Эбат поймал его за рукав. — Если не жалко, напои бражкой, в горле пересохло. — Пойдем на кухню, напою. — А в доме нельзя? — Нельзя, свадьбу ждем. Знаешь, поди, обряд-то. — Ну коли так, пойдем на кухню, выпьем за обряд. Унур Эбат пришел на кухню и попросил браги. Женщины-стряпухи закричали, чтобы он не мешал и уходил отсюда. Но он двумя-тремя словами сумел рассмешить и тем завоевал их симпатию. Ему дали браги. Эбат забрался в темный угол, уселся там и, потягивая из кружки помаленьку браги, думал о том, за кого же его принимают люди. Недавно дочь богача Антона сказала ему: «Эй ты, Тутай!» Неужели он так похож на Тутая? Тутай — это сумасшедший старик-нищий без роду и племени. Бродит он из деревни в деревню, из волости в волость, одет зимой и летом в рваную шинель, на плечах картонные погоны, на них карандашом нарисованы большие «генеральские» звезды. На груди приколота зеленая ленточка, на ленточке нацеплены кресты и медали, вырезанные из жести Подпоясан Тутай удмуртским пестрым поясом, на голове старый черный картуз без козырька с «кокардой»— вырезанным из жести петухом, за спиной Тутай носит сплетенную из лыка корзинку, которую он называет ранцем. Одет солдатом, только оружия не носит. Однажды Эбата, когда он был еще мальчишкой, товарищи подучили дать старику палку и сказать, что это ружье. Эбат так и сделал: протянул ему палку и сказал: — На тебе ружье! Тутай затрясся и с пеной у рта закричал: — Не надо ружья! Не надо-о! До сих пор помнит Эбат этот случай. В детстве он, как и другие мальчишки, часто дразнил Тутая, зная, что тот при слове «ружье» приходит в неистовство. Но теперь Эбат жалеет об этом: не надо было бы дразнить, ох, не надо бы! Голова под ветхим солдатским картузом и сердце под жестяными медалями, наверное! пережили такое, что и сказать трудно. Здоровый человек не станет сумасшедшим ни с того ни с сего. А людям лишь бы посмеяться… «Вот и надо мной смеются, — думает Эбат. — Неужели я хуже всех? Эх, жизнь! Сижу на чужой свадьбе… Да и не на свадьбе, на кухне, вдали от гостей». Тут ему вспомнилось, как он в городе пил чай на кухне у адвоката. «Адвокат… Жулик он, а не адвокат, — подумал Эбат, — вместо полутора рублей дал только рубль двадцать копеек. Хотя он и жулик, дочь у него хорошая». Вспомнил он, как тогда эту барышню с ее подружкой по весенней дороге вокруг города катал. Славно покатались! Он тогда не в шляпе, а в папахе да в башлыке ходил: вид был лихой. Тогда и свистеть научился по-разбойничьи. Вспомнив былое, Эбат свистнул вполсилы, но все равно получилось так громко и пронзительно, что стряпухи вздрогнули. Одна из них, убавляя огонь в лампе, сказала: — Эбат, у тебя есть совесть или нет? Разве так делают? — Ладно, ладно, тетя. Налей чашечку, выпью и уйду. — Хозяин узнает — заругается. Ну, так уж и быть, налью, а ты выпей да уходи.
Эбат почувствовал сквозь сон, что кто-то трясет его за плечо. — М-м-м, что? — промычал Эбат. — Вставай! — А-а? — он повернулся на другой бок. Увидев это, будивший Эбата ладный широкоплечий парень закричал тоненько, подражая женскому голосу: — Эбат, Эбат, лошадь твою воры увели! Вставай! — Что? — Эбат мигом проснулся и сел на постели. Солнечные лучи слепили его, он протер глаза, осмотрелся, увидел смеющегося Эмана и сам заулыбался. — Чего пугаешь? — беззлобно спросил он. Увидев через открытую дверь, что во дворе еще кто-то стоит, стал натягивать штаны. — Долго спишь. Бужу, бужу, а тебе и горя мало. — Вчера в Луе на свадьбе был, очень поздно вернулся. — Ладно, ладно, после доспишь. А сейчас собирайся. довезешь этого человека до Изгана. Я его по дороге встретил, нарочно к тебе привез. — Вот спасибо, Эман! Что за человек? — Русский купец. По торговым делам, говорит, езжу. Больше ничего про него не знаю. Не больно он разговорчив. — Ладно, по мне пусть сам хоть немой, лишь бы карман у него был разговорчивый. Денежный? — Заплатит, заплатит, сами договаривайтесь. А мне идти надо, хозяин заругается. — Погоди, не торопись. Сейчас чайку попьем, вот хлеб, масло есть… А где оно? Э-э, уж не кот ли масло утащил? А может, Белка тут шарила? — Эбат взглянул на дыру в окне, заткнутую подушкой. — Тебя самого когда-нибудь утащат. Спишь, и дверь на крючок не закрываешь. — Да у меня брать нечего, потому и не запираюсь. — Ну, я пошел. До свидания, господин! — попрощался Эман с человеком, присевшим у порога, и вышел. Эбат, прихватив гармошку, выбежал за ним. — Чуть-чуть не забыл! На! — Откуда она у тебя? Я ж ее вчера Кудряшу с нижнего конца оставлял. Кабы знал, что в город придется ехать, не отдал бы. — Ее кто-то на свадьбу притащил, во время драки чуть не разбили. Скажи спасибо, что я ее прибрал. — Ах ты, моя, бедная! — Эман прижал к себе гармошку, погладил ее. — Вон и наугольник отодрали. Ну да ничего, починим. — Где отодрали? Я не заметил. Ремень был оторван, прибили. А этого не заметил, я бы им еще больше всыпал! — Ха-ха-ха, — опять, наверное, кнутом дрался? — Было дело… Больше не стану драться, и пить брошу. — Скорее красный снег выпадет, чем ты пить бросишь! Ладно, ступай к гостю, а мне пора. Они вышли на улицу. Эман вскочил на облучок и хлестнул коней. — Э-эй, милые! Кони с места взяли так, что только пыль заклубилась следом. — Лихой парень! — сказал приезжий, глядя ему вслед. Эбат ему не ответил.
Тем временем Эман приехал на станцию, распряг лошадей, задал им корму, зашел в ямщицкую и, не раздеваясь, завалился на широкую, как пары, лавку. Посреди комнаты за грязным столом ямщики пили чай и вели разговор. Разговор не разговор, так, от скуки, подначивали двух ямщиков — пожилого и молодого — на драку. — Эх ты, ровно не мужик, а заяц, такого сопляка боишься! — Точно настоящий заяц. Но тому, кого называли зайцем и тем самым обвиняли в трусости, драться, видно, не хотелось, и он, по возможности, отбрехивался: — Э, погодите. Зря вы про зайца так говорите. Заяц вовсе не трус. — Как не трус, когда чуть что — убегает, прижав уши. И бежит без соображения, куда глаза глядят. Яснее дело, от страха. — Не болтайте напраслину. Заяц без соображения не бегает, он свои силы бережет. Небось, сами видели: пустишь за ним собаку, а он бежит тихо-тихо, будто издевается над охотником. Бежит да оглянется, подпустит собаку и опять бежит, пробежит и снова оглянется… — Ну, это какая собака! Хорошая собака оглянуться не даст. — Ясно, от быстрой собаки заяц быстрее бежит. Только он не трус. В прошлом году шел я мимо стада богача, собака подняла в овраге двух зайцев. Так они— что ты думаешь? — прыг, прыг — и спрятались среди овец. — Не может этого быть, брешешь, наверно! — Хочешь — верь, хочешь — нет. Только сами знаете, если собака на цепи, ночью заяц мимо нее на гумно каждую ночь наведывается; собака брешет, а ему хоть бы что. — Говорят, он когтями брюхо пропороть может. Неужели правда? — Правда. В прошлом году Аланай вынимал живого зайца из капкана возле своего сарая, тот ему когтями всю шубу изодрал. Под этот разговор про зайца Эман заснул. Проснулся он, когда было уже темно. «Сегодня, вроде, пятница, — вспомнилось ему. — Эх, проспал! Надо домой, к отцу, как он там…» Своего отца, Кугубая Орванче, Эман на людях называет не иначе, как «мой старик», а наедине зовет ласково, как в детстве, «тятя». Эман обул сапоги, на плечи набросил порыжевший кожаный пиджак, на голову нахлобучил широкополую шляпу, закурил трубку, взял в руки гармонь и зашагал по вымощенной гравием улице. Проходя мимо дома Эбата, он увидел на его двери замочек и ухмыльнулся: «Думает, что запер, чудак. Да такой замок пятилетний мальчишка сломает». Кугубай Орванче сидел с мужиками возле избы, беседовал. Увидев сына, не тронулся с места, только спросил: — Принес? — Что? — с притворным непониманием спросил Эман. — Уже забыл? Э-эх, сынок! — A-а, вспомнил: ты просил пеньковую трубку. — Ну да! — Нет, не нашел. — Ох, как же я буду без трубки? — Говорят, теперь трубки отменили, и махорку отменили. Всем велено курить только папиросы. — Папиросы?.. Где же денег на папиросы взять? — Мох станем курить, — сказал один из стариков. — Вон, в войну, когда ничего вдруг не стало, курили же. — И то, будем мох курить, — печально вздохнул Кугубай Орванче. Эман рассмеялся: — Эх, старики, всему-то вы верите! Вот тебе, отец, пеньковая трубка, вот махорка. Дыми, сколько душа требует! Кугубай Орванче улыбнулся и сказал: — Я сразу догадался, что обманываешь. Не может того быть, чтобы всех заставили курить папиросы. Старики засмеялись. Эман зашел в избу, заглянул на кухню и спросил: — Отец, что в котле? — Суп. Погрей да ешь. Эман, насвистывая, разжег огонек, и, ожидая, пока нагреется похлебка, достал из сундука праздничную рубашку и сел пришивать оторванную пуговицу. Через открытое окно ему слышно, как разглагольствует отец: — Все знают, и мы знаем, и деды знали: злой человек долго живет, хороший — рано помирает. У хорошего человека жизнь короткая, потому что он прямой дорогой ходит. Но говорят, на прямой-то дороге пес наклал, а на кривой — масляным блином привечают. Вот ты спрашиваешь, почему не все люди одинаковы? Пальцы на руках — и те не ровны, так и в мире все люди разные. Только, вот что: не было бы в жизни плохого, не было бы и хорошего. Недаром говорят, если все время есть пшеничный хлеб — приестся. — По-твоему получается, что и богачи существуют для пользы? — Вот этого не могу сказать. Я же так только, по глупости, сижу и болтаю от нечего делать… — Хитер, хитер — настоящая лиса. Ну, ладно, говори дальше. — Ладно, пусть будет по-твоему: будем считать богатых не полезными, а вредными. Но с другой стороны посмотреть: если не было бы вредного богача, не было бы радости и доброму вору. — Что ты мелешь! Разве бывают добрые воры? — Был когда-то в окрестностях Бирска один разбойник по имени Алан. Так он добрый был: бедных не трогал, только богатых грабил. Хотя и говорили про него, что и такой он, и сякой. Оно неудивительно: добрая слава за печкой спит, а худая по свету бежит. Ох, много беды творят злые языки: иной раз слушаешь и до того наслушаешься, что сам не заметишь, как друга врагом станешь считать. А надо жить без ссор, без злобы, вон мы, марийцы, испокон века живем мирно, — тихо… — Оттого и вымираем… — Вымираем или нет — не знаю, это не моя забота. Я же так просто, для вашего и собственного удовольствия болтаю. Сами знаете: язык без костей, на словах-то можно и через море мост построить. — Это ты можешь! Языком мосты строить ты мастер. — А я так считаю, чем на богача спину гнуть да на работе у него пропасть — лучше посидеть да поговорить с хорошими людьми. Эман уже дважды звал отца, тот отвечал: «Иду, иду», — сам же все продолжал говорить. Эман вышел из терпения: — Я весь твой суп съем! — Э-э, так ты меня ужинать зовешь? Разве я не говорил тебе, что уже поел? — Когда говорил? — Ну, значит, собирался сказать. — А-а, — отмахнулся Эман и вернулся к столу. Старики продолжали беседу. — Говорят, Яик Ардаш опять уходить на завод собрался. Мать убивается… — Пролетающим гусям сколько ни сыпь пшеницы, все равно не сядут. Того, кто уйти задумал, все равно не удержишь. Еще хорошо, что он отца с матерью не забывает, другие дети и вовсе как отрезанный ломоть. Хотя кто знает, может, он такой, пока не женился. Многие, женившись, забывают родителей. Потому и говорят: «Дочь с зятем — пустой пирог, а сын со снохой — пирог с солью». Сердце матери к дитю прирастет, а сердце дитя— к камню прирастает. Матери, конечно, все дети дороги, все хороши. Вороне вороненок всех красивее кажется. Укуси любой палец — все больно. Собака и та своего щенка не загрызет, так и человек своих детей жалеет. Мать готова жизнь отдать за своего ребенка. Когда жеребенок матку сосет, она льду полижет — и сыта. Мать дитю все спустит, все простит, но отец должен быть строгим. Главное — вовремя детей к делу приставить, не позволить с пути сбиться. Говорят, кто украл — раз согрешил, кто потерял — сорок один раз согрешил. Но это не верно, потому что тогда выходит, что вор лучше потерявшего, а вор — никудышный человек. Хотя, с другой стороны: коли есть лес — будет и медведь, коли есть богатые — будут и воры. Слышали, недавно ирбитского купца ограбили. Он на ярмарку ехал, много денег при себе вез. Вон оно как получается: сначала он грабил, потом его ограбили. Тут, сказывали, сын мельника в карты проигрался, все хозяйство разорил. Слыхали, небось? Мельничиха, говорят, плачет, причитает: «Как же мы теперь жить-то будем? У меня душа черного хлеба совсем не принимает». А кузнечиха ей и скажи: «Нс все лапши хлебать, надо и юшки отведать. Если так говоришь, значит, не проголодалась еще, кабы голодная была, ржаной хлеб калачом показался бы…» С наступлением сумерек Эман, взяв гармонь, пошел на гулянье. Проходя мимо завалинки, сказал: — Все болтаешь, отец? — Эх, сыпок, что нам сию делать? — ответил Кугубай Орванче. — Сегодня же пятница, вот и сидим, разговариваем, — как бы оправдываясь, проговорил один из стариков. — Ну, ну говорите, только лишнего не наговорите. — Эман растянул меха гармони и, заиграв, пошел вниз по улице. Кугубай Орванче между тем продолжал: — Мы всю жизнь на одном месте сидим, нигде, кроме своей деревни, не бываем. А ведь лежачий камень мохом обрастает. Вот и выходит, что такие, как Яик Ардаш, ума набираются, а мы и тот умишко, что имели, теряем. Конечно, всякий вперед смотрит. Да только не все одинаково видят: один о завтрашнем деле печется, а другой не знает, что ему сегодня делать… Больше-то всего таких, что воду решетом носят. И мы вроде них. Вот умных — тех мало. Да и как сразу сообразить? Взять хотя бы Кувандая. Мужик, а все его женским именем кличут: Кувандай да Кувандай, настоящее-то имя позабыли. А почему прозвали его так? А потому, что в тот год, как он женился, все не мог своей женой нахвалиться, все приговаривал: «Моя Кувандай умница, моя Кувандай красавица». С тех пор на всю жизнь и прилипло к нему прозвище. Обидно, конечно, да людям до этого нет дела, лишь бы посмеяться над человеком. Сами знаете, на чужой роток не накинешь платок. — Так, так, — согласно кивают старики, оглаживая свои седые бороды. Течет разговор, как будто вьется бесконечная веревка. Много прожито, много видено, хотя иные никогда не бывали дальше волости, но зато деревенскую жизнь знают куда лучше молодых, которые скитаются по разным местам. Но самый большой говорун Орванче Кугубай, да и повидал он в жизни много: в солдатах служил, у богатого русского мужика батрачил, и под судом побывал… На конце деревни поет-заливается гармошка Эмана. Вечерняя прохлада надвигается из низин. Темнота окутывает землю. Наступает ночь.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Единственный крещеный мариец в Коме — Орлай Кости. Бывало, наезжали в Кому попы и миссионеры, но проку им от этого не было никакого. В прошлом году приехал в деревню очередной поп, велел собрать народ в школе, но никто, кроме ребятишек, не пришел. Да и те явились только потому, что им пообещали пряников. Но и пряников они не получили. Поп говорил долго и монотонно, потом раздал ребятам молитвенники на марийском языке и заставил целовать крест — на том дело и кончилось. Крест целовали не все, а от молитвенников никто не отказался, каждый взял. Поздно вечером поп, который остановился на ночлег у учителя, пошел в уборную, и вдруг выскочил оттуда, как ошпаренный. Разбудив учителя, он повел его в уборную. Учитель глянул — и обмер: все молитвенники, розданные днем, были сложены стопкой от пола уборной до потолка. Только картонные обложки были сорваны в унесены. Много лет назад отец Орлая Кости и с ним вместе десять-одиннадцать соседей приняли крещение. За это им дали русскую одежду, по рублю денег и по евангелию, главное же — на два года освободили от податей. Однако, когда эти два бесподатные года минули, все принявшие русскую веру от нее отказались. Это было для попа полной неожиданностью. До этого крещеные марийцы усердно посещали церковь соседней русской деревни, не пропускали ни одной службы, покупали и ставили самые дорогие свечи, не скупились при крещении и отпевании, на каждый семейный праздник обязательно приглашали попа. Поэтому поп всегда ставил новокрещеных марийцев в пример другим прихожанам, а церковный староста был очень доволен, что с такой большой прибылью идет торговля свечами. Так продолжалось два года. Но однажды весною в воскресенье поп, толстый, медноволосый и краснощекий, в разгар службы возгласил, показывая пальцем на то место, где всегда стояли коминские марийцы, однако не повернув в ту сторону головы: — Вот с кого надо брать пример! Как только он это сказал, к нему подскочил дьякон и, прикрыв рот ладонью, тихонько шепнул: — Протри глаза, батюшка! Ведь сегодня из Комы ни один человек не. пришел! Поп так удивился, что поначалу не мог вымолвить ни слова, только глядел па народ, раскрывая рот, как пойманная рыба, и крестился, повторяя «господи, помилуй». Но быстро опомнился, будто даже протрезвел, оттолкнул дьякона так, что тот чуть было не упал, и поспешно продолжал: — Взгляните, благочестивые христиане, на эти лики великомучеников, — и он опять указал рукой вправо, на иконы, — вот с кого надо брать пример! «Новые русские», как называли новокрещеных марийцев, вовсе перестали ходить в церковь, перестали звать к себе попа. Однако поп не стал ждать, когда его позовут, сам отправился в Кому. Он собрал всю свою бывшую паству в один дом и спросил напрямик: — Выходит, вы крестились только для того, чтобы не платить подать? Но ответить на свой вопрос не дал и злобно закричал: — Вы обманули святой синод! Кто подговорил вас отказаться от христианской веры? А? Все ответили нестройным хором: — Никто нас не подговаривал, мы сами так решили. — А у вас есть бумага от синода о том, что вам разрешается выйти из лона православной церкви? — Без бумаги вошли, без бумаги вышли. — A-а, без бумаги! Бунтовать вздумали? А ежели всех вас розгами проучить, что скажете? А? Молчать, когда с вами священник говорив! Знаете ли вы, что будет с вами на том свете? В горячий котел вас черти помечут! В горячем котле будут вас варить! Тогда спохватитесь, да будет поздно. Э-эх, глупые вы мои овцы, жалко мне вас, потому и говорю: вернитесь в лоно святой церкви. Бог, конечно, знает про ваш великий грех, но по милосердию своему он вас простит. Я сегодня молился за вас, бог услышит мою молитву, простит вам ваш грех. Вернитесь, дети мои!.. А не вернетесь, хе-хе-хе, тогда есть исправник, а у исправника — дом с решеткой… Поп говорил еще что-то, но все уже разошлись. Остался один Иван Орлан. — А ты, Иван, что ж не уходишь? Отчего не идешь вместе со всеми прямо в ад? — Не хочу в ад. Я уж лучше здесь останусь. — Останешься? Значит, нашли отклик в твоей душе мои слова. Будь христианином, и бог не оставит тебя. — Вот ты, батюшка, говорил об исправнике… Ты это просто так пугал или исправника на нас напустишь? — Я вероотступников не жалею, сегодня же напишу о них, куда надо. Иван Орлам почесал затылок и сказал: — Коли так, я останусь, русская вера лучше. Благослови, батюшка! Марийцы за свое отступничество от христианской веры претерпели немало лишений, некоторые даже под суд попали. Но в церковь они больше так и не ходили, иконы сожгли, вернули себе свои прежние имена. А Иван Орлай остался христианином. Сына своего Кости он тоже крестил. А когда тот вырос, женил его на русской девушке из соседней деревни. Правда, она с детства знала марийский язык, и их дочери Амина и Настя росли настоящими марийками. Орлай Кости считается в деревне богатым мужиком. У него два дома, две лошади, корова, полсотни овец, четыре свиньи, говорят, что у него в банке лежит тысяча триста рублей. Конечно, разве можно верить всякой болтовне, но Орлай Кости всегда нанимает людей на пахоту и уборку, бывает, что на весь год берет работника. Каждый год он покупает от казны делянку под вырубку, продает деловой лес и дрова. Печь он всегда топит дровами, а не соломой; солому же продает беднякам. Стоял погожий весенний день. Жена Орлая Кости ходила к лавочнику, и, когдавозвращалась домой, с ней увязались два малыша — лавочниковы племянники. Теперь они, играя, забрались на кучу соломы возле сарая. Кости смотрел-смотрел, наконец не выдержал и сказал жене: — Зачем ты привела этих сопляков? Смотри, как они мнут солому. Жена промолчала, Амина отозвалась раздраженно: — Пусть играют, что соломе сделается? — Молчи, не с тобой говорят! — Ну-ну, отец, — жена посмотрела испуганно на Кости, — не серчай, поиграют и уйдут. — «Поиграют…», а что солому они мнут, этого ты не понимаешь? За мятую солому платят меньше, дура-баба! — Ах, отец, всегда ты так: как сходишь к старосте, начинаешь ругаться, словно тебя там портят… Куда тебе эта солома? До зимы, пока топить начнут, новая поспеет. — «Новая, новая…» А со старой что делать? Или опять задаром хочешь отдать, как в прошлом году? Нищие быстро растащат, только скажи! — Какие там нищие! Только пастух Кугубай Орванче в прошлом году, и взял немного. — Что нищий, что пастух — один черт! И не морочьте мне голову, и так забот много, не то, что у вас. Амина насмешливо скривила губы, но ничего не сказала. Кости это заметил: — A-а, ты над отцом насмехаешься, бесстыжая! Вот погоди, проучу тебя! — Не кипятись! — сказала Амина и вышла из комнаты, хлопнув дверью. — Горячая, вся в тебя, — заискивающе сказала жена. Орлай Кости ничего не ответил, опять подумал то, о чем думалось давно: «Другие-то наши дети, может быть, стали бы не такими. А эта о хозяйстве не печется, вещи не бережет. Будто не моя кровь… А ведь моя же, и Амина, и Настя — мои. Эх, жаль, сын Борис умер! Девочки еще были, тоже поумирали, их не так жалко, а вот Бориса — жалко». — У-у, цыганская дочь, — вырвалось у Орлая Кости. Он мрачно смотрел из-под густых черных бровей. — Куда она убежала? — Ты про Амину что ли? На прополку, небось, опять пошла. Я вот тоже сейчас обуюсь и пойду. — На большом поле пололи? — Возле мольбища одну полоску закончили, другую начали. Поясницу у меня нынче сильно ломит, да и голова болит… Охо-хо, какое может быть здоровье после стольких родов! Хоть бы ты нанял кого-нибудь на прополку… — Замолола! Перестань, не мели ерунду. — Голова, говорю, болит, кровь приливает, не понимаешь? — Хе-хе-хе, голова болит — заднице легче: — Нисколько у тебя ко мне жалости нет… — и женщина заплакала. — А меня кто-нибудь из вас жалеет? День и ночь о хозяйстве пекусь, хоть одно доброе слово слыхал от вас? — Ну, отец, зачем ты мне сердце на части рвешь? Ведь что ни прикажешь, все исполняем. От слез жены у Орлая Кости полегчало на душе. Кроме того, нынче утром (в который уже раз!), он подсчитал, что, если бы даже засеял половину того, что засеяно, ему хватило бы хлеба и на пропитание, и на одежду, и на подать, и для скотины. К тому же еще прошлогоднего и позапрошлогоднего хлеба три стога стоят. И все-таки каждый год Орлай Кости старается засевать побольше. Нанимает работника, норовит платить ему поменьше. Следит, чтобы хлеб был своевременно сжат и убран, а осенью ходит вокруг новых стогов радостный, готовый обнять и перецеловать их. Зимой молотит хлеб, продает зерно и складывает в кубышку шуршащие бумажные купюры и звенящие серебряные монеты. Но если нужно справить новую одежду, жена и дочь по месяцу, по полтора выпрашивают у него деньги, пока наконец не выложит он дрожащими руками несколько рублей… Орлай Кости вздохнул и сказал жене ворчливо, но уже спокойно: — Ну, обувайся быстрей, вон солнце как высоко поднялось. Я с тобой пойду. — Обулась, пойдем. — Где замок? — В сенцах, возле хомута висит. Я сама найду, а ты ребятишек проводи со двора. Орлай Кости, выйдя, велел ребятам идти домой. Наблюдая за тем, как жена запирает дверь большим замком, он с удовлетворением думал: «Богатый дом надо большим замком запирать, так надежнее». — Взяла ключ? — Взяла, отец, взяла. — Ну так пошли с божьей помощью. День сегодня ясный, для прополки подходящий. Жена Орлая Кости Дарья, или, как называют ее деревенские, Костина Даша, на год моложе мужа, но кажется на все десять старше его. По лицу, фигуре, походке ей дашь все пятьдесят. Орлай Кости смотрит на сгорбившуюся, ковыляющую жену и думает: «Стара становится, — а мысли катятся дальше. — Эх, был бы сын! Хозяйство нужно в мужские руки передавать, сын бы продолжил дело. А сейчас в доме одни бабы. Помру — все прахом пойдет. А может, еще и сын родится. Я еще лет десять-пятнадцать протяну, больше-то вряд ли, здоровье неважное, за это время сын подрос бы… Цены на хлеб нынче, наверное, поднимутся: мыши стог снизу вверх прогрызли — верная примета. Если цены поднимутся, буду с деньгами. Тогда можно будет лавочку открыть. Не на нашем конце, а на другом, где лавки нет: Хотя с большого начинать не годится, лучше сначала заведу разносную торговлю, накуплю товаров: чаю, сахару, колец, браслетов и лент — и буду приторговывать помаленьку. Мануфактурой тоже неплохо торговать… Эх, сына нет, вот что скверно…» В это время Дарья, исподтишка поглядывая на мужа, тоже думает свои невеселые думы. «До чего же суровый человек мой Константин! Век с ним прожила, доброго слова от него не слыхала. Вот и сейчас молчит, насупился И чего ему не по нутру? День, кажется, ясный, озимь поднимается дружно, дочери растут хорошие. Нет, ничто его не радует… Заговори он сейчас со мной по-доброму, кажись, заплакала бы от счастья. Да нет, видно, не дождаться мне этого никогда». Орлай Кости молча достал из кармана трубку, набил табаком, закурил. Так, в молчании, они дошли до развилки дорог и повернули направо. Орлай Кости видит, как печальна жена, но ему до этого дела нет: его сердце, как и его кисет. истерлось о деньги, и сколько бы жена не лила елее, оно останется таким же твердым. Наконец Дарья не выдержала, спросила: — О чем, муженек, задумался? — Не твое дело. От такого ответа ее настроение вовсе упало. «Я для него вроде червя на дороге», — подумала она. И тут ей вспомнился случай, когда сам Орлай Кости, так любивший унижать ее, сам был унижен, сам, наверное, почувствовал себя червем, и готов был бы спрятаться в мышиную нору. Дело было на пасху. Они гостевали у старосты. Все шло хорошо, вдруг приходят от богатого соседа, зовут старосту в гости. Староста засобирался, и Орлая Кости с женой позвал: «Я в любой дом, — говорит, — могу без всякого приглашения прийти, мне везде рады. А уж коли зовут, имею полное право своих гостей привести. Пойдемте». Дарья пыталась удержать мужа, но тот был сильно навеселе и не стал ее слушать: «Молчи, не твоего бабьего ума дело, сам знаю, что мне делать!» «Пошли», — торопит староста. «Пошли!» — говорит Кости. Когда проходили через узорчатые ворота и входили в крытый железом дом, Дарья подумала, что зря муж ее не послушался. «Придем незваные, добром дело не кончится», — думала она. Толстый хозяин, вышедший встречать старосту, удивленно взглянул на непрошеных гостей, но тут же отвел глаза и как мог приветливо пригласил в дом. У порога разделись, мимо кухни прошли в большую горницу. За столом сидели гости, сразу было видно, что собрались самые богатые из коминских мужиков. На мужчинах были шелковые рубашки, на женщинах вышитые марийские платья и кашемировые платки. Веселье шло своим чередом: пили, ели, плясали. Дарья сидела вместе с другими женщинами и, видя, как они одна перед другой хвастаются своими дорогими нарядами, нарочно, чтобы сделать им приятное, говорила; — Какой красивый платок. Сразу видно, что дорогой! При этом ей хотелось стянуть с головы и спрятать за пазуху свой старый выцветший платок. Нет все бы ничего, если б Орлаю Кости с пьяных глаз не взбрело вдруг в голову похвастаться своими прошлогодними стогами. Сидевшие за столом дружно рассмеялись. Один из гостей сказал: — Думает, если в компанию к богатым людям затесался, так за богача сойдет! Чудно! Все замолчали. Из головы Орлая Кости сразу выветрился хмель. Он ухватился рукой за бороду, как будто хотел ее вырвать, и, пытаясь подняться, угрожающе опросил: — Что?.. Что?.. За столом засмеялись еще дружнее. Этот смех как будто кистенем ударил Орлая Кости по голове, он тяжело плюхнулся обратно на лавку. Старосту как ветром сдуло с его места — он ушел во двор. Хозяин, подмигнув гостям, спросил: — Что, брат Кости, ноги не держат? — Э, да наш русский богач, оказывается, совсем опьянел, — сказал кто-то. — Дядя Антон, поддержи его. Двое гостей, подхватив Орлая Кости под руки, хотели его поднять. Но он вдруг вскочил, оттолкнул тех двоих и, ни слова не говоря, ринулся к двери. Жена поспешила за ним. Схватили свои кафтаны и не одеваясь, выбежали на улицу. После этого случая Орлай Кости как одержимый принялся копить деньги, стал жадным, мрачным. — Всех их богаче буду, — говорил он жене. — Тогда и я над ними посмеюсь! — Ой, отец, не думай с ними тягаться, — со вздохом отвечала Дарья. — Они, того гляди, помещиками станут, а Антон и сейчас все равно что купец… Погруженные каждый в свои думы Орлай Кости и Дарья дошли до поля. — На, возьми рукавицы, — услышал Кости голос жены. Он поднял голову, посмотрел на поле, увидел Амину. За ней тянулась прополотая борозда, по краям лежали кучки привядшего осота. «Я уж вон сколько наработала, а они только заявились… — увидев родителей, подумала Амина с досадой, — Насте, той и вовсе хорошо, живет себе в городе, учится на всем готовом. Ба-а-рышня! А я у них вместо батрачки…» Амина распрямилась, забросила косы за спину, услышала, как в ушах стучит кровь. Вдали виднелась Боярсола. Среди других домов ярко зеленела на солнце железная, недавно покрашенная крыша дома волостного писаря. «Говорили, следователь из уезда приехал, — вспомнилось Амине, — мужиков допрашивать, как того черного русского чуть не убили в погребе». Тот русский и к ним в дом приходил, сфотографировал ее в праздничном марийском наряде, обещал прислать карточку, да так и не прислал… — Что стоишь, по сторонам глазеешь? — упрекнул дочь Орлай Кости. — Пусть немного передохнет, — .вступилась за нее мать. — Вот она сколько уже сделала. Не погоняй! — Уж и слова сказать нельзя, — проворчал Орлай Кости. — До низины дойдем, тогда отдохнем. Ишь, чуть-чуть поработают, уже отдыхать норовят… Ему никто не ответил. Амина снова принялась полоть, а между делом думала: «Была бы мужчиной, ей-богу, ушла б из дому, как Янк Ардаш. Вот кто живет как хочет. С таким отцом, как мой, только намучаешься. Все говорят «богатый, богатый…» Мне-то что за прок от его богатства? Даже к празднику никакой обновы не дает купить, все сама себе шью. Пару ботинок полгода выпрашивала. Работаешь день и ночь, а он деньги копит. На что их бережет? Едим хуже последних нищих, мать без его разрешения картошки боится сварить… Только и знает, что заставляет работать…» Пололи долго, наконец Орлай Кости сказал: — Теперь можно отдохнуть. — Ох, как поясницу ломит! — разгибаясь, застонала Дарья. Ухватившись за поясницу, она проковыляла к борозде, уселась рядом с мужем и дочерью. Немного погодя спросила: — На вознесенье, отец, в церковь пойдем? Орлай Кости подумал и сказал: — Пожалуй, не пойдем. — Батюшка рассердится. — Пусть его сердится, я на свечки много потратил. А сколько раз он нынче за ругой приходил, ненасытный черт! — Что ты, отец, разве можно так ругаться? Бог накажет. — Я не бога ругаю, а попа. — И попа, говорят, нельзя ругать. — Теперь такие времена настали, что попов не то что ругают, даже бьют. — Ты про сережкинского батюшку что ли? Так там землемера и торговца били, а батюшке заодно досталось. Говорят, он что-то против парода сказал. Молчал бы, его бы не тронули. Батюшка наши грехи перед богом замаливает, он угодный богу человек. — Богу он, может, и угодный, а вот как людям не угодил, люди ему и наподдали! — Ох, отец, никакого в тебе понятия нет: говоришь такое пои дочери… — А разве у дочери уши только сейчас выросли? О том, что попа избили, она, небось, раньше нас с тобой услышала. Так ведь, дочка? Орлан Кости от того, что пропололи уже порядочный участок, пришел в хорошее расположение духа. Он набил наполовину трубку (чтобы не расходовать зря табак, Орлай никогда не набивал ее доверху) и с удовольствием закурил. Амина, разувшись, вытряхивала из лаптей землю. — Это еще что! — отозвалась она. — Подумаешь — г (били. В Изганской волости в прошлую пятницу помещика убили. — Зато, когда казаки приехали, и мужиков не помиловали, — вздохнула Дарья. В глазах Орлая Кости появился хищный огонек. Опустив голову, он думал с завистью: «Небось, все имение растащили. Наверное, у помещика, золото было, какому-то счастливцу досталось, в одну ночь человек разбогател. Много ли места нужно, чтобы золото спрятать? Пусть потом хоть целый полк казачий приезжает, пусть хоть целое войско — все равно не найдут». — О господи, дожили до весны, снова народ бунтуется! Даже Унур Эбат, как приходил просить сбрую, лаялся, как собака, — продолжала Дарья. — Овод безмозглый, — Орлай Кости сплюнул. Амина, которая в эго время обувала лапти, рассмеялась. — Ты что? — Чего смеешься? — одновременно спросил отец и мать. — Как не смеяться! Недавно Унур Эбат урядника к пруду водил, бунтовщиков ловили. — Боже, выходит, и в Коме появились? — ахнула мать. — Чего испугалась? — усмехнулся отец. — Ты ведь не какая-нибудь помещица, что тебе сделают бунтовщики? Ну и как, дочка, поймали кого? — Кого они поймают? Там, в бурьяне-то, паши свиньи лежали. Как начали из левольвера палить, свиньи перепугались, одна уряднику под ноги бросилась, тот упал, говорят, весь в грязи вывозился. Орлай Кости, поднимаясь, сказал: — Спасибо, в свинью не попал, были бы с убытком. С урядника и через суд ничего не получишь. Небось, Эбата снова в тюрьму засадили? — Вот и нет! — сказала Амина. — Урядник теперь с ним за руку здоровается. — Поездить Эбата надо, посадить, уж больно он беспокойный стал. — Эх, отец, всех не пересажаешь! — Зачем всех? Такой, как Унур Эбат, на всю деревню один. Солнце, опустившись, светило прямо в глаза. До конца поля осталось совсем немного. Отсюда хорошо была видна низина — впадина, похожая на огромное корыто. Ее склоны с озимыми полями напоминают зеленый шелковый платок, а сверкающий ручей, бегущий по дну, — белая кайма этого платка. «Совсем как тот светло-зеленый платочек, который я собиралась подарить Эману», — подумала Амина. Платок этот Амина не подарила, он и сейчас лежит в маленьком сундучке в амбаре… «И пусть лежит, — думала Амина, — раз Эман меня обманул, платка ему не отдам, и глядеть на него больше не стану. А ведь как ластится! В пятницу вечером пришел на гулянье, хотел сесть возле меня, я встала и ушла. Думает, не знаю, как он втихомолку от меня на свадьбу ушел. Я теперь о нем даже думать больше не буду. Недаром в песне поется: «Нет милого — нет и горя, не стану думать о тебе…» Амину вывел из задумчивости громкий разговор матери с отцом. — Надо тебе за Настей съездить, — сказала мать. — Целый день пропадет, а я как раз собрался гречиху сеять, — с досадой отозвался отец. — Так-то так, да только о пашей дочери чужие люди беспокоиться не станут. — Разве я говорю, чтоб чужие люди беспокоились? Болтаешь, чертовка, сама не знаешь что! — Ну вот, опять ты сердишься… И чего ты такой злой? — Злой, злой… Хозяйству убыток, пойми ты это! Жалко дня, могла бы с попутчиками приехать. — Ой, отец, разве можно верить нынешним людям? Насте хоть пятнадцатый год пошел, сам знаешь, какая она у нас рослая да красивая, упаси бог, что случится по дороге… — Нс мели пустое. «Будь я па месте Пасти, меня не стали бы так жалеть, — с обидой думала Амина. — Сказали бы, пусть пешком идет, не хромая. А Настя… Разве я тоже не могла бы поступить в двухклассную школу? Учитель Петр Николаевич хотел меня в город направить, да отец-злыдень— не пустил: для работы, мол, нужна. Теперь Настя вместо меня учится, а я отцу кубышку наполняю. Почему так в жизни устроено: одному — все, другому — ничего? Не найти, где голова, где хвост, наверное, один бог разберется, что к чему… А интересно, какой бог все-таки сильнее: марийский, русский или татарский Отец хоть молится двум богам — русскому и марийскому — все равно никак не сравняется с соседями-богачами. Очень ему хочется вперед выскочить. А почему Унуру Эбату, Кугубаю Орванче и Янку Ардашу много не надо? Ничего у них нет, а они и не горюют. Может, и горюют, да виду не показывают». На дворе Орлая Кости ожидал Кугубай Орванче, он сидел на ступеньке крыльца и вытряхивал землю из лаптей. В этом году Кости нанял Кугубая Орванче пахать. — Что рано вернулся? — недовольно спросил Орлай Кости. — Кто рано начинает, тот рано и кончает. Сделал дело, вот и вернулся. — Хорошо ли вспахал? — Неужто моим сединам не веришь? — Ну, если всем верить… — Это ты напрасно, Константин Иваныч. Я не из таких. Хотя весь прошлый год в пастухах ходил, пахать не разучился. Да и как забудешь дело, которым с мальчишек занимался? — Ладно-ладно, ты болтать много горазд, хватит! Завтра запряжешь черного мерина, поедешь в город за Настей. — А я как раз на завтра хотел у тебя коня попросить, свое поле вспахать… — Успеешь, вспашешь. — Успею, если время не упущу. — У тебя поле-то с ладонь, управишься. Амина с ведром в руках вышла из дома, прошла в клеть. Спустив голову и не взглянув на старика, одетого в богатый кафтан, она прошла мимо, словно виноватая. Да время-то не ждет. Посмотри на скворечню: птенцы уже высовывают из летка свои головки, ишь, пищат! — Пусть пищат. Тебе-то что? — Верная примета, пора сеять гречиху, а я еще не пахал. — Не пахал и не надо. Ты же бедняк, зачем тебе еще гречиху сеять? Хватит с тебя одной ржи. — Об этом не станем говорить, каждый делает, как считает лучше. — Хе-хе, — Орлай Кости поглядел на старика с презрительной улыбкой. — Ладно, как я сказал, так и будет: завтра запрягай черного мерина, поедешь в город. — Константин Иваныч, зачем же мне ехать: я сыну скажу, он привезет Настю. Ему так и так в город ехать, он и захватит ее по пути. Орлай Кости подумал, уперев глаза в землю, потом сказал: — Оно бы можно, да, говорят, у тебя сын настоящий бурлак. Вернувшаяся из клети Амина делала вид, что подметает крыльцо, сама же прислушивалась к разговору. — Мой сын — не бурлак, он — парень честный, вежливый, — с достоинством проговорил старик, — всяких седоков доводится ему возить, и таких образованных барышень, как твоя дочь, возит, и никто на него не жаловался, хоть у начальника станции спроси. Орлаю Кости поправилось, что Кугубай Орванче назвал его дочь образованной барышней. «Наши богачи, вроде Антона, кичатся своим богатством, а детей своих не учат, — самодовольно думал Кости. — Вот выучится Настя, выйдет замуж за какого-нибудь начальника. Еще отец-покойник говаривал: «Имей богатство да начальство в родне, тогда ничего тебе в жизни не страшно». Амина, искоса поглядывая на старика и слушая, как тот нахваливает своего сына, подумала: «Ишь разливается, старая лиса! Из-за его Эмана ему и самому хочется сделать назло». — Отец, я… — вдруг сказала она. — Что? — повернулся к пей Орлай Кости. Но девушка вдруг смешалась, покраснела и убежала в дом. Она сама не знала, как это у нее вырвалось, она хотела сказать: «Я съезжу, привезу Настю», — но тут же спохватилась: ведь нельзя же из-за сына обижать бедного старика. «Он и так на нас работает, а свое поле непаханое стоит… Пусть сами разбираются с отцом, не стану соваться в их дела». Орлай Кости словам дочери не придал значения, решиив, что она хотела позвать его ужинать, но, чтобы не звать и Кугубая Орванче, не договорила. — Мать! — крикнул Орлай. Дарья выглянула в окно: — Звал? — Слышь, сын Орванче в город постоянно ездит… — Ведь он у меня в ямщиках, при станции, — закивал Кугубай Орванче. — Может, ему наказать привезти Настю? — продолжал Орлай Кости. — Эману что ли? Ему — можно, я не против. — Ну вот, и жена согласна. Так что пусть завтра же привезет, адрес мы скажем. — Не надо. Эман знает, он этот город вдоль и поперек изъездил. — Вот и ладно. — Ну, тогда я возьму лошадь на завтра, как уславливались. — Я сам хотел ехать сеять, — пряча глаза, отозвался Орлай Кости. — На мерине поедешь, он у тебя, слава богу, здоровый и в плуге хорошо ходит. — Это верно, на мерина не обижаюсь. — Тогда до свидания покуда. — Накажи сыну, чтобы довез хорошенько. — Об этом не беспокойтесь, мой Эман не первый год в ямщиках, все порядки знает. — Погоди-ка, Орванче, — послышался голос Дарьи, — возьми брезент, вдруг дождь пойдет, Настя на себя накинет. Положи на сиденье. И подушку возьми подложить. — Брезент давай, подушки не надо, в тарантасе и без нее мягко сидеть. — Ну, тогда вели Эману сена побольше подстелить. Отец, не послать ли ей хлеба на дорогу? — Делай, как знаешь, — ответил Орлай Кости, направляясь к сараю. — Погоди, Орванче, сейчас вынесу. Через некоторое время Кугубай Орванче, нагруженный брезентом, с котомкой в руках шел домой. Подошло время летнего молебствия. Накануне молебствия молодой парень — сборщик пожертвований — ходил из дома в дом с мешком для муки и кисетом для денег. Когда он пришел к Кугубаю Орванче, тот сказал: — Ничего у меня, браток, нету тебе дать. Парень усмехнулся и повернулся, чтобы уйти, но старик удержал его: — Погоди, вот, оказывается, есть копейка. Возьми. Парень, поколебавшись, все-таки взял копейку, сунул ее в кисет, потом сказал: — Ты же сам говорил: чтобы собирать с каждого по двадцати копеек. Позабыл что ли? — Нет, помню. — А если помнишь… — Ладно, ладно, браток, не спорь, бери, сколько дают. — Ну, будь здоров! — Всего тебе доброго, браток… На другой день после полудня народ из Комы потянулся к священной роще. Одни, одевшись в белоснежные кафтаны, рубахи, платья, ехали на телегах, другие скакали верхом, но больше всего было пеших. — Эман, я, пожалуй, тоже пойду, — сказал сыну старый Кугубай Орванче. — Хочешь — иди, не хочешь — не ходи. Толку от этого моленья все равно никакого. — Не говори так, бог обидится. — Какие уж теперь обиды… — Надо, а то люди осудят. — На людей не кивай, не в людях дело, тебе самому хочется, ну и иди, коли так! — За стирку деньги надо отдать. Нет ли у тебя, сынок, сколько-нибудь? — Опять деньги… — Сам же виноват. Почему до сих пор не женишься? Женился бы, не пришлось бы отдавать белье чужим в стирку. А если отдавать, то за это платить надо. — Ладно, ладно, не ворчи. — Я не ворчу. Просто говорю, что думаю. Кугубай Орванче отнес соседке постирать белье, кафтан и вышитое полотенце, сходил в баню, переоделся во все чистое и, взяв палку, отправился на мольбище. То и дело его обгоняли, обдавая тучами пыли, телеги и верховые. Старик перешел Журавлиный овраг, миновал Луй, поднялся на гору, свернул направо по проторенной дороге, а там уж и священная роща. Но обе стороны дороги паслись выпряженные лошади. Увидев Орлая Кости и Настю, Кугубай Орванче удивленно подумал: «Ну, отец, понятно, хочет всюду свое получить: и русскому и марийскому богам молится, а что нужно в священной роще ученой дочери? Наверное, из любопытства приехала посмотреть на старые марийские обряды». Кугубай Орванче отвесил поклон, но Орлай Кости сделал вид, что не замечает старика. Настя же и вовсе нос задрала и отошла в сторону. «Ох-хо-хо, — вздохнул про себя Кугубай Орванче, — корчат из себя богатеев, а настоящие-то богатеи с ними и разговаривать не хотят». Пройдя мимо толпившихся кучкой женщин, Кугубай Орванче подошел к мужчинам. Молебствие уже началось. Один из картов, заметив вновь пришедшего человека. подошел к нему и произнес: — Кто на свечу жертвует? Как имя того, за кого молиться? — Я жертвую, — ответил Кугубай Орванче. Карт протянул к нему конец полотенца, и Кугубай Орванче положил на полотенце монету. — Молись за счастье моего сына Эмана, — сказал он и отошел к толпе. Перед священными деревьями карт читал молитву, и Кугубай Орванче повторял за ним: — Добрый великий бог, прими хлеб, прими котел с кашей, прими молоко и мясо на серебряном блюде, прими в жертву копя со сбруей, — все это шесть деревень приносят тебе с любовью, добрый великий бог! Карт, продолжая молиться, опустился па колени, и все молящиеся тоже опустились на колени. — Добрый великий бог. за принесенную тебе в жертву лошадь пошли людям шести деревень благополучие: здоровье их семьям, здоровья и приплод их скоту. Всему, что посеяно, дай хорошо взойти, спаси от холодов, от непогоды, пошли теплый дождь, пошли теплые дни, убереги и от холода и от зноя, хороший урожай, добрый великий бог, пошли людям, которые молятся тебе! Кугубай Орванче, отвешивая поклон, думал: «Где-то я раньше встречал этого карта, вот только — где? Ишь, жирный какой, ай-ай! От молебствий, конечно, еще больше разжиреешь: еды вдоволь, да и денег хватает…» Но тут карт стал молиться о семейном благополучии, и Кугубай Орванче, откинув посторонние мысли, снова стал слушать внимательно. — …с вечера вдвоем ложиться, утром втроем вставать. Пошли, великий бог, каждому девять сыновей да семь дочерей, пусть будут крепки телом, высоки, как стога, пусть растут, как на дрожжах, пусть будут покладисты, пусть прыгают, как блохи, щебечут, как ласточки, дошли им здоровья на всю жизнь, счастье непрерывное. Сделай так, — добрый, великий бог!.. «Эх, — подумал Кугубай Орванче, — хоть бы не девять, а один сынок был у Эмана, чтобы я мог любоваться своим внуком. Да дет, молись не молись я, как другие, богу, все равно не слушается меня Эман». — …Добрый великий бог, дай девяти сыновьям счастье, дай семи дочерям счастье… — продолжал читать молитву карт. — Одну часть прибыли. дай, чтобы казенную подать заплатить, другую, чтобы в доме осталась… Кугубай Орванче выбрался из толпы и пошел домой. У полевых ворот он встретил знакомого мужика из соседней деревни. Тот спросил: — Куда спешишь? Или дела какие ждут? — Да так… — Нельзя делами заниматься, когда идет молебен. — Это я знаю. — Ну, тогда пойдем со мной. — А ты что припозднился? — Я уж был. Да что-то живот схватило, сходил па речку, искупался. Ну, идем? Потом вместе домой вернемся. — Ну, ладно, — согласился Кугубай Орванче, повернулся и зашагал рядом с мужиком. Теперь карты суетились у котлов с мясом, проверяя, сварилось ли. Женщины подходили к карту каждая со своей стопой блинов, чтобы тот благословил пищу. Блюдо с мясом пошло по рукам. До Кугубая Орванче оно не дошло: мяса хватило только передним. И снова, ударяя железом о железо, молились карты. Кугубай Орванче пожалел, что поддался на уговоры мужика и вернулся. Окончив очередную молитву, карт налил в блюда мясной суп. На этот раз Кугубаю Орванче попался в супе маленький кусочек мяса. А знакомый мужик спроворил себе большой кусок с костью. «Хват!» — подумал про него Кугубай Орванче и рассмеялся. — Чего ты? — спросил мужик. — Над собой смеюсь. — Что так? — Сорок лет хожу на моленье, прошу у бога счастья и богатства, а пользы от моего моленья — вот разве что этот кусочек мяса. — Ты бы побольше кусок хватал, вот как я, ха-ха… — Нет, так не годится. — Это почему? — От людей совестно. — Чего тут стесняться? Поев и попив, стали расходиться. И снова — одни ехали на телеге, другие — верхом, третьи плелись пешком. Солнце опустилось низко, быстро вечерело. Дома Эман насмешливо посмотрел на отца: — Ну, доволен? Помолился от души? — Как сказать… Думаю, что теперь меня никто не осудит. Вот и твой праздник подошел. Небось, на улицу закатишься? — Ясное дело, не в избе же, как сычу, сидеть. — А то остался бы хоть ради праздника дома, посидели бы с тобой вдвоем, потолковали бы… — Знаю я, о чем твой разговор пойдет: опять про сватовство. Угадал?.. — Эх, Эман, без женщины дом не стоит. Сам же видишь, никакого порядка у нас с тобой нет: одежда вся порвалась… Да и стряпать уж надоело… — Коли женюсь, и рваной рубахи не будет. — Не пойму, что ты говоришь. — Говорю, что ежели жену приведу, лишний едок будет. — Сказал бы — лишний работник. Вот это вернее. Кугубай Орванче снял праздничную одежду, сложил ее в мешок, мешок повесил на стену, переоделся в старые штаны и рубаху. Из кармана холщовых штанов достал старый, потертый кисет, прочистил проволочкой трубку, набил ее табаком и закурил. — Не терпелось закурить, отец? — улыбнулся Эман. — Очень курить хочется. — А ну как попадется сноха, которая не терпит табачного дыма, что тогда делать станешь? — Эх, Эман, Эман, все ты насмехаешься надо мной, стариком. Хотя не зря говорят, что от ели ель родится, яблоко от яблони недалеко падает. В меня насмешник. — Может, и жена мне попадется насмешница. — Какая б ни попалась, лишь жена была. — Ну, коли так, пойду тебе сноху искать. Где моя гармошка? — Не шути, сынок, я тебе дело говорю: нынче тебе непременно надо жениться. — Хватит, я об этом больше слушать не хочу, и ты со мной больше про женитьбу не заговаривай! — Что ты как береста вспыхнул? Не на что сердиться, дело говорю. — Надоел! Хватит! — Хватит так хватит, коли так, больше и говорить никогда не стану. Оставив разобиженного отца, Эман ушел на гулянье. В этот вечер вся деревня — и молодые и пожилые — вышли на улицу. Старики сидят возле домов, молодежь затеяла игры: в колечко, в ручеек, в прятки, в горелки. Эман подсел к девушкам и стал наблюдать за играющими в ручеек. Вот вперед выбежала Амина. В белом шовыре[3] и белом платке, она похожа на белую лебедь. Вот Кудряш взял ее за руку, его взяла за руку другая девушка, ту — третья, и так образовалась длинная цепь. Амина остановилась, и цепь стала закручиваться вокруг нее. Оказавшись в центре, Амина растолкала подруг, вырвалась из круга и снова побежала, остальные с шумом и смехом кинулись за ней. Эман подумал, что хорошо бы сейчас догнать ее, схватить и убежать с ней. Подумав об этом, он стряхнул со своего плеча руку светловолосой девушки, которая стояла с ним рядом. Та взглянула с обидой, поправила платок, но промолчала. Эман заиграл на гармошке, и светловолосая девушка, взмахнув косами, в концы которых были вплетены серебряные монеты, села рядом с гармонистом и задорно запела:После праздника наступила пора сенокоса. Мужики вышли делить луга. Кугубай Орванче, опираясь на палку, идет вместе со всеми. Старик не знает, что здесь в праздничную ночь бродили Эман с Аминой, но заметил, что с той самой ночи сын стал задумчив и чуть ли не каждый вопрос теперь приходится повторять дважды, чтобы сын очнулся от своих дум и услышал. Люди, собравшиеся на раздел, с мерными палками в руках толпились вокруг старосты. Когда Кугубай Орванче подошел к ним, парень в сапогах, подмигнув остальным, сказал: — Поздно пришел, дедушка. Твою долю уже отдали. — Мог бы не говорить, я без тебя знаю: богачи всегда бедняка обидят, — отозвался старик. — Ну, ну, я же пошутил, — смутился парень. — У тебя, брат Кугубай Орванче, нет никаких причин так говорить, — вставил свое слово мариец с нижнего конца деревни, — бросим жребий, кому что достанется. — Мне-то хороший участок не достанется, — сказал Кугубай Орванче и закурил трубку. Все двинулись на первый участок. В шапку покидали жребии на десять человек, парень в сапогах встряхнул жребии, зажал шапку. Орлай Кости опустил в нее руку. — Достался участок Алкеч, — сказал он. Потом перешли на второй участок, па третий, на четвертый — и только последний жребий вышел тому десятку хозяев, в которую входил Кугубай Орванче. К этому времени он совсем выбился из сил. Взяли прутик потолще, разрезали надесять кусочков, каждый поставил на одном из кусков свою тамгу, и жребии положили в шляпу. Когда закончили раздел, Кугубай Орванче вынул из-за пояса топор, вытесал кол, сделал метку-зарубку и вбил кол на краю доставшегося ему участка. — Ладно, хоть трава тут не ахти какая, да уж какая досталась, — сказал он соседу. — Если б твои участок достался кому-нибудь с нижнего конца, заставили бы снова тянуть жребии, — сказал сосед, — это только мы такие безответные. — Да ладно уж, браток! Наверное, сам бог так рассудил… На другой день всей деревней вышли косить. Орлай Кости, досадуя на то, что ему полагается только один пай, как обычно, принялся пилить жену. — Только девки у тебя живучи, а чтоб сына вырастить, на это тебя нету! — Ох, отец, для чего ты это говоришь? Ведь на все воля божья… Что я могу поделать… — «Что я могу…» Хоть бы один сын! А то майся тут — поле на одну душу, покос на одну душу! Эх, баба! — Можно, как и в прошлые годы, прикупить несколько десятин. — Сам знаю, что можно прикупить. А где деньги взять? — Мои холсты продашь, вот тебе и деньги. Дарья знает, что у мужа деньги есть, но завела речь о холстах, чтобы он не злился. — Ну, тогда другое дело… Так что, когда голодранцы придут продавать свои сенокосы, ты их не гони, напои чаем, можно и водочки налить по полрюмки… — Сумею, отец. — Ты бы лучше сына родить сумела… — Опять… — Ладно, ладно, не спорь. Что муж велит, ты исполнять должна, ибо ты не что иное, как «сосуд дьявольский». — Да будет тебе издеваться-то… — Ладно. Некогда мне с тобой тут время зря терять. Кто придет участок продавать, пусть ждет, я через час вернусь. — Далеко ли идешь? — В лавку. Там, говорят, сегодня косы-литовки привезли, и брусок нужно купить. Вернувшись из лавки, Орлай Кости прошел в избу, сел на лавку и, задумавшись о чем-то, молчал. Жена не осмеливалась заговорить с ним. Потом Дарья пошушукалась с Настей, и дочка спросила: — Отец, о чем закручинился? Он не ответил, но в свою очередь спросил: — Никто не приходил? — Никто, — ответила Дарья. — Народ сильно напуган, — сказал Орлай Кости, — давеча урядник из волости Унура Эбата и работника с мельницы заарестовал. — За что? — в один голос спросили Дарья и Настя. — Говорят, Эбат каких-то бунтовщиков из волости в волость возил. Еще говорят, он замешан в том деле, когда в Боярсоле приезжего барина хотели сжечь. Вроде бы и оттуда пятерых забрали. Эх, не стало нигде покою. Не знаю, куда только жизнь идет. — Тебе-то какое дело? Твое дело — сторона, — сказала жена. — Кто против властей идет, тот против богатых, — наставительно ответил ей Орлай Кости. — Не так уж мы богаты, чтобы нас трогать, — стараясь успокоить мужа, сказала Дарья. — Да и не бедны, — обиделся Орлай Кости. Настя, услышав, что отец считает себя богачом, чуть не рассмеялась, но, перехватив испуганный взгляд матери, прикрыла рот платком, вроде бы закашлялась.
На сенокосе тоже только и разговору было, что об Эбате и арестованных боярсолинцах. За что их взяли, никто толком, не знал. — В Сибирь сошлют, — уверенно сказал Кугубай Орванче. — Для арестантов туда дорога с дедовских времен проторена. Свой участок сенокоса Кугубай Орванче выкосил за один день. На другое утро принялся косить участок Эбата. Вдруг на луга прикатил староста, с ним лавочник. Староста спросил: — Орванче, который участок Эбата? — Вот он, я его кошу. — Почему ты косишь? — Он же мне свою лошадь оставил. — Ну и что с того? — Сам посуди: Эбатова лошадь, как и твоя, — тварь живая, она тоже есть-пыть хочет. — Это меня не касается. Участок арестованного Эбата Унурова общество определило передать вот ему, — староста указал на лавочника. — К его сыну как раз приехали ученые гости, они желают покосить немного, заняться гимнастикой. — Говоришь, общество определило? — переспросил Кугубай Орванче. — Когда же оно успело, ведь сходку не собирали? Между тем лавочник вылез из тарантаса и пошел измерять шагами длину и ширину участка. — Ой, старик, ну, не чудак ли ты, ведь общество — это я! Раз вы поставили меня старостой, значит, мое слово все равно, что решение общества. Забирай свою косу в ступай домой! — Не пойду! — Не пойдешь домой — пойдешь в тюрьму! Где тебе лучше будет, а?! — Ну, ладно, — Кугубай Орванче резко поднял косу (староста поспешил отскочить немного в сторону), молоток и брусок сунул в мешок, закинул мешок за плечо. — Ну, ладно, только бог видит твою несправедливость. Не может он этого не видеть! — Хорошо-хорошо, бог сам знает, что ему нужно видеть. а ты знай шагай своей дорогой. Кугубай Орванче прошел уже большую часть пути, как вдруг его окликнули: — Дядя Орванче, что так рано домой собрался? Кугубай Орванче поднял голову и увидел телегу, на которой сидели Орлай Кости с женой и дочерьми. Амина сказала отцу: — Вот, найми Орванче косить. — И верно, — отозвался отец. — Тпру-у, тпр-у, глупый! Орванче, ты уже кончил с покосом? — Покончил. — Не наймешься ли ты мне косить? — Сколько заплатишь? — Шестьдесят копеек, и еда-питье мое. — Нет, дешево. — Люди за полтинник нанимают. — Надо смотреть, кого нанимаешь. — Известно, не впервой нанимать. А сколько же ты просишь? — Семьдесят пять копеек в день, меньше никак нельзя. — Нет, это дорого. — Давай на круг за все — три с полтиной. — Тоже дорого. — Не скупись, отец, найми дедушку Орванче, он сказки хорошо рассказывает, — сказала Настя. — Ты, дочка, не суйся в разговоры взрослых. Я же его не сказки рассказывать нанимаю. — Ладно, дай ему семьдесят копеек, — посоветовала Дарья. — Ну как, Орванче, семьдесят копеек — пойдет? — Нет. До свидания. — Стой, стой, не уходи. Будь по-твоему! Садись на телегу, подвезем. — Пешком пойду, небось, не далеко? — Близко, у Чарланге-оврага. Приходи, не задерживайся. Но-о! — Орлай Кости хлестнул коня, заторопился. Кугубай Орванче пошел следом. Начали косить. Настя, приезжая на каникулы домой, всякий раз с удовольствием выходит на сенокос. Отец купил ей небольшую косу, и она, как умеет, косит. Конечно, Насте не успеть за всеми, да она и не старается особенно. Амина идет, не отставая от Кугубая Орванче. Орлай Кости то и дело поправляет косу, что-то у него там не ладится. Дарья косит позади всех, обернувшись, она кричит: — Настя, доченька, ноженьку не порежь, будь осторожнее… — Нет, мама, не бойся. — Ты не устала? — Нет, не устала. Только вот коса почему-то носом в землю зарывается. — Ну и оставь ее, иди пособирай лучше землянику. — Где кружка? — Поищи в пестере, я ее вместе с хлебом клала. Молоко не опрокинь. — Пожалуй, схожу пособираю. — Вот и хорошо. Наберешь ягод, поешь с хлебцем. Хоть и стар Кугубай Орванче, но еще крепок. Косит будто играючи. Только невесел нынче старик, трубка в зубах зажата, но он не замечает, что она давно потухла. Амина изо всех сил старается не отставать от Кугубая Орванче, не теряет его из виду. «Наверное, старик ругает нас кровопийцами, живем-де за чужой счет, — думает она. — Почему так получается, что он на нас работает Отец всегда его да Эбата нанимает. Эх, Эбат, Эбат… Иной раз послушаешь его — вроде дурака, а иной раз — очень даже умен. Язык его и довел до тюрьмы. Что же он, глупый, натворил? Только кто знает — глупый он или умный? Лишь бы Эман из-за него не попал в чижовку, ведь они дружат И Ардаш — хороший человек, если бы посватался, пожалуй, пошла бы за него… А как же Эман? Сама толком не пойму: люблю я этого дьявола или нет? В прошлый праздник опять задурил голову, говорить умеет так же, как и ее отец. Хорошо бы узнать, ходил он на свадьбу в Луй тогда без меня или нет?» — Доченька, коса-то у тебя, видать, притупилась. Давай наточу. Амина не заметила, как, занятая своими мыслями, далеко отстала от других. Видит: к ней идет Кугубай Орванче, улыбается. Отец тоже перестал косить и сурово посмотрел на нее. Амина, смутившись, глубоко вздохнула и замахала косой. Кугубай Орванче взял у нее косу и принялся точить. — Вот и выросла ты, доченька. Работницей стала, а сердце у тебя доброе, не то что у твоего отца, — негромко говорил Кугубай Орванче. — Ты уж не обижайся на мои слова, я люблю говорить правду… Амина потупилась, молча взяла наточенную косу и снова принялась косить. Кугубай Орванче, глядя на нее, думал: «Такой хорошей девушки мне в снохи не заполучить. Мой Эман к Амине, небось, близко подойти боится. Ничего не поделаешь, бедный человек застенчив. Нет, лучше и в голове не держать породниться с Орлаем Кости». — Давай коси! крикнул Орлай Кости. — Тут пора кончать, на другой участок переходить. Кугубай Орванче неспеша взмахнул косой и пошел, оставляя за собой ровный широкий покос. Наступило время отдыха. Сели под навесом, устроенном из оглобель телеги, поели толокна, потом стали пить чай. Настя насыпала на лопушок земляники и подала Кугубаю Орванче. — На, дедушка, покушай. — Чего тут, голубушка? A-а, земляника? Вот спасибо. — Здесь, по краю, насобирала. — В первый раз нынче ягоды брала, голубушка? — спросил старик. — В первый. — А сказала, как первую ягодку рвала: «Рот старый, еда новая, на другой год будь еще раньше»? — Ой, забыла. — Значит, на будущий год не уродится, — засмеялась Амина. — Если бы урожай от наших слов зависел, хорошо было бы. Но ведь это не так! И в книгах пишут, что от суеверий никакого прока не жди, — возразила Настя. — Правильно, дочка, — поддержал ее Кугубай Орванче, поглаживая свою бороду, — верь книге, а не марийскому поверью. — И русские поверья не лучше, — вставил свое слово Орлай Кости. — Будешь по поверьям жить, скоро ноги протянешь. — Не болтай пустое, — остановила его жена. — А то люди скажут еще, что ты и в бога не веруешь. — Налей-ка еще чашечку, — попросил Кугубай Орванче Амину. — Я вот гляжу, все марийские суеверия — пустое дело, никогда не сбываются. — Зачем же ты сам-то по ним живешь? — Эх, брат Кости, куда уж мне менять жизнь на старости лет, доживу остаток лет, как привык. — Зато у марийцев сказки хорошие, — сказала Настя. — Верно, сказки хорошие, и загадки неплохие — не знаю, как у других народов. И поговорок правдивых у нас не мало. Вот, к примеру, про солнце загадка: «Выше леса, светлее света». Верно сказано? Очень даже верно! А как про огонь подмечено: если спросят: «Что ца свете мерить нельзя?», прямо отвечай: «Огонь!» Ведь его, действительно, мерить нельзя. Или вот загадка про воду: «Бежит вороной мерин, а оглобли не шевелятся». Понятно, что это — вода между берегов течет. Вот я вам загадаю, а вы отгадайте: «Один льет, другой пьет, третий растет». Что это такое? — Дождь, земля и дерево, — сказала Настя. — Я эту загадку в прошлом году слышала. — Правильно… Ну, хватит. Надо маленько вздремнуть. — Не будет ли дождя? — Орлай Кости посмотрел на небо. — Может, начнем без отдыха? — Дождя не будет, нужно обязательно отдохнуть. И скотине отдых нужен. — Ну, ладно, полчаса. — Вот и я об этом говорю.
В это самое время Эман на паре выезжал со станции. Давеча, когда смотритель вписывал в книгу подорожную седока, Эман приметил его фамилию: Линов. Линов направлялся в Изганы. Кони хорошие, бегут быстро, только искры, когда попадется на дороге камень, летят из-под копыт. — Э-эп, яныка-ай! — покрикивает Эман на лошадей, поигрывая свернутым кнутом. Он сидит прямо, весело поглядывает по сторонам. Мальчишке, отворившему полевые ворота, крикнул: — Молодец, братишка, вот тебе за труд! — и кинул ему горсть орехов. Седок, привалившись к плетеной спинке тарантаса, казалось, не замечал ни раскинувшихся вокруг полей, ни поднимавшегося на горе леса, ни земли, ни неба: он ехал, о чем-то крепко задумавшись. — Эх-эх, яныкай-ай! — покрикивал Эман и время от времени свистел. — Перестань, надоел, — сказал седок по-русски. Эман повернулся к нему и, глядя в глаза, ответил по-марийски: — Господин, ямщику нельзя не понукать лошадей! Седок сделал вид, что не понял, и промолчал. Он поправил кожаную подушку у себя за спиной и уселся поудобнее. — Э-эх, яныка-ай! — Эман дернул вожжи, и лошади пошли рысью. Дорога была пустынна. Только однажды попалась навстречу телега, в которой сидели мужик и три бабы с красными, заплывшими глазами: видать, трахомные. Встречные собирались уступить дорогу и очень удивились. что с дороги свернул тарантас с барином. Линов думал: «Вот и этот мужик-мариец в свое «Э-эх» вкладывает и горе, и радость, и у него, должно быть, о каких-то важных вещах, о родине, например, есть свои понятия. И ума у него, наверное, как и у русского мужика. палата. И в нужный момент нужное слово сумеет сказать. Как все подданные Российской империи, и ан имеет права. Например, если он православный, имеет право перейти в другую веру, ему дано право избирать и выступать в печати, и ряд других прав даны ему «белым царем». Если же кто препятствует ему в осуществлении этих законных прав, того могут по тысяча четыреста сорок пятой статье приговорить к каторге. Хо-хо, «могут»! Разве жандармского офицера испугаешь этой статьей. Эх, право записано на бумаге, а в жизни все по-другому. Вот я крестился еще в школьные годы, считаюсь русским. Но ведь все равно остался марийцем, иногда даже говорю по-марийски. Ведь если станешь марийцев по-русски допрашивать, ничего не добьешься, хоть полгода промучайся. Поэтому в глухих углах приходится разговаривать по-марийски. На виду — это не годится делать, а то еще прослывешь социалистом, революционером, А разве мало таких, как этот молодцеватый ямщик, которым прекрасно известно, что я природный мариец? Наверное, едет и злится, в душе издевается надо мной. Они ведь как говорят? Перекрашенная ворона. Ворону сколько не перекрашивай, она так вороной и останется. Так же они подтрунивают над крещеными. Может быть, они имеют на это моральное право. Народ не любит таких чиновников, как я, которые делают свое дело «на совесть». Недавно коллега рассказывал о процессе пятерых мужиков из Боярсолы. Карт, который хотел сжечь этнографа, сказал следователю: «Вы походите на маленьких детей на белом мерине». Когда же тот спросил: «Что за загадки ты загадываешь?» — карт разъяснил: «Маленькие дети считают конем свою палку». Да, боярсолинцам крепко досталось: Сибирь, каторга! Этнограф оказался мягкосердечным человеком, стал ходатайствовать о помиловании, но разве можно спасти человека, попавшего в когти наших законов? По указу от 17 апреля-выход из православной веры не наказуется, но, когда несколько чувашей отошли от русской веры, нашлась статья: оскорбление православной веры. Затеялся процесс, который и сейчас еще не закончился, вот тебе и указ, вот тебе и закон!» Эман тем временем несколько раз вздремнул на козлах, но сидел он так же прямо и твердо: за годы службы в ямщиках выработалась привычка. Его жизнь проходит в пути, сидит он на козлах чужого тарантаса, покрикивает на чужих коней, набивает чужой карман, а ему достаются лишь обиды и оскорбления. Дорога гладкая, день погожий, а мимо пролетает кипящая жизнь! Но только жизнь эта устроена так, что беднякам, вроде Эмана, несладко приходится в ней…
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
Из Комы на русско-японскую войну ушли двадцать два человека. Трое вернулись живы-невредимы, одиннадцать не вернулось совсем, остальные пришли искалеченные. Во многих хозяйствах некому стало работать, поэтому бедняки засеяли меньше, чем в прежние годы. А тут еще озимь погибла от морозов… Уже с осени люди начали есть желуди и древесную кору. К рождеству перерезали скот, весной несколько человек умерли от голода. Несмотря на это, подати взимались как и прежде. Кугубай Орванче прямо так и объявил старосте, когда весь народ согнали в караулку. — Не уплатишь подать, продадим скотину, самовар. — Скотины у меня нет, есть чужая, Эбатова, лошадь. И ту думаю прирезать. — Продай лошадь, уплатишь подать и недоимки, которые за тобой числятся. — Чем же я стану платить? — Да говорят тебе: лошадь продай! — Так ведь не моя лошадь, чужая. Ты же староста, сам знаешь: лошадь Унура Эбата. Да если бы моя была, и то не стал бы продавать лошадь ради подати. — Ого! И ты смеешь мне это говорить? — Чего ж не сказать, коли сами меня к тому принуждаете… — Повтори-ка свои слова! — И повторю! — Эй, десятский, пойди-ка сюда! — Что такое, староста? — Вот этого старикашку отправь в волость, в чижовку, и запри покрепче. — За что ж ты меня в тюрьму сажаешь? — удивился Кугубай Орванче. — Молчать! Ты свое уже сказал, теперь помолчи. — Нет, ты скажи — за что? — Ну, ну, хватит! Десятский, уведи его! Писарь под диктовку старосты написал какую-то бумажку, староста отдал ее десятскому: — Отдашь дежурному. В камере, куда втолкнули Кугубая Орванче, сидело трое: один за кражу краюхи хлеба, другой за то, что избил урядника, третий за то, что оказал сопротивление, когда у него конфисковали имущество за неуплату страхового платежа. — Здравствуйте, — сказал Кугубай Орванче, когда дверь за ним захлопнулась. — Темно-то как, нет ли лампы? Длинный арестант, лежавший в углу, ответил: — Нет. — Как же так? — Да уж так, — человек отвернулся к стене и замолчал. Кугубай Орванче лег на лавку и тоже ни о чем больше не спрашивал. Кто их знает, что за люди. Хотя Кугубай Орванче немало хлебнул на своем веку горя и в кутузке сидит уже в третий раз, сегодня он приуныл. «Может, убийцы какие, — думал старик, прикрыв глаза и стараясь задремать. — Ну да ладно, что суждено, то и будет, поживем — увидим». — Ух, кровопийцы! — услышал он вдруг и открыл глаза. У зарешеченного окна сидел человек, обнаженный по пояс, и при свете луны давил на своей рубахе вшей. — Кого так свирепо ругаешь? — спросил один из арестантов. — Уж не урядников ли? — Разве ж это ругань для них? Для урядников это, можно сказать, похвала. — A-а, ну разве что так… — немного помолчав, тот же арестант неожиданно сказал — Как было бы хорошо, если бы этого проклятого Столыпина еще в прошлом году убили. Человек, сидевший у окна, удивленно посмотрел и ничего не ответил. Начинался буран. Окна в камере были одинарные, поэтому было хорошо слышно, как бушует ветер. — Э-эх уплатил бы подать вовремя, сейчас горя бы не знал, — сказал человек без рубашки. Немного погодя он надел рубашку, закурил, подошел к двери, прислушался. Вернувшись на прежнее место, сказал: — Прошлой осенью в Уржумском уезде, в Вятской стороне, из двадцати двух волостей только в одной уплатили подать. — И той не надо было платить, — отозвался сосен. — Почему? — вступил в разговор Кугубай Орванче. — Потому, — хмуро ответил арестант. — Ну и что же там получилось? — спросил третий арестант. — Исправник собрал пеших и конных стражников до ста человек и заявился с ними в деревню. Приказывает: «Отобрать у мужиков имущество и свести лошадей». Потом поехали по другим деревням, пока не приехали в Шурму. Про эту Шурму даже в газете было написано. — В какай газете? — «Волжский курьер», ее в нашей деревне учитель получал. — Ну, приехали в Шурму, и что же дальше? — спросил Кугубай Орванче. — Исправник, как обычно, приказал стражникам приступить к сбору податей, а сам лег спать. Просыпается, а перед домом, где он остановился, собралось народу больше тысячи. Исправник, понятно, струсил, но не показывает виду, спрашивает строго: — Что вам нужно? Мужики в ответ: — Нам ничего не нужно, но и ты нам не нужен, так что ушел бы ты отсюда. — Уйду, если до полудня заплатите подати. Не то пеняйте на себя. — Делай, что хочешь, платить не станем. — Почему? — Начальство не пропадет с голоду без наших денег. Да и не за что ему платить, — кричат из толпы. Тут подходит к исправнику один мужик. Исправник побледнел, но не отступил. Мужик взял его за пуговицу мундира и говорит: — Шел бы ты, господин урядник, домой к жене и детишкам. — Что, что? — Убирайся, говорю, и стражников своих уводи. — Ты соображаешь, что такое говоришь? — То и говорю, что лучше тебе убраться отсюда подобру-поздорову. До сих пор ты немало крестьянских денег заглонул, гляди, как бы теперь тебе не подавиться! — Пшел вон! — исправник оттолкнул мужика и закричал: — Если не заплатите подать… — Не заплатим! — зашумела толпа. — Все ваше имущество будет конфисковано! — Не выйде-е-т! — ревела толпа. Кто-то швырнул в исправника камень, кто-то угодил стражнику в голову. — Стреля-ять! — крикнул исправник. Но только трое или четверо стражников успели выстрелить, мужики бросились на них, избили, ружья отобрали. Десятка полтора стражников заявили, что они бросают службу, и тут же поснимали свои мундиры. — А что же сделали с исправником? — опросил Кугубай Орванче. — Тоже избили и посадили под замок. Потом мужики разобрали отобранное имущество и выпустили исправника. — Говорят, что, когда стражник и хозяин сцепились из-за самовара, самовар был помят. Так начальству пришлось уплатить этому мужику два рубля денег, — сказал другой арестант. — В газете писали. — Вот это здорово! — воскликнул Кугубай Орванче. — Дальше — больше, приволокли шурминцы попа и заставили его отслужить молебен в честь победы над исправником. — С попом это хорошо придумали. — Так всегда надо бы делать, — сказал Кугубай Орванче. — Попробуй сделай! Примчатся стражники, драгуны, живого места на тебе не оставят. — Да и в Шурме, наверное, тем дело не кончилось. — Еще бы! У начальства ведь не один исправник… — Не в исправнике дело, исправник — мелкая сошка, то ли дело — Столыпин… — снова заговорил тот, что уже начинал речь про Столыпина.Так как Эман уехал в дальний город, старому Кугубаю Орванче некому было принести хлеба и табаку. Амина послала соседскую девочку узнать, не приехал ли Эман. Та, вернувшись, вызвала Амину на крыльцо и сообщила: — Эман еще не вернулся. Один мужик вышел из тюрьмы, говорит, что там дедушка Орванче сидит голодный. Амина знала, что если она отнесет передачу старику. то мать с отцом потом будут, ругать ее. «Будь что будет», — решила она в конце концов и, уложив в котомку хлеба, масла и ватрушек, пошла в тюрьму. — Кем тебе арестант доводится? — спросил дежурный десятник. — Тебе какое дело? — Ты, Девка, не огрызайся: раз спрашиваю, значит, есть дело. У меня приказ: от посторонних ничего не принимать, передачу могут носить только родственники. Так кем ты доводишься этому самому Кугубаю Орванче? — Дочь. Да передай поскорее, он голодный сидит. — Не торопись: поспешишь — людей насмешишь. Сначала посмотрим, что принесла. — Чего там смотреть! Еду принесла. — Та-ак, во-первых, значит, хлеб, во-вторых, — ватрушки, в-третьих, — масло. Ладно, оставь. Все это передавать разрешают. — Ты, дядя, сейчас отнеси ему еду, он же голодный. — Передам, передам. — Ты возьми себе одну ватрушку, а остальные отнеси поскорее, ладно? Очень тебя прошу. — Ладно, отнесу. Ступай, покуда начальство не явилось. Но когда Амина собралась уходить, он остановил ее вопросом: — Так как ты сказала — сестра? Или дочь? — Дочь. — Ну ладно, ступай. Кугубай Орванче получил хлеб и масло, про ватрушки он даже не узнал. Хотя старик удивился, когда ему сказали, что передачу принесла дочь, на голодный желудок раздумывать об этом было некогда. В камере темно. Не видно ни лавок с клопами в щелях, ни грязных, испещренных похабными надписями стен, ни голодных глаз сокамерников. Но Кугубай Орванче не стал дожидаться, котла его попросят разделить полученную еду, он угостил всех. Поев, один из арестантов собрал хлебные крошки на ладонь, положив их в рот, сказал: — А теперь, дедушка Орванче, расскажи, как вы стражника поймали в капкан вместо волка. — Да я уж про это рассказывал. — Ты обещал рассказать, как охотился в этом году. — Да чего рассказывать? Лисиц добыл немного, четыре. Не повезло нынче. Зато зайцев порядочно настрелял. Зайцев сейчас много, даже соседский парнишка, двенадцатилетний, и тот трех домой принес. — А насчет белок как? — Белок нет. Уж лет пятьдесят будет, как в наших краях не стало белок. Били их без счета, вот и перевели всех. У белки, говорят, нюх силы» развит. Если под снегом — хоть на аршин в глубину — лежит орех, не пустой, конечно, то белка его обязательно найдет. — Я вот слышал, что ваш кеминский Янк Ардаш очень хороший охотник? — У него любое дело спорится. — Говорят, он на «Потемкине» служил, это правда? Кугубай Орванче, немного помолчав, ответил: — Вот уж этого не моту сказать, не знаю. А что за «Почемкын» за такой? — Корабль так называется. Матросы на нем восстание подняли в пятом году. — Не знаю, не знаю. Он про это не говорил. — Дед Орванче, расскажи лучше сказку. — Эх-хе-хе, — вздохнул Кугубай Орванче, — коли другой работы нет, эта всегда требуется. Какую же сказку рассказать?. — Знаешь про Портупен-пропорщика? Или про Чарантай-Ивана? — Что толку от сказки? Расскажешь — и все. Вот от колдовства есть польза, — сказал Кугубай Орванче. — Какая же от него польза, кому? — Хотя бы колдуну или знахарю, — засмеялся Ку губан Орванче. — Чай, колдует не даром, а за деньги. — А ты умеешь колдовать, дедушка Орванче? — Колдовство — дело не трудное. Вот послушайте: «Как холодная земля тяжелеет, пусть тело старосты деревни Дуй отяжелеет! Как замшелый камень тяжелеет, пусть тело старосты деревни Луй отяжелеет! Как поваленное на землю дерево тяжелеет, пусть тело старосты деревни Луй отяжелеет, свалится, сгниет!» — О-о, ишь, как умеет старик! Кабы можно было наших врагов уничтожить словами! Да тут мало одних слов, нужны сильные руки и умная голова! — И словами можно. — Как это? — Вы же все в деревне родились и выросли, должны знать: кто умеет шептать-нашептывать, тот слабовольного человека может то чего хочешь довести, хоть до смерти. — Бывали такие случаи. — сказал один из арестантов. — Наверное, нигде на свете нет такой дикой деревни, как наша, марийская. — Я не только колдовать умею, я еще знаю, как знахари болезни лечат, — продолжал Кугубай Орванче. — Хотите, я вам про знахарей расскажу? — Расскажи, дедушка Орванче. Кугубай Орванче наклонился над сложенными ковшиком ладонями, стал рассказывать: — Когда заболеет человек, считают, что его кто-то сглазил, порчу на него напустил. Чтобы избавить его от порчи, берут чашку с солью, нашепчут, наплюют на нее, потом этой солью кормят того, кого считают порченым. Знахарка плюет в соль и приговаривает. Я вам сейчас, дай бог памяти, весь заговор припомню. Кугубай Орванче помолчал немного, вспоминая, потом заговорил нараспев, как говорят знахарки. — Если тот, который наколдовал, сможет из серебра, что добудет из серебряной горы, сделать серебряную лошадь, объехать на ней весь белый свет, одним ударом срубить тысячелетний дуб, достать ножом летящего под облаками орла, накормить своим хлебом, напоить своей брагой народы семидесяти семи стран, тогда только его колдовство будет иметь силу. Если сможет подняться в небо, как туман, к солнечному богу, к лунному богу, если сможет стать повелителем солнца и луны, тогда только его колдовство будет иметь силу. Если сможет в диком лесу обернуться дикой птицей, если сможет вместо глаз вставить солнце, надеть на голову луну вместо шапки, если сможет на пальцы нанизать звезды, влезть по лестнице на небо к матери ветров, отомкнуть языком замок серебряного сарая, только тогда его колдовство будет иметь силу. Если сможет усидеть-удержаться на черной туче, на красной туче, среди сорока одной ядовитой змеи, на сорока одном жарком костре, тогда только его колдовство будет иметь силу. А этого никто не сможет исполнить, потому и колдовство его разрушится. Тьфу, тьфу, что наколдовал — разрушься, что задумал наколдовать — не исполнись! — Здорово ты, дедушка Орванче, умеешь! — в восхищении воскликнул один арестант. — И велик ли у тебя доход от знахарства? — спросил другой. — Что? — переспросил Кугубай Орванче. — Много ли, спрашиваю, денег знахарством зашибаешь? Небось, со всех сторон идут дурачки… — Нет, я знахарством не занимаюсь. — Откуда же тогда все это знаешь? — Была у меня одна знакомая знахарка, все старалась обучить меня своему искусству. Да мне как-то совестно обманывать народ. — Врешь поди? — В чашку с солью никогда не плевал. Вот когда трубку курю, то и дело сплевываю — все «тьфу» да «тьфу», это верно… Если бы знахарем был, небось, не сидел бы за недоимки в тюрьме, было бы чем рассчитаться. — Где же твоя знакомая знахарка живет? — У нас в Коме. — Эй вы, кончай болтать, спать пора! — ударив в дверь кулаком, крикнул охранник. — Мы и сами на боковую собираемся, — отозвался Кугубай Орванче. После сытной еды Кугубай Орванче спал крепко.
Эман, вернувшись домой (это случилось как раз в тот день, когда Амина носила передачу в тюрьму Кугубаю Орванче), очень удивился, увидев избу запертой. — Твоего отца, наверное, в город увезли, ничего о нем не слыхать. Мы Эбатова коня пожалели, поставили к себе во двор, — оказала соседка. — Отец оставил ключ? — Нет, его забрали не из дома. — Придется замок ломать… — Уж как знаешь… Я только зашла сказать, что лошадь у нас. — Ладно, тетушка, спасибо. — Эх-эх, Эман, как же ты без жены живешь, — запричитала соседка. — Был бы женат, приехал — а изба натоплена, хлеб испечен, на столе горячий самовар… — Ты уж говорила это… Эман с силой дернул дверь и выдернул пробой. Вдвоем вошли в избу. — Говорила, — согласилась соседка, — жалею тебя, потому и говорю. Второй год девушку тебе сватаю. Уж такая девушка хорошая! Всякую |работу как медведь ворочает, наступит — железо переломит, на молотьбе никому за ней не угнаться. А как вышивает — ну, просто печатает, и холст ткет тонкий, словно кленовый лист. И приданое у нее приготовлено: рубашки из тонкого холста, три куска холста, восемь рубашек, две наволочки на перину, четыре длинных полотенца… Полотенца-то какие! Уж так хороши, так… Что ты свистишь? Да ты не слушаешь меня что ли? — И не будут слушать, тетушка. — Какая я тебе тетушка! Ты меня должен сестрой называть, не маленький, пора бы уж разбираться. — Так ведь ты мне и не сестра, и не тетка — просто соседка. Так и буду называть. — Соседка! Очумел ты, марийских обычаев не знаешь, да кто ж у нас так человека называет? Ведь положено называть сестрой или там дядей, а ты… Надо, как другие люди… — Какое мне до людей дело? Эман затопил печурку, сел греться возле нее. — Ты, браток, наверное, и своих родственников не знаешь, толком как назвать, — опять заговорила соседка. — Есть же у тебя, наверное, какие-нибудь родственники. Не может быть, чтоб ни одного не было. Есть же у тебя, к примеру, отец! — Это я без тебя знаю. — Хорошо, что знаешь. А все не лишнее будет напомнить тебе, не то, может быть, и как называть родного отца начал забывать. — Заболталась ты, бабка… — Бабка? Да я еще покрасивее молодух буду, ха-ха! — Я своего отца чту, чего зря говорить… — Да ты отца-то ни во что не ставишь: он тебе жениться велит, а ты не слушаешься. — Ну, дальше что? — Дальше? Ничего. Я дошла, а ты подумай хорошенько. К масленице свадьбу справили бы. Отец невесты большого выкупа не потребует. — Не хочу я жениться, не грудись — не сватай, впустую труды твои пропадут. — Э-эх, парень, нет, чтобы ухватить свое счастье! — Счастье — не хлеба кусок, его не ухватишь. — Ишь, какой поперечный, все-то ты споришь, Эмам. Не годится так… — Годится не годится — мне лучше знать. Шла бы домой, муж приревнует. — Да я и так уж иду. — Иди, иди, надает тебе твой мужик тумаков. — Надает так надает, что поделаешь. Ну, ладно, всех слов не перескажешь, приходи и ты к нам. За конем сам придешь или мне его привести? — Сам попозже приду. Эман поставил на печурку чугунок с водой, чтобы поскорее сварить похлебку, потом принес из сарая дров, затопил большую печь. Изба четыре дня не топлена, железной печкой ее не обогреешь. Истопив печь, Эмам закрыл вьюшки, сходил за конем, задал ему сена и лег спать. И приснился Эману сон. Ему снилась собственная свадьба. Но на ком же он женится? На ком же, кроме той, которая дорога его сердцу, кроме Амины! Увидел он свата и сваху, заправляющих свадебным обрядом. Сват надел на конец палки вышитое полотенце, закрепил его кольцом, как обручем, в левую руку взял чашку с брагой, в зубах зажал серебряную монету, и сваха тоже взяла в руку чашку с брагой и монету в зубы. Приплясывая, они трижды обошли вокруг стола. Отец, Кугубай Орванче, с соседом сидят за столом. Ближайшая подруга невесты встала у печки. Эман, савуш[4] и руководитель жениха — кугувенге наполнили брагой свои чашки и, встав перед стариками на колени, подали им эти чашки. Все, кто пришел на свадьбу, смотрели на них. — Пусть пошлет бог жизнь богатую и веселую, пусть у этой пары будет девять сыновей, семь дочерей! Зло переступив, вставайте! — сказал один из стариков. Все встали. Кугубай Орванче вышел вперед и сказал: — Давайте шувыш! У подруги невесты давно приготовлен шувыш — кожаный мешок с гостинцами: с ватрушками, шаньгами и блинами. Она завязала шувыш шелковой тесемкой. вынесла из дому, положила в сани, в которые уже уселись Кугубай Орванче с соседом. Ямщик тихонько тронул коня, сани поехали, полозья заскрипели по снегу. Приехали в Боярсолу. народ гурьбой вышел их встречать. — Э, оказывается, сват приехал! — слышится кругом. Шувыш внесли в дом, женщины загомонили: — Нужно заменить! Нужно заменить! В шувыш наложили других гостинцев и завязали другой шелковой тесьмой. Кугубай Орванче и те, кто с ним приехал, вошли в дом. — Ждали нас, наверное? — спросил он. — Очень ждали, присаживайтесь, присаживайтесь, — приглашают хозяева и гости, сидевшие вокруг стола. Поздоровавшись, Кугубай Орванче сел на почетное место за столом, взял поданную ему чашу с брагой и сказал: — Мы приехали к вам за чужим человеком. Согласны ли вы отдать его нам? Все кричат: — Согласны, согласны! Пейте! Только принялись за еду, как подоспела свадьба на двенадцати подводах, вызванивая колокольчиками свадебную песню. Первым выскочил из саней савуш. Звоня колокольчиком и размахивая плеткой, он вошел в дом и спросил: — Какое будет ваше слово — позволите войти или нет? Хозяева отвечают: — Погоди, еще не настало время! Дружка вышел. — Что сказали? — спросили его из саней. — Сказали: «Погодите». Эман тихо сидит на передних санях. Женщины, приглашенные на свадьбу, — снова запели. Немного погодя вновь послали дружку в дом. — Ну, теперь пора? — спросил он. — Нет, еще немного подождите. Снова ждут. Когда же дружка в третий раз наведался в дом, ему ответили: — Вот теперь пора, входите! Первым вошел дружка, за ним, держась за его подол, шел кугувенге, за ним — жених, следом — остальные гости, приглашенные на свадьбу. С песней три раза обошли вокруг стола, после чего мужчины расселись вокруг мужского стола, женщины — вокруг другого, поставленного специально для женщин. Стройная красивая женщина, покачиваясь из стороны в сторону, запела:
В это время Унур Эбат, лежа на нарах в камере Уфимской тюрьмы, не мог заснуть от одолевших его дум. «Сколько времени прошло, как меня сюда кинули, — с тоской думал он. — Неужто дадут 129-ю статью? Конечно, не тянут мои грехи на эту статью. Да что поделаешь, если им надо засудить человека? Меня считают за бунтовщика только потому, что я возил бунтовщиков на своей лошади». — Ну, скажи, господин следователь, какой из меня бунтовщик? Я неученый, еле-еле могу расписаться, слово «прокламацы» даже не слыхал никогда раньше, не то чтобы раздавать, — убеждал Унур Эбат следователя и прокурора. Но own говорили: «Знаем, валяешь дурака». А тюремный врач сказал: — Си-му-ли-рует. «Сколько же я сижу? — стал соображать Унур Эбат, — Кажется-то, очень долго — чуть ли не год. Дайка посчитаю… Нет, выходит, я тут немного больше, чем полгода. Тяжело сидеть День за неделю кажется. И долго ли еще придется жить в этой конюшне? Один арестант рассказывал, что этот корпус переделали из конюшни. Когда в первый раз привели на тюремный двор, я тоже подумал, что это хлев или конюшня». Две камеры в этой тюрьме-конюшне большие — общие, остальные — одиночки: пять шагов в длину, четыре в ширину, но там тоже напихано по нескольку человек. «Три месяца в такой камере в прошлом году высидел, от вшей и клопов с ума не сошел. В матраце не солома — одна труха. Маленькое окошко под самым потолком. Как-то захотел выглянуть в окошко, полез на стол, тут же открылся «глазок» в двери, надзиратель рявкнул: «Нельзя!» А так хочется взглянуть на белый свет! На воле кажется, что вокруг нет ничего хорошего, а как посидишь тут, поймешь, до чего же хорош ты, белый свет! Первые две нетели в тюрьме — так-сяк. Но чем дольше сидишь, тем труднее становится, просто невыносимо, на всю жизнь, наверное, запомнится». Мысли Унура Эбата прервал разговор соседей. Русский, с бегающими, как серые мыши, глазами, снова рассказывал анекдоты: хочешь не хочешь слушать, в уши назойливо лезет: — Подходит солдат к офицеру и говорит: «Ваше блатородие, я вчера пьяный был…» «Ты и сейчас пьяный!» Рассказчик тут же засмеялся, хотя из слушателей не засмеялся ни один. Тогда он рассказал другой анекдот: — Пьяный матрос ползет на четвереньках. Офицер спрашивает: «Что ты делаешь?» «Разве не видишь: сильная буря — я бросил якорь, теперь ищу, куда задевался…» В соседней камере кто-то запел:
Эбат поправлялся, но, чтобы оттянуть выписка из больницы, нарочно хромал и ходил только с костылями. Однажды татарин, лежавший у двери, спросил, подмигнув Унуру Эбату. — Болит нога? — Болит, — ответил Унур Эбат веселым голосом, который нисколько не походил на голос больного человека. — Вот и хорошо! — И я так думаю, ха-ха. А как твоя грудь? — Так же, как твоя нога. — Ну, тогда якши.[5] — Якши, якши. Татарин любил поговорить с Эбатом. Эбат, кроме марийского, знал русский, удмуртский и татарский. Татарину хотелось научиться хорошо говорить по-русски, поэтому он только о чем-нибудь секретном говорил по-татарски, в остальное время — по-русски. — Ты, гляди, не проговорись татарину о наших планах, — сказал однажды Смешливый Унуру Эбату. — Кто его знает, не донесет ли он. — Нет, этот татарин не шпик. — В душу ему не заглянешь. Лучше не — рисковать. И у стен бывают уши… Но планам Унура Эбата и Смешливого все разно не суждено было осуществиться. Вскоре их неожиданно выписали из больницы. Унур Эбат, пройдя длинный тюремный коридор, остановился перед дверью своей бывшей камеры. Но сопровождавший его надзиратель сказал: — Чего встал? Шагай дальше! В камере, куда надзиратель впустил Унура Эбата, в нос ударил запах новей штукатурки. Семь-восемь человек пристально разглядывали вновь вошедшего. — Этот, да? — опросил кто-то по-русски. — Похоже, что этот. Заговоривший первым подошел к Унуру Эбату и спросил: — Это ты в камере уголовников… — и вдруг прервал сам себя — Погоди-погоди, кажется, я тебя знаю, ну-ка, ну-ка!.. — И я тебя, сдается мне, знаю, — ответил Унур Эбат. — Где же я тебя видел? — пытался вспомнить спрашивающий. — Не на процессе ли боярсолинцев? — Нет. Я тебя из Комы возил в Изганы. — Ах да! Тетерь вспомнил! Ну, день добрый — Линов протянул руку Эбату для рукопожатия. «Вот где довелось встретиться со следователем! Выходит, турнули тебя из следователей», — думал Эбат. — Эй, тебя спрашивают! — кто-то дернул задумавшегося Унура Эбата за рукав. — Меня? — очнулся он от дум. — Что такое? — Спрашиваем, выздоровел или нет твой товарищ? — Смешливый что ли? Его тоже выписали. — Там, оказывается, хорошо кормят, вон ты какой сытый, — сказал пожилой мужчина с улыбкой. — А мы боялись, что уголовники вас обоих здорово искалечили. — Били крепко, — ответил Эбат. — Мы тогда всей тюрьмой бунт подняли, потребовали немедленного отделения политических от уголовников, и добились своего. Эбату казалось, что он вернулся к своим. — Когда все вместе, можно настоять на своем, — сказал Унур Эбат. — Даже поговорка такая есть: один и дома горюет, а двое и в поле воюют. Все переглянулись и засмеялись, и разговор продолжался. На другой день в ту же камеру привели Смешливого. Как только он переступил порог камеры, все повскакали со своих мест, со смехом и возгласами приветствуя его. Смешливый принялся расспрашивать Липова и еще двух недавно посаженных товарищей о новости: на воле. Один из них, кивнув в сторону Унура Эбата, спросил шепотом: — Надежный? — Вполне! — ответил Смешливый. — Ну, рассказывайте. Рассказав новости, товарищ под конец сказал: — Да, чуть не забыл: аптекарь Рутес уехал за границу. Оттуда дочери письмо прислал, тебе тоже велел кланяться. — За поклон спасибо, — оказал Смешливый. — Значит, Рутес спасся. — Он-то спасся, а вот Яик Ардаш попался. — О ком ты говоришь? — не понял Смешливый. — Ну как же — Яак Ардаш, эсдек, вел работу среди инородцев. — A-а, помню-помню, рослый такой. Он однажды из Тульской тюрьмы бежал, про него в газетах писали. — Ну да. Попался, когда вез шрифты. До этого они с Рутесом в Изгане волнениями крестьян руководили, но тогда оба сумели скрыться. — Говорят, они убили помещика, — сказал старик. — Ложь, — махнул рукой Линов. — Я же вел следствие по этому делу, помещика убил один крестьянин. Унур Эбат только диву давался, насколько жизнь в этой камере была не похожа на то, что творилось на прежнем месте. Тут никто не ссорился, не дрался, поддерживали чистоту. «Все тут люди ученые, говорят о таких вещах, которые я не могу понять, вот бы мне у них поучиться, набраться ума-разума», — думал Унур Эбат. Но он не чувствовал себя чужим среди новых товарищей, и никто не смеялся над его невежеством. Когда в опоре один из споривших указал на него и сказал: «Возьмите для примера вот этого деревенского бедняка, что дала ему община?» — Унур Эбат не понял, о чем речь, и только смущенно улыбнулся. Но потом спросил, и ему разъяснили существо спора. Особенно близко Унур Эбат сошелся со стариком — рабочим железнодорожного депо. — Как же так? — спрашивал он рабочего. — Ты в больших школах не учился, а все знаешь… — Не в школах дело, браток. Ты думаешь, только те во всем разбираются, кто в школе учился? — А как же! — Нет, браток. У иного есть бумага с золотым гербом, и он ничего не смыслит. Другой и рядом с партой не стоял, а кое в чем разбирается. Сам выучился. — Как же можно без школы выучиться? — Было бы желание. — Небось, самому учиться, всего не узнаешь? — Никто не говорит, что узнаешь все на свете! Да хоть в гимназии, хоть в университете учись, будь хоть профессором, хоть академиком, все равно всего знать не будешь. — Недаром говорят: век живи — век учись. — Надо тебе, братец, учиться, — сказал старик и добавил — Надо! Вот что, браток, начинай не откладывая! Прямо сегодня. — Учиться здесь? В тюрьме? — спросил Унур Эбат и посмотрел на своего нового приятеля, не смеется ли он? Но под седыми усами не было видно улыбки, и глаза старого рабочего оставались серьезными. — В тюрьме, — подтвердил он. — Так ведь тут школы нет, — растерянно проговорил Унур Эбат. — И учителя нет. — Все найдется, было бы желание. Старик отошел в угол и стал о чем-то говорить с Линовым и еще двумя товарищами. Унур Эбат заметил, что Линов скривил губы и безнадежно махнул рукой. До Эбата долетели его слова: — Ничего не выйдет… Если бы на свободе, тогда другое дело, да и то… Линов отошел, но оставшиеся стали что-то горячо обсуждать. Унуру Эбату хотелось подойти к ним, но постеснялся и остался сидеть на своем месте. На другой день бородатый студент начал учить Унура Эбата арифметике, другой товарищ — естествознанию, третий — истории. Теперь Эбату не приходилось скучать. Даже те товарищи, которые не занимались с ним, частенько собирались вокруг него, расспрашивали его о деревенской жизни, сами рассказывали какие-нибудь интересные истории. Иногда завязывались опоры. Один Линов держался в стороне, он не находил тем для разговора с Эбатом. Только однажды спросил: — Это ты катал весной дочку адвоката в уездном городе? — Я. Почему он это спросил, Унур Эбат не понял, больше Линов об этом не заговаривал. Если же Унур Эбат его о чем-то спрашивал, он отвечал, взглянув на парня сверху вниз: — Тебе этого все равно не понять, браток. «Объяснил бы по-марийски, небось, я бы все понял, да не хочешь», — с обидой думал Унур Эбат. Как-то раз он обратился к Линову по-марийски, но тот ничего не ответил, отвернулся и, достав огрызок карандаша длиною в палеи, принялся что-то писать в маленькой записной книжке. Как бы то ни было, с другими обитателями камеры v Унура Эбата установились самые сердечные отношения. Учеба продолжалась успешно, и он с радостью видел, как с каждым днем ему все легче понимать, что говорят учителя. Однажды он спросил у студента, кивнув в сторону Линова: — За что его посадили? — По делу покушения на губернатора. — A-а, выходит, он — эсер. — Эсер-то он эсер, но в террористической организации не состоял, только помогал террористам. На следствии отказался давать показания. — Ну, ему-то, наверное, не трудно выкрутиться. Сам следователь, все законы до последней запятой знает. — Для политических арестантов законов не существует, тут царствует произвол жандармов. Унур Эбат учился охотно, но потом стал замечать, что у его учителей пропадает желание заниматься с ним. Как-то раз студент приняло» было объяснять десятичные дроби, но вдруг положил карандаш и сказал: — Знаешь, друг, все эти занятия — бесполезны. — Почему? — удивился Эбат. — Что ты собираешься делать с полученными знаниями? — Как что? Как и вы, вступлю в революционную борьбу. Не век же нам в тюрьме сидеть. — В том-то и беда, что никогда нашей тюрьме конца не будет. — Да ты что?! Смеешься? — Эх, не до смеха сейчас! Теперь вся Россия — тюрьма! — Что-то я не пойму. — Слышал про закон от третьего июня? — Слышал, ты сам вчера говорил: Вторую Думу распустили, социал-демократических депутатов арестовали. — Ты знаешь, о чем это говорит? Пойми и запомни; начинается реакция, и все демократические свободы, завоеванные в пятом году, будут окончательно растоптаны полицейским сапогом. Подошел старик-железнодорожник, ткнул студента в грудь: — Хватит тебе, браток, слезы проливать… Соберемся с силами, снова начнем. В народе зреют новые борцы. Студент, размахивая руками, полез в спор…
Миновал месяц, прешел другой, третий… Никаких перемен в судьбе Унура Эбата не намечалось. Из письма, тайно пересланного с воли, стало известно, что большинство членов социал-демократической фракции Второй Государственной Думы осуждены и сосланы в Сибирь. За это время четверых арестантов Уфимской тюрьмы приговорили к смертной казни. Правда, говорили, что смертную казнь им заменили пожизненной каторгой. Линова перевели в другую тюрьму. Старика-железнодорожника и с ним еще троих отправили в ссылку. В камере из старожилов остались лишь Унур Эбат, студент и учитель-чуваш. Зато прибавилось девять новых арестантов. Ни места на нарах, ни чашек-кружек на всех не хватало, поэтому сразу же началась грызня, споры о какой-то провокации, некоторым спать пришлось на грязном затоптанном полу. От былого порядка в камере не осталось и следа. Однажды один из новых арестантов долго прислушивался к разговору Унура Эбата со студентом и вдруг взорвался: — Чего ждете? Ну, чего вы ждете? Раз надели петлю на шею народа, Столыпину осталось ее только затянуть. Унур Эбат и студент разом повернулись к нему. — О чем ты? — спросил недоуменно студент. — Да вот, я слышу, по вашему разговору выходит, что вы надеетесь поднять общественность против реакции. Но ведь дело уже сделано: профсоюзы распущены, партии разогнаны, десятки тысяч передовых людей томятся в тюрьмах и ссылке. — Что же делать теперь? — спросил Унур Эбат. — Теперь ничего уж не сделаешь. И пытаться не стоит. Их верх. Правильно я говорю? — Правильно, — согласился студент и вдруг истерически воскликнул — Эх, дурак я, дурак! Зачем было ввязываться, зачем совать нос не в свое дело! Жил бы себе— поживал… Унуру Эбату было тяжело слышать эти слова. «Что-то тут не так, — думал он, — Что-то они не договаривают. Не может быть, чтобы дело было так уж безнадежно. Чего уж так голову вешать? Вот сколько в тюрьме крестьян, аграрников. Выходит, крестьянские массы вступают на путь революции…» Эти мысли Унур Эбат как-то высказал учителю-чувашу. Тот, по учительской привычке, поднял кверху палец и сказал: — К сожалению, все, действительно, развалилось. Да, да, это именно так! — А как же крестьяне? Вот и аграрники… — Эх, браток, да ведь от движения аграрников остались рожки да ножки! — Вот оно что! — Эбат присел на нары рядом с учителем. — Что же они теперь станут делать? — Кто? — Революционеры. Учитель закашлялся, глаза его налились кровью, лоб прорезали глубокие морщины. Когда кашель утих, он сказал убежденно: — Мы. большевики, никогда не отступим от своих целей. Мы мобилизуем новые силы. Пролетарская революция победит.
Однажды утром надзиратели заявились в камеру с обыском. Всех заключенных поставили в ряд. Больного учителя тоже. Он едва не падал, его поддерживали товарищи. Один надзиратель проверял одежду, два других рылись в матрацах, переворачивали табуретки. Под матрацем у Эбата лежала книга «Природоведение». — Чья? — спросил надзиратель, схватив книгу. Унур Эбат ответил смело. — Моя. — Как отвечаешь?! — Моя, господин надзиратель. — То-то!.. Кто дал книгу? Книгу Эбат получил от старика-железнодорожника, и хотя его давно уже отправили в ссылку, он не стал называть имени, чтобы не прослыть в камере за фискала. Поэтому ан ответил: — Получил с передачей. — Врешь, сволочь! — надзиратель ударил книгой Эбата по лицу. — Господин надзиратель! — воскликнул студент, — Вы не имеете права! Лито надзирателя налилось кровью; — Молча-а-ть! Но студент продолжал, повысив голос: — Не имеете права бить нашего товарища! Мы будем жаловаться! — А, вам прана нужны?! Эй, Маньков, Григорьев, Газизов, бейте этих мерзавцев! Проводившие обыск надзиратели кинулись на заключенных и принялись бить их рукоятками револьверов. — Сам ты мерзавец! Товарищи, не потерпим, чтобы опричники глумились над нами! — крикнул студент. Он и русский со скрипучим голосом кинулись вперед. — Стреляйте! — закричал старший надзиратель и, стреляя, остудил к двери. — Ложись! — крикнул учитель-чуваш и упал плашмя на пол. Рядом с ним упал Эбат. В камере повисла тишина. Железная дверь захлопнулась. Эбат пошевелился и хотел что-то сказать, но учитель оборвал его: — Лежи, лежи! Тут открылся глазок, в нем показался конец ружейного ствола. Потом ствол убрался, послышался голос надзирателя: — Эй, полишканты! Погодите, мы вас еще не так проучим. Это пока цветочки, а будут и ягодки! Глазок захлопнулся. Все поднялись с пола, только русский, который со студентом бросился на надзирателя, остался на полу. Студент принялся перевязывать окровавленную руку, но, заметив, что товарищ лежит неподвижно, наклонился над ним, потрогал залитое кровью лицо, потом, обрывая пуговицы на рубашке, раскрыл ему грудь. Послушав сердце, студент выпрямился, хотел что-то сказать, но не смог, лишь махнул рукой и, отойдя в угол, лег на нары. Бородатые мужики, крестясь, тоже разбрелись по своим местам. — Ну, теперь студента повесят, остальным — каторга, — сказал учитель-чуваш. — Надзиратель человека убил, его самого надо повесить! — возразил Унур Эбат. — Надзирателю все с рук сойдет. — Из-за меня все получилось, вот черт! — с тоской проговорил Унур Эбат. — Надо было сказать, я же это «Природоведение» не прятал, там на первой странице написано: «Разрешено»… — Эх, товарищ, не к книге, к чему-нибудь другому придрались бы. Ясно, что они шли нас зашугать… Через час надзиратели унесли убитого. После этого в камере потянулись томительные дни ожидания. Никто к ним не приходил, на прогулку не выпускали. Однажды дежурный, который выносил парашу, передал разговор со стариком-надзирателем, который подмигнул ему и опросил: — Ну как, буйная камера, дышите? — Дышим помаленьку. — Постарайтесь надышаться, на том свете, говорят, воздуху нету. «Видно, всех повесят!» — заключил свой рассказ дежурный. Его окружили, стали расспрашивать, требовать, чтобы он точно припомнил слова надзирателя. Но тут же открылся глазок, послышался надзирательский голос: — Разойтись! Стрелять буду! Все разошлись, повесив головы. Рассказ дежурного камнем лег на сердце каждого. Все знали: время такое — могут и повесить… Студент сидел, качал свою раненую руку. Все молчали. Наконец, низкорослый рыжебородый крестьянин высказал то, что, наверное, думал каждый: — Не нашли бы книгу, ничего бы и не было… — Верно! — поддержал его другой. — Из-за одного человека вся камера на смерть пойдет, — сказал третий. И тут заговорили все разом, поднялся невообразимый гам: — Унуров виноват! — Нет, студент! Эго он непочтительно заговорил с надзирателем. Отсюда все и пошло. — Оба они виноваты! — Я не согласен из-за них свою голову в петлю совать! — Никто не согласен. — Верно, верно! — Унуров виноват, пусть с него опрашивают. А мы не при чем. — Так и скажем надзирателю! — Вот дурак! Да разве надзирателю надо говорить! Надо прокурора просить! — Вызвать прокурора! — Так и скажем: не хотим ни за что ни про что помирать! — Верно! Верно! Открылся глазок: — Кончай шуметь! Рыжебородый быстро подошел к двери: — Прокурора просим. Прокурора! В отверстии показался револьвер: — Вот вам прокурор! Никто теперь не разговаривал ни с Эбатом, ни со студентом, все косились на них и шептались промеж себя. Наконец студент не выдержал, спросил: — Вы, бородачи, считаете себя политическими? Все молча на него уставились. Унур Эбат взглянул на исхудалое лито студента, его лихорадочно блестевшие глаза и встал рядом с ним. Один крестьянин сказал: — Знамо, политические. — Не подходит вам такое высокое звание, — студент махнул рукой. — Даже уголовники не поступают так, как собираетесь поступить вы. Тут все накинулись на студента: — Нас «сознательностью» не охмуришь больше! — Вместе с собой всех нас погубить хотите! — Не выйдет! — Вы двое виноваты, двое и отвечайте! Студент слегка шевельнул простреленной рукой, скрипнул зубами от боли, проговорил: — Вот дураки-то! Кому нужны ваши темные головы? Поймите, мы с Эбатом сами будем отвечать за себя и сваливать вину на вас не станем, Так что вам незачем просить начальство. — Ого-о! — зашумели все. Один сказал: — Вы, главное, скажите, что остальные, мол, не виноваты. — Эх вы, зайцы трусливые! — студент посмотрел на них с презрением. — Да начальство само видит, что вы готовы терпеть любые издевательства. Не будет оно вас обвинять в бунте. — Так ведь дежурный сам слышал, что нам всем могилу готовят. — А вы и поверили? — Тут всему поверишь, — угрюмо ответил рыжебородый, но в его тоне слышалось смущение. — Ты, дяденька, который раз в тюрьме сидишь? — спросил студент успокаиваясь и более мягко. — Первый раз, и они все — первый, — рыжебородый показал на стоявших рядом мужиков. — За что же вас посадили? — Помещичью землю пахали… — Выходит, когда пахал, самого царя не боялся, а тут испугался какого-то навозного червя-надзирателя? — В тюрьме надзиратель главнее царя, — возразил мужик. — В тюрьме надо так: даже если руки-ноги в цепи закуют, не теряй облик человеческий, не склоняя головы перед тюремщиками. Тогда ты действительно можешь называть себя политическим! Студент еще долго беседовал с бородачами, пока рыжебородый не сказал, тяжело вздохнув: — Так ты, браток, все-таки скажи начальству: на надзирателя, мол, не всей камерой бросились, а только двое. Ладно? Студент чуть было снова не рассердился, но понял, что это бесполезно и лишь сказал: — Об этом можешь не беспокоиться: я никогда не лгу! — Ну, спасибо, оказывается, у тебя доброе сердце, — мужик низко поклонился студенту, за ним поклонились и остальные. Студент еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Вечером, в неурочный час, вдруг заскрипела железная дверь. Все вздрогнули, в ожидании чего-то недоброго смотрели на нее. Но страхи оказались напрасными: арестантов просто вывели на прогулку. Обычно арестанты шли на прогулку без особой охоты: что за радость ходить в течение пятнадцати минут в затылок друг другу да слушать грубые о-крики надзирателя? Теперь же эти пятнадцать минут прогулки показались им чрезвычайно дорогим подарком. Три дня, как они не бывали на воздухе. Поэтому даже учитель-чуваш пошел вместе со всеми на тюремный двор. Унур Эбат хотел было поддержать его под руку, чтобы ему было легче идти, но тот сказал: — Не надо, увидят, еще погонят обратно, а уж очень хочется глотнуть свежего воздуха. Унур Эбат отпустил его руку, но всю прогулку не спускал с учителя глаз, готовый в любую минуту прийти к нему на помощь. На другой день Унуру Эбату, студенту и учителю-чувашу было объявлено, что их отправляют на поселение. До самого вечера, пока не стемнело, они латали одежонку, студент и учитель писали письма родным. Перед отправкой на этап студенту разрешили свидание с матерью. В камеру он вернулся с узлом: мать принесла ему на дорогу кое-какую еду, тужурку, белье и полотенце. — Кушайте, товарищи! — угощал студент сокамерников. Те не заставили себя упрашивать; все изголодались по домашней пище и с удовольствием ели мясные пирожки, хрустели сахаром. — Унуров Эбат, выходи! — вдруг раздалось у двери, и она с грохотом распахнулась. Эбату показалось, что его ударили по голове. «Ну, теперь конец, — подумал он. — Сейчас мне припомнят драку с надзирателем». — Не бойся, — сказал студент, — скажи, что надзиратель первый тебя ударил. Ни бить, ни стрелять он прав не имел… Да ты доешь пирог, что в руке держишь? — Унуров! — надзиратель нетерпеливо позвякивал ключом. Унур Эбат взглядом попрощался со всеми и вышел. До самого вечера в камере гадали о том, куда и зачем увели Унура Эбата. К вечеру он вернулся. Все окружили его. — Ну что? Сев на свое место на нарах, он коротко ответил: — Кирпичи разгружал. — Какие кирпичи? — Будут строить новый тюремный корпус. — А на допрос тебя не водили? — Нет. Студент обвел всех торжествующим взглядом и сказал: — Я же говорил, напрасно вы боитесь! Они убили заключенного и теперь сами боятся, что это дело выплывет наружу. Эбат сказал: — Надо бы подать жалобу на того надзирателя, который убил нашего товарища, а мы сидим и дрожим за свою шкуру. Оказывается, все политические над нами смеются. — Откуда ты это знаешь? — вспыхнув, спросил студент. — На работе слыхал. Студент ничего не ответил, отошел и лег на свое место. Лег отдыхать и Эбат. Наутро их перевели в пересыльную тюрьму, а еще через четыре дня погрузили в телячьи вагоны. Унур Эбат и студент попали в один вагон. Поезд, в котором было более тысячи каторжных и ссыльно-поселенцев, повез их в далекую Сибирь. Когда застучали колеса, Унур Эбат облегченно вздохнул: — Не дай бог снова попасть в эту проклятую тюрьму! Студент, поправляя повязку на руке, сказал: — Бог? Если бы он был, он бы жандармов посадил нюхать парашу. Протяжно и печально загудел паровоз. Люди услышали в нем и свою печаль по родным местам, которые приходилось бросать им, и надежду на будущее.
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ
На широком письменном столе главное место занимал основательный чернильный прибор: на мраморной доске толщиной в два пальца мерцали тяжелой бронзой две цилиндрические подставки для чернильниц, за ними — бронзовая подкова и лошадиная голова, вокруг которой извивался бронзовый кнут. В одной из чернильниц рдеют в лучах солнца красные чернила, в другой тускло отливают темным блеском черные. Обе чернильницы закрыты медными островерхими крышечками. По одну сторону от чернильного прибора стоит медный подсвечник на черной мраморной подставке, по другую — мраморное пресс-папье с медной ручкой. Дальше, с левого края стола, потускневшая бронзовая пепельница. Лишь вглядевшись, можно рассмотреть, что она сделана в виде женской фигуры — крылатая женщина с обнаженной грудью и распущенными волосами. — Все сделано как надо, — проговорил Моркин, в который раз любуясь чернильным прибором. Разглядывая бронзовую женщину, он вдруг вспомнил девушку, в которую был влюблен, когда учился в учительской-семинарии в губернском городе. С тонкой талией, стройная, легкая, она, как и эта бронзовая, казалась крылатой; ее голубые глаза смотрели куда-то вдаль и словно бы видели что-то, невидимое для других. Когда она пела под его скрипку «Соловья-соловушку», она и сама напоминала красивую птицу, залетевшую из чужих краев. — Эх, мечты, мечты!.. — произнес Моркин и протяжно вздохнул. За спиной послышались тяжелые шаги жены, и он, не глядя, отчетливо представил, как эта грузная оплывшая женщина переваливается на своих ногах, с синими, словно веревки, набухшими венами. Он снова принялся за проверку ученических тетрадей, но не выдержал и, стараясь скрыть накопившееся за долгие годы раздражение, сказал, искоса взглянув в красное лицо жены: — Не шуми, пожалуйста! Я работаю! — Ты один что ли работаешь? — буркнула жена, направляясь в спальню. — Я тоже без дела не сижу. Пятнадцать лег живут вместе, но жена, кроме слов «грязный черт», не знает ни одного марийского слова. «Вот оболтус, такого пустяка не может правильно написать! — возмутился Моркин и, схватив красный карандаш, с размаху подчеркнул в тетради слово так, что остро отточенный грифель прорвал бумагу. — Я в его годы под диктовку отца делал записи в церковной приходно-расходной книге без единой ошибки…» — Моркин оттолкнул тетрадь и перевел взгляд за окно. — Что в окошко глаза-то пялишь, будто там красивые девки стоят? — неожиданно раздался голос жены. — Как тебе не совестно такие глупости говорить! — поморщился Моркин. — Сама знаю, что мне говорить, меня учить не надо. Лучше иди-ка в класс, твои сопляки уже два раза за тобой приходили. Моркин взглянул на часы: перемена давно кончилась. «Как же я не услышал боя часов?» — подумал он и собрал тетради. Сколько лет уже повторяется это! Моркин идет к двери класса, возле которой торчит мальчишка — дежурный. Завидев поднимавшегося по лестнице учителя, мальчишка шмыгнул за дверь, за которой слышался крик и шум, и шум тотчас же смолк. Моркин вошел в класс, ученики разом поднялись и произнесли хором: — Здравствуйте, Петр Николаевич! Моркинкивнул, все, хлопая крышками парт, уселись на места. Дежурный, который уже успел вытереть классную доску, вышел к иконам, начал читать молитву, остальные вторили ему. Моркин взглянул на сидевшего за первой партой лохматого мальчишку и подумал: «Янаев опять пришел непричесанный. Без обеда его оставлял сколько раз, все бесполезно. А парнишка способный, последнюю диктовку хорошо написал. Рядом с ним сидит мальчик аккуратный, да бестолковый. Сколько времени не может понять, как писать дату прописью. Раз десять, наверное, уже показывал ему, а он все равно пишет по-своему: «Тысячи девятьсот восьмой года». Молитва закончилась. Начался урок. И так изо дня в день, долгие годы… Этой весной у Моркина наступила бессонница. Ляжет спать с вечера, но заснуть никак не может. То какой-то шорох мешает, то всякие мысли лезут в голову, то начинает казаться, то кто-то ходит по дому. Он накрывается одеялом с головой, принимается считать: «Один, два, три, четыре…» Но считай хоть до тысячи — все равно не спится… Мысли, мысли — даже в пот кидает. Сегодня Моркину казалось, что он сразу заснет, но едва лег, понял — нет, снова впереди бессонная ночь. Прокричал петух в соседнем сарае, ему ответили другие. Моркин совсем расстроился. Сбросив одеяло, встал, разыскал трубку и сел у окна, в которое светила луна. Проснулась жена, проворчала, как обычно: — Сам не спишь и мне не даешь… Ты хочешь меня угробить… Она повернулась на другой бок и захрапела. Он задремал только под утро, а вскоре его разбудила жена. Пора было завтракать, идти на уроки. Голова болит— гребнем притронуться больно, лоб горит огнем. Две ночи подряд провел Моркин в таких мучениях. Только в третью ночь он заснул. Ему приснился Яик Ардаш, которого он давненько уже не видел и наяву. Снилось, что Яик, вернувшись с завода, схватил Моркина за грудь, трясет и приговаривает: «Век доживаешь, а ничего-то не знаешь». Эти слова очень смутили старого учителя: рядом сидели мужики — отцы его учеников, они, хотя и делали вид, что не слушают разговор Яика Ардаша с учителем, на самом деле навострили уши, и уж можно быть уверенным, что этот разговор станет известен всей деревне, а потом и всей волости. Поэтому Моркин засмеялся: «Хе-хе-хе, а ты-то сам так уж все и знаешь! А ну-ка, скажи, что имеют в виду, когда говорят, что бог — един в трех лицах? Знаешь?» Яик Ардаш отвечает: «Знаю! Это значит, что народ трижды обманывают. Первый раз… Погоди, куда же ты пошел, господин учитель? Ха-ха!» Но Моркин ничего не ответил и побежал прочь. «С таким человеком поговоришь, того гляди, в Сибири очутишься, боже упаси! — думал он. — Люди надо мной смеются, и пусть себе смеются, я правильно сделал, что ушел. Смеха что-то не слышно, оглянуться что ли? Нет, не стану, наверное, все разбежались, подальше от ядовитого языка этого Ардаша…» И вдруг Учителю представилось совсем уж ни с чем несообразное, будто Яик Ардаш — атаман Пугачева. Моркин махнул рукой, отстраняясь от него, крикнул: «Оставь меня!» — Что руками-то размахался? — жена толкнула его локтем в бок, — Лежи спокойно! — Фу-у, кошмарный сон приснился! — Моркин сбросил с себя одеяло, сел на койке, пощупал голову — голова не сильно болела, и сердце стало биться ровнее. Немного посидев, Моркин толкнул жену: — Подвинься! Жена повернулась с громким храпом на другой бок. «Рядом с этакой печкой последний разум сгорит», — подумал Моркин. Он взял подушку, достал из шкафа одеяло и перешел на диван. С улицы вместе с весенней прохладой доносилась песня. Тому, кто родился в деревне, деревенская песня кажется- песней собственного, сердца… Моркин прислушался. Все ближе, ближе нежный голос тальянки, в звуки гармони вплетаются голоса, шорох листвы на кустах и деревьях, растущих вдоль улицы. Вот песня слышится под окнами школы. Растревожила она сердце Моркина. Ему вспомнилась деревня, где прошло его детство, вспомнилось, как ходили на берег Волги по малину и как однажды, утомленный зноем и жужжанием пчел, заснул в доме матроса-объездчика. Скоро начнет светать, а Моркин все не спит, вспоминает. Из его родной деревни только двое парнишек учились в губернском городе в русско-черемисском двухклассном училище. Весной они приехали, окончив учебу, домой. В тот год умерли от холеры мать и отец и сестра Моркина. Вернувшиеся из города парни посоветовали Моркину, сироте, ехать в губернский город поступать в училище. «Ты — поповский сын, — сказали ему, — тебя обязательно примут». Один мужик-мариец из соседней деревни повез в училище своего сына Эмаша. Моркин отправился вместе с ними. Добирались сначала пешком, потом па пароходе. Приехав, поднялись от пристани по длинной лестнице в город. Сначала мужик хотел остановиться в номерах на Миллионной улице, но там запросили полтинник за сутки. — Больно дорого, — решил мариец, — не по карману. Попив чаю, взяли свои котомки и пошли искать школу. Раз семь переспрашивали, прежде чем добрались до Большой Успенской улицы, потом принялись искать дом под номером шестьдесят два. Пе нашли. Снова остановили прохожего, тот сказал, что такой дом должен быть на другом конце улицы. Повернули обратно. Наконец, нашли нужный дом: двухэтажный, построенный из толстых бревен, выкрашенный серой краской. Между окнами первого и второго этажа— вывеска желтыми буквами по-черному: «Русско-черемисское двухклассное училище». Из дверей вышел старик в мундире с блестящими пуговицами. — Учиться что ли приехали? — спросил он. — Ага, — ответили разом Моркин и Эмаш. — Не «ага», а нужно сказать: «Учиться, господин директор». — Учиться, господин директор, — послушно повторили мальчики. Старик улыбнулся и сказал вышедшему из дома мужчине: — Проводи их в спальню, — а сам пошел на улицу. «Ну, вы оставайтесь, я скоро приду, узнаю, что мне делать», — сказал отец Эмаша и побежал вслед за директором. Мужчина (это оказался воспитатель младших классов) привел мальчиков в один из классов на первом этаже. Все парты в нем были сдвинуты в один угол и поставлены друг на друга до самого потолка. На освободившемся пространстве стояли койки с потертыми матрацами. Отец Эмаша, вернувшись, сказал: — Здесь будете жить до экзаменов. Не бойтесь, директор — хороший человек, сказал, обоих примут. Письмо тогда напишите. Он оставил сыну немного денег и уехал. Мальчики проводили его со слезами на глазах: страшно было оставаться одним в чужом городе. Немного погодя прибежали два парня, один из них спросил по-марийски: — Эй, новички-, откуда будете? Другой его перебил; — Какие они новички, они же поступать приехали. — Деньги у вас есть? — спросил первый парень. — Тебе какое дело? — огрызнулся Эмаш. — Вот какое мое дело! — и парень ударил его по лицу. Эмаш полез в драку: драться-то и в деревне умели. Моркин, оправившись от первого испуга, кинулся на помощь товарищу, но тут второй парень так хватил его по спине. что Моркин, вскрикнув ст боли, упал. Однако он тут же поднялся и изо всех сил пнул своего обидчика в живот. Парень свалился на пол, корчась от боли. В это время в класс-вошли ребята повзрослее. Увидев, что новый мальчишка, в поддевке и лаптях, подмял под себя их товарища, засмеялись. Один из них подошел к Эмашу, хлопнул его по плечу и сказал: — Молодец, парень, ловко ты его. Как зовут? Эмаш поднялся, улыбнулся разбитыми губами, сплюнул и ответил: — Эмаш. — Чего дерешься, Эмаш? — Они хотели у нас деньги отобрать, вот мы их маленько проучили. — Ха-ха-ха, ничего себе маленько, вы им как следует дали. Ну, ладно, идемте на улицу. Вместе с новыми товарищами Моркин и Эмаш провели весь день: ели, играли, ходили по городу. Через два дня был экзамен. Моркин провалился на географии, но все-таки был принят как сын священника. Эмаш все экзамены выдержал хорошо, однако врач нашел у него трахому. И все-таки директор оставил и его. Обоих определили жить в общежитии, при школе. Началось ученье. Моркин до сих пор помнит свой первый день в школе. К началу занятий выдали казенную форму: серую тужурку, такого же цвета брюки, новые сапоги, черную шинель и картуз с лаковым козырьком. Моркин и дома плохо не одевался, но новенькая фо<рма привела его в восторг. Он поминутно то расстегивал, то застегивал кожаный с широкой пряжкой ремень, пока сидящий рядом Эмаш не одернул его: — Сиди тихо, выгонят. Учитель Эшайков, высокий, тощий, стоя на кафедре со скрипкой в руках, объяснял ноты. Он писал на доске нотные знаки, проигрывал их на скрипке. Потом со смычком в руках прошелся между партами и, указав на Моркина, сказал: — К доске! Моркин, почувствовав, как сильно забилось сердце, вышел к доске, взял мел, испуганно смотрел на учителя. — Начерти нотный стан, — сказал тот. Моркин начертил. — Теперь изобрази скрипичный ключ. Моркин начал рисовать ключ, но учитель закричал: — Разве так я показывал? Между какими чертами нужно рисовать кружок? Моркин, и без того оробевший, теперь, после сердитого окрика учителя, вовсе растерялся, даже руки у него затряслись. — Пиши, чего стоишь! — снова закричал учитель. Моркин торопливо изобразил ключ. Ребята засмеялись. — Тихо! — учитель поднял смычок. — Ну, ты нарисуешь как положено или нет? Как твоя фамилия? — Моркин. — Ты, Морфин, учиться приехал или казенный хлеб жрать? — Хи-хи, — послышалось с задней парты. Учитель не торопясь подошел, спросил у сидевшего на задней парте: — Ты смеялся? В классе тишина, многие сидят, опустив головы, только некоторые осмелились повернуться к учителю. — Ты смеялся? — повторил учитель громче, будто в кулак зажав маленькие сердца. — Я, — не смея поднять глаз, признался парень. — Ну так теперь поплачь! — и учитель с размаху ударил парня смычком по голове. Парень заплакал. Учитель подошел к доске, белым платком вытер пот с худого лица и, обратясь к Моркину, спросил: — Ну, так где изображают скрипичный ключ, знаешь?! — Знаю, вот здесь, — поспешно ответил Моркин и быстро начал рисовать. Пока учитель стоял у задней парты, мальчик, сидевший на передней, успел показать Моркину, как надо начертить этот скрипичный ключ. Эшайков сошурил глаза, посмотрел на доску, засмеялся: — Хе-хе-хе, правильно! II тут же, неожиданно изменив голос, спросил: — Признавайся, который прохвост подсказал тебе, а? Моркин растерялся. «Неужели он заметил, как мне подсказывали?»— подумал он, но все же ответил почтительно: — В-ы сами показывали, господин учитель. — Вот как? — Эшайков, кажется, даже растерялся, потом посадил Моркина на место, сам сел за кафедру, открыл классный журнал. — Как фамилия? — снова спросил он. — Моркин. — Ах да. Моркин… Моркин… Моркин… Ты откуда? Моркин сказал. — Сын отца Николая? — Да, господин учитель. — Ты, Моркин, имеешь право на поступление в духовную семинарию, зачем поступил сюда? Что смотрел твой отец? — Отец и мать нынче умерли. — A-а, вон оно что… Тут урок кончился. Первый урок, который запомнился Моркину на всю жизнь. Понемногу Моркин привык к школьному распорядку. Дежурный мог и не звонить в колокольчик — он сам, как и все учащиеся, просыпался в семь утра, в половине восьмого шел на завтрак, состоявший из чая с черным хлебом, потом до двух часов — занятия в школе. После занятий — мясной суп, каша и картошка, если пост — то без мяса. Потом отдых на свежем воз. духе. В четыре часа — чай, после чего приготовление уроков. В восемь — ужин, в десять — спать. Так проходили осень, зима, весна. Лишь праздники вносили ка-кое-то разнообразие: в эти дни кормили повкуснее, разрешали дольше гулять, но плохо было то, что подолгу держали в церкви. Моркин, хотя был сыном священника, не любил ходить в церковь ни в праздники, ни в будни. Дома отец его не принуждал к этому. Однажды весной Моркин и еще двое ребят — один по прозвищу Копейка, другой — Колдун сговорились не идти в церковь и спрятались у пустых амбаров, стоявших позади школьного сада. Хорошо за амбарами пахнет распускающимися деревьями, молодой травой, дышится легко, а в церкви сейчас теснота, духота, всю службу приходится выстаивать на ногах. Ребята, с тоской оглядываясь по сторонам, думают об одном и том же: «Скоро ли это кончится?..» А у амбаров не скучно. Втроем залезли на чердак. Копейка, приподняв доску на потолке амбара, достал колоду карт. У Колдуна под карнизом припрятан мешочек с бабками. Началась азартная игра. Правда, втроем — не так интересно. Обычно игроков бывает больше, да пять-шесть непременных болельщиков. Играют обычно марийцы против русских. Болельщики подсказывают, советуют, переживают не меньше игроков. — Погоди, Мелне, не ставь сразу столько бабок, — слышится совет с одной стороны. — Ставь на все! — советует другой болельщик. Карты у учащихся имеют свои, особые названия. Так, король — «старик», туз — «большой», дама — «баба», валет — «мужик». Играют на интерес. Вместо денег в ходу бабки. Пять бабок приравнивают к одной копейке. В пост, когда долго не едят мяса, цены на бабки поднимаются, поэтому некоторые ребята стараются запастись бабками заранее. Конечно, хоть это не так интересно, но и втроем тоже можно играть… Вдруг послышался какой-то шорох. Копейка быстро сгреб карты и сунул за голенище сапога, из-под чурбана, который служил игрокам вместо стола, извлек молитвенник и, раскрыв его, сделал вид, что углублен в чтение. Колдун кинул бабки в свой картуз, сверху прикрыл картузом Моркина. «Неужели надзиратель нас застукал?» — думал каждый, не дыша от страха. Но тут показался улыбающийся Эмаш. — Ух ты, черт, мы-то думали, что это длинноусый, а это — Бочка! — воскликнул Колдун. — Чего голоса не подал? — спросил Моркин. Эмаш, которого в школе прозвали Бочкой, расхохотался: — Ха-ха-ха! Это я нарочно, чтобы напугать вас! Испугались? Ха-ха-ха! — Ну, залезай скорее сюда, — сказал Моркин и, когда Эмаш, взобравшись на чердак, сел с довольным видом на свободный чурбак, спросил — Был в церкви? Что-нибудь интересное было? — Да так, ерунда. — А все-таки? — Не стоит и рассказывать. — Не хочешь — не надо, просить не станем, — решил Копейка, достал бабки, и игра снова началась. Эмаш, досадуя, что его больше не расспрашивают, поднялся с чурбака, звякнул мелочью в кармане. Все посмотрели на него. — Будешь играть? — спросил Копейка. — У меня деньги, а у вас только бабки. — Разве бабки — не деньги? — Для вас, может, и деньги, для меня — нет, — он снова позвенел мелочью в кармане. — Ну, ладно, рассказывай, что случилось в церкви? — едва заметно улыбнулся Копейка. Он прекрасно знал, что Эмашу не терпится выложить новости. — Правда, Эмаш, расскажи. — попросил и Моркин. — Вот тебе «венский стул», садись и рассказывай. Эмаш снова уселся на чурбак, принял серьезный вид и, подражая Эшайкову, постучал пальцами, будто закручивая кончики усов, вытаращил глаза и закричал, глядя куда-то в угол: — Цыц! Я тебя! Он два-три раза взмахнул рукой, как будто делая кому-то знак подняться, потом выругался матом. У него получалось очень похоже на Эшайкова, и ребята дружно расхохотались. — Ты сидел что ли? — спросил Моркин. — Не я. Улитка. У него от долгого стояния на коленях заболели коленки, и он сел на пол. Эшайков увидел издали — машет рукой, шипит, цыкает. Мы сначала не могли понять, кому он знаки делает, вертим головами, а он знай себе цыкает: громко-то сказать нельзя, служба идет. Потом вижу: Улитка привалился к стене и спит. Я показал на него coceду, тот — другому, гак все увидели и давай смеяться Рыжий черт смотрит со своего амвона и не знает, что ему делать. Эшайков разозлился, чуть не лопнул. Тут кто-то толкнул Улитку, тот проснулся, встал на колени как следует. Поп снова завел своим полудохлым голосом проповедь, а Эшайков схватил Улитку за руку и потащил из церкви. В дверях стукнул его два раза. А то еще одно интересное дело было… Но тут Моркин перебил его: — Погоди! Слышите? — Ага, «Златоуст» гудит, пароход Дэ-Дэ Якимова, — сказал Колдун. — Значит, полдень, надо идти, — отозвался Копейка. Он спрятал карты и молитвенник и первым стал спускаться вниз. За ним двинулись остальные.Эшайков, вернувшись из церкви к себе на квартиру (он жил во дворе школы), вместе с директором и его семьей отправился в гости. Надзиратель тоже ушел куда-то со своей толстой супругой. Школьники остались предоставленные самим себе. После обеда ребята играли в саду в панок, когда кто-то крикнул из окна спальни: — Ребята, Улитка заболел! — Поболеет — выздоровеет, — сказал один из играющих, и игра возобновилась. «Надо пойти посмотреть, что с ним такое», — подумал Моркин и поднялся в спальню на второй этаж. Он бесшумно открыл дверь, вошел в спальню и замер. У постели больного, спиной к двери, сидел Колдун. Он держал в руках холщовый пояс, привезенный из деревни, и что-то шептал над ним, прижимая его локтем. «Э-э, да ведь он ворожит!» — понял Моркин и, шагнув вперед, громко сказал: — Валяй, валяй, шепчи! Колдун вздрогнул, вскочил, мигом повернулся лицом к двери, пояс спрятал за спину. Вид у него был растерянный. Улитка, оказывается, спал, проснулся только от шума. Он смотрел на своих товарищей с недоумением. Колдун спрятал пояс в карман, подошел к Морки-ну, сказал просящим тоном: — Ты ведь никому не скажешь, правда? — Все равно все знают, что ты гадаешь, колдуешь, порчу напускаешь. — Я сейчас не ворожил вовсе, так в шутку… — Ха-ха-ха! — Не говори никому, я тебе все свои бабки отдам. — Сколько их у тебя? — Шестнадцать, половина из них — крашеных. — Пусть все шестнадцать будут покрашены, тогда не скажу. — Моркин, это ты слишком… — Как хочешь, я уговаривать не стану. — Ну ладно, я тебе сейчас отдам, сколько есть, остальные — подожди до следующего воскресенья. — Э-э, нет! Ты за неделю забудешь, давай сейчас. — Где я возьму? — Где хочешь бери, не то я сейчас же всем расскажу. — Погоди, не кричи, найду, принесу… Этот случай Моркину запомнился потому, что, продав полученные от Колдуна бабки, он на вырученные деньги первый раз в жизни побывал в театре. Из Москвы приехал «Славянский хор». И хотя Моркин сидел на галерке в самом последнем ряду, он был восхищен представлением. Много воды утекло с тех пор. После школы Моркин закончил учительскую семинарию. влюбился в девушку, женился на ней и с молодой женой поехал учительствовать в деревню. Так с тех пор и живет в деревне. Были дети, но все умерли в младенчестве. Теперь уж и старость не за горами… Моркину вспоминается, как через несколько дней по приезде сюда жена затосковала. Она искоса смотрела на мужа, когда он разговаривал с марийцами, не знающими русского языка, на родном языке. Жена часто запиралась в комнате, выходила оттуда с опухшими глазами. Потом три дня подряд писала в город письмо матери, напишет — и порвет, снова напишет — и снова порвет. На какое-то время она немного успокоилась, но с мужем почти не разговаривала. Все это выбивало Моркина из колеи, на душе было тяжело. Он упрекал себя в том, что завез молодую жену в деревню. где для нее нет ничего привлекательного. «Лучше бы я в городе дворником остался», — иной раз думал он. видя исхудавшее и побледневшее лицо жены, и сам был готов разрыдаться, как малый ребенок. Увидев, что жена как будто стала поспокойнее, он было обрадовался, но его радость была преждевременной. Вскоре выяснилось, что жена воспылала к нему лютой ненавистью. И с тех пор их жизнь превратилась в цепь скандалов, ссор и взаимных оскорблений. От такой жизни Моркин быстро опустился и постарел. В школе у него тоже дела не ладились. В первый год он объяснял уроки марийским ребятишкам на их родном языке. Но кто-то донес инспектору, и тот, возвращаясь в город из соседней волости, специально завернул в Кому, чтобы сделать Моркину выговор. После этого Моркин не смел говорить по-марийски не только дома, но и в школе. Особенно тяжело бывало каждую осень с первоклассниками. Они ничего не понимали из того, что он объяснял им по-русски, он сердился и на них же срывал свою досаду. — Дураки, ничего-то вы не понимаете! — кричал Моркин. бил учеников линейкой, оставлял без обеда. Иной раз, увидев, как обиженный им мальчик утирает слезы рукавом худой холщовой рубахи, Моркин испытывал чувство раскаяния, ему хотелось подойти, погладить малыша по голове. «Нет, так нельзя, — думал он в такие минуты. — Надо как-то по-другому!» Но проходил день-другой, чувство раскаяния проходило, и все продолжалось по-прежнему, по-заведен-ному. Постепенно он привык ко всему этому, жизненный круг замкнулся так крепко, что выбраться из него было не под силу, да и не хотелось уже. Моркин стал частенько напиваться. Однажды, во время его очередного запоя, неожиданно явился его школьный товарищ Эмаш. — Ого-го-го! — увидев его, обрадованно закричал Моркин. — Откуда бог несет? Как же ты можешь разъезжать посреди зимы, бросив школу, ай-ай-ай! Ну, раздевайся, раздевайся! Эмаш заговорил было по-марийски, но хозяин показал глазами на дверь соседней комнаты, где находилась жена, и сделал предостерегающий жест. Гость, без слов поняв, что разговаривать по-марийски в доме нельзя, посмотрел на друга с жалостью и заговорил по-русски. — Яс прошлого года больше не учительствую. — Вот ка-ак? Почему же? — Да так уж, сочли неблагонадежным. — Ого! Неужто ты, Эмаш, попал в неблагонадежные? Ха-ха! — Перестань. Ничего тут нет смешного. — А? Что? — Моркин посмотрел на друга так, как будто только что очнулся. Эмаш усмехнулся: — Ты, я вижу, выпил сегодня? У тебя нынче день рождения? — Нет, сегодня у меня день смерти. — Что ты говоришь? Глупость какая-то! — Ты прав: я превратился в непонятливое животное, стал хуже самого темного мужика!.. Погряз, опустился… Прежние товарищи ушли вперед, а я остался. безнадежно отстал… Конец, всему конец! Мне конец!.. — С чего ты взял. Не надо, не наливай мне столько! — Пей! Водка царская, и мы сами — царские. Царскую водку пьем, а царь… Жена, бросив шитье, вышла из соседней комнаты, поздоровалась с Эмашем, потом, указав на мужа, сказала: _— Ты, Эмаш, его не слушай, он, как напьемся, болтает невесть что. А ты, пьяница, укороти свой язык, не то я сама тебе его укорочу! — прикрикнула она на мужа. Но Моркин осмелел: — Жена, не суйся в мужской разговор, мы сами знаем, что говорить. Ступай на кухню, приготовь угощение для гостя. — А если тебя заберут, как Унура Эбата… Моркин со злобой перебил ее: — Кому сказано: знай свою кухню, ну? — Иду, иду, — неожиданно испуганно проговорила жена и ушла. — Итак, Эмаш, на чем мы остановились? — На третьей чарке. — Ха-ха-ха, нет, на третьей мы не остановимся! Не-ет! Я тебя спрашиваю, о чем мы говорили? — Ладно, не стоит больше об этом толковать. Моркин покачал пальцем: — Не-ет… Ты ко мне один раз за три года выбрался, а теперь не хочешь выслушать, что у меня на душе? — В паше время не принято особо много разговаривать… Рты у нас зашиты. — Не бойся. В моем доме можно говорить обо всем смело. Или ты мне не веришь? — Ну что ты! Я вообще-то не из трусливых, да и о тебе не могу подумать плохо. — Дай руку, Эмаш! Эх, Эмаш, отстал я от жизни, завяз в обыденности, стыдно мне! Когда учились, ненавидели тех, кто нас бил, а теперь я сам бью детей. — Не ты один, все так учат! — А вот ты не хотел так учить, поэтому тебя выгнали из школы. Так ведь? — Так. — Ну вот, а ты мне даже не писал об этом и сейчас не рассказываешь. — Ты не даешь мне рта раскрыть! — Правда! Сижу и болтаю. Ну, теперь давай ты рассказывай о своих делах. — Особенно рассказывать нечего. Все началось из-за пустяка. — Наверное, не пустяк был, не приуменьшай. — Пожалуй, что так. Я написал марийский букварь и в одно воскресенье собрал молодых учителей, чтобы познакомить их со своим букварем. Нас посчитали чуть ли не за революционеров. У всех произвели обыск, мой букварь изъяли. Крепко мне тогда попало от начальства, припомнили, как я однажды непочтительно отозвался об инспекторе — вот и вышвырнули. — Хорошо хоть, что не посадили. — Не за что сажать. — Что же ты теперь делаешь? — Теперь я секретарь суда, живу неплохо, свободного времени больше, чем прежде, и среди людей все время… Моркин выслушал друга, долго сидел в задумчивости, потом проговорил медленно: — Та-ак, значит, так, — он посмотрел на Эмаша грустным взглядом. — Знаешь, хоть тебя выгнали из школы и (Припечатали клеймо «неблагонадежный», все-таки ты счастливее меня. Душе твоей, сердцу твоему — легче. Ты знаешь, что ты честен, не завяз в грязи, не отстал безнадежно от жизни. Будь у тебя горы серебра-золота, дворцы из мрамора, или вот хотя бы как у меня, — тут Моркин улыбнулся, — хотя бы как у меня, будет у тебя квартира, и одеяла, и одежда, и самовар, и корова с овцами, если при всем этом на душе неспокойно — ничего тебе на свете не нужно. Лучше быть бедным, даже нищим, но пусть душа будет на месте!
Окончательно спиться и превратиться в алкоголика Моркнну помешала, как ни странно, русско-японская война. С началом войны его жена стала щедро снабжать своего призванного в армию брата — унтер-офицера — деньгами из жалованья мужа, и Моркину перестало хватать денег на водку. Какое-то время в кабаке ему отпускали в долг, но жена, узнав об этом, устроила целовальнику скандал. Волей-неволей Моркин стал пить меньше. А туг до Комы дошло известие о кровавых событиях в Петербурге, о Московском восстании. Моркнну тогда показалось, что и его коснулось какое-то дыхание жизни. Но революция была разгромлена, повсюду только и говорили о ссылках и казнях. Пыл Моркина vrac. Снова потянулись однообразные дни — без веры в будущее, без надежд на светлые перемены в жизни. Однажды, крепко напившись, он расплакался и стал жаловаться: — Жизнь проходит, как в дымной бане. Жена, погладив по волосам, простодушно сказала: — Мерещится тебе. Какая дымная баня? Мы в светлом, теплом доме живем! Неужто тебе с пьяных глаз баня привиделась? В другой раз, когда он сидел пьяный, положив голову на стол, приехал инспектор. Жена, заслышав под окном звон колокольчиков, принялась трясти. Моркина за плечо: — Начальник едет, сл-ьишишь? Вон, колокольчики звенят, не слышишь что ли? К нам едут! Да проснись же ты, свинья! Моркин вздохнул, оттолкнул руку жены и снова заснул. — Ах ты, грязный черт, пьяный боров, вставав, тебе говорят! Встанешь или нет? — жена изо всех сил тряхнула его, подняла, поставила на ноги, но он снова порывался сесть. — Ты так… Ну-ка, иди сюда! Она подхватила его под мышки, потащила на кухню и там, наклонив над умывальником, вылила на голову ковш ледяной воды. — Фр-р, ты что делаешь? — закричал, очнувшись, Моркин, с удивлением глядя на жену. — Не то инспектор, не то архиерей приехал, во двор к нам свернул, вон, слышишь, ноги в сенях обметает. — Ах, черт, давай еще воды, лей на голову! Хватит! Дай полотенце да принеси во что бы переодеться. Теперь иди, встречай, кто там приехал, я тем временем переоденусь. Иди. Пока Моркин переодевался на кухне, кто-то, тяжело ступая, вошел в комнату, спросил: — Где хозяин, в церковь что ли ушел? — Сегодня воскресенье, уроков не было, отдыхает он, — испуганно лопотала жена. Моркин узнал голос инспектора. «Опять этот коршун прилетел, ах, черт! — подумал он. — Хорошо еще, что не застал врасплох. Спасибо, жена разбудила… Что она там несет, разве инспектор сам не знает, что по воскресеньям уроков не бывает?» Моркин пошел в комнату. — A-а, вот и хозяин, добрый день! — приветствовал инспектор Моркина, подавая руку. Раньше он при встрече подавал только два пальца, разговаривал надменно, но после пятого года изменился, поутих и иной раз, даже заметив какие-нибудь недостатки, не вынимает, как раньше, свою книжечку, чтобы сделать в ней пометки. «Сегодня он, похоже, в добром настроении», — отметил про себя Моркин. Сели за обеденный стол. Моркин достал из шкафчика настойку, налил в рюмки. — С дороги оно хорошо будет, — сказал он. — Выпейте, Филимон Кириллович! — Ты сам-то не с дороги ли? — усмехнулся инспектор— Несет, как из винной бочки, от тебя. — Выпил немножечко, Филимон Кириллович. Немножечко-то, думаю, можно… — «Немножечко»… Ну, Моркин, было бы это в прежние времена, выгнал бы я тебя! — Верно, все от вас, Филимон Кириллович, зависит. Но мне известна ваша доброта. Выпьем, Филимон Кириллович, за ваше здоровье. — Дело не в моей доброте, просто времена другие. Хозяин, не решаясь расспрашивать, молча слушал. Он знал, что кто-то из молодых учителей подкинул инспектору письмо с угрозами. Во всех школах были недовольны инспектором, однажды в газете даже появилась заметка о том, что он груб с учителями. После этого инспектор и попритих. — Пить можно, — вздохнул инспектор, — только ведь не до потери сознания. А ты, говорят, до потери сознания напиваешься. — Нет, не бывает этого, напраслину говорят. — С другой стороны, — продолжал инспектор, — в таком медвежьем углу за год можно спиться. Я еще удивляюсь, как ты ‘терпишь. Моркин не считал, что Кома такой уж медвежий угол: все-таки тут волостное правление, станция, лавка, почта, но он не посмел перечить начальству и потому ответил коротко: — Привык. Посидели, поговорили, не заметили, как зимний день стал клониться к вечеру. Инспектор развалился на диване. Моркин достал свою двухрядку и, зная — пристрастие инспектора, заиграл романс «Белеет парус одинокий». — Ах, хорошо, очень хорошо! — инспектор откинулся на спину, лежал, слушал, о чем-то думая, может быть, вспоминал молодость… Потом Моркин перешел на старинные русские песни. Грустные мелодии как-то объединили учителя и инспектора, у обоих на глазах показались слезы. Инспектор, сморившись, заснул. Моркин поглядел на него ласково, ка-к на уснувшего ребенка, и отложил гармонь. Стараясь не шуметь, он достал из шкафа классный журнал, ученические тетради, книгу учета денежных средств, обмахнул с них пыль, аккуратно сложил на маленьком столике, подумал: «Сегодня, наверное, ие станет проверять, завтра посмотрит. Завтра и в класс поднимется. Хорошо бы спросил Калета, Алкая и Ваньку, они бы все толково ответили. Постой, пересажу-ка я их на задний парты, инспектор любит вызывать учеников с «Камчатки». — Нет ли чего хорошего из беллетристики? Я почитал бы, — проснувшись, спросил инспектор. «Ах, коршун, — подумал Моркин, — не иначе — задумал поймать меня па каком-нибудь запрещенном романе!» Вслух сказал: — Не держу ничего такого, Филимон Кириллович. — И Толстого не читаешь? «Ага, вот и до Толстого дошло! Погоди, я тебе отвечу», — Моркин, взглянув хитро, ответил: — Читать-то времени нет. — Ну, а книги Толстого у тебя есть? — Были, волостному писарю отдал. — Но книги других писателей, наверное, держишь? Короленко, Герцена, Глеба Успенского? — Нет, нет, боже избавь! — Ха-ха-ха! Что ты так напугался? Моркин улыбнулся через силу. — Да нет, чего мне пугаться… Просто нет у меня книг: здесь хоть сто лет проживи, книг не увидишь. В город я редко езжу. — Ну хоть газеты и журналы выписываешь? — Филимон Кириллович, ругайте, бейте, признаюсь честно: даже «Нивы» не получаю. — Так-так… Стыдно. Надо что-нибудь выписывать. После этого Моркин стал выписывать «Ниву» и «Губернские ведомости», хотя газета и приходила в Кому с большим опозданием. Эмаш, который переехал в Казань, оставил Моркину на хранение пачку книг. Однажды, в воскресенье, Моркин развязал пачку. В ней оказались книги Пушкина, Кольцова, Никитина и небольшая книжечка в желтой обложке «Марийский календарь на 1907 год». — Хм, — Моркин покачал головой, — это еще что за книга? На каком же она языке — на русском или на марийском? В прошлом году говорили про какую-то марийскую книгу. Видимо, это она и есть. Он быстро перелистал календарь и отложил в сторону. — Ну, тут одни пустяки. Погляжу-ка я лучше, что тут у него из русских книг… Та-ак… «Мертвые души» — читал, «Капитанская дочка» — тоже… Ага, вот «Челкаша» Горького можно перечесть, — и Моркин углубился в чтение. Но ему долго читать не пришлось. Вошла жена с полными ведрами, споткнулась о поставленную на полу стоику книг, едва не пролила воду и заругалась: — Опять свои грязные книги в дом принес, черт, мышь слепая! Вот сожгу сейчас их в печке! Она схватила книгу, рванула переплет. — Что ты делаешь? — закричал, размахивая очками Моркин, — мало тебе, что ты все мои книги пожгла, теперь за чужие взялась? — Сожгу, сожгу! — Только попробуй! — Ничего ты мне не сделаешь, мышь слепая! — Ударю! — Ударь, ударь! — Получай! — Моркин толкнул жену в плечо, она отлетела, ударилась о край стола. — Убивает! Убивает! — заводила она. — Спасите! Моркин зажал уши руками, вернулся в залу и снова сел за книгу. Жена плакала нарочно громко. Моркин смотрел в книгу, но читать не мог. «Эх — думал он, — дерусь, как последний мужик, позор! И ведь это уже не в первый раз! Нет, не годится так, нельзя!» Моркин поднялся, подошел к двери кухни, с жалостью посмотрел на жену. Потом собрал книги, перевязал их веревкою и вынес в чулан. Вернувшись отложил в сторону «Челкаша» и раскрыл «Марийский календарь», подумав при этом: «Надо все-таки ознакомиться. Вдруг заедет какой-нибудь знакомый учитель-мариец, заведет разговор — будет стыдно не знать…» Он взглянул на обложку своими подслеповатыми глазами — и вскрикнул от изумления: — Фу, черт! Царь-то в клетке сидит! Вскрикнул и тут же испуганно оглянулся по сторонам: не услышал ли кто? Но кому услышать? Дома он да жена, и та вышла куда-то. Он снова приблизил обложку к глазам. На ней был изображен портрет царя, а на обороте напечатан расчерченный на клетки календарь. Черные линии просвечивали сквозь тонкую бумагу, лицо царя оказалось как бы за решеткой. — Нечаянно получилось, а ведь нарочно не придумаешь, — усмехнулся Моркин. Он углубился в чтение статьи о казанских марийцах. Перелистав календарь, Маркин увидел, что некоторые слова в тексте залиты черной краской так, что ничего нельзя разобрать. «С чего бы это? — подумал он, и тут его осенило — Наверное, там что-нибудь недозволенное написано, упаси бог, против царя! Нет, с этим календарем, того гляди, в тюрьму попадешь…» Он захлопнул книгу, завернул ее в бумагу и понес в чулан, но в дверях остановился. «Нет, надо ее куда-то спрятать отдельно от других книг», — решил он и, держа книгу кончиками пальцев, как будто это была горящая головешка, вернулся в комнату, присел к столу. Покосившись на дверь кухни, подумал: «Надо так спрятать, чтобы эта ведьма не нашла, не то, как поссоримся, она меня станет еще тюрьмой пугать. Надо найти такое место, чтоб и кошка не отыскала». Услышав, что отворилась и с силой захлопнулась дверь из сеней, Моркин вздрогнул, сунул календарь под «Челкаша», но тут же выдернул и спрятал его под скатерть, а сам облокотился о стол. Но оказалось, что к жене пришла соседка. Услышав доносившиеся из кухни голоса женщин, Моркин облегченно вздохнул и сам над собой посмеялся: «Эх, господин учитель, ведешь себя, как ученик, и даже еще хуже!..» Посидев и подумав, он поднялся, подошел к двери, накинул крючок. Потом сдвинул с места стоявший в углу небольшой шкаф. Под ним скопилось пыли на палец, Моркин смахнул ее бумагой, ножом подковырнул обрезок доски, запустил руку под пол. — Живешь — дрожишь… — пробормотал он, доставая жестяную коробку, подвешенную на гвозде под половой доской. Коробка тоже была покрыта пылью. Когда Моркин обтер ее, стала заметна надпись: «Чай И. Н. Губкина и К0». Он открыл коробку, достал один десятирублевик и подбросил вверх. Монета сверкнула, как подброшенный горячий уголек, закружилась и со звоном упала к ногам хозяина. — Чистое золото! — улыбнулся Моркин. — С ним и старость не страшна… Кто-то постучал в дверь. Моркин от испуга чуть не выронил тяжелую коробку. — Кто? — опросил он дрогнувшим голосом. — Открывай, дьявол! Чего заперся? — Фу-у, — облегченно вздохнул Моркин. — Не стучи, я крысу ловлю, поняла? — Аа-а, — жена постояла за дверью, потом спросила — Зачем открыл? Моркин подошел к двери, не снимая крючка, оказал: — Тихо ты! Тихо! Я только посмотрю, ничего не возьму. — Ну, ладно, — жена ушла. Так повелось издавна: если муж запирался в комнате. чтобы достать из подпола заветную коробочку, а тут не ко времени приходил кто-нибудь из соседей и удивлялся, отчего заперта дверь в комнату, жена объясняла: — Крыса из норы вышла, он нору забивает, — и тут же переводила разговор на что-нибудь другое. Иной раз, когда муж прятал деньги, она выходила во двор, чтобы никто не подглядел за ним в окно. Моркин приладил коробку с деньгами на прежнее место, календарь свернул трубкой, перевязал ниткой, которую выдернул из стоявшей тут же под иконами швейной машины, и повесил на тот же гвоздь, на котором висела коробка. Вынутый обрезок доски положил на место, поставил шкаф, утер с лица пот, легко вздохнул и принялся за «Челкаша». Текли размеренные дни: дом — школа, школа — дом. Моркнну казалось, что он обречен всю жизнь ходить по этому узкому кругу. «Эх, был бы у меня сын, я бы хоть его-то научил жить по-человечески, если уж сам не сумел, — думает Моркин, стоя у окна во время перемены и глядя на ребят, играющих во дворе в снежки. — Был бы у меня товарищ — все легче бы было, но и того нет. Просил прислать коллегу, говорят, не положено. Вот и мучаюсь один с тремя классами, эх, жизнь!..» В воскресенье, проснувшись и напившись чаю, Моркин раскрыл недавно полученный номер «Нивы», но жена сказала со злобой: — Хватит тебе, старый, читать! — Хватит болтать! — остановил ее Моркин. — Пойдем лучше в гости, жена Орлая Кости звала. — Яс мироедами не знаюсь. — Да ты, никак, совсем из ума выживаешь? — Наоборот, только теперь начинаю ума набираться. — Думаешь, «если перед едой вместо того, чтобы перекреститься, за рюмкой тянешься, так это от большого ума делаешь? — Вот именно, — вызывающе отозвался Моркин. Жена швырнула недоеденный пирожок в тарелку, встала из-за стола, крикнула: — Антихрист! Моркин спокойно спросил: — Дальше что? — «Дальше, дальше»! Он еще и издевается, у-у, кровопивец, дьявол, бунтовщик! — она набросила на плечи платок и пошла к двери. Муж сказал ей вслед: — Если, по своему обыкновению, пойдешь по деревне и станешь болтать, чего не следует, язык отрежу! — Что хочу, то и буду говорить! Назло буду! — и она так хлопнула дверью, что задрожали стены дома. Моркин прочитал журнал еще накануне вечером, но сейчас решил прочесть еще раз повнимательнее. Прочел стихи «Ты прошла голубыми путями…» Александра Блока. Подумал, почему Блок и Лихачев очень печальные стих-и пишут… Потом принялся разглядывать картинки в журнале. И тут ему вспомнилось, что в «Марийском календаре» тоже есть иллюстрации, но их он не рассмотрел как следует. И статью «Просвещение народа» не прочел, а, наверное, полезная статья. «Посмотреть что ли? — подумал Моркин, встал, подошел к окну, посмотрел на улицу сквозь обледенелое стекло. — Нет, и доставать не стану, не дай бог, кто-нибудь увидит, потом не оправдаешься… Скорей бы Эмаш приехал, отдам ему все его книги, пусть прячет, куда хочет, я их больше хранить не стану… Вот получаю «Ниву», ее и буду читать. Русский журнал он русский и есть — культу-у:ра! А у марийцев что? Ни книг, ни журналов… Но все-таки календарь вот выпустили! Интересно, кто ж это постарался? Вот бы встретиться с этим человеком, порасспросить… И что плохого в том, если я прочту статью о просвещении народа? Я же учитель! И жена как раз ушла. Прочту!» Моркин отодвинул шкаф, достал календарь. Попутно тронул рукой коробочку с деньгами, подумал: «Эх, денежки, только про вас и думай!.. Надо их отвезти в город и положить в банк, а не держать дома. Вдруг украдут, или пожар случится, что тогда делать?» Моркин вышел на кухню, щеткой почистил брюки и сатиновую косоворотку, вернулся в комнату. Ему вспомнилось, ка. к мальчишкой он всегда с нетерпением ожидал возвращение отца из Казани. Отец каждый раз привозил ему какой-нибудь подарок, и Моркин до сих пор помнит, как радовался, разворачивая сверток, как дрожали руки от нетерпения скорее увидеть, что же там такое… Вот и сейчас, разворачивая бумагу, в которую был завернут календарь, он вдруг почувствовал детскую радость, как будто наконец-то получил долгожданный подарок. Если бы он сейчас взглянул в зеркало, то увидел бы, как пылает его лицо и блестят глаза. «Другой бы не стал читать, а я вот не боюсь!» — хвастливо подумал он и в первую очередь попытался прочесть замаранные черной краской слова, но не смог разобрать. Он читал, не отрываясь, страницу за страницей, листы переворачивал осторожно, не слюнявя пальцы. Читал и улыбался, сам того не замечая. Он не сразу услышал стук в дверь. Это жена вернулась домой. Прятать календарь в тайник было поздно, и Моркин подсунул его под старые тетради. — Что так долго не открывал? — подозрительно спросила жена. — Заснул, — притворно зевнув, ответил Моркин. — Сейчас поглядим, — жена, не раздеваясь, прошла в спальню. — Кровать не смята! Не спал ты, сидел водку лакал, признавайся! Куда спрятал? — она открыла буфет. Моркин усмехнулся: — Ишь, какой инспектор явился. — Говори, куда спрятал? — Что? — Водку! — Хочешь выпить? Ха-ха! — Где бутылка? И не ври, что спал. — Да не вру я. Прилег на диван с журналом и задремал. — A-а. ну тогда другое дело… — она пошла на кухню. Моркин достал гармонь, сел на диван и стал наигрывать печальный мотив, думая о том, что жизнь его течет, как вода в мутном ручье… В одновоскресенье ранней в тот год весны Моркин с женой возвращались из церкви деревни Сережкино. Шли помещичьим лесом, Моркин внимательно поглядывал на деревья, вздыхал и думал: «Вот и зима прошла…» В лесу было тихо. Лучи мартовского низкого солнца едва пробивались сквозь частые стволы. Белые березы, похожие на вдов в белых платьях, стоят недвижно, печально опустив черные, еще безлистые ветки. Орешник тянется к солнцу своими густыми, словно волосы, ветвями. Под ногами блестят толстые корни, среди прошлогодней травы видны лужицы талой воды. Ели стоят, высоко вознеся свои кроны, словно гордясь тем, что и зимой они сохранили свой зеленый наряд. Снег, еще недавно белый, теперь почернел, как будто на него напала какая-то хворь. Дорога уже не блестит, став серо-матовой. На сером стволе рябины, как на ярмарочной рубашке, заметны желтые крапинки — пораженные места. На рябине поет-свистит скворец. Вот он сорвался с ветки, от толчка его красных лапок обломился тонкий конец ветки, упал на снег. И снова тихо в лесу. Вечер еще не наступил, но в небе уже повисла луна. Если смотреть долго, она похожа на голову в разрезе, на ее контуре лоб, нос и рот… Моркин шел неторопливо, — обходя небольшие лужи, которые к вечеру начали подергиваться ледком. Жена, которая шла следом, сказала сердито: — Ноги у тебя стали как бревна гнилые, шагай быстрее, темнеть начинает, а мне еще корову доить. — Орлай Кости предлагал тебе с ними на подводе ехать, чего отказалась? — По такой-то дороге трястись!.. Одни колдобины! — Сама же говоришь — «колдобины», а велишь шагать быстрее. Жена ничего не ответила. Дойдя до середины леса, они услышали впереди голоса. — Что, Дарья Петровна, лошадь завязла? — подходя ближе, спросила жена Моркина. Дарья, которая вместе с мужем тщетно пыталась вытащить из мокрого снега подводу, ответила в сердцах: — Дорогу совсем развезло! По ее тону можно было понять ее мысли: «Сама что ли не видишь? Чего зря опрашивать?» Орлай Кости вытер потное лицо, посмотрел на телегу, потом на учителя и сказал с просительной улыбкой: — Петр Николаевич, не поможешь ли? — Пожалуйста, пожалуйста! — Моркин ухватился за левую оглоблю. — Только не запачкайся, — не утерпела жена. Лошадь, почувствовав подмогу, фыркнула, уперлась передними ногами, рванула и пошла, но через несколько десятков метров снова оступилась в рыхлый снег, и снова пришлось ее вытаскивать. Пока проехали лес, застряли еще раза три-четыре. — Ты, Петр Николаевич, наверное, устал, — сказал Орлай Кости. — Вот выедем на поле, там дорога получше пойдет. Между Сережкиным и лесом дорога неплохая была… И верно, на открытом месте дорога была твердой. — Садитесь, — пригласил Орлай Кости. Жена Моркина села, а он предпочел идти пешком за санями. Женщины затеяли разговор. — Новый-то поп получше прежнего будет, — говорила Дарья. — С чего ты взяла? — спросила жена Моркина. Женщины разговаривали между собой по-русски. Орлай Кости, обращаясь к Моркину, мешает русские и марийские слова, Моркин отвечает ему только по-русски. — Давненько не бывал ты у меня, Петр Николаевич, — говорит Орлай Кости. — Времени нет, — отвечает Моркин. — Слышала, — спрашивает Дарья, — Унур Эбат письмо Эману прислал? — Он в Уфе сидит? — В Сибирь его сослали, живет в каком-то Барабинске. — Так ему и надо! Уж больно неприятный человек! — Верно, верно. — Его ведь тогда не одного угнали, только сейчас не вспомню, кого еще. — С мельницы работника посадили. — А тот где? — Его две недели подержали и выпустили. — Говорят, уряднику награду дали за то, что он тих бунтарей поймал. — Не слышала… Может быть, и дали… — Он, бывало, придет к нам, повесит шашку па гвоздик, а сам сядет за стол и ну жаловаться, мол, здоровья нету, и денег нету… Жалуется и вздыхает. Он сердцем болел, а пил крепко. Где он теперь? — Кто его знает. В прошлом году переехал в город, и никаких о нем вестей. — Дочку-то выдал замуж или нет? — Вряд ли. Такое дело скоро не делается. — Вон и у лавочника дочь на выданье, — Дарья подумала о своих дочерях и тяжело вздохнула. — Говорят, нынче выйдет, уж и жених есть. — Кто ж такой? — Помнишь, в позапрошлом году ученый приезжал, у лавочника на квартире стоял? — Что-то не припомню… — Ну как же! Его еще в Боярсоле чуть не убили! — A-а, Эликов! Матвей Матвеевич Эликов! Помню, помню, он к нам заходил. Молодой такой. Где сейчас живет? — В городе. А женившись, говорят, в Петербург с молодой женой переедет. — Откуда знаешь? — Лавочникова жена на радостях проболталась мельничихе, та — старостихе, старостиха сказала мне. — Как говорится, значит, он еще не весь свой хлеб съел, потому бог и не допустил, чтобы его в Боярсоле убили. — А тех из Боярсолы в каторгу сослали. — Не зря говорится: от сумы да от тюрьмы не зарекайся, — сказала жена Моркина. — Просто диву даешься, что народ делает: ведь земского начальника хотели убить. — Что вспомнила! Это давно уж было. — Как давно? Года полтора, не больше. Примерно тогда же, когда убили наганского помещика. — Пожалуй, что так. Время течет, как вода в Белой, и не замечаешь… Два года!.: — А сколько времени прошло с тех пор, как приезжал батюшка? — Какой батюшка? Сережкинский что ли? — Да нет, из города батюшка приезжал. Помнишь, он еще молитвенники раздавал, а дети этих язычников книги изорвали и сложили в уборной? Я тогда чуть со стыда не сгорела, просто не знала, что и делать!.. — A-а, помню, по-мню, за день до этого наше гумно сгорело! — Як тому говорю, что с приезда этого самого батюшки прошло самое малое три. года, а кажется, будто все это было только вчера. Говорят, что Яик Ардаш ребят подговорил? — Что? — встрепенулась Дарья, зевнула и с шумом закрыла рот, как будто разгрызла орех. — Яик Ардаш научил ребят разорвать молитвенники и сложить в нашей уборной. Ох-ох, погубил он свою голову. Говорят, повесили его в губернском городе. — Может, врут… — Не знаю, говорят. Не человек был, а собака, настоящий антихрист. Дарья взглянула удивленно, но ничего не сказала. Жена Моркина обиженно вытянула губы и замолчала. Какое-то время обе тихо сидели на санях, прислушиваясь к разговору мужей. Учитель, шагая за санями, говорил Орлаю Кости, сидевшему лицом к нему: — Хочу купить лошадь Эбата. Лошадь хорошая. Я видел, как старик Орванче проезжал верхом. — Хорошая, хорошая, Петр Николаевич. Покупай, не сомневайся, торопись, а то продаст другому. Эбат написал из Сибири, велел коня побыстрее продать, и выслать ему деньги. Жена Моркина набросилась на мужа. — Вот как! Оказывается, собираешься лошадь покупать! Она слезла с саней, остановила мужа и, размахивая руками, продолжала: — Ты ни во что меня не ставишь! Выходит, тайком от меня тратишь деньги? Хоть бы замкнулся о том, что собрался коня покупать. У-у, дерьмо! Орлай Кости попридержал лошадь, но Дарья сказала: — Поезжай, поезжай, не будем вмешиваться в их семейные дела, пусть их ссорптся. — Неудобно бросить их и уехать, — возразил Орлай Кости. — Были бы простые люди, а все-таки учитель. — Мы не в. овсе уедем. Отъедем и остановимся. — И то верно, — согласился Орлай Кости. — Но-о, пошла! Конечно, хорошо иметь своего коня. Петр Николаевич это понимает, а вот жене его не понять. — Э, куда им ездить-то? И без лошади могут прожить, жили же до этого… — Жить-то жили, но ведь на базар съездить — надо нанимать, в больницу — тоже, в соседнюю деревню или еще куда… — Не особенно они разъезжают, сидят в своей школе, как сычи. — Будет лошадь — станут ездить. Орлай Кости давно уже так дружелюбно не разговаривал со своей женой. И жене давно уже не было так легко, так хорошо на душе. — Вот хоть нас взять к примеру, — хвастливо продолжал Орлам Кости. — Куда хотим, туда и едем. — Да и мы не часто выезжаем. — Хоть не часто, а все же не так, как эти образованные… Смотри, как грызутся, — и Орлай Кости ласково похлопал жену по плечу. Дарья, слушая обращенные к ней добрые слова, не верила ушам, а уж когда муж похлопал ее по плечу, и вовсе расчувствовалась, сказала нежно: — Всегда бы вот так, по-хорошему, жить… — Тпру-тпру-у, давай подождем немного, — Орлай Кости натянул вожжи, останавливая лошадь. — Мы живем неплохо: особо не скандалим, не деремся, если случится между нами что-нибудь такое, быстро миримся. А вот учителю совсем нельзя с женой лаяться, он на глазах у всех живет, его все знают, всем видно, даже ребятишки над ним смеются. — Говори потише, вон они уж близко подошли… Что тут поделаешь? Привыкли жить, как кошка с собакой, всегда в ссоре, всегда злятся друг на друга, остановиться не могут. — Что-то молчком идут. — Наверное, все друг другу высказали… Моркин, подойдя, сказал, не поднимая глаз: — Ехали бы, зачем ждете? — Ничего, вместе поедем, садитесь… Ехали молча. К вечеру дорога стала потверже, и лошадь побежала ровнее. Через два дня Моркин сторговался с Кугубаем Орванче, и лошадь Унура Эбата перешла к новому хозяину. Получив деньги за проданную лошадь, Эман отправился на почту. Почта была заперта, у дверей сидели и дожидались люди. — Когда откроют? — спросил Эман. И тут он увидел Амину, которая сидела в стороне на скамейке, и, не дожидаясь ответа, направился к ней. — Амина, и ты здесь, — приветливо сказал Эман. — Садись покуда, — Амина, покраснев от смущения, подвинулась, освободив для парня узенькое местечко между собою и сидевшей рядом старухой. Старуха хотела встать, но Эман удержал ее за плечо. — Сиди, мамаша, места хватит. — Да вы уж, милые мои, рядышком посидите, а я найду, где присесть. Амина вскочила с места. — Что ты, бабушка! Разве можно? Мы молодые, постоим. — Ой, деточки мои, у меня сынок был, вот такой же добрый, да сослали его в Сибирь. Там и пропал. И сноха хорошая была, на тебя походила, — старуха кивнула на Амину. Амина и Эман, переглянувшись, улыбнулись друг другу. Амина тут же прикрыла рот варежкой: не обиделась бы старуха, у которой таксе горе, на эти улыбки. Но та. видно, и не заметила. Утирая рукой набежавшие слезы, она продолжала рассказывать о сыне. Немного погодя, когда Амина и Эман отошли в сторону, Эман спросил: — Ты ее знаешь? — Старуху-то? Вот посидели, поговорили и познакомились. У нее сына сослали на каторгу из-за того ученого, которого хотели в погребе сжечь. Эман нахмурился, глаза у него сверкнули. — Ох и струсил же тогда этот Эликов! Ха-ха! — Когда? — Ну, тогда, в Боярсоле. — Откуда знаешь? Ведь тебя гам не было. — Я его той ночью вез в город. — Погоди, погоди, — Амина закусила губу. — Что ты так удивилась? — Погоди, — снова скаяяла Амина. — В тот вечер была свадьба в Луе. Помнишь? — Еще бы мне не помнить, когда мою гармошку поломали. — Да свою гармошку ты отдал Кудряшу, а сам… — в глазах Амины был укор. — О чем ты? — Эман шагнул к девушке, хотел взять ее руки в свои, но она отстранилась: — Я все ждала, когда ты мне сам все расскажешь… — О чем я должен был рассказать? — О том, как с другими гуляешь. — Я?! Когда? — В Луе, на свадьбе. — Так ведь я же сказал: в ту ночь я возил того» Эликова. — Как же твоя гармошка оказалась на свадьбе? — Я ж тебе говорю: Эликова привезли из Боярсолы; ему нужно было ехать дальше, в город. Не моя была очередь, но начальник станции послал за мной. Я уж на свадьбу шел и как раз Кудряша по дороге встретил. Тут догоняет меня посыльный, мол, зовет тебя начальник срочно. Я думал, что ненадолго, отдал гармошку Кудряшу — и на станцию. А там ехать пришлось… Амина, прислонившись к стене почты, молчала. В (прошлую ночь моросил дождь, он почти съел снег, тот, что еще остался, сейчас таял под горячими лучами солнца. Под карнизом воробьи распевают свои песни. На скворечнике, прибитом у избушки сторожа поет скворец, как будто горохом сыплет. Небо своими голубыми глазами ласкает просыпающуюся природу. В воздухе вовсю властвует весна. — Что молчишь? Сердишься? — спросил Эман. — Эман, теперь я… — начала было Амина, но тут к ним подошла старуха. — Я хожу-хожу, ищу их, а они вот где! Почтовый начальник пришел, мне опять нет письма, совсем пропал мой сыночек… — Не убивайся, бабушка, — сказал Эман, — издалека письма долго идут. — Ты, бабушка, зайди к нам, — пригласила Амина. — Как я пойду, твой отец, небось, и не узнает меня. Как женился на русской девушке, так позабыл нас, хотя мы родня. Последний раз был у нас лет двадцать назад. — Не говори так. бабушка, отец тебя помнит, и мать тоже… Обязательно зайди! Знаешь, где наш дом? — Знаю. Когда-то с твоим дедушкой Орлаем Иваном рядом жили. Небось, на — прежнем месте живете? — На прежнем. Я бы проводила тебя, да надо на почту зайти: ждем письма от сестренки Насти. — Я сама дойду, помню ваш двор, из ума пока не выжила. Амина кивнула словоохотливой старухе и пошла к дверям почты. Но старуха остановила ее, кивнув на стоявшего в стороне Эмана: — Твой муж? — Нет, бабушка! — Ну так дай тебе бог выйти за такого здорового и красивого парня. Амине было сладко слушать эти слова, но она оказала смущенно: — Ну тебя, бабушка, что ты такое говоришь! — Чей он? Откуда? — Из нашей деревни, Кугубая Орванче сын. — Ну, спасибо что поговорила со мной, уважила старого человека. Прощай! — А к нам не зайдешь? — Зайти что ли, хоть перед смертью повидаться? — нерешительно проговорила старуха. — Пожалуй, зайду! Тогда до свидания… Где твой парень? Как его зовут? Хочу сказать и ему кое-что. — Эман! — позвала Амина. — Иди сюда. Амина ушла на почту, Эман подошел к старухе. — Звала, бабушка? — Звала. — Наверное, я тебе понравился? — Эман засмеялся. — Раньше и я вот такого же веселого парня любила. три года отказывала, потом за него замуж вышла… — Что так не скоро? Ведь любила. — А ты как думал? Это сейчас год погуляют и женятся… — Многие женятся на девушке, которую и не видели никогда. — Эх, сыночек, так-то и раньше бывало. Это мне посчастливилось. Уж как хотели родители выдать меня за сына богатого соседа, да только я не пошла. — То-то и оно, что богатство мешает, — сказал Эман. — Бывает, что бедный парень полюбит девушку из богатой семьи… Старуха спросила, хитро прищурившись! — Ты, наверное, из бедных? Эман смутился, поняв, что сболтнул лишнее. — Не смущайся, — сказала старуха. — Бедность — молодцу не попрек. Я поговорю с Орлаем Кости. — Погоди, бабушка, о чем ты станешь говорить с ним? — Э, сынок, я хоть старая, да не слепая: все вижу. — Что ты видишь? — Вижу, что любите вы друг друга. Чего еще нужно? Сыграйте свадьбу и живите себе на здоровье. — Легко сказать! Я ее отцу заикнуться о свадьбе не смею. Он богат, я беден… — Ты, сынок, послушайся моего совета: не трусь и не отступайся. Разве Орлай Кости такой уж богач? — Да ведь я только что не нищий! — Ну уж, скажешь! Разве может быть нищим сын Кугубая Орванче? — Разве ты меня знаешь? — Я отца твоего знаю. Орванче Кугубай с моим мужем в солдатах вместе служил. — Я, бабушка, может, хуже нищего… — Отчего? В батраках что ли живешь? — Ямщиком на станции. — Что ж такого? Дело неплохое, стыдиться его не надо. А Кости я уговорю, это я умею, за свою жизнь, самое малое, тридцать девушек просватала. — Правда? — Не веришь, спроси у любого в Боярсоле. Меня там все знают, даже сопливые ребятишки… Ну, я пошла, теперь уж не миновать зайти к Орлаю Кости, — старуха взглянула на Эмана и добавила — За сватовство ни полотенца, ни чего другого мне не нужно, лучше тогда деньгами дашь… Если сын найдется, я ему денег пошлю. Небось, на чужбине голодает… Она вытерла глаза кончиком платка и пошла на улицу. Эман остался стоять, призадумавшись. Из дверей почты с письмом в руках вышла Амина. — Где бабушка? — спросила она и, увидев старуху, побежала ее догонять. Эман махнул рукой и вздохнул облегченно. Зайдя на почту, он послал Унуру Эбату деньги, полученные за его коня.
ПЯТАЯ ЧАСТЬ
В избе только Амина с сыном и старуха-мать. Орлай Кости уехал в город за Настей, а Эман с Кугубаем Орванче повезли на трех подводах рожь на базар. Старуха спала на печи, сын на лавке. Амина прикрыла сына одеялом, чтобы было ему потеплее, и села прясть. В избе тепло, а за окном бушует метель. Через двойные рамы слышно, как ветер хлопает ставнями, порой вьюга, словно живая, так пронзительно взвоет, что сердцу становится не по себе. Амина пересела подальше от окна. Она прядет, думает, вспоминает… Как-то раз, вскоре после ее замужества, пришла к ним старостиха. Амина была одна. — Ты. Амина, еще молодая, ничего не знаешь, — рассевшись на лавке, принялась она разглагольствовать. — Сколько мне надо, знаю, — отозвалась Амина. — Нет, не знаешь. Вот скажи, сильно ты любишь мужа? — Зачем тебе это знать? — Добрый совет хочу дать. Ведь ты, небось, свою любовь всю мужу показываешь? — Разве ж любовь можно скрыть? — Можно, сестрица, если умеешь. А уметь-то ой как нужно! — Не понимаю я тебя. Зачем скрывать любовь? — То-то и оно, что не понимаешь. А я тебе объясню. Ведь как получается: если увидит муж, что ты без него жить не можешь, так он сразу начинает выкобениваться, начинает помыкать тобой, как своей рабой, а там гулять начнет по чужим бабам — и, глядишь, вовсе можешь без мужа остаться. Вот что я тебе посоветую: чем больше ты своего мужика любишь, тем меньше ему это показывай. Бабе нужно быть хитрой. Амина рассердилась: — Ну тебя, болтаешь, бог знает, что! — Погоди, поживешь, вспомнишь мои слова, скажешь: тетка правду говорила. Учителя, Петра Николаевича, знаешь. Умный человек, ученый. А жена у него темнее нас, только что на лицо красивая. — Ну, этим ей нечего гордиться, не с ее лица солнце всходит. — Вот и я то же говорю. Ничем она не лучше других, зато хитрая, мужа своего с самого начала забрала в руки, и он у нее как взнузданный ходит. — Разве ж это хорошо? — А то как же! Поставила себя над мужем и живет барыней. — Пусть живет. Я так не хочу. У меня и мысли нет себя над Эманом ставить. — Тогда он тебя взнуздает! — Эман у меня не такой, мы с ним хорошо живем, у нас думы одни. — Ну, как знаешь, сестрица. Только смотри: непременно будет он над тобой измываться! Когда старостиха ушла, Амина про себя обругала ее глупой бабой и пожалела, что не сказала ей: «Есть два замка запирать язык: губы и зубы. Замкни их поскорей, а то лишнее наболтаешь!» С тех пор прошло много времени. Вот уже сыну Сергею пошел второй год. Амина подошла к лавке, на которой спал ребенок. Как он сладко спит! Амйна улыбнулась и на цыпочках вернулась на свое место. Ей вспомнился тот день, когда ребенок впервые шевельнулся в утробе. Она подняла тогда ведро, чтобы налить воды в котел, и вдруг почувствовала удар в бок изнутри. Она сначала испугалась, скорей поставила ведро на пол и пощупала то место, где стукнуло. «Что это?» — подумала она. Было страшно и больно, и она не сразу поняла, что это ребенок дает о себе знать. А когда поняла, то сразу прошли и страх и боль. «Малюточка мой», — радостно шепнула Амина, когда в бок опять стукнуло. Она зажмурила глаза и села на скамейку. От старух она слышала, что новорожденный будет похож на того, кто окажется рядом, когда ребенок первый раз шевельнется в утробе. «На кого же будет похож мой ребенок? Ведь я дома одна», — и тут же, улыбнувшись, сказала самой себе: — Нет, не одна. Нас двое. Вот и муж, когда приходит с работы, спрашивает меня: «Как поживаете?» Уже три года, как Амина вышла замуж за Эмана. Сначала ее отец слышать, не хотел об этом замужестве. Он топал ногами и кричал: — Ни за что не приму в родство нищего! Мать же, пытаясь уговорить его, день и ночь твердила: — Жениха лучше Эмана тебе во всей волости не найти! Хоть он бедняк, но у него руки работящие. — Мне-то что проку от этого? На себя ведь работать будет, не на меня. — Амина разве не наша дочь? Разве ты, отец, хорошего мужа дочери своей не желаешь? — Хорошего мужа, хорошего мужа… Да будь он хоть ангел небесный, если у него даже лошади нет, как я отдам за него свою дочь? Вся губерния смеяться будет. Нет, нет, нет моего согласия! Долго Амина и мать со слезами умоляли его, но он упорствовал. Потом мать выбрала время, когда Орлай Кости был в хорошем настроении, и оказала ему: — Дочка-то наша хочет руки на себя наложить, если не выдадим за Эмана. — Опять свое? Тысячу раз тебе говорил: умру, а дочь за нищего не выдам! — Да не кричи ты так, отец, люди услышат. — Пусть хоть шайтан услышит, мне наплевать! — Подумай, отец, ведь нам каждый год работника приходится нанимать, а хорошего-то, работающего и честного, ох как трудно найти… — Тебе-то что? Я ведь ищу, а не ты. — Выдадим Амину за Эмана, не придется больше искать, будет свой работник. — Не болтай. Амина уйдет, у нас работником меньше будет. — Так можно же Эмана к нам принять. Орлай Кости молчал. Жена продолжала: — И не один, а два своих работника у нас будет. — Откуда же второй? — Старик Орванче тоже станет не чужой. — Ладно, я подумаю, — сказал Орлай Кости. Через неделю сыграли свадьбу. Кугубай Орванче был так рад тому, что Эман, наконец, обзавелся семьей, что, не подумав, согласился отпустить Эмана в дом жены, но сам хотел остаться в своей ветхой избушке. Новая родня с этим не согласилась, и пришлось Кугубаю Орванче перебираться к сыну и снохе во второй дом Орлая Кости. Через год у Амины родился сын, назвали его Сергеем. Как-то в праздник подвыпивший Орлай Кости сказал жене: — Пусть коминские богачи не гордятся передо мной, я их теперь далеко позади себя оставлю! — Что-то больно ты расхвастался, отец. — Есть, чем хвастаться, вот и хвастаюсь! Скоро во всей деревне, во всей волости самым богатым стану. Понятно тебе? — Орлай Кости грохнул кулаком по столу. — Понятно, понятно, только не стучи. — Ничего-то тебе не понятно! У зятя сын родился, вот в чем дело. — Слава богу, слава богу, теперь земли на одну душу прибавится. — Земля землей, да не она главное. — А что же? — А то, что если у человека семья, так он уж не улетит, как воробей. Ребенок отца к хозяйству, как цепную собаку, привязывает. Справедливо я говорю? — Раз говоришь, значит, справедливо. — Я всегда говорю справедливо. — Не кричи, люди услышат. — Пусть слышат! В своем доме моту хоть жеребцом ржать, никому до того дела нет. — Знаю, знаю, мы у себя… — «У себя»… У тебя ничего своего, кроме икон да болячек, нету! — Ну, не у себя, у тебя. — То-то! Так вот, я говорю, внук у нас есть. Значит, у зятя будет к хозяйству охота. — Он и так работает, не ленится. — Ты дома сидишь, ничего не видишь. Работает он, как норовистый конь. Теперь же этот норовистый конь без кнута будет работать, дите получше кнута хлещет! — В уме ли ты, отец? Разве можно такое о внуке? Душа у тебя совсем без жалости. — Эх, мать, пораньше бы стать таким, я бы уж давно всём нос утер! Ну, ничего, еще есть время. Слыхала, в Изгане крестьяне на хутора выходят? Надумал и я на хутор. — Слыхать-то слыхала. Только как одним на хуторе жить? Страшно, небось, и скучно. — Ничего ты, мать, не понимаешь. Жизнь у нас там будет, как твой отец говорил, разлюли-малина! Так? — Тебе лучше знать. Орлай Кости не стал надолго откладывать задуманного. Он съездил в город, потом вместе со старостой поехал к волостному старшине, выправил все нужные документы и получил под хутор самую лучшую в Коме землю. Мужики-односельчане даже опомниться не успели, так быстро провернул он это дело. Когда на сходке один какой-то мужик выступил против выделения общинной земли Орлаю Кости, писарь (как потом оказалось, Кости специально его привез на сходку из правления) взял свою длинную седую бороду в кулак и сурово сказал: — А знаешь, что будет тому, кто противится выходу из общины? Его на основе 1445 статьи сошлют на каторгу. На ка-тор-гу! Богачи были недовольны, что Орлай Кости опередил их и выходит на хорошую землю, но против выступать не стали; так как сами тоже собирались отделиться от общины. Так Орлай Кости переселился на хутор. …Амина отложила кудель, подошла к окну и прислушалась. Но ничего не видно в темноте, ничего не слышно, кроме воя вьюги. — Как долго их нет! — сказала Амина вслух. Мать на печке заворочалась. — А? Что? — Ничего, мама… Спи. — Нет, слезу. Ох, как жарко, употела вся! — Я же говорила, ложись на кровать. А ты на печку полезла. — Холодно было, и полезла. — Какой в избе холод! Тем, кто в дороге сейчас, тем холодно… — Не беспокойся, доченька, приедут, — мать не спеша слезла с печки. — Сережа спит? — Спит. Спит и не ведает, что отец с дедом теперь, может, замерзают на дороге… — Ну. пусть спит, — тихо ступая, мать из кухни прошла в горницу. Она открыла сундук, замок зазвенел, как колокольчик. «Хороший замок, — подумала старуха, — если вор полезет, сразу услышим». Она достала клубок шелка, закрыла сундук, подошла к дочери. — Брось ты, Амина, свою кудель. Я уж давно тебе говорю: наймем, спрядут. — Скучно без дела, и душа не на месте. — Да приедут они, бог даст, ничего с ними не случится! — Мудрено ль в такую метель замерзнуть! А все из-за отца, из-за его жадности ненасытной. В такую пургу послал… — Так ведь надо же, доченька. Он сказал: надо… — Да зачем надо? И сам не знает. — Не наше это дело, — вздохнула мать. — Начни-ка вышиванье, завтра среда, нельзя будет. Вот шелк, принеси холста. Амина молча отставила кудель в угол и, сходив в комнату, принесла кусок холста. В это время во дворе залаяла собака. — Наши! — Амина бросилась к двери. — Простынешь! Шубу накинь! — мать стала снимать шубу с гвоздя. — Я сама, мама, я сама! — Амина накинула шубу и, радуясь и улыбаясь, побежала наружу. Мать поспешно стала доставать горшки из печи, собирать на стол. — Не одни приехали, гостей привезли! — крикнула Амина, появляясь в дверях. — Ой, холода напустила! Погоди, мальчонку унесу! — Я сама унесу, а ты, мама, встречай гостей. Амина подхватила сына, унесла в заднюю комнату. — Мама, нос у меня мороз не прихватил? — спросила порозовевшая от мороза Настя. Молодой человек, снимавший с нее тулуп, ответил: — На месте, Настя, твой пос никто не прихватил. Оба засмеялись. — Кто ж это такой, не разберу? — спросила мать, целуя Настю. — Это Володя Алаяов. Племянник учителя Петра Николаевича, в семинарии учится. — Хорошо, очень хорошо, — мать подала руку невысокому симпатичному парню. — Давайте я ваш тулуп повешу, проходите в горницу. Амина, зажги в горнице лампу! В избу вошел Орлай Кости. Жена торопливо подошла, хотела снять с него тулуп, но он отстранил ее и разделся сам. — Ужин готов? — спросил он. Амина стояла, прислонившись к двери своей комнаты, пот- м вышла во двор. Эман с Кугубаем Орванче уже выпрягли коней, поставили в конюшню и теперь под навес м о чем-то разговаривали. Увидев Амину, они замолчали. — Очень замерзли? — Амина мимо трех, саней подошла к мужу. — В таком тулупе не больно тепло, — Кугубай Орванче распахнул тулуп, показывая дырки на полах-. — И ты тоже озяб? — Амина с жалостью посмотрела на мужа. Но он только отмахнулся: — Это что за мороз? Вот в позапрошлом году, когда я вез со станции одного барина, тогда замерз. Ну, как сын поживает? — А как я поживаю, не спрашиваешь? А я тут, тебя ожидаючи, чуть ума не лишилась! — Не обижайся, милая, — Эман, закутав Амину полой своего тулупа, пошел с ней к дому…На другой день Эман запряг вороного жеребца и повез Аланова к Моркнну. До Комы было всего версты три. доехали быстро. В школе как раз была большая перемена. Моркин сидел у себя на квартире и читал письмо: «Уважаемый Петр Николаевич! Вы спрашиваете, кто и как издал «Марийский календарь». Я знаю об этом только по наслышке и могу сообщить лишь немногое. Впервые календарь задумали выпустить в 1906 году, но тогда издать его не удалось, он так и остался в рукописи. В-1907 году перевели на марийский язык «Народный календарь», выпущенный Цейтелем в Нижнем Новгороде, и этот перевод вышел в свет 24 марта 1907 года. Вымарки черной тушью были сделаны, когда печатанье уже было закончено. Цензор Николай Иванович Ашмарин прочел календарь, вызвал издателей, стращал их наказаниями и категорически заявил: — Исправьте весь тираж, ни одного экземпляра без поправок не разрешу! Поэтому издатели, семинаристы и другие помощники сидели и замазывали китайской тушью помеченные им слова и выражения во всех 2397 экземплярах календаря. Только три календаря остались без исправлений, но об этом я тебе расскажу в другой раз. Ты спрашиваешь, что за «Центральная типография» и как печатали обложку. Ты прав: на обложке должно быть обозначено наименование издательства, а не типографии. Издательство указано, там написано «Товарищество», но, говорят, что никакого «товарищества» нет — издатель один человек: зубной лекарь Домбровский. Правда это или нет — не знаю. Откуда взяли средства на издание? Разве ты не заметил, в календаре указаны имена жертвователей? Тут тоже не обошлось без приключения. Ядринский купец Таланцев дал на календарь сто рублей, и его имя, как положено, было напечатано в календаре. Но у цензора, оказалось, были какие-то счеты с этим купцом, и он велел убрать из календаря упоминание о Таланцеве. Пришлось вырвать страницу с его именем из всех трех тысяч книжек. Вот какие дела! Клетку на обложке сразу не заметили, потому что не на всех книжках она пропечаталась, на некоторых получилось как надо. Узнали о ней, когда календарь уже распродали. Многие, кому достались экземпляры с просвечивающей решеткой, сожгли их. Вот и все, что я знаю про «Марийский календарь». Еще ты спрашиваешь о казанских новостях. Какие у нас могут быть новости? Старые знакомые стали еще старше — таков уж закон жизни. Озеро Кабан находится на прежнем месте, университет тоже. Если рождается что-нибудь новое, свежее, его стараются поскорее уничтожить разные Батыр-Нехотяевы. Помнишь, в казанских газетах печатали объявление: «Убежище акушерки Батыр-Нехотяевой для секретно беременных. Кошачий переулок, дом Жадринского»? Такая вот жизнь. До свидания! Пиши! Когда приедешь? Приезжай, ждем. Эмаш».
— Здравствуйте, Петр Николаевич! — вдруг услышал он. Моркин обернулся, вскочил быстро, как молодой, и радостно воскликнул: — Володя! Вот молодец, что приехал. Ну, раздевайся скорее. Мать, к нам гость — Володя Аланов. Выросте как. и вид совсем интеллигентный. — Ну, вырасти-то, положим, не вырос, это ты, дядя, просто преувеличиваешь мои заслуги. — Иди в класс, звонок уже был, — напомнила Моркину жена. — Да, да, я сейчас на урок пойду, последний день сегодня, на рождественские каникулы ребят отпускаем. Ты, Володя, располагайся, я через час вернусь. Моркин был очень рад приезду племянника. Поднимаясь по лестнице, он даже свистел. Потом рассмеялся и заметил, что все еще держит в руке письмо. «Но все-таки кто же тот человек, что принес его? — подумал Моркин. — Жаль, что, когда он приходил, меня не было дома, сунул письмо жене и тут же ускакал, не назвавшись. И Эмаш не пишет, кто он такой». Вечером Моркин, подмигнув, достал «Марийский календарь». Он ждал, что Володя удивится, но тот сказал довольно равнодушно: — Знаю, читал, — и даже не стал смотреть. Петр Николаевич был обижен этим, но вида не показал. Он стукнул пальцем по календарю и тихо спросил: — Говорят, из-за этого кое-кому досталось? Мне из Казани писали. Аланов вдруг засмеялся. — Что ты, Володя? — Анекдот смешной вспомнил. Моркин рассердился: — Молодежь пошла, даже не желает ни о чем серьезном говорить… Володя ничего не ответил, взял гармонь и заиграл. Моркин решил позвать гостей. Честно говоря, мысль эта принадлежала не ему, а Володе, по ему она понравилась. Жена согласилась, и в один из вечеров у Моркиных собрались сын волостного писаря, Настя и Эликов с женой, который на рождество приехал в гости к тестю. Моркин, подмигнув, кивнул на Володю: — Вот мастер смешить. Расскажи, Володя, что-нибудь. — Расскажите, расскажите, — поддержали гости. — Рассказать что ли, — Володя потупился, разыгрывая смущение, — Ну хорошо, я начну, только и вы в стороне не оставайтесь. — Там видно будет, — улыбнулся сын писаря. — Один человек пришел на концерт с опозданием и спрашивает соседа: «Скажите, пожалуйста, что исполняют?» — «Шестую симфонию Чайковского». — «Я не думал, что так опоздал: на целых пять симфоний!» Все смеялись. — А вот еще. У нас одна девушка, не выдержав экзамена, пыталась отравиться. После этого появился анекдот: «Ты подготовился к экзаменам? — спрашивает один гимназист другого. «А то как же! Яд уже в кармане», — ответил тот. — Ох, верно, — засмеялся Эликов. — Эти экзамены много крови попортили молодежи. — Жена одного чиновника, — продолжал Володя, — спрашивает мужа: «Почему ты раньше смотрел только на меня, а теперь смотришь на посторонних женщин?» — «Потому что раньше ты была посторонняя», — ответил муж. Жена Эликова закусила губы. — На собрании председатель говорит, — Володя встал, как председатель собрания. — «Господа, проголосуем: пусть те, кто согласны с проектом, встанут, а кто против, пусть сидят». Тогда один человек из зала сказал: «Удивительно! У нас, в России, те, — кто против, всегда сидят». Моркин испуганно взглянул на Володю: — Как бы тебя самого, племянник, за такие слова не посадили. Володя засмеялся. — Если таких, как я, сажать, так всю Россию посадить придется. — Все-таки поостерегись, по кричи, — Моркин испуганно огляделся. — Ладно, дядя, не буду. Слушайте лояльно смешное. Один марийский богатой был ужасный скряга, и жена у него была скряга. Маленькая дочь попросила конфетку, а мать говорит: «Не дам, ты съешь». — А дальше что? — спросил Моркин. — Все. — Что ж тут смешного? — Ничего, но зато лояльно. — Потешаешься над стариком. — Не буду, дядя, не сердись. У одной бабы был муж пьяница, он никогда на жену не обижался, даже хвастался ей: «Такая она у меня заботливая, даже сапоги с меня снимает». — «Когда из кабака возвращаешься?» — «Нет, когда в кабак собираюсь». — Будто про меня сказано, — засмеялся Моркин. — Рассказывай, Володя, рассказывай, я не обижаюсь. — В городской парикмахерской парикмахер говорит клиенту: «Хорошо тебя, барин, стричь, волосы у тебя сухие и жесткие, как щетина у свиньи». — Не мог парикмахер барину так сказать, — усомнился кто-то из гостей. — Ну, чего не знаю, того не знаю. А вот такой случай вправду был. Бродяга на улице просит прохожего: «Дай, барин, гривенник на ночлежку». — «Вот тебе восемь копеек, больше дать не могу». — «Стыдно тебе, барин. Ты ж не Министерство финансов, а я не Народное просвещение…» Моркин вскочил. — Разве можно над нашим ведомством смеяться? — Ай! — в притворном испуге закричал Володя. — Опять дяде попало. Ладно, больше ничего рассказывать не буду. — Рассказывайте, рассказывайте, — послышалось кругом. — Ну, ладно. Загадаю одну загадку напоследок и хватит. Кто скорее пьяным напьется, мужик или барин? — Мужик, — сказала Настя. — А почему? — Постой, постой, — вмешался Моркин. — Тут надо выяснить, что они пить будут? Монопольку или шампанское. — Ну, скажем, монопольку. — От монопольки барин первым пьян будет. — Почему? — Не привык он к ней. — Нет, мужик, — сказала Настя. — Ему закусывать нечем, все барин отобрал. — Все верно сказала, только одно забыла. Я ж тебе говорил. Все засмеялись. — Так вы вперед стакнулись! — воскликнул Моркин. — Ну, хватит разговоров, — оказал Володя. — Давайте лучше петь и танцевать! Володя часто подсмеивался над дядей, но тот не принимал этого близко к сердцу. И только когда племянник зло говорил о современном политическом положении в России, Моркину становилось неловко и тяжело. Он старался прогнать это чувство. «Молодые больше нас знают, может, Володя и прав», — думал он. Однажды, когда Володя вернулся вечером с лыжной прогулки, Моркин сказал ему. — Читал в «Губернских ведомостях» — опять про полеты на аэроплане пишут. Как летают! — Летать-то летают, да многие этак в могилу залетают. — Нет, ты не прав. Я читаю все сообщения о полетах и в газетах, и в «Ниве». Надо сказать, что авиационное дело в России развивается и набирает силу! — Разве может что-нибудь развиваться в России? — засмеялся Володя. — Почему же не может? Ведь в Европе… — Ты с Европой Россию не равняй! Далеко нам до нее. — У тебя нет никакого патриотизма! — рассердился Моркин. — Ты путаешь патриотизм с приятием и одобрением нашей дикости и невежества! — А все-таки аэропланная промышленность у нас развивается! Вот я читал, что во время соревнования офицеров на «Приз русской женщины» поручик Мотыевич-Мациевич покрыл расстояние за пять минут тридцать четыре секунды. Это значит, его скорость 90 километров в час. — А во Франции еще в позапрошлом году… — Мы не о Франции говорим, а о России! И года еще не прошло с тех пор, как Мотыевич-Мациевич получил приз, когда авиатор Хиони на моноплане своей конструкции за час пролетел сто одну версту, а участник соревнований того же военного ведомства Бутми — сто четыре версты и более семи минут парил на высоте пятьсот четыре метра. Вот какие есть у нас бесстрашные люди! — Нет, дядя, пока летает двуглавый орел, — Володя кивнул на царский герб на географической карте, — как бы высоко ни поднялся человек, ум его подняться не сможет. Одно из двух: или орел, или аэроплан. Иначе останемся мы навсегда «Рассеей». — И в «Рассее» много мастеров. — Я разве говорю, что мало? Мастеров много, но нет свободы для творчества. — Мастера у нас замечательные! Лет пятнадцать назад был я в Нижнем Новгороде на выставке… — Я слышал об этой выставке. Говорят, там изделия марийцев тоже были показаны. Правда это? — Правда. Особенно мне понравился кустарный отдел. Изделия вятских мастеров до того хороши, даже не верится, что они сделаны кустарно, примитивными инструментами. — Вятские кустари издавна славятся. — Чего-чего там не было! Глиняные поделки, столы, стулья, пестери, корзины, ковры. Гипсовые фигурки пляшущих чувашей совсем как живые — так и кажется, что сейчас пустятся в пляс! Один крестьянин вырезал из целого полена дом с колоннами, в классическом стиле, и другой дом в русском стиле по проекту академика Суслова. Над дверьми две островерхие крыши, похожие на церковные, балкон, вокруг дома цветы. Очень красиво! — Рассказывали, один мастер-китаец сделал шар из слоновой кости, просверлил в нем отверстия не больше горошин и через эти отверстия вырезал внутри шара русский государственный герб — двуглавого орла, который держался на тоненькой костяной ниточке, прикрепленной к шее орла. — Да, тонкая работа! — воскликнул Моркин. — Он ее, верно, года три делал? — Этого не знаю. Зато точно известно, что его за эту тонкую работу на три года сослали в Сибирь: герб оказался в клетке. — Увы! — вздохнул Моркин. — В России все может быть. Вот когда Матвей Матвеевич Эликов приезжал на суд… — На какой суд? — Так из-за него же боярсолинские марийцы на каторгу пошли!.. — Значит, Матвей Матвеевич и есть тот этнограф, которого мужики хотели убить! Я слышал про этот случай, но не знал, что это произошло с Эликовым. А почему тех мужиков так жестоко осудили, ведь убийство не совершилось? — Время тогда было беспокойное. В Изгаие помещика убили, на земского начальника покушались. Тогда же случилась история с Эликовым. — Да, время было беспокойное… — Эликов хотел мужиков выручить, заступался за них на суде. Но прокурор его заступничество не принял во внимание. Матвей Матвеевич — добрый человек, только похвастаться любит… — Я о боярсолинском деле много слыхал, — перебил Моркина Володя. — Мне рассказывали, что адвокат велел обвиняемым марийцам говорить, что они в самом деле думали, будто в погребе черт, но на суде один мужик сказал: «Мы знали, что в погребе не черт и не колдун, а русский барин, и хотели этого барина прикончить». — Вот дурак! — хлопнул себя по бедрам Моркин. — Но с другой стороны, сложная вещь — человеческая психология. Иной раз человек, сам того не замечает, может себе повредить. Лет шесть назад я читал в газете об одном судебном разбирательстве в Венеции. Кого судили и за что, не помню, да это и не важно. В этом деле находился документ, неизвестно кем написанный. Одно слово там содержало ошибку, и следователь подумал, что эта ошибка может помочь суду. Обвиняемому предложили написать этот документ под диктовку. А обвиняемый каким-то образом знал, что в документе есть ошибка, и знал, какая, и, пока писал, все время думал, как бы не повторить ее, и все-таки повторил. — Кстати, о суде. Слышал историю про свидетеля? — Нет. — На суде судья спрашивает: «Господин свидетель, вы видели, как обвиняемый совершил преступление?» — «Видел. А который из них обвиняемый?» — Не иначе, этого свидетеля судья нанял! — Конечно! — В прежние времена бывали справедливые судьи, — сказал Моркин, — а среди нынешних — нет. — Да, я с детства помню историю про справедливого судью. Приехал бедный мариец в город. Еды у него с собой было, только ломоть черствого хлеба. Шел он мимо трактира, чует, жареным мясом пахнет. Зашел в трактир, видит, мясо жарится. Достал он свай хлеб, подержал над паром, так что хлеб пропитался мясным запахом, и съел. Тут прибежал хозяин, схватил егоза шиворот: «Плати, — говорит, — деньги!» Пошли они к судье. Судья выслушал обоих, потом достал из кармана два алтына и говорит хозяину трактира: «Поверни свои уши, — позвякал монетками у него над ухом и говорит — Теперь вы в расчете». — «Как в расчете?» — удивился хозяин. «Кто продает запах еды, тот получает звон, а не деньги!» — отвечает судья. — Ну, расскажи еще что-нибудь, — попросил он. — Что же рассказывать? Разве что это. Шли по дороге два марийца, один длинный-длинный, как жердь, другой низенький. Дошли они до развилки дорог, видят, стоит столб, на столбе доска, на доске надпись: «Правая дорога идет в Уфу, а кто не знает грамоты, пусть спросит у мельника, что живет под горой». Низенький мариец прочитал и засмеялся. Вот пришли они в Уфу, остановились на квартире, легли спать. Ночью долговязый мариец будит товарища. «До меня, — говорит, — дошло, чему ты тогда засмеялся. Там написано: спросите у мельника, а его, может, и дома-то нет». Моркину эта история очень понравилась, он долго смеялся. В спорах, рассказах и шутках прошли каникулы. Пришло время Володе уезжать. Моркин поехал провожать его на своей подводе. При прощании он подумал: «Эх, если бы был этот шустрый парень моим сыном!»— и на глазах у него показались слезы. С тех пор, как Моркин обзавелся своей лошадью, он довольно часто стал ездить в город. В каждый приезд он непременно заходил в книжный магазин, брал газеты за последние две недели, новые книги, потом сидел в трактире, попивая пиво и просматривая газеты. Незаметно проходил день. Вечером он спохватывался, что не выполнил поручений жены, и бежал в закрывающиеся уже магазины, накупал без разбору всякой всячины, и дома за это жена пилила его, как ржавая пила. — На книги деньги потратить нашел, а платок купить не удосужился! — Ладно, не сердись, в следующий раз куплю, — говорил Моркин. Он не сердился и не оправдывался, но и в следующий раз опять покупал первое, что предлагали ему лавочники. Поэтому в конце концов жена перестала давать ему поручения, старалась ездить в город сама или просила делать покупки кого-нибудь из женщин, едущих в город. Покупать что-нибудь — в деревенской лавке она не хотела, говорила — дорого. После того, как Володя уехал, Моркин заскучал. То ли охладел он к школе, то ли не хватало ему общества молодого семинариста, Чэн и сам понять не мог. Он с нетерпением ждал весенних каникул и каждый раз, когда взглядывал на календарь, ловил себя на мысли, что ему хочется вырвать все листы, оставшиеся до апреля. — Ах, Петр Николаевич, — подсмеивался он над самим собой-.—Что тебе весна? Или молодая кровь опять взыграла?
Ждали весну и на хуторе Орлая Кости. Весной Орлай Кости обещал выделить Эману его пай земли. Так как он сказал об этом в ‘присутствии семьи и соседей, все надеялись, что он выполнит свое обещание. Эман вернулся с работы усталый и злой. Он сердито кинул в угол грязный азям и сказал жене: — О чем я только думал, когда дал этому кровопийцу оседлать себя! Дни и ночи работаю на него, и конца нет этой работе. Амина не опрашивала, о ком говорит муж. Она и так понимали, что говорит он о ее отце. Глядя в сторону, она тихо сказала: — Весной отделимся, а пока надо как-нибудь потерпеть. Отец — плохой человек, но не надо его злить. Смотри, Сережа давно к тебе на руки просится. Он сегодня опять петуха гонял, подхватил большую палку и бегает! Эман понял мысли жены и перестал ругать Орлая Кости. Он подошел к сыну, взял его на руки и подбросил вверх. Амина, глядя на них, радостно смеялась. В конце зимы старый Кугубай Орванче полез сбрасывать с крыши снег, поскользнулся и упал. Дома не было ни Эмана, ни Орлая Кости. Амина с матерью кое-как подняли лежащего без памяти старика и внесли в дом. Много времени прошло, пока он очнулся. Кугубай Орванче заболел. Его положили в кухне на скамейке, возле печи. Он лежал и почти все время спал. Однажды Орлай Кости, доставая свои варежки из печурки, сказал: — И когда только этот дармоед. наконец, сдохнет! — Тише, тише, — испуганно зашептала жена. — Он же не спит. — А мне какое дело, спит он или не спит! Я у себя дома и разговаривать шепотом не желаю! Кугубай Орванче не спал и все слышал, ему было очень обидно, но он промолчал. На другой день старик с трудом поднялся с лавки, пошел к сыну и снохе, посидел у них. — Пойду я лучше, деточки мои, в свою избу, — оказал Кугубай Орванче. — Вижу, я здесь лишний. — И не думай об этом! — воскликнула Амина. — Разве мы тебя обидели чем-нибудь, отец? — спросил Эман. — Да уж, что и говорить, хозяева у нас добрые. Никого, верно, нет добрее их, а уж как они меня жалеют, и рассказать нельзя! — Ну, сболтнет когда Кости что-нибудь, не принимай близко к сердцу, отец, язык на то и дан, чтобы болтать. — Как же мне не принимать близко к сердцу! Все коминцы над нами смеются, даровыми батраками называют. Эман рассердился: — Называют, называют… Что я могу сделать? А ты наслушаешься всего от безделья! Кугубай Орванче опустил голову и высморкался. — Ну вот, — сказал он, — теперь не только Орлай Кости, родной сын бездельником называет! — Не обижайся, отец, — примирительно оказала Амина. — Эман сказал не подумавши. Да и работы сейчас нет, еще снег не сошел. — Не сердись, отец, я не со. зла, — Эман похлопал Орванче по плечу своей широкой ладонью. — Лучше скажи, зачем на крышу полез? Я же говорил: сам снег сброшу. Или уж хоть бы веревкой себя привязал. Ведь мог насмерть убиться. Еще удачно упал, с такой высоты мог шею сломать. Старик повеселел, закурил трубку и сказал: — Хоть смеются над нами, а таких крепких людей, как в нашем роду, немного найдется. Мы даже с крыши падаем не на брюхо, как другие дураки, а по-кошачьи: на ноги. Амина улыбнулась. — Верно, отец! А дурных слов не слушай и уходить отсюда не думай. — Ай, добрая сноха! — воскликнул Кугубай Орванче. — Я только так оказал. Как я уйду от вас? С какими мыслями, с какой душой? Где вы, там и я! — Вот придет весна, отделимся, отрежем себе землю и станем жить самостоятельно, — сказал Эман. — Дай-то бог, — вздохнул Кугубай Орванче и поднялся — Пойду потихоньку телегу чинить, чтобы Орлай Кости не сердился… Быстро наступала весна. Леса среди полей поголубели: как-то раз Эман, возвращаясь из Комы с плугами, которые он возил в кузницу чинить, залюбовался блестящими на солнце полями. «Хорошо бы отрезать землю возле этой опушки, — подумал он. — Поставили бы дом около того дуба, речка возле самого огорода, удобно было бы Амине капусту поливать. Посадили бы сад. Купили бы в городе саженцы хороших сортов яблонь из семинарского сада, росли бы у нас яблони, смородина, малина… Эх, только не отрежет нам Орлай Кости хорошей земли! Ну да ничего! Если не у опушки, можно здесь, с краю отрезать. Тут тоже хорошо, только до воды далеко, придется колодец рыть…» Когда Эман вернулся» домой, Орлай Кости, открывая ему ворота, недовольно оказал: — Больно долго ты ездил, зять. Опять что ли свое старое хозяйство осматривал? «Успели уже донести», — подумал Эман и сказал: — Зашел взглянуть на двор Эбата, у него сени совсем уже разваливаются, подпорку поставил. — Надо твою и его избы разобрать и перевезти сюда. Хоть на дрова сгодятся. — Отделимся, тогда перевезу. Орлай Кости хмуро взглянул на Эмана. — Не получится вам этой весной отделяться. Эман распрягал лошадь. Он так и замер с дугой в рука. х и спросил дрогнувшим голосом: — Как не получится? — Так, — отрезал Орлай Кости. — Да что же это такое! Ты же обещал? Значит обманул меня? — Не кричи, зять! — Как же мне не кричать? — Потерпи маленько, закончим уборку, тогда отделайтесь, пожалуйста. Тогда вы с хлебом будете, а сейчас что же, с пустым лукошком уходить что ли хочешь? — А то, что в скирдах, разве не хлеб? — Там твоей доли нет. — Кто же, если не мы, весь прошлый год работали? — Что наработали, то вы же и съели. Эман выругался и бросил дугу. — Напрасно злишься, зять. Я о вас же пекусь. Как ты этого не понимаешь? — Очень хорошо понимаю, о чем ты печешься! — Ну, что ж, — сказал Орлай Кости, — чтобы лучше понимал, открою тебе свои мысли. Тот луинский мариец, который в позапрошлом году переселился к нам, этой осенью собирается половину своей земли продать. Так вот, я хочу эту землю купить и отдать вам. Сам знаешь, какая у него земля — в десять раз лучше моей, только з прошлом году раскорчевали, родник есть, лесок — никуда ходить не надо, тут тебе лес и на топливо и на изгородь. Конечно, если хочешь, могу летом от своей земли отрезать. Но та земля не в пример лучше. Я бы себе ее взял, но свой хутор дробить не хочется. Эман опять поверил Орлаю Кости. Весну и лето работали в поле вместе. Эман затаил злобу, но сдерживался и старался даже не перечить тестю. Только один раз обругал он его в глаза бездушным человеком. Случилось это так: Эман, Кугубай Орванче и Орлай Кости пахали на дальнем поле и решили отдохнуть. В это время на соседней полосе, за межой, поднялся шум, Ол<н мужик кричал другому: — Ослеп ты что ли? На мою полосу заехал! Не видишь — межа. — Я прямо пашу! — кричит другой. — Совести у тебя нет! Протри глаза! — Это ты сам, небось, на мое поле заехать норовишь! — Сейчас в ухо получишь! — Только подойди, я тебе твою башку разобью! Орлай Кости наблюдал за этой стычкой мужиков с явным удовольствием. — Эман, Орванче, смотрите! Эман, который в стороне распрягал коня, поспешно подошел. — Что случилось? _— Ты посмотри, вот-вот подерутся! Прямо петухи! — смеялся Орлай Кости. Эман посмотрел на расшумевшихся мужиков и пошел к ним. — Подожди меня, — сказал Орлай Кости и тоже неторопливо направился на соседнее поле. — В чем дело, братцы? — спросил он мужиков. Те, перебивая друг друга, принялись рассказывать. Орлай Кости посмотрел на них, на межу, потом показал пальцем на марийца в худой шапке и сказал другому: — Вот он на твое поле заехал. — И я ему говорю, заехал, — закричал мужик. — Я его, черного кобеля, проучу! — Врешь, не я заехал! — Как не заехал? Вон Орлай Кости видел. Вор ты, мошенник. — Ах, ты меня обзываешь! Вот тебе! — в воздухе свистнул кнут. Орлай Кости подмигнул Эману и, хлопая себя по бедрам, закричал: — Сдачи ему дай, сдачи! Другой мариец поднял с земли камень и замахнулся, но Эман успел схватить его за руку. — Перестаньте, дураки, не видите что ли, Орлай Кости нарочно вас дразнит! — Вот потеха! — хохотал Орлай Кости. — Из-за лоскутка земли головы готовы друг другу оторвать! Не разнимай их, зять, пусть дерутся! — Души у тебя нет! — в сердцах воскликнул Эман. Смех Орлая Кости как бы отрезвил мужиков, они перестали драться и замолчали. Тот, который замахнулся кнутом на соседа, хмуро сказал: — Не больно-то возносись, Орлай Кости, упадешь… Мужик вытер пот со лба, повернулся и пошел прочь. Второй мариец пошел за ним. Они сели в сторонке на борозде, закурили и стали тихо о чем-то разговаривать. Кугубай Орванче видел все это и подумал: «Не очень-то народ почитает таких, как Орлай Кости». — Что стоишь, пошевеливайся! — закричал на Кугубая Орванче Орлай Кости. Всю зиму и всю весну думал Кугубай Орванче об одном и том же — о том, что хорошо бы отделиться от Орлая Кости. «Ошибку мы сделали, — ругал он самого себя. — Надо было отделиться сразу, когда переселялись на хутор. Это все сноха виновата, захотелось ей еще хоть годик с матерью пожить. Говорил я ей: вышла замуж, из родительского дома ушла, нельзя думать на две стороны. Но Амина заупрямилась, и Эман ее послушался. Вот теперь и работай на Орлая Кости, терпи его попреки. А я-то думал под старость по-человечески пожить, со снохой, с внучатами… Эх, старая голова, старая голова! Сам во всем виноват. Не надо было позволять тогда Эману жениться! на дочери богатого человека или уж во всяком случае не идти в дом тестя. Не подумал я тогда как следует, и Эман не подумал. Устал он от бедности, думал, будет лучше. Дай Орлай Кости не говорил, что выходит на хутор. Если бы раньше знали, может, не согласились бы. Ну, ладно, был бы он еще хорошим человеком, а то ведь злой, жадный, ругается понапрасну, рубль ему весь мир затмил, только его и видит, мечется, ищет, где бы чего захапать. Правильно говорят: не знает жадность предела. Куда ему еще богатеть? И так у него пять лошадей, четыре коровы, полон сарай коз и овец, три амбара, клеть, дом большой, белая баня, старые скирды, два работника бесплатных: вот этот старый дурак с сыном, — Кугубай Орванче стукнул себя по лбу, — а ему все мало! Еще, еще надо! Эх, глупость я сделал, сам себе петлю на шею накинул, он только затянул. Скорее бы нам отделиться! Конечно, Орлаю Кости все равно когда-нибудь придется Эмана отделить, только когда это будет? Теперь на лето отложили. Где же он Эману землю отрежет? Ну, где бы ни отрезал, все хорошо, только бы поскорее! Зажили бы своим хозяйством. Пока в силах, помогал бы ему во всем, когда вовсе состарюсь, внучат буду нянчить». Кугубай Орванче, размечтавшись, представил, какая хорошая будет тогда у него жизнь. А в теперешней его жизни самая большая отрада — внучек Сергей. «Хороший мальчишка растет, добрый, красивый. Как залезет ко мне на колени, да начнет играть в шлепки, да смеяться, сразу все горе свое забудешь. Вот будет у нас свое хозяйство, Эман с Аминой уйдут в поле, а мы с Сережкой останемся дом сторожить. Я ему тележку маленькую сделаю, посажу его в двуколочку и покачу. Плохо только, что внук растет один. без товарищей. Тут не то, что мальчишке, а и мне, старику, одному скучно, уже начал сам с собой разговаривать, больше-то говорить не с кем. С Орлаем Кости говорить не хочется, с женок его все уж переговорено И кто это только выдумал отдельно от людей жить? Жили бы в деревне, все вместе, как отцы наши и деды жили в старину. Так нет, хотят разбогатеть, помещиками стать. Вон, говорят, в степи крестьяне, что вышли на хутора, совсем-совсем одичали, ровно волки стали, батраков заставляют работать на себя за полцены. У нас тоже не лучше. Взять хотя бы Орлая Кости. Отрезал себе лучший кусок земли, за два-три года поднялся и разбогател. А чьим горбом? Ты сам, Орванче, помог ему разбогатеть! — Кугубай Орванче вскрикнул от злости. — У него земли было только на одну душу да купленный участок, а как мы пришли, на две души прибавили, потом внук родился, и его долю, когда выходили на хутор, получил. Вот как оно получилось: у него земли только на одну душу, у нас— на три, а мы на него работаем». Часто думал так старый Кугубай Орванче, и Эман с Аминой тоже думали об этом. Всю зиму, всю весну ждал», когда можно будет, наконец, отделиться. Но наступившая весна не радовала глаз крестьянина: озими были слабые, яровые взошли редко. Стояла сушь. Когда ждали дождя, Орлай Кости и Эман даже забыли о своей вражде. Часто они выходили в огород или в сад и одинаково жадно смотрели в небо — не собираются ли тучи. Но небо было ясно. Наконец, пошел небольшой дождик. Он задел только участки возле леса. Но и этому были рады. Наступило время жатвы. Эман с Аминой жали возле леса. Орлай Кости в поле не выходил, три дня подряд ездил в волостное правление. — Зачем он туда ездит? — спросил Эман. Амина ответила со злостью: — Бедняки свои пустоши продают, а он гонится за дешевизной! — Мы-то проживем, у нас еще старого хлеба много, а у кого запаса нет, тем тяжело придется… — вздохнув, сказал Эман. — У нас тоже ничего нет, все отцовское… — Не горюй, Амина, скоро отделимся, свое будет… Отец же обещал осенью отделить. — Обещать-то обещал, но мать сказала, что отец спять не хочет нас отделять. — Как не хочет? — Эмана кинуло в жар, он снял шапку. — Урожай, говорит, плохой. Плохой не плохой— нам хватит того, что на этом участке уродилось, да еще с прошлого года осталось…
На другой день, рано утром, Эман, ни слова не говоря тестю, запряг вороного жеребца и поехал в город. Оставив жеребца на постоялом дворе, он прямиком направился к адвокату. Адвоката не оказалось дома. Эман побродил по улицам, через час пришел опять. Ему сказали, что адвокат обедает, и велели подождать на кухне. Эман ждал, ждал, спросил опять. Сказали, что адвокат прилег отдохнуть. Пришлось Эману ждать еще целый час. Наконец его пустили. — Ты откуда? — спросил адвокат. Эман стоял у дверей, держа шапку в руке. — Из деревни Кема, — ответил он. — Кома? — переспросил адвокат. — Я там многих знаю, а тебя что-то не припомню. Ямщиком я служил, на казенных лошадях вас возил. Все равно не помню. Вот другого ямщика — как его зовут-то? Кажется, Эван, — помню. Он потом под суд попал. — Наверное, Эбат, Унур Эбат. — Вот, вот, он самый. Где он теперь? — В ссылке, на поселении. — Вот как? Ну, а ты по какому делу пожаловал? Эман стал рассказывать. Адвокат выслушал его, петом сказал: — В суд ты, конечно, можешь подать, но вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Надо было отделяться тогда, когда на хутор выходили. Теперь это очень трудно, и если тесть не согласится, ты отделиться не сможешь. Хутора создали не для того, чтобы их опять раздроблять. Эман упал духом. Он положил на стол трешницу в. ничего не оказал, ушел. «Ясно, Орлай Кости знает, что законы на его стороне, поэтому не хочет нас отделять и откладывает с зимы на весну, с весны на осень. Что же мне делать? Может, прикинуться перед ним тихим и послушным, а потом незаметно взять его самого в свои руки? Да нет, разве с таким волком сладишь? Он, верно, до самой смерти будет богатство копить… А помрет не скоро, старик крепкий, лет двадцать еще проживет… Может, бросить все и уехать куда-нибудь на сторону? Денег нет. Я, правда, знаю тайник, но не стану же воровать! А, впрочем, какое же это воровство? Ведь эти деньги он моим потом нажил!.. Нет, все равно нехорошо. Что за жизнь?! Сам себя в клетку загнал. Эх, Эман, Эман! Думал ты разбогатеть, связавшись с богатой родней, а превратился в раба, стал для всех посмешищем…» Так, коря самого себя, Эман дошел до постоялого двора. Там он увидел старых знакомых: русских из деревни Сережкино, мирийцев из Комы и других соседних деревень. Один — знакомый мариец позвал Эмана пойти погулять по городу. Они вместе вышли на улицу. В городе готовились к осенней ярмарке, ставили балаган для приезжего цирка, устанавливали карусель, строили новые длинные прилавки для торговли, купцы приводили в порядок свои лавки, красили двери, подновляли вывески. Эман со знакомым спустились по улице вниз к реке. Там у берега стояло что-то вроде баржи или парома, где под полотняными белыми навесами за столиками сидели господа, ели, пили, разговаривали. Играла музыка. — Туда нас не пустят, — оказал знакомый мариец. — Вон рядом трактир, пойдем туда. Выпили, поговорили. — Эман поведал знакомому про свое горе. Говорить приходилось громко, потому что в трактире стоял шум и гомон: играла гармошка, какой-то пьяный плясал, кто-то пел, все кричали, стараясь перекричать один другого. — Вот что я тебе посоветую, Эман, — сказал знакомый мариец. — Плюнь ты на этот хутор. Все равно, даже если Орлай Кости отделит тебя, хорошей земли не даст, а на плохой намучаешься. — Легко сказать «плюнь», — вздохнул Эман. — Думал я город уехать, да жаль семью бросать. Сына жаль. Жену то не так. Знаешь, теперь мне кажется иной раз, что я женился на ней сдуру, не очень даже любя… — Семью не надо бросать. Я не говорю тебе, чтобы ты семью бросил. Надо вам всем переселяться. — Куда? — Разве не слыхал, что сережкинские и луйские мужики переселяются в Енисейскую губернию? Их выборный по этому делу и приехал. Видел на постоялом дворе? Эман махнул рукой. — Не верю я, чтобы где-нибудь было хорошо! — Глупый ты, рано голову вешаешь. Один человек из нашей деревни съездил уже в Сибирь, землю посмотрел, с волостным правлением тамошним договорился. Можно в той волости обосноваться, земли там много, земля плодородная, переселенцам большие участки дают. — Деньги нужны, чтобы в такую даль ехать, а где их взять? — Деньги дает переселенческое управление. Немного, правда, но все-таки помощь. Землю свою здесь можешь продать, скотину — вот и будут деньги на первое обзаведение. — Как же я могу продать? Земля и скотина записаны на имя Орлая Кости, а не на мое. — Свою долю ты имеешь права записать на свое имя, никто тебе этого не запретит. Давай собирайся и присоединяйся к партии переселенцев, вместе-то легче, чем одному. — А земля там действительно хорошая? — Ходоки говорят, очень хорошая. Чернозем, кругом вода, рыбы много, леса бескрайние, белок, лисиц видимо-невидимо! Я бы сам туда поехал, да не могу отца бросить. Стар он. говорит: «Где родился, там и помру. После моей смерти езжай, куда хочешь». Эман поднял голову, глаза, его заблестели. — Где записываются на переселение? — опросил он быстро. — Вот вернемся, сведу тебя со старшим переселенческой партии. Он тебе все разъяснит. — Может, поедем к нему сейчас? — Экая у тебя неспокойная душа! Не торопись, успеешь. Посидим здесь еще немножко, послушаем, как поют. Может, поставишь бутылки две-три пива, а? — Вот чудак! Конечно, поставлю. Эй, пива! — крикнул Эман половому. Но половой, сделав вид, что не слышит, прошел мимо. Тогда потребовал пива приятель Эмана. Другой половой принес бутылку. — Ты татарин что ли? — спросил Эман. — Татарин, — согласно кивнул половой, потом сказал — Не шуми, вон те русские рядом с вами думают, что вы над ними смеетесь, один пьяный хочет вас бить. — Пусть лезет, если хочет получить по голове! — приятель Эмана засучил рукава и стукнул кулаком по столу. — Видишь? — Ладно, вижу, вижу, — улыбнулся татарин и отошел от них. Эман, подняв стакан, шестой раз читает: — «Пиво завода Восточная Бавария — Оскара Петцольда в Казани. Генуя, Бордо, Брюссель». — Ты почему мало пьешь? — спрашивает Эман товарища. — Хочешь, чтобы я один все выпил? Брюссель! — Я свое выпью, торопиться мне некуда, — отвечал товарищ. Народу все прибавлялось. Было так накурено, что казалось, будто вместо пива из стакана течет густой табачный дым… Скоро Эман с товарищем напились допьяна и в обнимку отправились на постоялый двор.
В это время Орлай Кости уже третий раз опрашивал Амину: — Куда поехал твой муж? И почему тайно? — Я же сказала, в город поехал, сыну за лекарством. — За лекарством тайно не ездят! — Торопился он, не успел сказаться, велел мне передать. — Что, Сергей сильно заболел? — Болен, не видишь разве? Плачет, понос у него. А ты коня больше, чем внука родного, жалеешь! Амина заплакала. — Не верю я твоим слезам, знаю — нехорошему учишь мужика. — Чему я его учу? — Сама знаешь! — Не знаю я ничего! Ничего ему не говорила! Мне и говорить-то некогда, день и ночь работаю, от усталости ничего не вижу! — А кто говорил, чтобы скорее отделяться? — Не я это выдумала, ты сам обещал. — Я свое слово сдержу, но тебе об этом говорить нечего, не твоего ума дело. — Ты три раза уже нас обманывал… Орлай Кости поднял плаза к небу и глубоко вздохнул. — Видишь, господи, какую я дочь вырастил! Двадцать три года пою-кормлю, а она, вместо благодарности, обманщиком называет! — Что тебе господь? У тебя один бог — деньги. Из-за них ты и мать не жалеешь, и старика Орванче заставляешь день и ночь работать. Лопнешь когда-нибудь от жадности, попомни мое слово. — Ах, ты так со мной заговорила? Сегодня же выгоню тебя с твоим мужем-голодранцем! Если вам мало моей доброты, идите милостыню собирать! — С тебя станется! Выгонишь. Разбогател от нашей работы, теперь мы лишние тебе! — Где твой муж? Коня украл, небось, продал уж и пропил. — Хоть бы и продал? Он не одного, двух коней может продать, все нашим горбом нажито! — Вашим горбом? Да весь ваш труд в ваше же брюхо ушел! — Бессовестный ты! Жадность тебя одолевает. Ты нас и отделять потому не хочешь, чтобы мы даром работали на тебя! — Эх, доченька! Перетянули они тебя на свою сторону. И ты хочешь обобрать меня, отнять нажитое и уйти. — Наконец-то ты правду сказал, чего боишься! А то ведь все говорил: «Не хочу, чтоб вы голодом сидели, потому не отделял, да вот окончим полевые работы, тогда отделю». — Не так ты меня поняла. Я говорю, что вы хотите побольше у меня забрать. А отделить-то я вас не прочь. — Знаю я, как ты не прочь отделить, я уже не маленькая, не обманешь! — Эх, доченька, — Орлай Кости со вздохом покачал головой. — Я о тебе да внуке забочусь. Хотел этой осенью отделить — хлеб не уродился. Чем же я виноват? — Нам того хлеба, что уродился, хватит, лишнего мы не просим. — Вам-то, может, хватит, но для того, чтобы землю отрезать, надо разные бумаги оформлять, начальству деньги платить. Где взять денег, если хлеба на продажу нет? Так что придется этот год вместе прожить, вот на будущий… — Я это много раз уж слышала, — перебила его Амина, — и знаю/ что на будущий год будет то же самое. Орлай Кости встал и сказал насмешливо: — Коли знаешь, значит, незачем об этом больше говорить. — Ты еще издеваешься! Ух, собака черная! — Откуда у тебя такая злость? Родного отца собакой ругаешь. Но я не сержусь на тебя. — Ты, отец, хуже собаки! Но погоди, не отделишь нас добром, отделимся по суду! — Вот и проговорилась! Значит, твой Эман в город поехал в суд подавать? — В суд! В суд! — закричала Амина. — Нет, доченька, не выйдет у вас ничего. И судья хочет хорошо жить, и ему деньги нужны. С такими нищими, как вы, он и говорить-то не станет! — Взятки берут за то, что закон обходят. А мы требуем свое по закону. — Вот тебе весь закон! — Орлай Кости тряхнул карманом, в котором звякнули монеты. — Если понадобится, мы тоже денег достанем! — в запальчивости воскликнула Амина. Орлай Кости засмеялся. — Нищие! Алтына не имеете, а хотите денет на суд достать! Продолжая смеяться, Орлай Кости вышел из комнаты. Амина заплакала.
Вскоре после того, как Эман воротился из города, по Коме пошел слух, что он собирается вместе с сережкинскими и луйскими переселенцами в Сибирь. О.рлай Кости пристал с расспросами к Кугубаю Орванче. Но тот отвечал одно и то же: «Не знаю». Спросил у Амины — она промолчала. Старый Кугубай Орванче и Амина в самом деле ничего не знали. Однажды вечером, когда они вместе ходили за орехами, Амина спросила: — Правду или нет говорят про Сибирь? — Лунские уезжают, это я наверное знаю, — ответил Кугубай Орванче, а про нашего Эмана, верно, пустое болтают. — Мне он несколько раз говорил: «Хорошо живут те марийцы, что в позапрошлом году переселились. Может, и нам уехать?» Но я думала, он просто так говорил. — Не знаю, он со мной не советуется, про старого отца совсем забыл. Нынче опять в город уехал, мне ничего не сказал. А твой отец меня по десяти раз на дню попрекает: «Твой сын коня украл и продал, ты его этому научил». — Ты на его ругань не обращай внимания. Кугубай Орванче вздохнул: — Скорее надо отделяться. Что отец-то говорит? — Все то же. В этом году, говорит, не отделю. Эман опять поехал к адвокату. — Зря ты его отпустила, сноха. От суда добра не жди. — Что же делать? Дальше так жить нельзя. Нет, хватит мучиться! — С богачом судиться — проку не будет. Все равно он дело выиграет. — Что наперед гадать. Кто знает, может быть, мы выиграем? — Ну, предположим, суд решит дело в нашу пользу. Все равно отец твой хорошей земли не даст, отрежет самую бросовую, на которой ничего не вырастишь. — Не сделает отец так! Хоть он и бессердечный человек, а все ж мы ему не чужие! — Нет, сноха, когда дело доходит до суда, от родства и духу не остается. Будете весь свой век враждовать, как луйские мужики с хуторянами враждуют. — Почему «будете»? А ты куда денешься? — Уходить надо. Был у меня свой дом, теперь нет. Пойду по миру. — Пустое говоришь, отец. Ты скажи лучше вот что: если суд ничего не присудит, что нам тогда делать? — Уезжать куда-нибудь придется. — А землю оставить тому кровопивцу? — Землю продать можно. — Что мы без земли делать будем? Я только на земле работать умею… — Говорят, в Сибири хлеб хорошо родится. — Я об этом тоже слыхала. Родственник матери из Сережкина приходил, говорил. Далека она уж очень, Сибирь-то. — Тут не то, что в Сибирь, куда угодно уедешь, только бы не оставаться у Орлая Кости. Амина, вздохнув, согласно кивнула. Разговор оборвался, но и Кугубай Орванче, и Амина про себя продолжали думать о том же. Каждый по-своему представлял себе будущее, но сходились они на том, что все-таки надо уезжать… Эман, вернувшись домой, поговорил с женой и отцом. Орлай Кости два дня терпел, не расспрашивал, хотя ему очень хотелось знать, что решил Эман. Он делал вид, что его это вовсе не интересует, насвистывал, прикидываясь веселым, и говорил жене: — Слава богу, живем хорошо. Если и дальше так дела пойдут, к зиме можно будет мельницу купить. — Как хочешь, — ответила жена. На третий день Орлай Кости, наконец, не выдержал и — спросил жену: — О чем это они все шепчутся? Отделяться собираются что ли? — Не знаю, — жена вытерла глаза. — Чего плачешь? Из-за них, небось? — Не знаю я ничего, отстань! — Ну, мне до этого дела нет, — Орлай Кости притворно зевнул. В это время в избу вошел Эман. — Ну, зять, как дела? — лениво спросил Орлай Кости. — Дела хороши. Завтра свою долю земли продаем, через четыре дня уезжаем. «Значит, не зря болтали», — подумал Орлай Кости, а вслух сказал: — Куда же вы собираетесь переселяться? Знайте, я вам нынче ни скотины, ни хлеба не дам. — Куда поедем, тебе знать не обязательно. Ты готовь свидетеля, завтра приедет землемер, отрежем землю, и я ее продаю Антону. Орлай Кости, не ожидавший такого оборота, обеспокоенно опросил: — Антону, значит, продаешь? — Ему. — А если я не разрешу? Эман усмехнулся. Он чувствовал, что право на его стороне, и был спсикоен. — Вот бумага с разрешением на отрез земли и отношение из уезда на право продажи. — Дай, взгляду. — Смотри, а в руки не дам. — Экий ты, тестю не веришь! — Готовь на завтра свидетеля. Я хочу до вечера все кончить. — Не спеши, наперед надо в волостное правление съездить. Без его разрешения землю отрезать нельзя. — Уезд разрешил, волость отказать не может. Опоздал, теперь уж твоя кадка меда не поможет. — Ну так я в уезд поеду. — Хоть в губернию! Дело-то уже сделано, завтра, говорю, землемер приедет землю отрезать. — Без меня не имеют права! — Отрежут! Будешь ты или нет, все равно. — Нет, я съезжу, разузнаю. Ты меня так легко не проведешь! — Поезжай, только свидетель завтра пусть будет готов! Орлай Кости запряг в тарантас лучшего коня и, наказав жене, чтобы та как следует замкнула сундук и клеть, уехал. Его не было весь день и всю ночь. Он вернулся только на следующее утро. Лошадь была вся в пене. Заехав во двор, бросил вожжи и сразу кинулся в дом. — Где Эман? В поле? — опросил он жену. — В огороде сидят, ждут землемера. Орлай Кости вышел в сад, подошел к Эману, вытирая потное запыленное лицо, подмигнул: — Жарко нынче. Эман переглянулся с Аминой. — Дорога хорошая? — спросил Эман. Он догадывался, о чем хочет говорить с ним Орлай Кости. — Хорошая. — Там батраки пришли наниматься на работу, тебя ждут. — Подождут, не до них теперь. — Нехорошо заставлять людей ждать. — Скоро он придет? — опросил Орлай Кости. — Кто? — Эман сделал вид, что не понял вопроса. — Землемер. — Через полчаса должен быть. — Вот что, зять, — начал Орлай Кости решительно. — Отойдем, надо поговорить. — Надо так надо, — Эман встал и пошел, за ним, держа шляпу в руке, заторопился Орлай Кости. — Напрасно ты, зять, не посоветовавшись со мной, решил землю продавать, — начал Орлай Кости. — Теперь уже поздно об этом говорить, дело сделано. — Сделано, сделано, но я о другом… Ведь тебе все равно, кому землю продавать. — Ясное дело, все равно. — Так продай не Антону, а мне. Не придется отрезать, тратиться на землемера, договоримся тихо-мирно и — делу конец. — Опоздал. Сейчас землемер приедет. — Зятек, еще успеем. Лошадь не распряжена, сгоняю в Кому, скажу, чтоб не приезжал. Сколько просишь?.. Орлай Кости помчался в волостное правление.
…Через три дня Кугубай Орванче, Эман и Амина с маленьким Сергеем сложили вещи на телегу и тронулись в дальний путь. На большаке их ждали сережкинские и луйские переселенцы. Старый Кугубай Орванче за последние дни сильно переменился. Раньше он ходил повесив голову, хмурый, молчаливый, теперь же стал веселый, взбодрился, как молодой. Играл с внуком, щекотал его и сам смеялся, глядя, как заливается смехом Сергей. Амина улыбалась и тайком вытирала слезы. Мать проводила их за деревню и, вытирая слезы дрожащими руками, напутствовала: «Живите на новом месте счастливо, берегите внука». Провожающие пили водку, пели под гармошку, плакали. Амина не выдержали, громко разрыдалась. Лошади тронулись, голоса провожающих стихли вдали. Переселенцев встречали незасеянные поля да бесконечная большая дорога, пересекающая эти поля. С разговорами, песнями под гармошку и с думами о будущей жизни ехали они мимо полей и лесов до губернского города, на железнодорожную станцию, до которой было сто двадцать верст.
ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
К делу недавно арестованного Владимира Аланова был подшит его дневник. Некоторые листы с наиболее любопытными, как предполагал следователь, для следствия записями были заблаговременно вырваны самим автором дневника, словно он предвидел, что его дневник попадет в чужие руки. Записи, сделанные до марта, отсутствовали целиком. «21 марта, 1910 г. Не зря Настя говорила, когда встречали Новый год: если хорошо встретишь Новый год, то весь год будет удачным.- Пожалуй, сейчас у меня все идет хорошо. И с Н. — тоже. Правда, в последнее время к ней липнет один гимназист, придется темной ночью навешать ему фонарей, чтобы ходил со своим фонарем. Я заметил, что в этом году по шестым числам происходят любопытные события: шестого января закрылось «Религиозно-философское общество», в чем там дело, не знаю, слышал только, что на банкете были обильные возлияния. Шестого февраля в Петербург прибыла Французская парламентская делегация. Шестого марта Хомяков отказался от председательства в Государственной думе. Через два дня на его место был избран А. И. Гучков. Социал-демократы. кадеты и трудовики голосовали против него». «Апрель… У нас все потешаются над одним реалистом. Он увидел в газете объявление: «Долой керосин! Любой может приобрести для своего дома электрическую лампочку! Одна штука — 1 рубль 20 копеек, за пересылку по почте — 50 копеек. Заказавшему три-лампочки и более — пересылка за счет фирмы. Адрес: город Лодзь, почтовый ящик № 129, «Коммерческое товарищество»… И вот этот реалист, надумав подарить лампу своей матери, послал в Лодзь деньги. Лампа прибыла. Реалист спрашивает у одного приятеля; «Что же мне с ней делать?» Тот отвечает: «Вкрути в свою глупую голову и ходи». — «Почему?» — «Ну, не дурак ли ты? В городе нет электростанции, для чего было выписывать электрическую лампочку!» Так прибавился еще один анекдот про лодзинских ловкачей-лавочников. Мне самому приходилось читать их объявления такого рода: «Высылаем костюм за два рубля. Адрес: г. Лодзь, фабрика С. Розенталь. Деньги просим высылать за. ранее». Вот оно как! И ведь находятся дураки, вроде того реалиста, шлют деньги. Впрочем, и во всей нашей жизни — сплошная «Лодзь», а говоря по-русски, сплошная «ложь». Говорят, рыбу ловят неводом, курицу — на просе, а человека, случается, одним взглядом…» «5 мая. На пасху подхожу я к одной красивой гимназистке и говорю: «Христос воскрес!» Она смутилась, растерялась: «Ах, нет, нет!» Я говорю: «Как это — нет?» Взял и поцеловал ее. Мы еще зимой поспорили с Гришкой на бутылку коньяка, что я поцелую эту девушку, так что коньяк — мой! Снова «Лодзь», только на этот раз исходит от лица духовного. По городу воззвание: «В селе Дерново в честь святителя чудотворца Николая строится церковь. Денег нет. Благодетели, откликнитесь на мою коленопреклоненную просьбу, помогите, кто сколько может. Укажи, добрый человек, свое имя, я буду молиться за тебя. Адрес для присылки денег: ст. Мятлево, Калужской губ., с. Дерново, священнику Александру Тихонову». «20 июня. Н. познакомила меня со своим отцом. Потом я отозвался о нем не очень лестно: сравнил с отцом Горио. Н. рассердилась. Ничего, до конца экзаменов я с ней помирюсь. Раздобыл «Марийский календарь» за 1908 год, перечел статью о переписи марийского населения. По переписи 1897 года числится марийцев 375 тысяч: в Казанской губ. — 122.688, в Вятской—141.897, в Уфимской — 77.751, в Пермской—15.345, в Нижегородской — 6.667, в Костромской— 1.985 и т. д. При этом надо учесть, что в Уфимской губернии не считали мензелинских марийцев, в Вятской — не учли сарапульских марийцев и т. д. На самом деле марийцев, должно быть, не менее 500 тысяч. Например, только по нашей волости марийцы шести деревень показали, что они — мещеряки; казанские марийцы, переселившиеся в соседнюю волость, показали, что они — русские; были подобные случаи и в других волостях. когда марийцы старались скрыть свою национальность. Неужели и другие малые народности так же поступают? Не знаю. Вот татары, те не стесняются того, что они татары! 14 нюня Николай II утвердил закон о ликвидации крестьянских общин. Это дополнение к Указу от 9 ноября 1906 года. Он…» После этого многие листы вырваны, следующая начинается февралем 1911 года. «4 февраля. Дядя Петр Николаевич Моркин позвал на каникулы. Ехали на одной подводе с Настей. Было очень хорошо. Увидел я этого оскандалившегося этнографа Эликова. Четыре года прошло с Ббярсолинского дела, но в деревне его не забыли. Говорил с Эликовым, он считает, что его совесть чиста, в том, что людей присудили к каторге, его вины нет; впрочем, разговоров на эту тему он не любит. Он продолжает свои труды по описанию марийских обрядов, изучает сочинения Ерусланова о марийской семье, материалов, говорит, много. Хочет сравнить семью марийскую с австралийской, этот труд будет печатать в Известиях Русского Географического общества. Нынче он собирается поступить туда на службу. Познакомился со стариком Кугубаем Орванче. Он отец мужа Настиной сестры (кем он доводится Насте? Наверное, Эликов знает, он в этом разбирается). Сказочник, балагур, веселый старик, вроде Санчо-Пансы. Все еще пишут о Толстом, винят в его смерти жену. Но многие считают, что его убила жизнь. Говорят об этом по-разному». «7 апреля. С 26 февраля у дяди Петра Николаевича новый начальник: министром народного просвещения назначили Л. А. Киссо. Теперь-то дела пойдут вперед! (1-й апрель — никому не верь!). В конце марта во главе Думы встал Родзянко. Теперь-то жизнь пойдет вверх! (опять: 1-й апрель…). В прошлом году в июне Гучков участвовал в дуэли. Посадили в тюрьму, но, говорят, ему там было не так уж плохо: для него там оборудовали целую квартиру». «15 мая. Стало веселее… Читаю стихи Городецкого, Князева, Ахматовой и многих других. Почему бы и мне не попробовать? «Хорошо бы быть поэтом…» Как становятся поэтом? «Расскажите нам об этом». Впрочем, это ни к чему, мы и нерифмованными словами можем покорять сердца девушек! Директорская дочка Василиса опять прислала мне письмо (второй раз со времени бала в реальном училище!). Говоря о рифме, вспомнил забавный анекдот: возле магазина Стахеева стоят господин с женой и смотрят на витрину. Жена говорят: «Ах, Павлуша, взгляни, какая красивая шляпа! Не шляпа, целая поэма!» Муж стал тянуть жену от витрины: «Пойдем, пойдем! Ни одно слово в этой поэме не рифмуется с моим кошельком». С нетерпением жду летних каникул. Но куда деваться на лето? Думаю с кем-нибудь из приятелей побродяжничать по стране. В нашем городе живет один старый француз. Прежде он был русским помещиком, но промотал все состояние и теперь занимается тем, что учит молодых людей хорошим манерам, умению держать себя в обществе. Мне сказали, что он занятный человек, и я сходил к нему (отдал последний полтинник, теперь и на папироску нету). Он говорит полушутя, полусерьезно: «Запомните, молодые люди, в обществе никогда нельзя говорить то, что у вас на уме, иначе сразу же наживете себе врагов. Например, боже упаси вас сказать кому-нибудь, что он лжет, нужно сказать с милой улыбкой: «Ваши суждения весьма оригинальны». Никогда не говорите человеку, что он глуп. Скажите: «Должно быть, вам неизвестно мнение ученого такого-то об этом предмете?» Вам хочется сказать: «Ну и чучело! Из какой мусорной кучи она вылезла?» Но так говорить ни в коем случае не подобает. Следует о вышеозначенной даме отозваться учтиво, сравнив ее красоту с красотою Венеры. Не следует сообщать любителю музыки, что он дилетант. Лучше выразиться так: «Очень мило, жаль только, что я не понимаю подобной музыки». Или вы пришли к провинциальному врачу, и он неудачно сделал вам операцию. Скажите, что он не врач, а коновал, и вы наживете себе врага. Посоветуйте ему подыскать себе другое занятие, более соответствующее его незаурядным способностям. Если кто-то надоел вам своей болтовней, не показывайте ему этого, а скажите: «Мне не терпится узнать, чем же кончилась эта история: Скажите, пожалуйста, скорее!» «7 июня. Миша Апшатов загадал загадку: не бог, а в трех лицах един. Гадали-гадали, еле отгадали. Оказывается, это омоним. Слово-то одно, а значений у него три: коса девичья, коса, которой косят, и коса — песчаный узкий мыс на реке. На базаре встретил Настю. Она сама подошла ко мне. Было видно, что рада встрече. Как она хорошеет с каждым днем!»Следователь отодвинул дневник, из ящика стола достал папиросу, закурил. Потом взял дневник в руки, повернул так, что луч солнца упал на страницу, и крикнул: — Знаменский! Вошел молодой человек. Следователь показал на раскрытый дневник, произнес одно только слово: — Молоко! Знаменский взял дневник и вышел. Полчаса спустя он вернулся и положил тетрадьперед следователем. Тот взглянул. — Хорошо, оч-чень хорошо! Можешь идти. Следователь снова углубился в чтение. Он читал те же страницы, но теперь между строк проступали другие слова, написанные молоком и проявленные Знаменским. Под 5 мая между строк о красивой гимназистке было написано: «Появился новый способ тайнописи — молоком. Научил Р. Читал написанное по-марийски воззвание Ардаша. Размножили в… п… е, распространяли среди крестьян, приехавших на базар. Эмаш рассылал воззвания в конвертах, на которых были штампы страхового общества. У Н. произвели обыск (выдал Журавлев). Наш. ли оставшиеся воззвания на чердаке. Н. посадили, но за недостатком улик выпустили». Следователь подчеркнул это место в дневнике и, пропустив несколько страниц, дошел до описания правил хорошего тона. Там между строк было написано: «Маевку провели на другом месте, неподалеку от озера. Меня хвалили за хорошее выступление… После ареста Поповой книги получать стало труднее. Две брошюры Н. Ильина привез человек, приехавший из II. Читали, собравшись в п…е, дело дошло до спора, эсеры даже полезли в драку, кое-как разняли… Яик Ардаш живет как ссыльно-поселенец возле Минусинска, неподалеку от той деревни, в которой жил Ильин-Ленин. У нас для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Семиреченской волости был устроен благотворительный бал и концерт. Половину вырученных денег послали Ардашу и его товарищам, отчет лежит в п…е».. Следователь обвел карандашом эти таинственные «п…е», стукнул по столу тупым концом карандаша и задумался. Потом нажал кнопку на столе, в соседней комнате раздался звонок, пришел помощник следователя. — Как ты думаешь, что это может означать — прочти отчеркнутые места повнимательнее, — спросил следователь. — П…е… П…е… Надо подумать. — Думай, расспрашивай, переоденься в штатское, сходи в семинарию, завтра к полудню мне нужно знать, что это значит. Можешь идти! Он снова нажал на кнопку, на этот раз в дверях появился солдат. Он встал по стойке смирно, но не успел произвести «Что прикажете?», как следователь сказал: — Веди арестованного! В скором времени в кабинет следователя ввели Аланова. Начался допрос…
В это самое время Матвей Матвеевич Эликов сидел в читальном зале петербургской публичной библиотеки. Перед ним на столе были разложены книги по этнографии удмуртов, марийцев и мордвы. Во многие из них вложены закладки — отмечены места, предназначенные для повторного чтения. Края одних закладок загнулись в одну сторону, других — в другую, и они кажутся разноцветными праздничными флажками. Мысли Эликова растрепаны, подобно этим закладкам. Уж который день сидит он над книгами, но не может сосредоточиться, выделить основное, отбросить мелочи и начать, наконец, статью. Он думает о полученном на прошлой неделе письме от тестя из Комы. Он писал, что к нему приходили боярсолинские марийцы с требованием: пусть, мол, твой зять похлопочет о людях, из-за него попавших на ка-, торгу, мол, если бы он не приехал тогда в Боярсолу, то не пролилось бы столько слез, люди не пошли бы в Сибирь, мол, зять живет возле царя, человек ученый, все порядки знает, пусть поможет… Они, оказывается, еще в прошлом году написали в Петербург прошение, но ответа до сих пор так и не получили. Тесть рассердился, прогнал мужиков взашей, те ушли, но пригрозили отомстить. Старик напугался и скорее написал зятю. «Невезучий я, — думал Эликов, выйдя из зала и расхаживая взад-вперед по коридору. Невезучий я, другие умеют жить, а я — нет. У других что бы ни случилось, они не горюют, знай себе подвигаются по ступенькам карьеры. А я… я слабохарактерный, до сих пор не могу забыть пережитого тогда страха… Да, я невольно послужил причиной большой несправедливости, из-за меня засудили, оторвали от семей, от родной земли тех темных марийцев. «Нет, Матвей, не переживай так, ты же не виноват», — говорил в нем другой успокаивающий голос. «Нет! — возразил первый голос. — Надо смотреть в глаза страшной беспощадной правде. Тогда, в самом начале, когда велось следствие по этому делу, не нужно было давать никаких показаний. Я должен был скрыть, замолчать этот случай. Но кто знал, что им вынесут такой суровый приговор! А потом, после суда, когда уже ничего нельзя было поправить, отчего я не уехал куда-нибудь подальше из тех мест? Ведь не родной же там город, не свой уезд! Эх, дурак, дурак! Как это меня угораздило влюбиться и обзавестись родней в Коме? Хотя, если честно, не очень-то я и влюбился, женился скорее по расчету, думал: будут деньги — смогу спокойно заниматься этнографией. Да, это было моей большой ошибкой. По- еле Боярсолы нужно было уехать оттуда как можно дальше. Не новую родню заводить, нужно было старую забыть. Ошибка! Теперь и деньги есть, и любимым делом могу заниматься, а все равно карьеры мне не сделать: не умею подладиться к начальству, не могу постоять за себя. Более расторопные присваивают собранные мною материалы, мои мысли, гипотезы. Стараешься, стараешься, странствуешь, себя не щадишь… — Эликов даже сплюнул с досады. — А может, зря я стараюсь? Напрасно трачу силы? Хе-хе, уж не послушаться ли жену, не заняться ли коммерцией? Жена надоела со своей «коммерцией», и тесть все время уговаривает открыть магазин. Вот до чего ты дожил, Матвей! Стыд и позор! Готовил себя в большие ученые, хотел изучить этнографию уральских марийцев, собирался присоединиться к экспедиции, которая едет в Австралию, чтобы собрать сравнительные материалы… и вдруг — мысли о магазине! Вот что делает с тобой жизнь в чужой тебе среде…» Эликов сел за стол, хотел работать, но статью так и не начал. Вместо статьи он написал большое письмо в Кому, в котором просил тестя прислать копию приговора боярсолинцев, их письма и другие бумаги. И только после этого он почувствовал, что на сердце у него стало спокойнее. Вечером Эликов пошел к одному знакомому, но того не оказалось дома. Вернувшись домой, он взял валявшуюся на диване книгу — сборник фольклорных текстов, записанных в Казанской губернии, и от нечего делать стал читать. «Однажды вор ограбил дом. Хозяин это видел, он взял перину и пошел вслед за вором. Вор заходит к себе в дом, хозяин — за ним. Заметив это, вор спрашивает, что ему тут нужно. «Разве мы не переселяемся сюда?»— удивляется хозяин. Однажды этот человек одолжил у соседа котел. Возвращая котел владельцу, человек вложил в него сковороду. «Что это?» — спрашивает владелец котла. «Твой котел родил сковороду», — ответил человек. Сосед оставил сковородку себе. В другой раз тот человек снова одолжил у соседа котел. Прошло несколько дней, и сосед, не дождавшись, сам пришел за своим котлом. «Я должен сообщить тебе горестное известие, — сказал ему человек, взявший котел, — твой котел умер». — «Что за вздор, — возмутился сосед. — Как может умереть котел?» — «Ты же поверил, что он может родить, отчего бы тебе не поверить, что он мог и умереть?» Однажды этот человек попросил у соседа веревку. Тот ответил: «Веревка занята: жена насыпала на нее муку». — «Разве можно насыпать муку на веревку?» — «Я не хочу дать тебе веревку, поэтому говорю, что на нее насыпана мука». Однажды этого человека позвали в гости. Он пришел в старом зипуне, и никто не обратил на него внимания, не пригласил за стол. Он вернулся домой, переоделся в дорогую шубу и снова отправился в гости. На этот раз хозяин встретил его у самого порога, усадил за стол на почетное место, принялся угощать самыми изысканными блюдами. Человек сидит за столом и приговаривает: «Ешь, шуба, угощайся!» — «Что такое ты говоришь?»— удивился хозяин. — «Если у тебя шуба — почетный гость, пусть шуба и угощается!» — Верно подмечено! — засмеялся Эликов. — Везде так: по одежке встречают. У иного дворянского отпрыска или у сынка фабриканта в голове пусто, зато одет хорошо, именем отца может козырнуть, вот и счастье у него в руках, деньгами, как щепками, сорит, вокруг него день и ночь веселье… Хотя тетушка Эликова давно живет в Петербурге, она не вполне просветила его насчет столичных порядков. Как-то раз Эликов явился на юбилей одного ученого не во фраке, а в сюртуке, и, поняв свою оплошность, ушел, не дождавшись конца банкета. Эликов, вспомнив этот случай, перевернул две-три страницы и стал читать дальше. «Однажды один человек привел на базар корову, чтобы продать ее. Стоял-стоял, никто не покупает. Подошел к нему знакомый, спрашивает: «Корову что ли продаешь?» — «Да вот с самого утра стою, никто не покупает». Тогда знакомый принялся выкрикивать: «Продается стельная корова! Продается стельная корова, шестой месяц пошел!» — тут же набежали покупатели, и человек продал свою корову за хорошую цену. Поблагодарил он знакомого за помощь, дал ему немного денег и отправился домой. Жена встретила его словами: «Приехали сваты, ты посиди в сторонке, а я покажу им нашу дочь, расхвалю ее получше, чтобы она им понравилась». Муж говорит: «Нет, ты лучше помолчи, я сам стану хвалить дочь, теперь я знаю, как это делается». Жена согласилась. Вошли они в дом, муж обратился к сватам: «Не стану говорить слишком много, скажу прямо, что дочь наша беременная, шестой месяц пошел». Не успел он это сказать, как сватов и след простыл». В комнату вошла жена. Она взглянула на книгу и, усевшись рядом, попросила почитать вслух. — «Жена одного человека, желая досадить мужу, калила ему очень горячего супу, по сама забыла, что суп горяч, взяла ложку и хлебнула. Обожглась так, что слезы из глаз хлынули. Муж спросил, отчего она плачет. Жена ответила: «Я вспомнила покойную мать, она любила такой суп». Тут муж хлебнул из миски, и у него потекли слезы. — «А ты почему плачешь?» — спросила жена. — «Я плачу оттого, что твоя мать померла, а ты, а ты, негодница, все еще жива», — ответил муж». Эликов взглянул на смеющуюся жену, читать ему расхотелось, он захлопнул книгу и, тяжело вздохнув, сел за рояль. С нетерпением ожидая ответа тестя, Эликов то и дело выходил к почтовому ящику (обычно письма, газеты и журналы доставала из ящика жена или прислуга), так что жена спросила подозрительно: — От кого это ты так нетерпеливо ждешь письма? Уж не от какой ли курсистки? Эликов обнял жену, поцеловал, сказал как можно нежнее: — Любушка моя, соловушка, кошечка, что такое ты говоришь? У меня нет знакомых курсисток. — А на днях приходила… — Кошечка моя, ты же знаешь: меня пригласили прочесть доклад с демонстрацией диапозитивов на тему «Волжские инородцы» в пользу бедных студентов, и курсистка просто пришла сообщить мне о дне доклада. Я с ней вовсе незнаком. — Ладно, ладно, молчи, — сказала жена и, взяв его за уши, поцеловала в лоб. И утром и вечером заглядывал Эликов в почтовый ящик, письма из Комы все не было. Ему хотелось получить и прочитать письмо тайком от жены, чтобы не вести лишних разговоров. «Получу документы, — думал он, — обращусь к адвокату, не пожалею денег. Эти темные люди страдают из-за меня. Чтобы снять с себя этот грех, никаких денег не пожалею! Адвокат посоветует, что предпринять. Нужно будет, до самого царя дойду, а их выручу! Только тогда я смогу показаться в Коминскую волость. А ведь только там я смогу найти недостающие материалы к моей монографии о мордве, удмуртах и марийцах. Только там еще сохранились старинные оригинальные обряды. До сих пор ни один этнограф не- видел этих обрядов своими глазами, никто их не описал. Да если я выручу боярсолинцев с каторги, то студенты нашего города, знакомые в губернии, мои молодые коллеги в Казани и в Петербурге станут смотреть на меня совершенно другими глазами. Ведь сейчас меня едва ли не называют прохвостом… Ну, ничего, все изменится, вот выручу боярсолинцев…» В другой раз он спрашивал себя: «Скажи честно, Матвей, в самом ли деле тебе так уж важна их судьба? — и отвечал сам себе — Нет, не стану притворяться хотя бы перед собой; дело вовсе не в них, а во мне: я хочу очистить свою совесть, успокоить сердце, не мучиться больше сознанием этого греха, освободиться от изнуряющих мыслей, которые только мешают работе… Выходит, ты эгоист, Матвей, и твоя жена не напрасно называет тебя так? Ну и пусть, пусть я эгоист и думаю только о себе, но кто об этом узнает? Если я выручу боярсолинцев с каторги, разве придет в голову Володе Аланову, Моркину, моему тестю и всем другим, что я сделал это ради собственного спокойствия? Нет! Они, конечно, поверят, что я сделал это доброе дело, поскольку я человек передовых взглядов, честный ученый. Не только так подумают, но и будут» то говорить. Правда, тогда мне не миновать полицейской слежки. Ну и пусть! Пусть следят. Хлопотать об осужденных — мое законное право. Никакой революционной работы я никогда не вел и не буду вести, так что бояться мне нечего… Эх, Матвей, сумеешь ли ты осуществить свои благие намерения?..» Наконец долгожданное письмо пришло? Эликов вскрыл конверт тут же, возле почтового ящика, взглянул и засмеялся от радости. Он кинулся в комнату, обнял жену, несколько раз поцеловал ее и, подняв письмо над головой, торжествующе закричал: — Ура! Вернулись! — Кто вернулся? — Бояреолинцы! С каторги вернулись! Оказывается, их прошлогоднее прошение возымело действие, и вот теперь их освободили! Эликов на радостях снова принялся обнимать и целовать жену, потом кинулся к роялю, заиграл что-то бравурное, перешел на плясовую, сам зашел во все горло:
Володя Аланов не знал того, что сидел в той же камере, где раньше сидел Унур Эбат. Когда он гостил у Моркина, то слышал от деревенских, что посадили какого-то Унура Эбата, но тогда, подумав, что парень, наверное, попался по собственной дурости, не заинтересовался им. Зато про Яика Ардаша старался расспросить коминских марийцев, ему был интересен этот человек, который приходил к ним в семинарию как представитель социал-демократов, но те прикинулись ничего не знающими и особо об Ардаше распространяться не желали. В первый же день своего пребывания в- тюрьме Аланов познакомился с здешними порядками. Он узнал, что корпус, в котором сидит, прежде был конюшней, что раньше в его камеру проникало немного света, теперь же прямо перед окном, в каких-нибудь двух аршинах, выстроили новый корпус, красные кирпичи еще не потемнели, и в затененной камере даже в полдень стоит полумрак. Про новый тюремный корпус среди арестантов ходили самые мрачные слухи. Говорили, что в нем карцеры оборудованы по новому методу: нельзя ни стоять, ни лежать, ни даже сидеть, вытянув ноги, можно только сидеть на корточках или стоять, согнувшись и скособочившись. «Ладно, не стану нарываться, буду соблюдать тюремные порядки, — решил Володя. — Конечно, если не станут слишком издеваться, иначе придется бороться. Жаль, что товарищи мне достались неудачные. Двое все время плачут, глядеть тошно. Один без конца поет одну и ту же песню, другой слоняется по камере, при этом так шаркает ногами, что хочется стукнуть его по ногам. Остальные трое: удмурт, тихий, вроде меня, и двое русских — эти постоянно спорят между собой. «Забастовки еще не являются показателем того, что поднялся весь народ», — утверждает один. Другой ему возражает: «Забастовки показывают, что рабочее движение развивается, набирает новую силу; они ведут к пролетарской революции, показывают готовность масс к такой революции». Аланов в камере держался особняком. Он старался осмыслить свое положение. Ему с трудом верилось, что он в тюрьме. Он подолгу разглядывал красную кирпичную стену корпуса за окном камеры, наблюдал за сокамерниками, прислушивался к топоту кованых надзирательских сапог за дверью. В глаза назойливо лезла безрадостная обстановка камеры: грязные стены и пол, заплесневелые углы, деревянные нары, табуретка, параша… Временами у него возникало желание рассказать этим пожилым бородатым людям о своей революционной работе, но он видел, что никто не хочет слушать его, никто им не интересуется, и он подавлял в себе это желание. «Как бы повел себя на моем месте настоящий революционер? — размышлял Аланов. — Стал бы говорить о своих заслугах? Наверное, нет! Ведь такие рассказы похожи на хвастовство. Товарищи его узнай, что он собрался хвастаться, просмеяли бы его… Но и голову вешать нечего!» Аланов вспоминал, как с товарищами собирались в сыром подвале семинарии, читали и обсуждали брошюры, спорили, как собирали деньги в помощь ссыльным. Здесь же, в подвале, обсуждался вопрос о проведении первомайской демонстрации, говорилось о товарище, который без задания группы социал-демократов убил провокатора Журавлева. В подвале хранилась библиотека, отчеты, списки, протоколы. «От сырости бумага покрылась плесенью, — думал Аланов. — Может быть, товарищи теперь нашли для них другое укрытие? Неужели жандармы пронюхали про наш подвал? Когда следователь сказал на допросе, что они, мол, разгадали, что означает в моем дневнике «п…е», я еле сдержался, так хотелось поздравить его с «победой». Правда, о хранившихся в подвале документах он не упоминал. Похоже, что он ничего не разгадал, просто хитрит, подлавливает меня». Когда на другой вечер Аланова снова вызвали на допрос, следователь спросил с усмешкой: — Господин эсдек, это ваша книга? Володя увидел в руках у следователя брошюру «Террор и революция». «Где ж они ее взяли? — думал он. — Если в подвале — дело плохо. И откуда они знают, что это моя? Неужели кто-нибудь из товарищей надписал на ней мое имя?» Но, на всякий случай, сказал: — Нет, это не моя книга. Тогда следователь достал из стола лист с показаниями, написанными им в прошлый раз, спросил: — Вы писали? — Я. Он открыл брошюру где-то посредине и показал. Володя увидел на полях надпись, сделанную им. — Ваша рука? — Разрешите посмотреть. Володя схватил брошюру и стал листать, нет ли там еще и других каких записей. Нет, эта была единственная, но почерк его — тут не отопрешься. Следователь смеется: — Отпираться бесполезно, индентичность почерков вне всякого сомнения! Кроме того, мы с точностью установили, что буквы в дневнике «в п…е» означают «в погребе». Так ведь? У Аланова сразу отлегло от сердца. Значит, они пронюхали лишь про погреб, а про подвал нм ничего неизвестно. В погребе, под бочкой из-под капусты, лежали всего три книги, вот они их, выходит, и нашли. А про целую библиотеку в подвале им и невдомек. Володе стало ужасно смешно. Услышав его смех, следователь взглянул удивленно, потом налил воды в стакан и протянул. Аланов уже раньше слышал, что у полиции есть свои приемы в обращении с молодыми подследственными: следователи стараются казаться добрыми, участливыми, чтобы легче было выведать интересующие их сведения. В руках следователя оказалась и другая из трех книг: обложка — от стихов Пушкина, а внутри был вклеен отчет о Лондонском съезде. Там нет пометок Аланова, это он знал твердо. Следователь протянул Володе бумагу: — Подпишите, молодой человек, что брошюра «Террор и революция» была вами читаема. Володя взял эту бумагу, положил перед собой. Следователь протянул ему ручку и, развалившись в кресле, закурил папиросу. Тут Аланов, не долго думая, вырвал из брошюры страницу со своей пометкой, смял в комок и быстро проглотил. Следователь бросил на стол зажженную спичку, хотел схватить через стол его руку, но было уже поздно. Он снова опустился в кресло, отбросил незажженную папиросу, закричал: — В тюрьме сгною, на каторгу сошлю! Потом он потянул за тугой воротник мундира, весь как-то обмяк, как мешок с мякиной, и сказал укоризненно: — Эх ты, революционер!.. Володю увели. Обо всем этом Аланову очень хотелось рассказать, но в камере никто не интересовался его делами. Если ему случалось обратиться к кому-нибудь с вопросом, то в ответ он всегда получал односложные «да» и «нет». «Эх, хоть бы какое-нибудь чтение было!» — невыносимо томясь своим положением, думал Володя. Однажды он обратился к надзирателю с просьбой о выдаче книг из библиотеки. Тот повел его в канцелярию, там ему предложили написать заявление. Володя слышал, что новый начальник тюрьмы, желая прослыть либералом, организовал тюремную библиотеку, но ему не слишком верилось, что он в самом деле получит в камеру книги. «Ладно, хоть из камеры на полчаса вывели, и на том спасибо», — подумал Володя. Прошло больше недели, на заявление не было никакого ответа. Аланов все больше томился, горевал и впадал в уныние. Он совсем перестал общаться с сокамерниками и, возможно, вскоре разругался бы с ними, но тут некоторых из них, в том числе и Аланова, перевели в новый корпус. — Прошу вас, не сажайте меня в одну камеру с этими людьми, я с собой покончу, — сказал Володя надзирателю. Тот усмехнулся в обвислые усы: — Не горюй, парень, теперь вы друг другу мешать не будете! Человек, который постоянно пел одну и ту же пес-ню, услышав эти слова, закричал. на весь коридор: — A-а, хотите нас по одиночкам рассадить, без суда замучить? Не пойдем! Заволновались и остальные. Все были наслышаны, как страшны в новом корпусе общие камеры, но одиночные — еще страшнее. — Молчать! — рявкнул надзиратель. Аланов опомниться не успел, как очутился в одиночке. Захлопнулась дверь. Теперь из коридора не доносилось ни звука. Аланов повернулся к окну. Оно находилось высоко, под самым потолком. В него, как и в прежней камере, виднелась лишь стена из красного кирпича. — Что это? — в смятении Володя проговорил вслух. — Кажется мне или в самом деле еще одно здание построили? В дверях бесшумно приоткрылось маленькое окошечко, надзиратель сказал: — Разговаривать не положено! Окошечко снова закрылось. Аланов сел на железную койку, прикрепленную кете-не, посмотрел на грязный матрац, подумал: «В таком месте, наверное, и клопы жить не могут». Он попытался качнуть маленький железный стол, но тот, как оказалось, был прикреплен к полу. Нет, здесь все было сделано прочно, стояло незыблемо. Аланову подумалось, что вот так и жизнь его теперь уж никогда не стронете с места, что его молодость понапрасну пропадет в этих стенах. В отчаянье он бросился на кровать. Горькие думы охватили его. Он думал о том, что, видно, таким уж несчастным уродился, что суждено ему всю жизнь мучиться, не видя белого света, что даже Настя, должно быть, отказалась от него — до сих пор не написала ни единого олова. И все же Володя сумел взять себя в руки. По утрам, сразу после подъема, он делал гимнастические упражнения, которые сам для себя придумывал, правой и левой рукой поочередно выжимал по нескольку раз табурет, потом принимался размеренно ходить из угла в угол, считая шаги: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь… Теперь повернуться. Снова семь шагов — повернуться. Не спеши, а то голова закружится. Теперь через левое плечо, теперь— через правое. Не спеши, Володя, не спеши, брат, успеешь. И на Север успеешь, и в Сибирь». Желание читать не давало Аланову покоя. Он спросил про свое заявление у надзирателя. — Доложу начальству, — пообещал тот. На третий! день в обед вместе с обычной порцией жиденького крупяного супа Володе принесли книгу. Как ни голоден был Володя, он прежде всего жадно ухватился за толстый том. Оказалось, что это библия, и он со злостью швырнул ее в дверь. Он сел обедать. От куска черного, как земля, ломтя хлеба, что выдали еще утром, остался небольшой кусочек. Володя съел его и стал безо всякого желания хлебать суп. После еды он немного полежал, но потом все-таки поднял библию, без интереса перелистнул несколько страниц. «В насмешку принесли, — думал Володя с обидой, — в тюремной библиотеке, наверняка, есть и другие книги, а мне подсунули библию». Во время вечернего обхода Аланов попросил, чтобы, ему принесли произведения Пушкина, а за библию поблагодарил. Через два дня опять в обед ему принесли еще две книги: «Житие Стефана Пермского» и «Отчет о переселении». Он бросил книги на стол и принялся, ходить из угла в угол. Немного успокоившись, взял «Отчет», подумав, что эта книга, пожалуй, не лишена интереса. Аланов углубился в чтение: «Цена продажной земли (при посредстве крестьянского банка) в 1901 г. такова: в Казанской губернии — 68 руб. за десятину, в Уфимской губернии — 21 руб. Арендная плата в первой — 7,6 руб., во второй — 2,9 руб. Продолжает расти число продающих свою землю. В 1860 году крестьянское население составляло 50 млн. человек, в 1900 — 85 млн. человек. Тогда на душу в среднем приходилось 4,6 десятины, теперь — лишь 2,6 десятины. В 1900 году по подсчету «Комиссии центра» было 33 млн. безземельных крестьян. Некоторые из них переселяются в город, другие получают угодья из колонизационного фонда, третьи занимают пустующие земли. Правительство оказывает большую помощь переселенцам…» «Как же, помогают им! — подумал Аланов. — Наслышан о том, как по всему Сибирскому тракту переселенцы мрут от голода! Ну-с, почитаем, что там еще пишут…» В положении от 10 марта 1906 года о порядке исполнения Закона от 6 июня 1904 года было сказано: «Тех, кто желает переселяться, земские начальники и волостные правления не задерживают, а предоставляют льготы для проезда по железной дороге. В 1905 году в поисках земли было отправлено 5 тыс. ходоков, после чего переселилось почти 40 тыс. крестьян; в 1906 году на 140 тыс. переселенцев насчитывалось 75 тыс. ходоков, из коих 27 процентов, не найдя свободной земли, вернулись обратно. В 1907 году на 150 тыс. ходоков ни с чем вернулось 43 процента…» «Вернуться-то они вернулись, — подумал Аланов, — да только тут не записано, что вернулись они нищими. А сколько убытку понесли те, кто их отправлял…» «Если считать всех, переселившихся за Урал из центральных областей России, то имеем такие данные: в 1901 году — 84 тыс. человек, в 1904 году — 31 тыс., в 1905 году — 44 тыс., в 1909 году — 220 тыс. человек. По отдельным губерниям в течение 1910–1914 гг. поначалу переселились, но затем вернулись на прежние места: в Казанской губ. — переселилось 7 тыс., вернулось обратно 2 тыс., в Уфимской губ. — переселилось 7 тыс., вернулось — 1 тыс. 700 человек. После голодного 1911 года много семей переселилось из Вятской, Уфимской, Казанской, Саратовской, Самарской и Симбирской губерний…» Аланов с интересом прочел эту книгу, а потом взялся и за «Житие Стефана Пермского».
Судьба многих не миновала и Володю Аланова: его отправили в Енисейскую губернию в административную ссылку. За месяцы пути — в арестантском вагоне, на баржах и пешком — Аланов исхудал, его лоб покрылся морщинами, одежда обтрепалась. Наконец ссыльные прибыли в город Минусинск. Переночевали на грязном полу полицейского управления, наутро Аланов уже ехал в деревню, назначенную ему для проживания. Его сопровождал полицейский, который ночи всю дорогу дремал. Ямщик — мордвин — попался словоохотливый, да такой словоохотливый, что время от времени полицейский прерывал его рассказ, произнося строго: — Ну-ну, залапортовался! После этого он опять впадал в дремоту. Ямщик продолжал рассказывать седоку о местах, мимо которых они проезжали, показывая кнутовищем то в одну, то в другую сторону. Аланов слушал ямщика с интересом. Не по своей воле приехал он в эти края, но уж раз приехал, следует знать, что они из себя представляют. Вот полевая дорога, ведущая от Минусинска, переходит в Тараскинский уклон, потом начинается небольшая горка, потом покажется Тесинская степь, и дорога резко уходит вниз. Рядом с дорогой протекает река Туба, ее быстрое течение несет разноцветную гальку, шуршание которой слышно с дороги. Ямщик рассказал Аланову, что в Тубу слева впадает Амыл, которая течет по ту сторону горы, а Туба на двадцать пять верст ниже Абакана впадает в Енисей. Не доезжая до Тесинского, Аланов увидел древние курганы, насыпанные над древними захоронениями. Он машинально принялся считать. их, подобно тому, как считал шаги в тюрьме. Уже в самом Тесинском, подъезжая, к волостному правлению, ямщик опросил с улыбкой: — Сколько курганов насчитал? Аланов удивленно взглянул на него, подумал: «Оказывается, тут знают даже мысли ссыльного, вот в какие края забросила меня судьба!» — Почему ты об этом спрашиваешь? — спросил он ямщика. — Хе-хе, все ссыльные здесь курганы считают, больше глазу зацепиться не за что: лес давно вырубили, только кустарник остался да вот эти курганы… — Ну-ну, смотри за лошадью! — прикрикнул на ямщика полицейский. Конвоир сдал Аланова в волостное правление под расписку и ушел по своим делам. Писарь долго изучал бумаги Аланова, что-то куда-то записывал, потом дал прочесть инструкцию о том, как должен вести себя ссыльный, и велел расписаться. — Теперь найдите себе квартиру и живите. Если в нарушение инструкции отлучитесь в город, это увеличит срок вашей ссылки, — сказал писарь. — По закону вы должны выдать мне восемь рублей пособия, — напомнил Аланов. — Знаем, мы законы хорошо знаем, — недовольно отозвался писарь. — Вы сначала найдите квартиру… — У меня и трех копеек нет, как я пойду искать квартиру? — возразил Аланов. — Это нас не касается. — Вы не имеете права задерживать выплату мне пособия. Есть предписание центральных властей… Писарь перебил горячую речь Володи: — «Центральная власть»! Ну и чудак! С местной властью следует считаться! У нас есть возможность показать вам, на что способна местная власть! Не таких образумливали! Ямщик, который присутствовал при этом разговоре, вынул трубку изо рта, подошел к Аланову и сказал дружески:; — С ними, сынок, лучше не связывайся. Между тем писарь запер свой стол и вышел в другую комнату. Ямщик продолжал: — Э-эх, сынок, уж коли попал в такое место, нужно себя вести как положено. Аланов опустился на скамейку, потер лоб, ничего не ответил. — Я, сынок, немало таких, как ты, повидал, такие дела наперед знаю, потому и не уехал обратно, решил подождать, что будет… «Помочь мне хочет или обмануть как-нибудь?» — по-думал Аланов, вслух спросил: — Ты, дедушка, говори прямо, что тебе нужно? — Видишь, кровь-то у тебя какая горячая, торопишься очень, так не годится. Тридцать лет тому назад, когда мы только переселились сюда, знавал я одного такого же горячего ссыльного. Так ведь не вытерпел он, нет, не вытерпел — через год сгорел. Сибирь, сынок, не дои родной… У тебя родственники-то есть ли? Аланов взглянул в добрые глаза старика и почему-то вспомнил Моркина. — Близких нет, сирота, — ответил он. — В таком случае тебе еще терпеливее надо быть, сынок. Ведь тебе никто ни деньгами, ни добрым словом не поможет. А чужие люди на твои злые речи станут злом тебе платить, тут и голову потерять недолго. — Есть очень хочется, — вздохнул Володя, — у тебя, дедушка, нет ли хлебца в тарантасе? Вон уж сторож собирается правление закрывать. Куда я денусь? — Айда со мной, устрою тебя на квартиру. — Правда? — Конечно, правда. — Вот спасибо, дедушка! А вдруг хозяин квартиры потребует задаток? И тебе бы надо заплатить, да нет у меня-ничего… Аланов снова приуныл. Когда, выйдя из правления, усаживались в тарантас, старик сказал: — Ты не думай, что я ради денег стараюсь. Просто жаль мне тебя, такого молодого. Хозяин квартиры с тебя сейчас никаких денег не спросит, потом отдашь. Он человек хороший, много не возьмет… Только через неделю Аланова начала отпускать дорожная усталость. Первые ночи он спал беспокойно, кричал во сне, так что хозяйка, испугавшись, стала закрывать его в комнате на замок. Время шло. Вот уже и снег прикрыл грязную землю на улице. Хозяин дома, где жил Володя, сделал завалинку вокруг дома, подлатал худые стены сарая, починил ступеньки крыльца. Во всех этих трудах Володя помогал ему. Зато хозяйка стирала Володе белье, пекла ему хлеб, принося муку от лавочника. Однажды Аланов получил от одного приятеля-семинариста посылку с книгами, среди других там оказалась брошюра «О чуме», переведенная на марийский язык. Хозяин квартиры, раскрыв эту книгу, спросил с удивлением: — Ты разве не русский? — Почему ты так думаешь? — Книга-то не русская. — Верно, книга марийская. Я мариец крещеный. — Что еще за мариец такой? Мордву знаю, вот старик, который тебя привез, мордвин. — Русские нас «черемисами» зовут, слыхал? — A-а, так вот кто! Слыхал-слыхал, сюда в прошлом году ходоки из Вятской губернии приходили, искали землю незанятую, вот они черемисами себя называли. — Ну и как, переселились? — Нет, куда-то на север подались. В Тесинском кроме Аланова, жило еще четверо ссыльных: старик-врач и трое рабочих. Врач — бывший народоволец, имел вечное поселение. Узнав, что Аланов социал-демократ, старик стал смотреть на него косо, при встрече проходил мимо без единого слова. Рабочие же тут находились не в административной ссылке, как Аланов, а на поселении, поэтому им не полагалось восьмирублевого ежемесячного пособия и жить им было не на что. Найти работу в Тесинском — дело немыслимое, местные богачи нанимают староверов, а ссыльных и близко к себе не подпускают. Поэтому рабочие перебивались редкими и случайными заработками, часто ссорились между собой, враждовали с теми крестьянами, которые называли их «каторжниками», ненавидели врача и Аланова, считая их «господами». Один из этих рабочих раньше жил в Шушенском, Аланову хотелось расспросить о месте ссылки Ленина, но это ему так и не удалось. Володя, кроме того, что помогал по хозяйству, платил за квартиру и за еду пять рублей, сам покупал муку. Он совсем обносился, и хозяин отдал ему свой старый зипун и валенки. Володе тяжело далась первая сибирская зима. Он свел было знакомство с волостным писарем, но однажды неосторожно прочел ему одну эпиграмму Пушкина, которую писарь принял на свой счет, обозлился и с тех пор перестал приглашать его к себе. Дома бывало тоскливо. Хозяин жалел керосин, поэтому длинными ночами Володя лежал и предавался горестным размышлениям, прислушиваясь к завываниям ветра. Как-то раз в середине зимы хозяйская дочка позвала его на посиделки, на которые собирались деревенские парни и девушки. Аланов стал ходить на посиделки постоянно до тех пор, пока один парень не приревновал его к хозяйской дочери и, подговорив других парней, не избил его. После драки самого же Володю два дня продержали в каталажке. Аланов впал в уныние. Он как-то растерялся и. спрашивая себя, как и раньше, что бы предприняли, оказавшись в таких условиях, большие революционеры, не находил на свой вопрос ответа. В это время в Тесинское из Ачинска перевели еще одного ссыльного. На другой же день по приезде Порховский (такова была фамилия нового ссыльного) познакомился с Алановым, расположил к себе его хозяина тем, что, здороваясь, подал ему руку, и Володя с помощью хозяина сумел снять новому знакомому квартиру по соседству. Вскоре Порховский стал получать из Москвы посылки и бандероли с книгами, кроме того, он выписывал газеты и журналы, издаваемые в Сибири. «Была бы у меня мать графиня, я бы тоже хорошо жил! Вон как заботится о нем его мать, как хлопочет об облегчении его участи», — с завистью думал Володя. — Читай, товарищ, не ленись, — сказал Порховский Володе, — книги, газеты, журналы — все в твоем распоряжении! Аланов, изголодавшийся по чтению, ухватился за журналы «Молодая Сибирь», «Сибирская Новь», «Сибирская неделя», взял книгу «В дебрях Сибири», сборник «Перлы русской поэзии» и еще несколько других, собираясь прочесть их все разом. Они сдружились. Порховский начал писать труд о Минусинском крае, Аланов помогал ему: собирал материалы, делал выписки, расспрашивал крестьян, занимался перепиской. «Минусинский край расположен вдали от теплых океанов: на расстоянии в 4.700 верст от Атлантического океана и 2.700 — от Тихого. На эту территорию оказывает влияние Северный Ледовитый океан, и климат тут континентальный. Зимой морозы достигают 40° (в пойме реки Уса — свыше 46°). По низким температурам этот край можно сравнить с Чукотским мысом, Северной Камчаткой и островами Шпицберген. По высоким температурам его можно сравнить с Воронежем, Полтавой и Константинополем. Земля тут сухая, испарений не бывает, воздух чист и прозрачен. Весною прежде других рек вскрывается Туба. На Тубе расположены деревни Тесинское, Курагинское». Аланов поставил точку и посмотрел в окно. Там, как и на его родине, летел мягкий, пушистый снежок; по улице проехал мужик на паре, запряженной цугом, из-04 под ворот вылезла и залаяла собака, похожая на волка, сугробы к весне начали оседать. «Вот где суждено мне жить… — подумал Володя. Его рука потянулась было к ящику стола, где лежали письма от Насти — всего два за целый год, но он сказал себе — Нет, хватит, и так уж я перечел их раз пятнадцать! Нужно скорее закончить переписку рукописи, Порховский не любит, когда дело не доведено до конца. Вот недавно я не смог вовремя достать статистические сведения, он был недоволен… Правда, он ничего не платит мне за переписку, подарил лишь полотенце и две общие тетради, зато я могу пользоваться его книгами, без чтения мне пришлось бы совсем тяжело…» Аланов снова взял ручку и продолжал писать: «История Минусинского края такова: в 1581 году русские захватили центральный город Сибири Искер и, по словам Латкина, с ружьями в руках и со словами убеждения продолжали завоевание всей Сибири. Но Минусинский край не был завоеван почти до семнадцатого века. Русским завоевателям оказывал сопротивление малочисленный хакасский народ. Отряды Алтынхана в 1642, 1652 и 1659 годах заставляли русские рати вновь отступать до Красноярска, но в конце концов все-таки были побеждены. После смерти князя Иринека самое сильное хакасское племя ушло через Саянские горы в Южную Монголию. На места их прежнего обитания с севера пришли качинцы, с северо-запада — сагайцы, с юго-востока — моторы, с Алтая — тувинцы. Этот край заселялся первоначально казаками, потом ссыльными и крестьянами-переселенцами. Впервые Минусинский край был обследован и описан ученым Гмелнным, который побывал здесь в 1739 году, потом Палласом, проезжавшим эти места в 1771 году, Мессершмидтом, который здесь жил. Кроме них, в Минусинске был проездом в 1847 году Кастрен…»
В течение зимы Володя не раз просился в город, но его не отпускали. Однажды весной Порховский получил извещение, что ему послана в Минусинск посылка. Можно было дождаться, пока посылка дойдет до Тесинского, но он вручил Аланову доверенность и попросил его съездить за ней в Минусинск. Володя с радостью согласился. Ему дали разрешение на один день отлучиться из села. В Минусинске, ожидая прибытия парохода, Аланов долго бродил по берегу, сидел на пне под толстой сосной. Город, город! Сколько нищего, оборванного люда на берегу в этот весенний день! Лежат, сидят на берегу, может быть, такие же ссыльные, как и Аланов, чего-то ждут… Мимо проходят городские девушки — купеческие дочки, мещаночки. Они, проходя мимо оборванных людей, ускоряют шаг, чему-то смеются. Аланов, чисто выбритый, приодевшийся ради поездки в город, все же выделяется в толпе. — Посмотрите, какой молоденький! — услышал он голос одной из девушек, говорившей явно о нем. Он встал, приподнял шляпу, поклонился, но девушки лишь засмеялись и ушли. Правда, одна оглянулась и посмотрела на Володю долгим взглядом. Наскучив ожиданием, Володя решил пройтись по улице. На одном из угловых домов он увидел вывеску: «Библиотека при музее им. Н. М. Мартьянова». Он остановился. Порховский говорил ему, что в городе есть музей и библиотека, организованные ученым Мартьяновым с помощью ссыльных, что книги в библиотеке подобраны очень умело. «Читать не буду, зайду, хоть посмотрю», — решил Аланов и подошел к двери музея, но она в это время открылась, и оттуда вышел человек. Аланов взглянул и воскликнул: — Дядя Ардаш, ты ли это? — Погоди, погоди, а ты-то кто? Ага, вспомнил — семинарист! Ты как сюда попал, мало того, что мы здесь! Эх, браток!.. Ну, дай руку! Пойдем прогуляемся, нынче воскресенье, народу много, людей посмотришь, небось, надоело в своем медвежьем углу сидеть? У Яика Ардаша в волосах поблескивает, хотя лицо еще не старое. В ту зиму, когда он бывал в подвале семинарии, он казался высоким и худым, теперь же его фигура стала более приземистой, возле глаз появились морщинки. Аланов, собираясь рассказать о своих делах, с беспокойством оглянулся по сторонам: — Нет ли здесь марийцев? Никто нас не подслушает? — Нет, говори без опаски. Аланов рассказал все о своей жизни до самых последних дней. Сказал и о Порховском, по поручению которого он оказался в городе. — Спорите с ним, наверное? — поинтересовался Ардаш. — Какое там! Он о политике никогда не заикается. Кроме своей этнографии и истории, ничем не интересуется. Только один раз высказался в том смысле, что никакие нелегальные партии, мол, не нужны, сама жизнь показала их никчемность. — Я Порховского очень хорошо знаю. Он состоит в группе «Новая заря». Самый отъявленный ликвидатор, о таких, как он, Ленин очень верно сказал… — Я ничего не слышал ни про каких ликвидаторов, в тюрьме и ссылке сильно отстал. — Ио конференции, которая в позапрошлом году состоялась в Праге, тоже ничего не знаешь? — Нет. — Ты, и правда, отстал, так не годится. Эта конференция сыграла большую роль в реорганизации нашей партии, она исключила из рядовРСДРП ликвидаторов. Пражская конференция покончила с прежним, пусть формальным, объединением большевиков с меньшевиками и показала, что только партия большевиков является подлинно революционной социал-демократической партией. Пока они прохаживались по улице, Яик Ардаш несколько раз приподнимал свою черную шляпу, здороваясь с встречными, двоим подал руку и познакомил с ними Аланова. Потом он пообещал дать Володе брошюру Н. Ильина-Ленина «Ликвидация ликвидаторства», рассказал о расстреле рабочих на Ленских приисках. Они зашли пообедать в чайную на углу. Хлебая суп, Яик Ардаш спросил: — Про «Туруханское дело» слыхал? — Слыхал немного, но толком ничего не знаю. — Я тогда сидел в Красноярской тюрьме. Попался с «липой»: сбежал из Ачинска и жил по чужим документам. Сижу в одиночке. Как-то раз надзиратель говорит: «Наверху туруханские бунтовщики сидят». Оказалось, что в камере надо мной сидят Аксельрод, Великанов и Иваницкий. Все трое ранены были в перестрелке с солдатами. Когда их вели в кандалах через тундру, они сильно обморозились, Аксельроду обе ноги пришлось ампутировать. Теперь они сидели в ожидании суда. — Я слышал, что их много было, это правда? — спросил Аланов. — Больше двадцати человек, руководил ими анархист Дронов. Он задумал побег ссыльных из Туруханского края. Но затея его была безумной. У него было два пути — или к Енисейску, или на север. Возможно, если бы они пошли к Енисейску, может, и добрались бы они до железной дороги, может, и убежали бы, но они выбрали другой путь — на север, через тундру, где народу совсем мало. — Помогали им люди? — В том-то и дело, что нет! Даже ссыльные в тех местах, через которые они проходили, не всегда их поддерживали, считая, что их затея обречена на провал. Между тем Дронов со своими людьми дошел до Туруханска, там они убили несколько провокаторов, сожгли «дела» ссыльных и двинулись дальше. В это время из Красноярска был послан карательный отряд под командой капитана Натурного, другой отряд вышел из Иркутска. На своем пути каратели расправлялись со ссыльными за то, что они, якобы, помогали Дронову. — Выходит, все это обернулось большой трагедией, — сказал Аланов. — Между тем Дронов дошел до последней деревни, до Гольчихи, — продолжал Ардаш, — дальше начинались совершенно незаселенные места. Посовещавшись, решили, что, пройдя 2000 верст, можно пройти еще 5000, и двинулись на Лену, на соединение с Якутской ссылкой. Надеялись у самоедов купить оленей. Но в Хатанге Дронова нагнал карательный отряд… Многие были убиты в перестрелке, троих сослали на каторгу, трое сидели в Красноярской тюрьме. — Те, что нал тобой сидели?.. — Вот-вот. В потолке, у самой оконной решетки, оказывается, была небольшая дыра. Однажды сижу я, ем суп. Вдруг вижу — спускается мимо окна бумажка на ниточке. Взглянул на дверь, не видит ли надзиратель, и схватил записку. Меня просили прислать табаку и бумаги. Я привязал к той же нитке то, что просили. Тем же путем завязалась у нас переписка. Они писали мне про подробности Туруханского дела, жалели, что не дождались весны. Я, как мог, утешал их, посылал табак. Иваницкий посылал мне разные фигурки, сделанные из хлебного мякиша. Он сделал для меня шахматы. Правда, их у меня потом отобрали. — А самих-то их ты видел? — Нет, не пришлось. Их осудили на смерть и перевели в другую камеру, а меня вскоре выслали сюда. — Сразу в город? — Нет, сначала я жил в деревне. — Как же тебе удалось перебраться в город? — Было бы желание, можно сделать что угодно, — Ардаш дернул Володю за рукав: — Слушай, а ты не хочешь ли в город переехать? — Я бы хоть сегодня! Да нельзя… — Ну, ладно, об этом мы потом поговорим. Сейчас тебе на пристань пора, наверное? — Да, пароход, говорят, прибудет к пяти часам. — Иди, закончишь дела, приходи ко мне, вот тебе адрес, — Ардаш. вырвал из записной книжки листок, отдал Володе. — Пойдешь сначала по центральной улице, потом два квартала направо. Ты на квартире где остановился? — Вместе с ямщиком на постоялом дворе. — Знаешь что? Отправь посылку с ямщиком, а сам оставайся. — И я так думаю. У меня срок только завтра выходит. — Поживи еще дня два-три. У вас кто исправником? Ларионов? — Он. А ты откуда знаешь? — Я от Тулы и до Красноярска всех исправников знаю. — Если так, то тебе немало пришлось повидать… — Что поделаешь, теперь уже не только за разговоры, а даже за мысли ссылают. Про меня и говорить нечего: столыпинский галстук уже был приготовлен… Они еще стояли возле чайной и разговаривали, когда послышался гудок парохода. Аланов протянул Яику Ардашу руку: — Ну, я пошел. До вечера! — Ты вот что: ямщика отправь, с ним передай, что вернешься завтра, только на словах, приятелю своему ничего не пиши. Ты вообще старайся поменьше заниматься писаниной, только в крайних случаях. Если твой исправник узнает, что ты не приехал вовремя, не подаст вида: ему же надо начальству рапортовать, что у него «все в порядке», ему по-другому невыгодно, сам знаешь… — Знаю. Но все-таки боязно. — Ничего, учись не только слушаться начальства, но и не слушаться. Ссыльному нельзя жить, как пришибленному. Ну, иди, пароход уж, наверное, пристал. — До свидания. Ямщик уже запряг лошадь и спустился на пристань. Получив с ним вместе большой ящик («Книги там что ли?» — подумал Володя), погрузили его на телегу. Ямщик попрощался и уехал. Аланов остался в городе. Он прожил у Яика Ардаша три дня. Раньше он видел Ардаша в подвале семинарии лишь издали, теперь познакомился с ним близко. Когда Ардаш рассказывал о революционной работе, проводившейся в Уфимской и Казанской организациях, у Володи загорались глаза. А когда, смеясь, повествовал, как на Тульском заводе впервые влюбился в русскую девушку, Володя от души смеялся вместе с ним. Однажды Аланов спросил про Унура Эбата, о котором слышал от своего дяди Моркина. — Мы с ним во дворе Уфимской тюрьмы однажды встретились, — сказал Ардаш, и вспомнил, как во время прогулки им с Эбатом удалось перекинуться парой слов. — После не приходилось встречаться, может, погиб в тюрьме, может, в ссылке где-нибудь в батраках живет. — Он в самом деле был революционером? — Он у нас как бы связным был и прокламации распространял. В деревне его всерьез не принимали, на самом же деле он был умный и хитрый парень. Более двух лет никто не догадывался о его делах. Поначалу он и сам не знал, кого возит: мы отправляли своего человека из города со своим ямщиком, тот довозил человека до дома Эбата, дальше его вез Эбат. Так было вернее, потому что на волостной станции, когда ляжешь спать, рылись в наших чемоданах и об их содержимом докладывали полиции. Так двое наших попались. — Кто же их выдал? — Оказалось, что сам хозяин станции был полицейским шпионом. Таких, как Эбат, многих посажали. Он хотя не был сознательным революционером, все же помогал нам по силе возможности, потому что бедный крестьянин стал разбираться в классовой борьбе. — Наверное, его освободили по случаю празднования трехсотлетия дома Романовых. Раз за ним не было большой вины… — Нет, тогда амнистировали только тех, кто был осужден за литературную деятельность. Другим политическим амнистии не было. — В Тесинском есть трое случайно попавших в ссылку рабочих. Они, кроме одной-единственной демонстрации, ни в чем не замешаны: ни собраний не посещали, ни в кружках не были, о партии и вовсе не слыхивали… — Откуда они? — Из Иванова-Вознесенска. — Ну, таких — один на тысячу! В Ивавове-Вознесенске есть кому вести разъяснительную работу среди рабочих, там народ стойкий, много борцов. Вот когда я жил в Нарыме… Ардаш рассказывал так интересно, что Володя готов был слушать его с утра до ночи. Хорошо было Аланову в городе, но нужно было возвращаться в Тесинское. Не успел он приехать на попутной подводе домой, как явился урядник и отвел его в каталажку за то, что пробыл в городе дольше разрешенного срока. Пять суток продержали Аланова под арестом, потом приказали собрать вещички и на повозке отправили в другую деревню. Хотя жизнь в Тесинском была тяжела для Аланова, все же ему взгрустнулось, когда пришлось уезжать. Порховский не вышел провожать Володю, попрощался за руку и снова сел что-то писать. Но Володя на него не обиделся, он был рад, что тот на прощание подарил ему целую корзину книг. Правда, сначала, вспомнив слова Ардаша о Порховском, Володя хотел отказаться от подарка, но потом подумал, что без книг в дальней деревне будет совсем тоскливо, и взял. Когда отъехал от Тесинского, начались луга с голубыми цветами. Володя смотрел на цветы, на голубое чистое небо и думал о том, что у Насти глаза такого же ярко-голубого цвета. «Почему жизнь не так красива, как цветы, как небо. почему она не радует так, как взгляд голубых глаз любимой девушки?» Володя махнул рукой, как будто отмахиваясь от этих грустных мыслей, и стал насвистывать какой-то мотив. Началось мелколесье, изредка попадались сосны и березы, которые напоминали родные места. На опушке леса, среди травы, виднелись желтые, красные, синие цветы. Аромат шиповника доносился до проезжавших по дороге. Откуда-то издалека слышался голос кукушки, стрекотали пестрые сороки. По бокам дороги шуршали куропатки, иногда мимо пролетали черные вороны. Дорога пошла на подъем. Слева стал виден Енисей, его изгибающиеся и образующие острова рукава издали кажутся серебряными кольцами. За рекой простирается Абаканская степь. Раньше там паслись табуны диких лошадей, Аланов много раз слышал об этом от местных жителей. Далеко-далеко на юге сверкают белые вершины Саянских гор. Они напомнили Аланову его далекий Урал, и его радость от созерцания великолепной природы снова сменилась грустью. Как тяжело быть вдалеке от родных мест, от семинарии, от товарищей, и особенно — от Насти. — Не горюй, парень, скоро приедем, — вдруг сказал возница. Аланов был рад, что тот до сих пор ехал молча: ему надоели всегдашние расспросы о том, кто он и откуда, есть ли у него мать с отцом, сколько ему лет, за что сослан и тому подобное. С кем бы ни встречался Володя — с крестьянином ли, с мещанином или ссыльным — все спрашивали одно и то же. Спустившись с холма, въехали в густой лес. По обеим сторонам дороги стояли высокие сосны и кедры, толще, чем в два охвата толщиной. Сверху беспрерывно доносился гул, похожий на шум морского прибоя, это вековые деревья вели свой бесконечный разговор с ветром. Деревья стояли прямо, горделиво подняв кроны, словно гордясь тем, что первыми встречают восход солнца. Внизу, среди стволов, безветренно и немного прохладно. Сильно пахло смолой. В вышине, над самой дорогой, парил орел, как будто следил за путниками. Володе казалось, что орел спрашивает у него: «Что тебе надо в моем краю?» Но вот лес начал редеть, и впереди показалось село Ермаковское. За ним, словно маня к себе, снова засверкали серебристыми вершинами горы. Приехав на место своей новой ссылки в село Ермаковское, Володя долго ходил из дома в дом, пока не нашел квартиру. Опять нужно привыкать на новом месте, опять искать какую-то работу. На одно пособие не проживешь. Еще три месяца назад, когда в Ермаковском было мало ссыльных, цены на продукты стояли умеренные. Теперь ссыльных стало больше, и цены подскочили: фунт хлеба, стоивший две копейки, теперь стоит четыре, крынка молока, вместо трех копеек, стоит семь, а то и восемь, за десяток яиц спрашивают уж не пятак, а двадцать — двадцать пять копеек, за фунт мяса — десять копеек, за ведро картошки — семь. Аламов познакомился с другими ссыльными, узнал, что вое они живут в очень тяжелых условиях. Из двенадцати ссыльных двое живут в батраках, но хотят уходить, потому что хозяева ничего не платят им, приходится работать только за харчи. В прошлом году шестнадцать человек из двух соседних деревень организовали артель по сбору кедровых орехов. Но у них не было никакого инвентаря, пришлось покупать лошадь, лодку, ставить амбар, приобретать гвозди, рукавицы, нитки, иголки, ложки и керосин. Еще был расход на квартиру, на оплату лечения заболевшего товарища. Продав 110 пудов орехов и получив доход 258 рублей 82 копейки, посчитали расходы, и оказалось, что каждый — в результате тяжелых трудов получил лишь шесть-семь рублей в месяц. Но если учесть, сколько одежды и обуви при работе в тайге изорвалось, то оказывалось, что доход артельщиков вовсе ничтожен. — Жизнь очень трудная, — сказал товарищ, заключая свой рассказ об артели. — Нынче весной мы открыли столовую. Как и у артели, доходов никаких, лишь бы прокормиться. — А что, если открыть сапожную мастерскую? — предложил Аланов. — Я слышал, что в некоторых местах открывают. — Открывали и мы в позапрошлом году, да толку не было: привезешь в волость на базар — продавцов много, покупателей нет. Если увидишь на базаре человека, торгующего сапогами, так и знай, что это — ссыльный. — Может, купить земли и обрабатывать ее? — На какие средства? Нужны кони, плуги, а тут и за землю нечем платить. В прежние времена в Ермаковском один декабрист жил. Вот он пахал и сеял, даже батрака держал. Теперь — другие времена. Недели через две Аланова догнало письмо, посланное Настей в Тесинское. Оно добиралось больше месяца, Володя поспешно распечатал конверт и стал читать. «Добрый день! Володя, мой милый, мой далекий, свет моих очей, что мне делать? Я очень соскучилась по тебе. Ухожу на высокий берег Белой, подальше от людских глаз, и там плачу. Села бы на краешек белого облачка, полетела бы к тебе, обняла бы и поцеловала. Зачем только я встретила в жизни такого человека? Отчего ты не вел себя тихо? Тогда мне не пришлось бы так горевать. Мои коллеги-учительницы косятся на меня, доносят инспектору, что я переписываюсь с ссыльным. Отец, узнав, что я переписываюсь с тобой, отказался от меня, за целый год ни разу не навестил. Отцовский дом вскоре после того, как уехал Эман, кто-то спалил; говорят, что это отомстил отцу какой-то обсчитанный им батрак. Горемычный ты мой, тяжело мне приходится, но я не могу тебя забыть. Вот только не знаю, любишь ли ты меня… Может быть, ты женился на какой-нибудь конторской барышне? Или вошел в дом к богатой сибирячке? И не вспоминаешь о далекой Насте, вот уже полгода от тебя нет писем. Что случилось с тобой, горе ты мое? Я часто вспоминаю, как мы гуляли с тобой по улицам, разговаривали. Помнишь, ты называл моего отца мироедом, сосущим кровь бедняков? Но хотя я дочь такого отца, ты любил меня. Говорил, что любишь, не знаю, искрение ли… Иногда я думаю, что, может быть, ты сейчас зависишь от такого же, как мой отец, мироеда, и поэтому возненавидел и меня. Вот и письма не пишешь. А может быть, ты заболел? Я послала тебе 20 рублей, получил ли ты их? Не обижайся, что так мало, я теперь живу на собственный заработок. Отец ничего не дает, да я бы и не взяла у него ничего- За эти годы я сильно изменилась, только тебя, как прежде… нет, сильнее прежнего, люблю! Володя, скорее бы ты вернулся! Теперь ведь осталось недолго ждать, правда? Шесть месяцев и два дня, если не считать сегодня. Значит, всего сто восемьдесят четыре дня. Не знаю, как проведу наступающее лето. Если бы у меня были деньги, чтобы развеять грусть-тоску, поехала бы за моря, поглядеть чужие страты (такие компании все время собираются) или же побывала на Кавказе. Если бы ты был поближе, а не в такой дали, обязательно приехала бы к тебе. Но нет, видно, придется провести все лето в нашем городе, который мне так надоел. В городе интересных новостей нет. Открыли еще один кинематограф, зимой приезжал малороссийский хор. В семинарию понабрались новые парни, живут тихо, прилежно учатся. Недавно я возвращалась из школы, проходила мимо их общежития и услышала звуки скрипки, показалось на миг, что вот-вот ты выглянешь-из окна, улыбнешься мне. Но нет, ты далеко… Между прочим, есть такие, кто непрочь бы жениться на твоей Насте. Знаешь, кто? Ни за что не догадаешься! Эмаш! Да, Эмаш. Он вернулся из Казани, служит у нас секретарем мирового судьи. Когда я отказала ему, он женился на Лене Новиковой, ты ее знаешь… Но как-я могла выйти замуж, бросив своего Володю? Я дала ему слово, я столько ждала его, я привязана к нему всем сердцем! Володя, я верна своему слову, дни и ночи я жду тебя, ты не можешь не чувствовать этого. Возможно, не вытерплю, накоплю денег, брошу все и осенью приеду к тебе. Я просто с ума схожу, не знаю, что и делать. Сестра Амина и зять Эман звали меня. Они живут возле Урюпа, может быть, ты сумеешь с ними встретиться? Я тебе послала адрес зятя, спрашивала, не можешь ли ты поехать к ним. Получил ли ты это мое письмо? Или тебе нельзя к ним съездить? Неужели внутри одной и той же губернии нельзя передвигаться? Бог мой, как издеваются над ссыльными! Как бы то ни было, снова посылаю адрес. Когда у тебя кончится срок, хорошо бы нам встретиться у моей сестры. Я бы могла устроиться там на работу, наверное, и в Сибири нужны учителя. Здесь мне невыносимо. Лучше нам с тобою жить на-стороне, Амина и Эман помогли бы нам поставить дом, мы бы открыли в их деревне школу, организовали бы библиотеку и какое-нибудь товарищество… Ой, какая ты, Настя, дура! Разве можно так много загадывать? Правда, Володя? Написала много лишнего, может быть, ты посмеешься надо мной, назовешь, как когда-то. наивной… Кто знает, может быть, ты уже не любишь меня, может, давно обзавелся семьей и хозяйством. Только я, дура-девка, жду тебя и горюю, вместо того, чтобы весело проводить свою молодость, петь да плясать… Нет, все не так, ведь все не так, Володя? Наверное, у тебя было трудное время и не писал поэтому, или болел, или письмо потерялось. Правда? Ну, Володюш мой, горе ты мое, успокой мою душу, напиши скорее и вышли свою карточку. Не горюй слишком, теперь уж немного осталось потерпеть. Дай правую руку, дай поцелую, я тоже не стану больше плакать, буду жить, надеясь на нашу встречу, хорошо? Я давно послала тебе свою карточку, получил, наверное? Как она тебе понравилась? Сильно я изменилась? Ну, еще раз горячо тебя целую, не тоскуй, и я не буду, нам с тобой еще жить и жить, надо быть стойкими! Настя Орлаева. 1914 год, май». Володя с письмом в руках выбежал на улицу. Он прибежал к тому ссыльному, который рассказывал ему про артель, и, смеясь от радости, как ребенок, показал ему письмо, некоторые места перевел на русский язык. Товарищ слушал без особого интереса, но, видно, не хотел омрачать Володину радость. Он понимал, что такое душевное письмо поднимет настроение любого человека, тем более двадцатидвухлетнего юноши, поэтому он сказал приветливо: — Хорошая девушка! Ты, Аланов, оказывается, счастливый человек! Весь день Володя ходил пьяный от счастья. Ему хотелось всем и каждому рассказать про письмо. Но он сдерживал себя, и лишь когда его спрашивали, что за письмо он получил, принимался рассказывать про родной город, семинарию и, конечно, про Настю. Один из его приятелей сказал, выслушав восторженный рассказ Володи: — Ну, ладно, письмо, что и говорить, хорошее. А куда ты идешь, что сегодня собираешься делать? — Иду на тот конец работы поискать, говорят, Кирилл Хромой хотел нанять кого-нибудь вывозить навоз на поле. — Опоздал ты, Петрунин уже вывозит. — Правда? — Сам видел. — Что же мне делать? Я в столовой много задолжал… — Надо найти какой-то выход, пока не получишь Настины деньги. — В этом медвежьем углу трудно сыскать выход!.. — Егор Микряков нанял двоих наших городьбу городить, но они оба заболели. Я нанялся к нему, нужен еще человек. Пойдешь? — За сколько? — Да за сколько бы ни было! — Ладно, согласен. Вечером усталый Аланов вернулся домой и увидел у себя Яика Ардаша. — Ты откуда взялся? — удивился Аланов. — Из Минусинска. — Теперь я тоже могу сказать: для чего ты в этот медвежий угол приехал, мало того, что я здесь? — улыбнулся Володя. — Ну да ничего, Ермаковское так Ермаковское, и здесь люди живут, как-нибудь и мы… Деревня эта не такая уж безвестная, напрасно ты ее медвежьим углом называешь. Знаешь, кто здесь до нас жил в ссылке? — Знаю, Курнатовский. — Не только он. Тут жили Лепешинский с женой, потом Сильвин и Панин. Но главное: сюда в 1899 году приезжал из Шушенского Ленин и провел тут собрание марксистов. Тогда была вынесена резолюция против ревизионистов. Да, деревню Ермаковскую многие знают. — Но почему тебя сюда перевели? — спросил Аланов. — Помнишь, я тебе показывал своего хозяина? — Лавочника? — Ну да. В прошлом году он согласился взять меня приказчиком, и даже исправнику написал, что берет меня. Только благодаря этому меня перевели в город. Лавочник видел, что я работаю честно, старательно, и хо-рошо ко мне относился. Но второй приказчик был вор и прохвост, он и меня подбивал жульничать, да я не согласился. Тогда он на ремингтоне напечатал такое письмо: «Дорогой Петр Леонтьевич! Мы начали работу, дела идут хорошо. Исправник только за гимназистками бегает, ничего не замечает, это нам на руку. И мой хозяин-лавочник— дурак, его легко обманывать. Пиши, что у вас, скоро ли начнете? Боевой привет! Ардаш Яиков». — И куда он с этим письмом? К исправнику что ли? — спросил Володя. — Нет, он сделал хитрее: вложил в конверт, на конверте безо всякого адреса напечатал: «Петру Леонтьевичу», подкрался к моему окну и через открытую форточку забросил на стол, а сам побежал с доносом в полицейское управление. Я в это время в магазине был, без меня пришли, сделали обыск, нашли это письмо. Больше ничего, мои бумаги им в руки никогда не попадутся. Соседская девочка видела, что письмо было мне подброшено. Но исправник слушать ее не стал. Хозяин мой перепугался, сказал, что увольняет меня, вот я и очутился снова в деревне. Ну да ничего, брат, всюду жизнь! Не пропадем, верно? — Яик Ардаш схватил Володю и попытался его поднять. — Ох, не получается, видно, стареть начинаю. Бывало, на Астраханской пристани пятипудовые ящики, как игрушки, таскал… Да, года проходят, не остановишь… Ну, а ты как живешь? Знаешь что, я не стану искать себе квартиру, пусти к себе. Володя обрадовался. Что бы там ни было, а с хорошим другом, да еще с таким, как Яик Ардаш, будет легче. Он показал Настино письмо. Яик Ардаш прочел, «сказал одобрительно: — Хорошая девушка, видать. Потом он показал Володе конверт, спросил: — Видишь? — Конверт как конверт. — Посмотри внимательнее. — Ничего не вижу. — Край конверта заклеен: это в полиции сделали перлюстрацию: вскрыли конверт, письмо прочли, потом снова заклеили. — Совсем незаметно! — Теперь они наловчились делать это незаметно. — А если бы на письме была сургучная печать? — На сургучную печать наклеивают хлебный мякиш, и она на нем отпечатывается. Потом сургуч ломают, письмо читают и на новый сургуч переводят печать с хлебного мякиша. — Действительно, наловчились охранники! — Мы тоже не лыком шиты. Если, нужно сообщить что-нибудь тайное, у нас есть свои методы. — Знаю я один метод, — вспомнив, как писал дневник молоком, сказал Володя. Возвращая письмо, Ардаш улыбнулся. — Ну, Володя, скоро домой вернешься, свадьбу сыграешь, а? — Кто знает, вернусь ли, не своя воля… — Не бойся, минет срок, никто тебя здесь задерживать не станет… Эх, жалко, не придется мне на твоей свадьбе погулять… — вздохнул Яик Ардаш, но потом засмеялся и сказал: — Слышал я одну забавную историю про женитьбу. В прошлом веке один богатый поляк князь Любомирский женился на девушке по фамилии Шейковская. Женился он против воли отца. Отец пожаловался царю Николаю Первому на непослушного сына. Царь распорядился так: «Брак объявить недействительным. Любомирского в наказание за неподчинение отцу отправить на Кавказ солдатом на три года. Шейковскую считать девицей». Долго еще в тот вечер Ардаш и Володя сидели, разговаривали и смеялись.
СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ
Сегодня особенно хорошо на Урюп-реке! Взглянешь с гористого берега на реку — вода блестит на солнце, как стекло, а отражения деревьев, возвышающихся по берегам, похожи на таинственный лес, опрокинутый в водную глубь. — Эма-а-ан! — слышится с берега. Голос летит далеко, дважды отдастся эхом и только потом замирает. Посреди реки виднеется лодка. Три рыбака в ней тянут сеть; вторая лодка качается на легкой волне чуть поодаль. — Эма-а-ан! Звук голоса как будто раздваивается: летит в тайгу, стелется по воде. Один из тех людей, что тянут сеть, оборачивается, чтобы взглянуть на кричащего с берега человека. От его движения лодка качнулась, по воде побежали волны. — Эма-а-ан! Эман приставил ладонь ко рту, крикнул: — Чего тебе, отец? Не дожидаясь ответа, он повернулся к своим товарищам и, продолжая тянуть сеть, сказал: — Вот ведь беспокойный какой! Скучно ему без дела сидеть, сюда пришел… Рыбы золотыми кольцами выпрыгивали из сети, падали на дно лодки. — Эма-а-ан! Левее держите, левее-е! — кричит с берега старый Кугубай Орванче. — Чего-то руками машет, — сказал один из рыбаков. — Пусть машет, ты на сеть смотри, а не на него, — ответил Эман. — Рыбы, видно, много, сеть тяжело идет. И на той лодке тянут с трудом. Кугубай Орванче не унимается: — Левее-е, говорю! Всю рыбу упустите-е! Но вот лодка, полная рыбы, причалила к берегу. Кугубай Орванче торопливо спустился по тропинке. Подошел, опираясь на палку, сказал: — Небось, половину рыбы упустили. Ведь говорил я, как надо было!.. — Ничего не упустили, отец, отойди-ка в сторонку, — с раздражением оборвал его Эман. Рыбаки принялись перекладывать рыбу в корзины. Кугубай Орванче отошел в сторону, присел на поваленный в прошлом году бурей кедр, закурил трубку. С высокого берега спустились внук Сергей с приятелями и сосед-старик. — Дедушка Орванче, ты уже здесь? — Хе-хе-хе, — посмеивается Кугубай Орванче, — я не сплю, как вы, допоздна. Я с солнышком выхожу на работу. Все стали разглядывать улов. — Раньше больше было, — сказал Кугубай Орванче. — Чего? — не понял сосед. — Про рыбу говорю. Раньше много рыбы было. Наши деды ее решетом черпали, не надо было ни намета, ни сети. — Где это, в Ипонии что ли? — В Уфимской губернии, там, где мы раньше жили. — В нашей Казанской губернии тоже много рыбы водилось. Бывало, отец с берега кинет хлеб. Рыба подплывет, отец ее хвать рукой и вытащит. — Ну, это ты врешь, сосед! — улыбнулся Кугубай Орванче. — А ты не врешь? Ребятишки засмеялись. — Уходите отсюда, вот я вас! — Кугубай Орванче замахнулся своей клюкой. Ребятишки убежали. Старики помолчали немного, потом Кугубай Орванче показал палкой на кучу рыбы: — Чавычи много, небось, на нерест шла. — Красивая! — Самка это, потому и красивая, голова-то у нее серебром-золотом блестит. — Это самец, он красивше. — Неправда! Самка. — Зачем споришь, Орванче, я-то знаю, видел самцов. — И я видел. — Ты, может, нельму видел. — Нет, нельма сюда не заплывает. Она, говорят, только в Колыме водится. — Наверно, так. Я тоже эту нельму ни разу не видел. Ее здесь нет. Давадчан, таймень, кижуч — этих много. — Да-а, рыбы много, ельника много, а вот береза не растет… — вздохнул Кугубай Орванче. — Не растет — и не надо, без березы можно прожить. — Так-то оно так, да… Вот у меня в Коме во дворе березы росли. Бывало, придет сосед или кто другой, сядем под березкой, побеседуем, как хорошо! — Здесь-то лучше, вон лес какой большой, не то, что твои березы во дворе. — Все равно душа не может забыть родные, места… Кугубай Орванче хотел еще что-то сказать, но увидел, что рыбу начали таскать наверх, и хотел пойти помочь. Сосед остановил его. — Не ходи, сами управятся, ты им только мешать будешь. Кугубай Орванче неохотно сел на прежнее место. — Обидно, сын со снохой никуда меня не пускают: ни рыбачить, ни пахать, ни за кедровыми орехами. Неужто я так уж сильно состарился, а? — Да уж не молодой, конечно. — Ты сам такой же, так что не радуйся моей старости. — Чего сердишься? И тебе и мне только и осталось, что на печи лежать да дожидаться, когда на тот свет отправимся. — Э-э, нет, хочу еще немного подышать сибирским воздухом, всего-то пять лет, как сюда приехали… Между тем рыбаки ушли с берега, лишь пустые лодки, лениво покачивались на воде. — Чего теперь родные места вспоминать? — снова заговорил сосед. — Все тебя там забыли, ты теперь, как говорится, отрезанный ломоть. — Может, не забыли… Отцы и деды наши велели не забывать родню. — Ну, отцы-деды чего только не говорили! Кто об этом нынче вспоминает? — Это плохо, что не вспоминают. Они правильной жизни учили. Отцы-деды говорили:, чего себе желаешь, того же желай и другим. Говорили: не нужно мстить, потому что даже небольшая месть может привести к большой беде. Еще говорили: люди должны жить в согласии, помогать друг другу, заботиться как о друге, так и о недруге. — Хе-хе, ничего себе! Что еще говорили эти старые дураки? — Какие ж они дураки, очень даже, умные были люди. Правильно говорили. Еще велели держать в чистоте дом, двор и собственное тело, учили беречь и слушаться родителей. — Вот это верная заповедь! — Верная, конечно. А меня ни сын Эман, ни сноха Амина не почитают, не пускают никуда. Говорят: «Уйдешь, заблудишься, кто тебя искать станет?» — Правильно говорят. В прошлом году уходил — и пропал. — Э-э, разве это «пропал»? Просто я за дикими пчелами побежал, хотел найти их дупло. — Дупла не нашел, самого тебя насилу нашли. Кугубай Орванче пожалел, что начал этот разговор, по все-таки не мог допустить, чтобы не за ним осталось последнее слово. — Да я хоть на целое лето в тайгу уйду травы собирать, все равно не пропаду, и когда захочу, дорогу домой отыщу, без дороги к деревне выйду. Солнце поднимается все выше, греет сильнее. Старики надвинули на глаза свои войлочные шляпы, потом повернулись к солнцу спиной. Теперь Урюп-река сверкает справа от них. С крутого берега вниз сбежал Сергей, у него из-под ног катились мелкие камушки… — Зачем так спешишь? — спросил Кугубай Орванче. — Мужа Салвики медведь задрал! Мама говорит, что он до вечера не проживет. — Опять медведь начинает безобразничать, — проговорил Кугубай Орванче, но не стронулся с места. — Дед, ты разве не пойдешь смотреть? — удивился Сергей. — Не топчись здесь, беги, играй! Чего я пойду смотреть на чужое горе? Не гоже это, внучек! — Да ну тебя, тебе все «не гоже». — Мал еще деда оговаривать! Вот поймаю, спущу штаны… Сергей запрыгал на одной ножке: — Не поймаешь, не поймаешь!.. Сосед сказал, кивнув на мальчишку: — Бойким растет, чалдом! — Сам ты чалдон!.. Я не чалдон! Ты сам чалдон! Кугубай Орванче поднял палку: — Вот я тебя! Сергей убежал. Старики засмеялись ему вслед. Кугубай Орванче вздохнул: — Сегодня смеемся, завтра, может, как муж Салвики, покойниками будем… — Помрем так помрем. Мы пожили свое, пора к родителям отправляться… Салвика с мужем были луйские и в Сибирь приехали вместе с Эманом. Они поселились в одной деревне. Земля тут оказалась хорошая, кругом леса, в лесу полно зверя, в реке — рыбы, скота можно держать без счета. Переселенцы зажили хорошо. Салвика и Амина сдружились. Иной раз, глядя на играющих Сергея и дочку Салвики Алику, Амина говорила: — Пусть играют, пусть дружат. Подрастут, поженим их. — Жди, когда они подрастут! — Время бежит незаметно… — Пока они подрастут, мы состаримся, может, и помрем, — сказала как-то Салвика. И вот, дочка еще не подросла, а отца уже нет в живых. Только тело его пока еще дома лежит… Кугубай Орванче приуныл. На другой день на похоронах ходил печальный и молчаливый. Хотя Салвика знала поверье: если плакать, из слез образуется озеро, и покойник не пройдет, она не могла удержаться. Глаза у нее покраснели, веки опухли, на лице появились морщины. Кугубай Орванче сказал ей: — Не убивайся, дочка, от горя сама заболеешь. Салвика взглянула на старика, вздохнула, утерла слезы концом платка, снова заплакала и вышла из избы. Покойник лежал на лавке. Кугубай Орванче подошел к нему. — Сколько раз я тебе говорил: «Не ходи один, стрелять не умеешь». Вот, не послушался… Медведь— не шутка. Пришли на похороны соседи. Из мужчин — одни старики (остальные на пахоте), — много женщин. Кугубай Орванче с одним марийцем принесли из сарая две колоды, вычистили их, обтесали. В одной прорезали окно, в которое опустили пятьдесят две копейки. Тем временем другие старики на лубяных носилках ногами вперед вынесли покойника во двор. Там был поставлен полог, под которым с телом остались одни мужчины. Один из них разорвал на покойнике рубаху и снял ее. Другой, трижды заходя в дом, вынес сначала мыло, потом веник и в третий раз ушат теплой воды. Обрызгали веник водой, этим веником провели по телу покойника с головы до ног, потом как следует обмыли. Надели ha него холщовые штаны и рубашку, обули в новые лапти, причем лапотные оборы замотали в левую сторону. Надели поддевку, на руки — варежки. на голову — шапку. После этого снова занесли в дом ногами вперед, положили на прежнее место. У изголовья покойника поставили частое сито, в него насыпали ячмень, в ячмень поставили и зажгли свечи. Между тем Амина испекла девять маленьких блинчиков. Салвика взяла три блинчика, подошла к ситу. — Киямат тёра*, это тебе! — сказала она и — положила в сито один блинчик. — Киямат саус[6], это тебе! — сказала она и положила другой блинчик.. — Муж мой Арслан, это тебе! — и она — положила третий. Кугубай Орванче достал из-за пазухи Принесенцые из дому свечи и хлеб. — Это все Арслану, Арслану, — приговаривал он, зажигая свечи и кроша в сито хлеб. Когда свечи догорели, в колоду постелили старый войлок, в изголовье положили старые тряпки, все это покрыли мягким холстом. Только тогда положили в колоду покойника. — Пусть твой дом будет теплым, — сказал Кугубай Орванче, и все повторили эти слова. — Пусть будет у тебя семь тысяч копеек денег! — Кугубай Орванче достал десятикопеечную монету и положил ее в карман поддевки покойника. С левого бока положили полотенце, с правого — палку, чтобы на том свете отпугивать собак и змей, за пазуху сунули три блинчика. — Где у тебя холст, Салвика? — спросила одна из женщин. Принесли длинный кусок холста, им накрыли покойника. — Пусть будут у тебя шелковые качели! — сказала женщина и положила вдоль холста три нитки — красную, черную и зеленую. Другая женщина оторвала от длинного холста кусок, накрыла им лицо покойника, говоря: — Вот тебе покрывало для лица. Сверху покойника накрыли старым чапаном. Когда понесли из избы, Салвика, взявшись за край колоды, произнесла: — Не уноси с собой счастье! Остальные вышли молча. Хотя на дворе лето, колоду, по обычаю, поставили на сани. — Где Алика? Приведите ее сюда! Алика, напуганная и наплакавшаяся оттого, что плачет мать, подошла к толпе провожающих. Кугубай Орванче сказал девочке: — Перешагни три раза через домовину отца и при атом скажи: «Отец, не делай меня бедной, сделай счастливой!». — Зачем? — испуганно спросила девочка и посмотрела на мать. — Доченька, слушайся старших! Переступи. Не заставляй ждать. Люди впряглись в сани. Салвика поймала большого петуха, подала его Кугубаю Орванче. Старик отрубил петуху голову и, держа ее за гребешок, подошел к саням; кровь петуха капала на лоб покойника. Кугубай Орванче в это время приговаривал: — Кровь твою выкупил! Кровь твою выкупил! В это время обезглавленный петух, подпрыгивая, кинулся во двор и там упал замертво. «Побежал во двор, не на улицу, это, говорят, к тому, что в доме еще быть покойнику, — подумал Кугубай Орванче. — Жалко Салвику…» Об этом же подумали, наверное, все остальные и с жалостью поглядели на Салвику и потянули сани. Кугубай Орванче петуха с головой в-ыбросил на улицу и зашагал за санями. День был солнечный, кругом щебетали птицы, белки безбоязненно смотрели с верхних веток сосен своими круглыми глазками. Два марийца закончили рыть могилу и отдыхали. Завидев приближавшиеся сани, они побежали навстречу и помогли тянуть. Могила была выкопана с юга на север. Дерн снят сверху квадратами и сложен в сторонке. Кугубай Орванче пересчитал куски дерна, подумал: «Все сделано по обряду, дернин не шесть, не восемь, а семь, как и положено… Эх, обряды, обряды! К чему они покойнику?» Колоду на двух веревках сняли с саней, переставили на землю. Кугубай Орванче трижды приподнимал покрывало с лица покойника, приговаривая: — Погляди в последний раз на белый свет! Погляди в последний раз на белый свет! Погляди в последний раз на белый свет! Салвика бросила на дно могилы медную пуговку, сказала: — Мать-земля, не жалей землю! Стали опускать колоду. Трижды прикасались ею ко дну могилы и шептали: — Не бойся! Не бойся! Не бойся! Потом колоду закрыли крышкой, на нее положили лубяные носилки, на которых выносили покойника, и, взяв лопаты, завалили могилу, насыпали холмик. Свежая земля блестела на солнце. Кугубай Орванче, нарвав травы, сделал веник, обмахнул этим веником могильный холм, приговаривая при этом: — Пусть твой дом будет чистым, место теплым, а сам будь безгрешным. То же самое проделали и остальные. Один из марийцев, копавших могилу, принес длинный шест, на его конец привязал разорванное пополам полотенце, посадил вырезанную из дерева кукушку. Шест воткнул в землю, рядом с могилой. Вскоре на кладбище никого не осталось. Лишь белая кукушка причитала над могилой, да в стороне лежали перевернутые сани. А вокруг — солнце, вокруг — лес, вокруг птицы поют — жизнь не останавливается ни на мгновенье… После похорон Кугубай Орванче еще больше сгорбился. — Дедушка, что у тебя болит? — спросил как-то его внук Сергей. — Ничего у меня не болит. Разве я похож на больного? — Похож, потому и спрашиваю. — Чем приставать к дедушке, шел бы играть к Апсатару. Завтра, если будет вёдро, мы с тобой пойдем смотреть силки. — Правда? — Ты же знаешь, что твой дед никогда не обманывает. Завтра пойдем, а сейчас беги к своему Апсатару. Сергей накинул на себя старый отцовский зипун, обул сапожки из белой кожи, побежал к соседям. Апсатар сидел за столом и что-то рисовал. Подошла старшая сестра, сказала: — Убирай-ка бумаги, карандаши — весь свой мусор, мы тут сейчас будем пирожки стряпать. Апсатар обиделся: — Мусор! Сама ты мусор! — Ах ты, сопляк, еще огрызаешься! — Убери руку! Укушу! — A-а, укусишь? Вот тебе, вот! — сестра выволокла его из-за стола и несколько раз шлепнула. — Э-э, дурачок, попало! — засмеялся старший брат и. отложив недоплетенный лапоть, начал крутить цигарку. Мальчик собрал бумагу и карандаши и ушел за печку, позвав туда же и Сергея. Оказывается, Апсатар выкинул отсюда все тряпки, поставил чурбан вместо стола. Приятелям за печкой было уютно, как в шалаше. Они принялись рассматривать картинки в книжке. Между тем сестра сняла со стола скатерть, на стол, еще накануне выскобленный до блеска, насыпала муки, выложила тесто и крикнула младшей сестре: — Только и знаешь песни петь, надоела! — Зря, сестра, ругаешься. Разве я плохо пою? Вчера, когда мы эту песню пели на посиделках у Амины, не только старых, даже молодых проняло до слез. — Ох ты! — засмеялся брат. — Ты думала, они почему плакали? От вашей песни? Вовсе нет. В избе дымно было, у всех слезы и побежали. А вы, девки, обманывать мастера! — Мастера, говоришь? Видно, братец, какая-нибудь девушка обвела тебя вокруг пальца. Из-за печки высунулся маленький Апсатар: — Вокруг какого пальца? Теперь засмеялись все. Обе девушки принялись стряпать пирожки с творогом. Младшая, певунья, быстро слепила три пирожка и вдруг сказала старшей сестре, которая только принималась за второй пирожок: — Ой, посмотри, что это у тебя к подолу прилипло! — Где? — оглянулась та. Младшая весело рассмеялась, щуря свои блестящие глаза, сказала: — Эх, девка! Оторвалась от стряпни, не слепив трех пирожков! Забыла примету: теперь твои пирожки в печке раскроются. — Ну, погоди, я тебя в другой раз тоже подловлю! Сергей долго сидел у Апсатара, рассматривал его книжки, слушал, как разговаривали и смеялись девушки. Похвастался приятелю, что завтра с дедом пойдет смотреть силки. Любит Сергей ходить с дедом в тайгу. Далеко вглубь они не забираются, отец не велит, ходят лишь по самому краю леса, но Сергей все равно чувствует себя заправским охотником, который уходит в тайгу. На другое утро Кугубай Орванче с внуком отправился в тайгу. Они осмотрели силок, сделанный из расщепленного сука. Чтобы проверить его, Сергей забрался на дерево, но в силок никто не попался. Они бродили долго, потом Кугубай Орванче сказал: — Пойдем посмотрим комдыш за гумном. Не сгнил ли он с прошлого года… Комдыш — ловушка для птиц — делается так: вбивают колышки по кругу так, что получается как бы большое лукошко, над ним прилаживают крышку, которая захлопывается от малейшего прикосновения. В комдыш втыкают овсяные метелки. На овес прилетают тетерева, и крышка захлопывает их внутри комдыша. Когда Кугубай Орванче с внуком пришли домой, Эман уже вернулся с пахоты. — Гость у нас, — сказал Эман. — Кто? — Идите в дом, увидите. Дорогой гость. Сергей кинулся в дом. Вначале старик не узнал гостя, но, приглядевшись, заулыбался. — Эбат! Ты ли это? Как же ты изменился… Вот, значит, свиделись, а я уж думал, помру, не повидавшись с тобой. Ну, здравствуй, браток Эбат! — Кугубай Орванче протянул Эбату обе руки. Потом он снял поддевку и сетку, повесил на гвоздь. — Это, значит, ваш сынок? — спросил гость. Амина, наливая воду в котел, ответила: — Сынок, Сережа… Сергей, что стоишь истуканом, — упрекнула она сына, — разве не знаешь, что надо поздороваться с дядей? — О, да он у вас уже на охоту ходит! — смеясь,сказал Унур Эбат. Мальчик подошел к матери, спросил тихо: — Кто это? Мать так же тихо ответила: — Эго — дядя Эбат, наш земляк. Приехал повидаться с нами, — потом спросила громко: — Проголодался, Сергей? — Я нет, дед проголодался. — Потерпите немного, скоро суп сварится. Иди, Сережа, на улицу, поиграй покуда. Сергей выбежал из дома, вскоре стало слышно, как он дразнит своих приятелей: — К нам гость приехал, а к вам — нет! — Кто приехал? — спрашивали ребята. — Откуда? — Дядя Эбат! Издалека-а! Амина пошла в погреб за брагой. Когда возвращалась обратно, увидела Сергея, который, минуя ворота, перелезал во двор через изгородь. — Гляди, на сучок наткнешься! — крикнула она. — Чего ты, как волк, все время через изгородь лазишь? — Мы с Петькой поспорили, кто быстрее перелезет, того катать на тележке, — ответил мальчик и раньше матери забежал в сени. — Погоди, сынок, — остановила его Амина, — послушали, что я тебе скажу. При госте веди себя как следует, ешь не спеша, на стол не капай. В разговор старших не встревай. — Ладно, мама! — Сергей с шумом хлопнул дверью, забежал в избу. «Шустрый! — подумала Амина с гордостью. — Еще бы одного ребенка нам… Дочку бы…» Амина внесла брагу, поставила на стол. Все стали обедать, радушно угощая гостя. Унур Эбат, сидя в тюрьме, прислушивался к опорам интеллигентов, расспрашивал их, стараясь помять, что происходит вокруг. Постепенно он начал разбираться, за что борются различные политические партии, за что десятки тысяч людей томятся в тюрьмах, идут на каторгу и в ссылку, находятся под негласным надзором. Но, оказавшись в далекой сибирской деревне, он сразу оказался очень далек от того, чем интересовался в тюрьме. Теперь у него осталась лишь одна забота: как выжить в суровых условиях ссылки. Ему, надо сказать, повезло. Деревня, в которой он отбывал ссылку, стояла на тракте, и Унур Эбат нанялся ямщиком к одному богачу-староверу. Хотя хозяин платил ему вдвое меньше, чем другим ямщикам, все же Эбат жил-лучше остальных ссыльных. Два года проработал он у своего старовера, но после смерти хозяина остался без работы и жить стал, подобно другим ссыльным, в голоде и холоде. Научился тачать сапоги, но оказалось, что этим делом прокормиться невозможно, потому что многие занимались тем же самым. Говорили, в дальних деревнях можно было бы подработать, но туда не отпускало начальство. Нанялся было Унур Эбат в работники, но хозяин приревновал его к своей жене, пришлось уйти. И рыбу он ловил, и с артелью собирал кедровые орехи, и чистил дымоходы, и снег разгребал, и дрова пилил, и сено возил — чего-чего только не делал. Наконец, этой весной кончился срок его ссылки, и Эбата освободили. Теперь, чтобы вернуться домой, ему нужно было заработать денег. Про одну волость, за семьдесят верст, говорили, что там требуются сапожники. Крестьяне той волости держали много скота, поэтому шкур там было в достатке. Один богатый крестьянин открыл даже сапожную мастерскую, и с прошлого года казна стала заказывать солдатские сапоги. Унур Эбат работал в этой мастерской до тех пор, пока не встретил одного старого каторжника, который шел через ту деревню, возвращаясь на родину с Акатуя. Разговорившись со стариком, он узнал, что тот провел на каторге двадцать три года и даже родной язык позабыл. Старик говорил по-русски. — Говоришь, родной язык забыл, ты разве не русский? — спросил Эбат. — Нет, я мариец. — Откуда же ты? — С Урюп-реки, из деревни Ронго, отсюда верст девяносто будет. — Марийская деревня? Они, небось, тоже уж русскими стали… — Нет, там народу много, они между собой по-марийски говорят, а я за двадцать три года ни одного марийца не видел. Это теперь на каторге и в ссылке стали и марийцы встречаться… — Я тоже мариец, — сказал Унур Эбат и пытливо посмотрел на старика — обрадуется или нет. Тот сказал равнодушно: — Вот оно что… А ты чего тут? Унур Эбат рассказал о себе. — Надо взглянуть на здешних марийцев, — решил Унур Эбат в конце разговора. Старик обрадовался. — Вдвоем лучше идти! Мужики нынче злые, на любого прохожего думают, что из тюрьмы сбежал. ночевать не пускают, поесть не дают, за все деньги спрашивают, последнюю рубашку готовы содрать. Мне, старику, трудно одном? идти. — Не горюй, дедушка, вместе идти хорошо будет. Так они пришли в деревню Ронго. Когда поднимались вверх по улице к дому старика, встретили Эмана, который возвращался с поля. Тот, не узнав Унура Эбата, прошел мимо, но Эбат окликнул его: — Эман, ты ли? Как ты-то тут оказался? Эман остановил коня. — Вот, черт возьми, кто приехал! Ну, здравствуй, Эбат. Пошли скорее ко мне, небось, устал, проголодался с дороги. А это кто с тобой? Старик, не останавливаясь, шагал к своему дому. Эбат свернул к Эману. За столом Эбат, рассказывая о себе, рассказал и о старике, с которым пришел в Ронго. Тут в разговор вмешался Сергей: — Ребята на улице говорили: он к сыну пришел, а его никто не узнал, потом сноха узнала… Сейчас в бане парится. — Сынок, придержи-ка язык, — строго сказал Эман. — Держу! — Сергей высунул язык и ухватился за него пальцами, потом, видя, что все засмеялись, засмеялся и сам. Амина рассердилась.Унур Эбат остался жить у Эмана. Постепенно он успокоился, глаза повеселели. Истосковавшись по крестьянской работе, он с удовольствием сеял, боронил. Казалось, он не замечал, что работает не на себя, а на Эмана. Частенько кто-нибудь из соседей просил Эбата помочь в работе, он никому не отказывал. Салвике вместе с Эманом посеял рожь. Запрягая лошадь Салвики, Эбат сказал: — Раньше, в Коме, у меня была и лошадь своя, и избушка. Теперь — ничего нет. Много воды утекло, вся жизнь теперь другая, и сам я другой. Уже старость не за горами. Тпру-у, мерин, не балуй! Когда-то на такой же горячей лошади ездил на свадьбу в Луй. Эх, давным-давно это было… И Салвика с тех пор сильно изменилась. Как вспомню, что вместе с ней тогда на свадьбе плясали, не верится, что это она была… Со временем Унур Эбат стал поговаривать о том, что надо бы и ему обзавестись своим домом. Эман готов был всю жизнь держать при себе такого хорошего и дарового работника, как Эбат, но понимал, что это невозможно. — Погоди, кончим работу, поставим тебе дом. В молодости Эман готов был отдать Унуру Эбату последнюю рубаху, теперь же, когда стал крепким хозяином, было жаль даже щепки из своего хозяйства. Он стал думать о том, как бы подешевле отделаться от Эбата, и надумал: вместо того, чтобы ставить новый дом, приискать ему вдову с домом. Он сказал об этом Амине, та заговорила с Эбатом о Салвике, а тот, оказывается, сам уже не раз подумывал о том, что хорошо бы ему жениться на Салвике. Амина с Эманом взялись уговорить Салвику, им помогли женщины, и к рождеству справили свадьбу. Так Унур Эбат стал мужем Салвики, записался в общество и остался в Ронге. Эман был очень доволен таким исходом дела, и даже хвастался, что сделал доброе дело. Но недолго пришлось пожить Эману спокойно. Однажды Амина подала ему письмо от сестры Насти. Эман прочел письмо, бросил его на стол и крикнул: — Нет! Не нужен! — Кто не нужен? — испуганно спросила Амина. — От одного ссыльного избавились, теперь твоя сестрица хочет навязать нам на шею другого! — Эбат не ссыльный! — возразила Амина. — У него кончился срок. Так же и у Володи Аланова… — Срок кончился, клеймо на нем осталось! Я не хочу из-за него быть в ответе-перед царем! — Вот уж не думала, что ты такой трусливый. Ну что ж, если боишься, Настя не станет тебе кланяться. — То-то, раньше мы с отцом вам кланялись, теперь — вы мне! Амина посмотрела куда-то мимо Эмана: — Вот каким человеком стал мой муж… — Каким я стал? Ну, каким? — Таким, как мой отец. Таким же бессовестным! — Не болтай пустое! — A-а, правда глаза колет? Хоть тебе не понравится, но я все равно скажу. Из-за своего хозяйства ты стал таким жадным, что готов у собаки кость отнять. Хоть бы постыдился своего друга Эбата! Целый год заставлял его работать на себя, не платя ни копейки… — Замолчи, слышишь? — Я пять лет родную сестру не видела, а ты не хочешь, чтоб она приехала. Сердца у тебя нет! — Перестань! Пусть едет, пусть живет у нас, сколько хочет, только бы не тащила зазнобу-ссыльного. — Я же говорю, что Володя приедет по окончании ссылки. — Все равно он мне не нужен. — Так ведь тогда и Настя не приедет. Перед соседями стыдно, что ты родства не признаешь. — Какое мне дело до соседей! Нечего твоей Насте сюда ехать, незачем баламутить народ. — Вот до чего договорился! — Амина всплеснула руками. — Бессовестный! — она взяла письмо. Шло время, Эман все больше отдалялся от Унура Эбата. Впервые они сцепились на сходке. Дело было так. Старик-каторжник, с которым Унур Эбат пришел в Ронго, пожаловался сходу, грустно глядя из-под насупленных бровей: — Сын со снохой выгнали меня из дома, приходится ночевать v соседей… Староста для виду обратился к сыну, с которым они еще накануне переговорили о старике: — Ну, что скажешь? Тот сказал: — Помилуй, староста! Кто согласится содержать дармоеда? У меня дети, как я буду растить их в одном доме с каторжником? — Грубит он что ли? — зевая, спросил староста. — Каторжник он и есть каторжник: детей бьет, нехорошим словам учит. — Врешь! — крикнул отец. — Врешь! — Слышите, как кричит? Вот так же и дома… — Ну, ладно, — сказал староста, повернувшись к старику, — придется выселять тебя из деревни за нарушение общественного порядка. По лицу старика покатились слезы. Унур Эбат не выдержал: — Мужики, что вы смотрите, почему молчите? Есть у вас сердце или нет? Люди зашевелились, зашептались. — Кто там шумит? — строго спросил староста. Тогда вперед выступил Эман и оказал: — По-моему, староста правильно решил, пусть старик живет где-нибудь на стороне. К тому же у него нет земли, никто не даст ему раскорчеванную землю. — Эман, и у тебя совести нет! — крикнул Унур Эбат. — Ты же знаешь, его землю пашет сын. Вся деревня знает, что земля эта — старикова. Сын старика сказал: — Земли не жалко, пусть выкорчует лес, вспашет. Только чтоб у меня не жил! Из толпы раздались голоса: — Да разве у него хватит сил лес вырубить? Бессовестный, родному отцу кусок хлеба жалеешь! — Если вы не жалеете, возьмите к себе в дом убийцу. Он же исправника убил. — Может, случайно его убил! — Если случайно, не присудили бы к каторге… Староста прикрикнул: — Хватит кричать! Кто эту свару завел? Ты, Унур Эбат, да? Лучше бы молчал, не то… — Не то — что? — дерзко спросил Унур Эбат. — Не думай, я не такой смирный, как этот неграмотный старик. Над ним ты издеваешься, над собой издеваться не позволю! Я законы не хуже тебя знаю. Сын старика сказал, обращаясь к старосте: — Вот и принимай в общество ссыльных и каторжных! Вместо благодарности один раздор от них. Унур Эбат рассердился: — Вы тут в тайге привыкли верхом на бедных ездить, только меня вам не оседлать. Не-ет, не выйдет! — Замолчите все! — приказал староста. — Время закрывать сход. Писарь, пиши приговор! Общество постановило: жалобу старика оставить без последствий, а кто согласен его содержать, пусть берет к себе. Все! Унур Эбат прямо со сходки повел старика в свой дом. С Эманом он с того дня перестал разговаривать, но Амина по-прежнему бывала у него и у Салвики. Получив от Насти второе письмо, Амина пришла расстроенная. — Настя опять пишет, что хочет приехать к нам вместе с Володей. — Эман все еще против? — В том-то и дело! Уж и отец его ругал, да он никого не слушает. Унур Эбат покачал головой: — Просто диву даешься, как переменился человек. — Ладно, не сердись на него, — сказала Салвика. — Я не сержусь, только удивляюсь… Амина, а этот Аланов уже освободился из ссылки? — Нет, у него срок вот-вот истекает. Настя хочет, чтоб он сюда после освобождения приехал, она будет его тут встречать. Просто не знаю, что делать. — Не горюй, пусть едут к нам, — сказал Эбат. — Конечно, Амина, — поддержала мужа Салвика, — места у нас хватит, пусть едут и живут! Стравим им свадьбу по марийскому обычаю. Небось, согласятся? — Согласятся! Вот спасибо! Боже мой, как будто камень с сердца свалился! Сегодня же напишу Насте! И вот Настя приехала. Она привезла много новостей. Орлай Кости после того, как сгорело его хозяйство, подняться не смог, построил себе небольшую избушку, не бедствует, но и живет небогато. Эликов издал научную книгу о марийцах Коминокой волости, Настя привезла с собой эту книгу. Между прочим, в ней упоминалось и про Кугубая Орванче. На том месте, где стоял двор Эбата, учитель Моркин со своим молодым коллегой создал плодовый питомник, в Коме появились яблоневые сады. Через два-три дня после приезда Насти должен был приехать и Володя Аланов. Эти три дня показались Насте за три месяца. Чего только не передумала она за долгие часы ожидания… Она то и дело выходила из избы, смотрела на дорогу, прислушивалась к каждому звуку за окном, несколько раз всплакнула, думая при этом: «Сейчас выплачу все слезы, а при встрече буду веселой». Но когда Володя наконец приехал, она не удержалась и, положив голову ему на грудь, заплакала, потом засмеялась. Глядя на них, и Амина с Салвикой не удержались от слез. И, как будто нарочно, чтобы помешать счастью молодых влюбленных, на другой же день в деревню пришла страшная весть: война с Германией! И словно оборвался круг жизни, горе войны придавило все живое.
Новосибирск — Москва.Колхоз «Октябрь».1932–1936 годы.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
10 мая 1936 года Яныш Ялкайн в редакцию национальной литературы Гослитиздата написал письмо, в котором сообщал, что завершает роман «Онго» («Круг»), и просил, чтобы его включили в план издания 1937 года. В письме говорится, что роман «из жизни марийской интеллигенции и крестьянства (1906–1917 гг.), в размере 15,0 п. л.» (ЦГАЛИ, ф. 613, oп. 1, ед. хр. 4952, л. 11). Это было первое крупное произведение прозаического жанра тогда еще молодого, но уже достаточно популярного марийского писателя. С чем пришел к такой литературной заявке 30-летний писатель, как и чем проявит он себя в марийской литературе? Яныш Ялкайн — выходец из крестьянской семьи восточных марийцев. Его родина — село Чураево Мишкинского района Башкирской АССР. Он рано лишился родителей, и в 1917 году, 11 лет от роду, попадает в детский дом. Потом — школа-коммуна, Бирский педтехникум, Московский университет — школа его формирования, становления и возмужания. По специальности он становится ученым-этнографом, но еще в университетские годы начинает увлекаться литературным творчеством. Если считать и годы учебы, творчество Я. Ялкайна охватывает 10–12 лет. За этот период он выпустил 12 книг. Яныш Ялкайн был писателем разностороннего дарования. Ко времени подачи заявки об опубликовании романа «Онго» он был автором поэм «Ленин» и «Сын», сборника стихотворений «Моя страна», автобиографических повестей «Андрий Толкын», «Зеленые годы», «Город», рассказов, очерков, статей по фольклору, этнографии и литературоведению, а также известным переводчиком. Он вошел в литературу как писатель-новатор. Наряду с классиками марийской литературы С Чавайном и М. Шкетаном Яныш Ялкайн вводит новую композицию прозаических произведений, лишенную «былого примитивизма, прямолинейного, хроникального изложения» (Васин К. К. Гордость народа мари. — Литературная Россия, 1966, 11 ноября), характерную для начального этапа развития марийской литературы. Как ученый-этнограф Я. Ялкайн хорошо знал свой народ, его язык, обычаи и традиции. В его произведениях мы видим, как дореволюционное трудовое крестьянство, с патриархальным укладом жизни и примитивным хозяйством под влиянием революционных идей преображается, становится вслед за пролетариатом могучей исторической силой и после свержения революции активно участвует в создании социалистического уклада жизни. Писатель отобразил и путь становления национальной интеллигенции, рождение национального рабочего класса. Он знакомит читателя не только с различными сторонами жизни марийского края, но и всей страны. Богато и поэтическое наследие Я Ялкайна. «Поэзия в моем творчестве занимает равное место с прозой», — признавался он в письме сотруднику Гослитиздата А. В. Германо (ЦГАЛИ, ф. 613, on. 1, ед. хр. 4952, л. 20). Он и в поэзии был одним из зачинателей введения в марийскую поэзию силлабо-тонического размера по образцу русского стихосложения. Важное место в становлении Я. Ялкайна-писателя занимает влияние великого русского писателя М. Горького. Чтение произведений родоначальника социалистического реализма еще в детские гады, переводы его произведений впоследствии на марийский язык, переписка и личные встречи с ним, а также постоянная учеба у великого мастера художественного слова помогли ему следовать горьковским традициям в литературе, определить свое место как в поэзии, так и в прозе. Взаимоотношения Я. Ялкайна и М. Горького — яркая страница в истории всей марийской литературы. Патриотическое и интернациональное было характерно и для личности Я. Ялкайна, и для его творчества. Миогожанровое литературное наследие писателя является результатом именно такого мироощущения. К сожалению, творчество Я. Ялкайна в марийском литературоведении мало изучено, а на русский язык его произведения, если не считать нескольких стихотворений, не переведены. Перевод романа «Онго» В. Муравьевым — это первая возможность для русского читателя ознакомиться с наследием писателя. Роман «Онго» — убедительный и достоверный показ душевной боли и радости марийского народа, реалистическое изображение частицы его жизни, пример умелого внедрения материала фольклора и этнографии в содержание произведения. Время убедительно показало, что эстетические и нравственные позиции автора отвечают мыслям и настроениям и современного читателя. Как мы знаем, Я. Ялкайн сообщал в Гослитиздат о намерении в романе отобразить события с 1906 по 1917 год. Но в ходе работы он пришел к выводу, что события требуют более широкого описания и уместить их в пятнадцати печатных листах невозможно. Потому он решает писать роман в двух частях. Так, роман «Онго» вышел в свет в 1937 году как первая часть, и события в нем завершаются началом империалистической войны с кайзеровской Германией. Вторая часть «Онго» должна была быть включена в план издания 1937 года. Но, к сожалению, она не была издана. Перед нами архивные материалы: письма, краткая рецензия Екишева на вторую часть романа. «Настоящий роман, — пишет рецензент, — является продолжением первой части «Онго». В романе описывается жизнь деревни до и в период империалистической войны, жизнь на фронте, в плену, в Германии и начало партизанского движения в деревне». (Там же, л. 19.) Выражение рецензента «в романе описывается жизнь деревни до и в период империалистической войны» читателя может завести в заблуждение, так как об этом говорилось в первой заявке. Во второй части автор продолжает описывать события дальше. Если в первой заявке автор собирался завершить действие своего романа 1917 годом, то из рецензии мы узнаем, что события романа охватывают и годы гражданской войны, а как экскурс в прошлое, даются события до начала империалистической войны. Как сложилась судьба Аланова, Унурова, Яикова, Орванче, Алимы и других во второй части романа? К сожалению, мы можем лишь предположить это. Указывая на недостатки в романе, рецензент мимоходом называет события: писатель хотел показать характер империалистической и гражданской войн, участие марийцев в этих событиях, повсеместное выступление народов России против своих поработителей. Рецензент советует автору глубже показать события соотносительно решениям VI съезда партии, выступает против показа казаков ярыми врагами советской власти. поскольку по решению Советского правительства созданы казачьи части, следует их заменить карательными отрядами. «Временное правительство, — пишет рецензент, — своей политикой защищало и кулаков. Поэтому вместо грабежа кулака надо, чтобы карательный отряд принял репрессивные меры против бедноты. Также надо заменить место, где партизаны подкупают офицера карательного отряда. Вместо того надо, чтобы партизанские отряды при помощи бедноты прогнали бы карательный отряд за их издевательства над беднотой деревни». (Там же, л. 27–28.) Это все, что мы узнаем из рецензии о содержании второй книги романа «Круг». Чтобы собрать материал для продолжения романа, автор много ездит по Поволжью, Башкирии. Об отношении его к своей работе мы можем судить по его письму от 21 марта 1935 года в адрес заведующей редакцией национальной литературы Гослитиздата А. П. Рябининой: «Роман для меня составляет смысл всей моей жизни, — пишет Я. Ялкайн, — потому что я всю свою предшествующую литературную работу считаю лишь подготовкой, лишь своего рода трамплином для написания высококачественного первого романа, действительно способного выдержать историческую пробу». (Там же, л. 37.) К сожалению, исправленная после рецензии вторая часть в рукописи была утеряна, книга не была издана. Автору этих строк в свое время приходилось идти по ее следам, проверять в ЦГАЛИ все рукописи безымянных авторов. В истории марийской литературы есть такой радостный факт: найдена рукопись второй книги романа «Элнет» классика марийской литературы С. Г. Чавайна. На обложке рукой А. В. Германо под названием романа было написано «на цыганском языке». Такого чуда с рукописью Я. Ялкайна не произошло. О творческих планах и о том, как идет работа над романом «Онго», Я. Ялкайн регулярно сообщал в Гослитиздат то А. П. Рябининой, то другим сотрудникам. Из множества писем хочется привести одно, ярко характеризующее творческие планы Я. Ялкайна, написанное из Башкирии 7 декабря 1936 года: «Многоуважаемая Александра Петровна. Очень-очень благодарен за перевод гонорара по редактированию и по «Онго». Я никогда не забуду о Вашем человеческом участии, о Вашей отзывчивости, помощи з моей литературной работе. Эти деньги помогут мне окончательно доработать вторую часть «Онго» и представить в феврале в Гослитиздат с ходатайством местного ССП об издании. После этого намерен снова вернуться и работать над прерванным романом «Чарла — Пошкар-Ола» («Царевококшайск — Йошкар-Ола»), который будет интересным и новым для марийской литературы и по материалу и по сюжету». (Там же, л. 41.) Канули в неизвестность рукописи второй части «Онго», романа «Царевококшайск — Йошкар-Ола», недописано многое задуманное… но в свои 32 года Я. Ялкайн успел сделать многое. И как итог проделанной работе звучат его слова:П. Апакаев
INFO
Ялкайн, Яныш. Круг: Роман / Яныш Ялкайн; Перевод с марийского В. Муравьева. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1980. - 240 с.; 21 см. — (Волж. просторы).; ISBN В пер. (В пер.): 1 р. 30 к.
Я 70302-062/М 129-80*30-80
ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ
Яныш Ялкайн (Яныш Ялкаевич Ялкаев)
КРУГ Роман
Перевод с марийского Вл. Муравьева Оформление художника А. И. Алешина
Редакторы Р. М. Анакаева и IO. И. Галютин. Художественный редактор Р. Е. Янгильдин. Технический редактор Е. М. Данилова. Корректор Э. Я. Балдит.
ИБ № 534
Сдано в набор 04.07.80. Подписано к печати 20.11.80 Э-03543. Формат 81х108/32. Бумага типогр. № 3. Гарнитура литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 12.6 Учетно-изд. л. 13,39. Тираж 75000 (40001-75000). Заказ № 354. Изд 73. Цена 1 руб. 30 коп. Марийское книжное издательство, 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 43. Марийская республиканская типография, 424700, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112.
…………………..
FB2 — mefysto, 2023
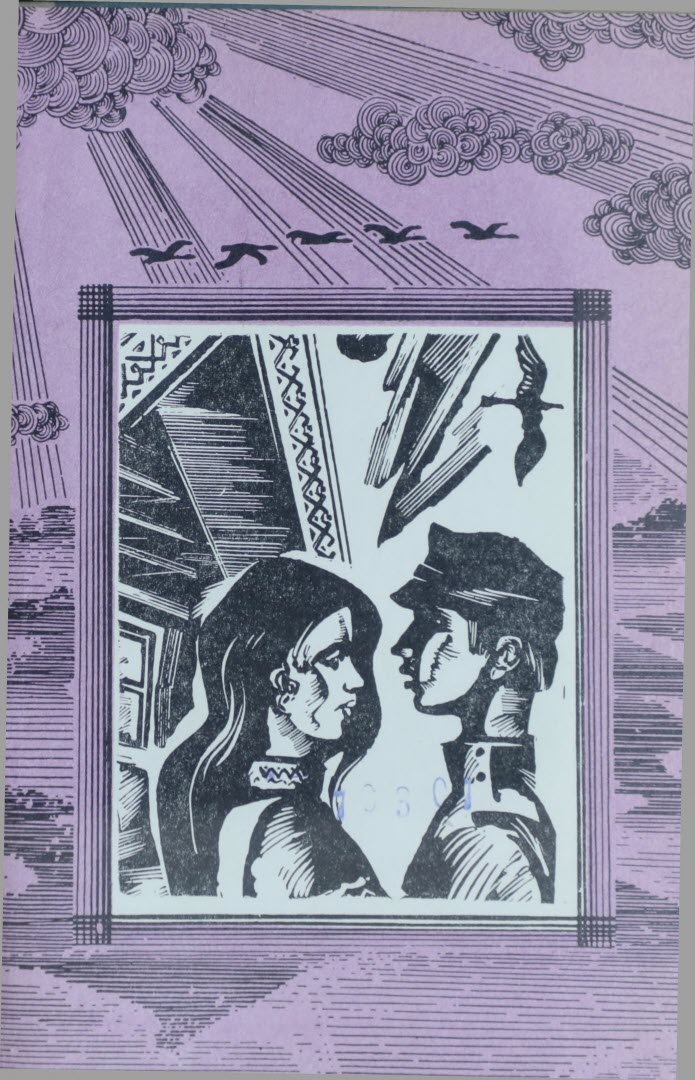
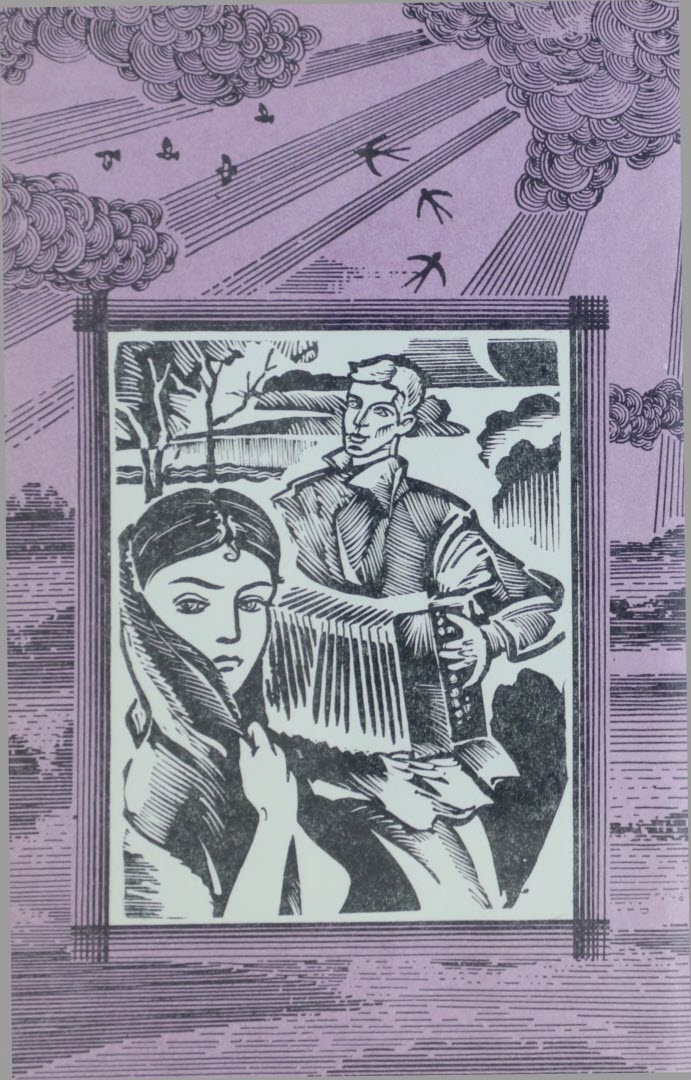
Последние комментарии
55 минут 28 секунд назад
5 часов 58 минут назад
13 часов 47 минут назад
16 часов 18 минут назад
16 часов 26 минут назад
2 дней 3 часов назад