Уинстэнли [Татьяна Александровна Павлова] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
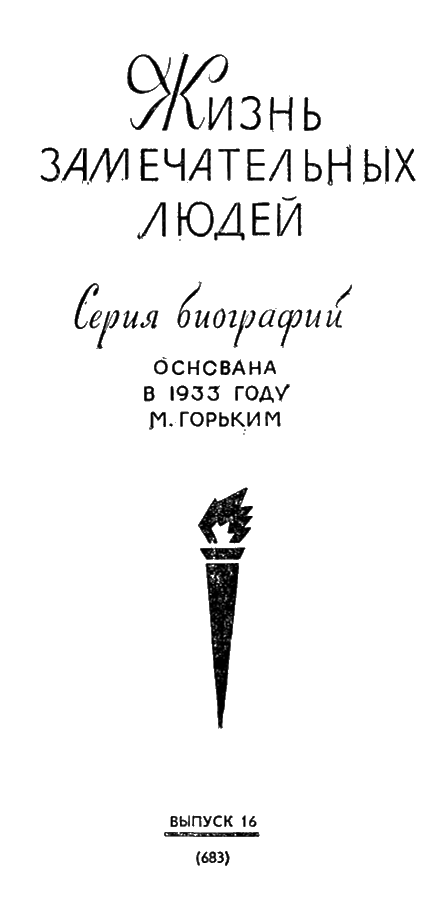
Татьяна Павлова
УИНСТЭНЛИ

*
Рецензенты: кандидаты философских наук Т. Н. Самсонова, А. А. Яковлев
Портрет Уинстэнли, заставки и буквицы — гравюры Ю. Берковского
На обложке: Английский парламент и сельскохозяйственные работы, фрагмент — гравюры XVII века.
© Издательство «Молодая гвардия», 1988 г.
ОТ АВТОРА
О герое этой книги известно очень мало. Мы ничего не знаем даже о его внешности — не сохранилось, а может быть, никогда и не было его портрета; нет и словесного свидетельства о том, как он выглядел. Данные о его детстве, юности, о последних двадцати пяти годах его жизни приходилось собирать по крупицам. Основными фактами биографии служат его трактаты. Но и в них Джерард Уинстэнли был настолько скромен, что о себе писал крайне скупо, почти ничего. Все его существо было поглощено тем великим делом, ради которого он жил, писал, работал, — делом совершенствования человека и его жизни на земле. И все же о Джерарде Уинстэнли, о пути, который он прошел в этом мире, можно сказать многое. Он жил в переломную, трагическую эпоху Великой английской революции середины XVII века, когда вместе со старым миром ломались и корчились в агонии вековые устои феодального общества — его патриархальный уклад, ценности, идеалы, обычаи. А на смену ему шло новое, не менее жестокое для простых людей царство — буржуазное царство чистогана, царство «наживал из землевладельцев и капиталистов» (Маркс). И личная судьба Уинстэнли, его помыслы и действия, его мечты и разочарования, то, что он любил и ненавидел, — все оказалось тесно переплетенным с событиями первой буржуазной революции европейского масштаба. То было время, когда идейная жизнь общества, мечты, недовольства, требования, духовные ценности людей, все их миропонимание еще не отделились от средневековых религиозных корней. Заря нового времени едва занималась — начиналось XVII столетие. Чувства и мысли большинства все еще питались религиозной пищей. И протест против отживающего свой век феодального строя тоже выражался в религиозной форме. Буржуа и новых дворян, приобретавших все больший вес в экономической жизни, не удовлетворяла официальная англиканская церковь. Они становились пуританами (от латинского purus — чистый), сторонниками очищения церкви от католических обрядов и таинств, от власти епископов, от церковных судов. И тем самым они протестовали против политических и социальных устоев. Ведь главой англиканской церкви со времен Генриха VIII был сам король; она же оправдывала, освящала, поддерживала систему феодально-абсолютистской монархии. Вероучение пуритан основывалось на идеях женевского реформатора Жана Кальвина. Пуритане объявляли основой религии личную веру каждого, а значит, отрицали священную монополию духовенства, которое до сих пор являлось посредником между человеком и богом. В вере все равны — и лорды и простолюдины. Так в религиозной оболочке рождалась идея буржуазного равенства. Аргументы, образы, мысли, подтверждающие их умонастроения, пуритане черпали из Библии. Она была переведена на английский язык еще в XVI веке; дешевые английские издания, тайно перевозимые из Женевы, имелись почти что в каждом доме. Ветхий завет открывал людям совершенно новый мир; он питал их дух и разум, давал им законы, правила жизни, образы и иллюзии, заражал страстями и сам язык их делал торжественным и значительным. «Кромвель и английский народ, — писал К. Маркс, — воспользовались для своей революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета»[1]. Пуритане отрицали иерархический епископальный строй английской церкви. Во главе церковной общины, считали они, должен стоять не назначенный королем епископ, а избранный мирянами старейшина — пресвитер. Синод, составленный из пресвитеров, образует высшую церковную власть. Зажиточные купцы, финансисты Сити, крупные землевладельцы-джентри, свободные богатые крестьяне-фригольдеры были пресвитерианами — сторонниками умеренных реформ. Но в конце XVI века в Англии появились люди, которых не удовлетворяла кальвинистско-пуританская буржуазная доктрина с ее узкой регламентацией жизни, суровой догматикой и приверженностью букве древнего иудейского закона. Это были сектанты, искавшие полной свободы веры и индивидуального общения с духовным миром. К ним принадлежали люди победнее — средние слои джентри, владельцы небольших мастерских и мануфактур, мелкие лавочники, подмастерья, крестьяне-арендаторы и сельские батраки. Все они до поры до времени объединялись под именем индепендентов — независимых. Они считали, что государство не должно вмешиваться в дела религии, и выступали за широкую религиозную терпимость. К индепендентам принадлежали Кромвель, Айртон и другие вожди революции. Позднее от индепендентов откололись левые народные секты — анабаптисты, сикеры, квакеры, рантеры, люди Пятой монархии и другие. Они порывали со строгой кальвинистской доктриной предопределения и выступали за полную свободу духа. Уинстэнли был одним из таких свободных мыслителей. Он шел вместе с революцией. Его идейный мир, понимание жизни, стремление к ее совершенствованию обогащались и претерпевали изменения по мере того, как силы нового строя одерживали одну за другой победы над отживающим феодальным миропорядком. Невиданные события, которые переживала Англия, — победы кромвелевской армии «железнобоких» в гражданской войне, захват короля армией, движение левеллеров — политических уравнителей, «Прайдова чистка» парламента, изгнавшая из него колеблющихся пресвитериан, открытый суд над монархом и, наконец, всенародная казнь его на площади перед дворцом, — все это становилось самой сутью и содержанием его жизни; именно эти события и привели к созданию под руководством Уинстэнли общины бедняков на холме святого Георгия; именно они отточили и выстроили его мировоззрение, вызвали к жизни утопический проект справедливого переустройства общества — «Закон свободы». Зная историю революции, мы можем с достаточной подробностью воссоздать и жизнь Уинстэнли. Вчитываясь внимательно в его трактаты, мы можем домыслить, реконструировать его повседневное бытие; там, где нет точных сведений или они противоречат одно другому, — представить себе его мысли и действия, исходя из того полного, щедрого духовного самораскрытия, которое находим в его произведениях. Проникнув в его духовный мир, мы поймем и логику его поступков, и самоотверженность его борьбы, и высоту его идеалов, и причины его молчания в последние годы жизни. Великая и одинокая фигура Уинстэнли — защитника бедняков и поборника справедливости — предстанет перед нами во всей ее полноте и правде.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИСКАНИЯ
(1609–1648)
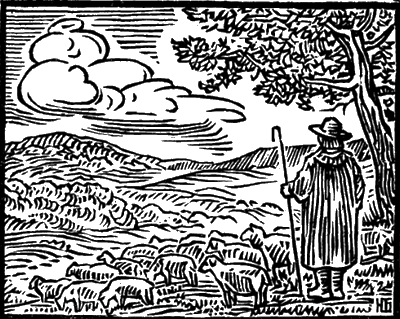
Что ранишь, знание, зачем не исцеляешь? Я не стремлюсь к тебе: меня ты обольщаешь. Чем больше знаю я, тем боле дух скорбит, Изведав тот обман, который мир таит.Уинстэнли
ПЕРЕД СВЕТОМ
 ни были не просто пуритане. Они были сектантами, Эдвард Уинстэнли и его жена. Если на пуритан правительствующие власти в Англии смотрели с подозрением, как на реформаторов и сторонников опасных новаций, то сектантов открыто преследовали как смутьянов и врагов всякого порядка. Они были самыми презираемыми, гонимыми, нежелательными для властей людьми.
Члены семьи Уинстэнли, конечно, посещали обязательную воскресную службу в приходской церкви родного городка Уигана (графство Ланкашир), иначе их привлекли бы к суду и оштрафовали. Вплоть до 1650 года неприсутствие в воскресный день на богослужении в церкви своего прихода — даже с целью послушать проповедь в другом приходе, по соседству, — считалось серьезным проступком и наказывалось законом.
Но по вечерам в их доме тайно собирались такие же, как и они, средней руки фригольдеры, ремесленники, хозяева небольших мастерских и лавочек. Приходили по одному, по два, чтобы не вызвать подозрений. У дверей выставляли дежурного. Садились за стол, освещенный несколькими свечами или дымящими плошками с маслом, открывали Библию и читали вместе — не то, что по канону полагалось читать на данный день, а то, что представлялось им важным и интересным.
Особенно волновали их грандиозные и пугающие видения пророков. Кто-нибудь, вернее всего сам хозяин, выходил на середину комнаты и после краткой молитвы начинал проповедь. «Грозное видение показано мне, — говорил он. — Грабитель грабит, опустошитель опустошает… От этого чресла мои трясутся; муки схватили меня, как муки рождающей…» Он призывал к покаянию. «Вот народ, — звенел, одушевляясь, его голос, — который не слушает гласа господа Бога своего и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их… Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими…»
Собравшиеся слушали молча; потом кто-нибудь вставал и говорил еще. «Бедные наследуют землю, — приглушенными голосами повторяли они, — бедные и незнатные, презираемые и угнетенные. Придет час, и падут епископы, слуги Антихриста, и сгинут дьяконы и пребендарии, эти лягушки и саранча; души их грязны и прокляты, в утробе у них — антихрист папа римский».
Потом все вместе опять молились, но не по стандартному, утвержденному еще в прошлом веке требнику — «Книге общих молитв», — а как велел им дух справедливости и разума. Затем расходились — так же поодиночке, стараясь тихо выскользнуть из дверей дома, не привлекая внимания.
Но в маленьком городке ничего не укроешь от глаз соседей. Раз кто-то из завистников, неспособных проникнуться их высоким идеализмом, донес властям, и в 1605 году Эдвард Уинстэнли, «торговец шелком и бархатом», как числилось в городских регистрах, предстал вместе с женой перед церковным судом. Их обвинили в содержании тайной молельни и, вероятно, оштрафовали на значительную сумму.
ни были не просто пуритане. Они были сектантами, Эдвард Уинстэнли и его жена. Если на пуритан правительствующие власти в Англии смотрели с подозрением, как на реформаторов и сторонников опасных новаций, то сектантов открыто преследовали как смутьянов и врагов всякого порядка. Они были самыми презираемыми, гонимыми, нежелательными для властей людьми.
Члены семьи Уинстэнли, конечно, посещали обязательную воскресную службу в приходской церкви родного городка Уигана (графство Ланкашир), иначе их привлекли бы к суду и оштрафовали. Вплоть до 1650 года неприсутствие в воскресный день на богослужении в церкви своего прихода — даже с целью послушать проповедь в другом приходе, по соседству, — считалось серьезным проступком и наказывалось законом.
Но по вечерам в их доме тайно собирались такие же, как и они, средней руки фригольдеры, ремесленники, хозяева небольших мастерских и лавочек. Приходили по одному, по два, чтобы не вызвать подозрений. У дверей выставляли дежурного. Садились за стол, освещенный несколькими свечами или дымящими плошками с маслом, открывали Библию и читали вместе — не то, что по канону полагалось читать на данный день, а то, что представлялось им важным и интересным.
Особенно волновали их грандиозные и пугающие видения пророков. Кто-нибудь, вернее всего сам хозяин, выходил на середину комнаты и после краткой молитвы начинал проповедь. «Грозное видение показано мне, — говорил он. — Грабитель грабит, опустошитель опустошает… От этого чресла мои трясутся; муки схватили меня, как муки рождающей…» Он призывал к покаянию. «Вот народ, — звенел, одушевляясь, его голос, — который не слушает гласа господа Бога своего и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их… Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими…»
Собравшиеся слушали молча; потом кто-нибудь вставал и говорил еще. «Бедные наследуют землю, — приглушенными голосами повторяли они, — бедные и незнатные, презираемые и угнетенные. Придет час, и падут епископы, слуги Антихриста, и сгинут дьяконы и пребендарии, эти лягушки и саранча; души их грязны и прокляты, в утробе у них — антихрист папа римский».
Потом все вместе опять молились, но не по стандартному, утвержденному еще в прошлом веке требнику — «Книге общих молитв», — а как велел им дух справедливости и разума. Затем расходились — так же поодиночке, стараясь тихо выскользнуть из дверей дома, не привлекая внимания.
Но в маленьком городке ничего не укроешь от глаз соседей. Раз кто-то из завистников, неспособных проникнуться их высоким идеализмом, донес властям, и в 1605 году Эдвард Уинстэнли, «торговец шелком и бархатом», как числилось в городских регистрах, предстал вместе с женой перед церковным судом. Их обвинили в содержании тайной молельни и, вероятно, оштрафовали на значительную сумму.
Род Уинстэнли был старым и известным в Ланкашире. Целая деревенька в предместье Уигана носила название Уинстэнли. Семья имела множество деловых и родственных связей. Некая Эллен Уинстэнли, крещенная в 1604 году в Уигане, в 1628 году вышла замуж за пуританского богослова Джона Энджера. Она была племянницей другого известного пуританина, Джона Коттона, дом которого в Бостоне славился своим гостеприимством для единоверцев. Преподобный Оливер Хейвуд, известный впоследствии проповедник-нонконформист, женился на дочери Эллен. Через торговлю тканями — сукном, шерстью, бумазеей, а иногда, может быть, и вправду шелком и бархатом, Уинстэнли были связаны с родственниками и компаньонами в Ланкашире и даже в самом Лондоне. Тайные молитвенные собрания после суда пришлось прекратить. Время было суровое. Яков I, сын Марии Стюарт, католички, казненной Елизаветой в 1587 году за государственную измену, вступил на престол в 1603 году. Новая метла всегда метет чище и жестче старой. Вместе с королем в страну прибыли новые министры, епископы, законники. Сам Яков был известен еще в бытность свою шотландским королем как сочинитель трактатов о божественном происхождении королевской власти и потому — абсолютной независимости ее от законов. Самовластие набирало силу. Парламент пробовал сопротивляться; нижняя палата отказывалась вотировать новые налоги, пока король не подтвердит ее прав. И в том же 1605 году кто-то подложил тридцать шесть бочонков пороха под здание парламента. Взрыв удалось предотвратить; начались аресты. Да, время было суровое. И когда в начале октября 1609 года в семье Уинстэнли родился сын, его крестили в городской церкви Уигана по традиционному англиканскому обряду, как положено. Как будто и не были его родители не признающими официальную церковь сектантами. Младенца нарекли Джерард — старинное имя, напоминавшее о подвигах саксов, древних жителей Англии, покоренных жестокими нормандскими завоевателями. С самых ранних лет Джерарда должна была поразить двойственность, неустойчивость окружающей его жизни, постоянное несоответствие между тем, что в ней происходило на деле, и тем, что должно было бы быть. Вместе со всей семьей он каждое воскресенье, облаченный в чистое платье, посещал пышную англиканскую обедню в приходской церкви. А дома отец в кругу семьи или в присутствии еще двух-трех гостей читал Библию и толковал ее совсем не так, как церковный пастор. «Где бы мы ни собирались, братья, — говорил он, — здесь, в доме, или в сарае, в поле или в лесу, мы — божья церковь, мы — угодные богу бедняки, дух святой пребывает в нас, а не в ученых профессорах, которые проповедуют в церкви. Их проповедь — кусок солонины двенадцатимесячной давности, к тому же заново посоленный». Мать и отец постоянно напоминали Джерарду о грехах, за которые можно попасть в суд Высокой комиссии, — непосещение церкви, работа по праздникам и дням поминовения святых, непочтение к властям, учителям, старшим по положению. И в то же время он слышал, как взрослые осуждали проповедуемые с кафедр каноны, как негодовали на то, что должны уплачивать десятую часть всех доходов пастору, в назначении которого они не принимали никакого участия. Эдвард Уинстэнли занимал неплохое положение в городе. В 1627 году он стал полноправным членом городской корпорации — гражданином и фрименом. Ему, вероятно, принадлежал и небольшой земельный надел — акров 30, на котором паслись коровы, овцы, лошади. Разводить скот давно уже стало выгоднее, чем распахивать землю и сеять хлеб. В семье постоянно говорили о том, что тот или иной лорд или богатый землевладелец в округе поставил изгородь на общинной земле, вытеснил с нее бедняков, которые издавна пользовались здесь лугами и пастбищами. Вздыхали: «Проклят нарушающий межи ближнего своего!..» Велись речи и о земельных спекуляциях новых дворян — джентри, о наживе, получаемой за продажу и перепродажу земли. Сокрушались о повышении рент, о вздорожании жизни, об упадке мелкого земледельца. Счастья и справедливости на земле не было — это Джерард усвоил рано. Но надежда на лучшее все же жила в сердцах. Если молитвенные собрания в доме и не возобновлялись, то семейные чтения Библии оставались непреложным правилом; взрослые то и дело упоминали об анабаптистах, броунистах, фамилистах — сектантах, которые осмеливались поднимать голос не только против официальной епископальной церкви, но и против строгой кальвинистской доктрины предопределения и оправдания верой. Как отличались те, кого встречал Джерард в родном доме, от мрачных, чопорных, уверенных в своем избранничестве пуритан, считавших каждую копейку и в делах веры соблюдавших такую же педантичность, как и в делах прибыли! Только внутреннее духовное освобождение и любовь, только служение ближнему способно изменить мир к лучшему — так думали люди, подобные Эдварду Уинстэнли. Дом его жил размеренной трудовой жизнью. Ткани выделывались тут же, в домашней мастерской. Маленький Джерард видел, как взрослые пряли лен и шерсть, мотали нити, ткали, мыли, красили большие полотна. Когда он подрос, он сам стал помогать в этом деле: только трудом, учили его, трудом собственных рук можно добиться чести и процветания. «Кто не работает, да не ест», — снова и снова повторяли ему, и он старался, как мог: непослушными детскими пальцами мотал пряжу, пас гусей, выгонял на луг коров и овец, жал на рычаг маслобойки. Но иногда странная апатия, род молчаливого столбняка нападал на него, дело останавливалось в его руках, и лишь после нескольких окликов он снова возвращался к этой жизни. Отец качал головой — сын рос слишком мечтательным и нежным для делового человека. А именно к делу — к торговле, самому доходному занятию, готовили мальчика в доме. Отец сознавал, что Оксфорд или даже Кембридж закрыты для сына сектанта. Но Эдвард Уинстэнли недаром значился в городе уважаемым купцом. «Мистер», — почтительно звали его соседи. Он и Джерарда задумал устроить практично и прочно в этом мире. Конечно, окончание университета сделало бы сына безвестного человека джентльменом. А духовная карьера дала бы ему вес и уважение в обществе, на всю жизнь обеспечила бы солидным доходом от десятины. Но лучше идти по миру, чем подчинить себя лживым наставлениям епископов, променять духовную свободу на подчинение указке властей. Нет, мистер Уинстэнли знал иной путь к безбедному и благополучному существованию. Пусть мальчик окончит обычную городскую школу в Уигане; а потом — он пошлет его в Лондон. Пусть выучится на торговца и откроет свой магазин в столице, где будет продавать произведенные здесь, в мастерской отца, ткани. Семи или восьми лет Джерард пошел в городскую школу — старое здание с одной классной комнатой и одним учителем. Мальчик выучился читать и писать. Переложенные на стихи библейские псалмы поразили, должно быть, его воображение; позднее он сам будет сочинять стихи. От корки до корки прошел все четыре Евангелия, Деяния и Апокалипсис, в подробностях изучил священную историю, изложенную в книгах Ветхого завета, наизусть выдолбил, как и полагалось, англиканский катехизис и молитвенник. Его учили и латыни: он читал по слогам басни, речи Цицерона, поэмы Овидия и Вергилия. Выучился также началам арифметики и геометрии, логики и риторики. Учился прилежно, иногда, быть может, поражал учителя слогом сочинения или необычным поворотом мысли при ответе по священной истории. Но к занятиям точными науками, столь важными в деле коммерции, особой склонности, по всей видимости, не обнаруживал; среди сверстников выделялся, быть может, молчаливостью, задумчивой мечтательностью, равнодушием к резвым играм. Но вот школа позади. Как и задумал отец, юный Джерард едет в Лондон — великую столицу, резиденцию короля и двора, средоточие деловой, интеллектуальной и духовной жизни. В 1630 году он эпрентис, ученик-подмастерье почтенной Сары Гейтер, вдовы члена торговой компании портных Уильяма Гейтера. Он живет в ее доме в Корнхилле и помогает в лавке торговать готовым платьем, может быть, и участвует в его изготовлении. Лондон поражал, восхищал, пугал, соблазнял провинциального юношу. Под покровом вечного синевато-желтого тумана и копоти кипела лихорадочная жизнь; толпы людей спешили куда-то по узким деловым улицам Сити; кричащая роскошь елизаветинских дворцов соседствовала с отвратительной голодной нищетой. Красочные зрелища то и дело привлекали толпы народа. То какая-нибудь гильдия торжественно, с эмблемами и флагами идет за катафалком — провожает в последний путь своего сочлена. То разряженные горожане шествуют к дому лорда-мэра, чтобы участвовать в праздновании дня рождения или другого радостного события его семейной жизни. Иногда в сопровождении пестрой свиты проезжает король или королева в раззолоченной карете. Узкие темные переулки Саутворка, южной рабочей окраины, кишат цыганами и ворами. Там тоже время от времени слышатся крики и бурлят толпы: кого-то ограбили или неведомый труп прибила к берегу волна Темзы. А то на Тайберне, лобном месте, зеваки созерцают мучения очередной жертвы. Там вешают воров, бичуют и клеймят железом у позорного столба инакомыслящих. Если бы не воспитанные с детства скромность и стремление соотносить свои поступки с велениями единственно верного водителя внутри — разума, — кто знает, может быть, столичная жизнь с ее разнообразными удовольствиями — театрами и медвежьими травлями, портовыми кабачками и сомнительных достоинств женщинами, петушиными боями и азартными играми — захлестнула бы Джерарда, затянула в свой водоворот. Но нет, он бежал соблазнов. Он жил в скромном доме почтенной вдовы, вставал до зари, трудился весь день в лавке и рано ложился спать. Его привлекали не увеселения, нет. Как и многие другие юные подмастерья, он искал смысла в том существовании, которое вел сам и подобные ему. Не тогда ли, в первые годы постижения в лавке Сары Гейтер лукавой торговой науки, он почувствовал отвращение к лживому ремеслу купли-продажи? Не выгоды для себя хотелось искать ему в этой жизни, а истинной веры и понимания сложностей и тревог сего мира, с которыми сталкивался на каждом шагу. «Внешний быт лондонских гильдий того времени, — пишут историки, — сохранял всю старомодность и архаичность, унаследованную от средневековья, хотя внутренние силы уже подтачивали традиционные устои и гильдийская молодежь отзывалась на это беспричинной тревогой, бессознательным беспокойством и неутолимой жаждой новизны». За пять лет до переезда Джерарда в Лондон, в 1625 году, скончался король Яков I, который, несмотря на весь свой апломб, оказался неспособным решить сложные экономические, социальные, политические задачи, стоявшие перед Англией. Тщедушный и ничтожный человек, он думал больше всего о своем благополучии и удовольствиях — исполнении малейших своих прихотей, устройстве балов и маскарадов, угождении всесильному сатрапу — герцогу Бекингему. Божественное право королей, которое он отстаивал в своих трактатах, на деле означало для него право нещадно обирать подданных и жить в свое удовольствие. Престол унаследовал его сын, Карл I. Еще будучи принцем Уэльским, он возмутил всех добрых англичан тем, что собирался жениться на испанской принцессе-католичке. Ведь Испания была давним соперником Англии; ее пираты грабили английские торговые суда и не пускали их в Вест-Индию; испанские короли в союзе с папой плели интриги против законной английской династии. Тогда, в двадцать третьем году, брак не состоялся. Но став королем, Карл женился на католичке-француженке, дочери Генриха IV. Вместе с новой королевой в Англию прибыли папистские священники, носители духа старой антихристовой церкви, которых к тому же считали шпионами Рима. Во дворце, во внутреннем храме, служили мессы. Процветали придворные театры, балы, нечестивые, фривольные увеселения. Парламент, собравшийся в 1628 году, осмелился поднять голос против окатоличивания страны, против пустого и бесчестного герцога Бекингема, фаворита короля, против наступления на права и привилегии свободных англичан. Король по наущению Бекингема вводит незаконные, не утвержденные парламентом налоги, говорили депутаты. Король не считается с правами избранного народом парламента. Его приспешники арестовывают и заключают в тюрьму инакомыслящих. И оппозиция победила: под ее давлением Карл, всегда нуждающийся в деньгах, утвердил «Петицию о праве». «Народ Англии, — говорилось в ней, — не должен быть против своего желания принуждаем к займам и уплате налогов, не утвержденных парламентом. Никто не может быть арестован и лишен имущества иначе как по законному приговору суда. Произвольные аресты должны быть прекращены, как и постои солдат в частных домах». Ободренная оппозиция торжествовала — не только в парламенте, но и по всей стране. Из графств, из городов и маленьких местечек раздавались требования отстранить от власти Бекингема, предать его суду, отменить таможенные пошлины. В августе 1628 года фанатик-пуританин Джон Фелтон вонзил кинжал в грудь герцога; ненавистный временщик был убит наповал; лондонские подмастерья встречали привезенного на казнь убийцу цветами. Но несмотря на «Петицию о праве», несмотря на убийство Бекингема, все оставалось по-старому. Продолжались незаконные поборы, притеснения, штрафы. А в ответ на усиление оппозиции новая зловещая фигура поднимается возле короля, чтобы нагонять ужас на пуритан, еретиков, отступников «истинной англиканской веры». Гонитель пуритан и сектантов Уильям Лод назначается архиепископом Лондонским и приобретает огромное влияние на короля. И сразу страна почувствовала твердую руку нового ревнителя англиканской веры. Едва он принял сан, как король потребовал прекращения всяческих религиозных пререканий и безусловного подчинения единой, официально установленной церкви. Это означало, что отныне ереси, секты, сами убеждения будут беспощадно подавляться. В парламенте, в значительной мере состоявшем из пуритан, поднялась буря. Депутаты обрушились на католические порядки, заразой проникшие в церковь, отравившие королевский двор. Среди прочих выступил малоизвестный сельский сквайр Оливер Кромвель. Он защищал права пуританских проповедников. Парламент осудил проникновение папистских порядков в церковь, взимание налога без разрешения обеих палат, саму уплату незаконных поборов. В ответ на это король распустил парламент и заключил лидеров оппозиции в тюрьму. Общины «пытались присвоить себе всеобщую и самодовлеющую власть, которая принадлежит только нам, а не им», — говорилось в королевской резолюции. Реакция восторжествовала. Двенадцать лет после того Карл не будет созывать народных представителей. Но в годы беспарламентского правления — в те как раз годы, когда скромный провинциальный подмастерье Джерард Уинстэнли учился ремеслу торговца в лавке Сары Гейтер, — оппозиция монархическому произволу не поникла, не опустила руки. Она лишь затаилась на время, чтобы позже загреметь взрывом невиданной силы. Она гнездилась в поместьях новых дворян-джентри, которые, подобно сквайру Оливеру Кромвелю, вернувшись после разгона парламента домой, занялись переустройством хозяйства на новый лад, ища прибыли и свободы от феодальных повинностей. Она проявлялась то тут, то там, в борьбе с местными властями и судьями, в отказе платить «корабельные деньги» — незаконный побор, введенный королем, в непосещении обязательной церковной службы и в тайных молитвенных собраниях. Она таилась в сердцах хозяев мастерских и лавочек, в сердцах лондонских подмастерьев — великой и грозной силы, которой еще суждено будет явить себя миру.
Лондонские подмастерья — эпрентисы — жили своей особенной жизнью. Да, они честно трудились от зари до зари, выполняя поручения хозяев, считали и берегли копейку, не позволяли себе разгульных забав. У них имелись иные пристрастия и увлечения, занимавшие дух и разум, заполнявшие досуг. Они поднимались до света и после усердных молитв собирались вместе, и читали, и рассказывали друг другу о последних событиях. Что волновало их умы? Конечно, пуританская проповедь. Именно в ней они находили ответ на животрепещущие вопросы жизни духа, которые оказывались тесно связанными с жизнью практической — политической, экономической, социальной. Языком, понятным каждому слушателю — могучим и страстным языком Ветхого завета, — пуританские проповедники говорили с кафедр о нуждах страны: о самовластии короля, о беззаконии судей и правителей, о мерзких, нечестивых увеселениях двора. Они клеймили развратную жизнь Вавилона-Лон-дона, они взывали к отмщению. «Горе тем, — гремели они с кафедр, — которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного! Зато, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их рассеется, как прах!»… Вместе с другими подмастерьями Джерард, вероятно, ходит слушать знаменитых проповедников — Джона Эверарда, Джилса Рэндалла, Джона Баствика. Эверард пленяет не только глубоким знанием самого Писания, но и осведомленностью в тайнах науки неоплатоников, мистических откровений Николая Кузанского и Марсилио Фичино, тонкой философии Плотина, Дионисия Ареопагита, Иоганна Таулера. Джерард, может быть, и не запомнит имен этих мудрецов, но их стремление проникнуть в святая святых божественной мудрости поражает его воображение. Проповедники обращаются к пророчествам Даниила и толкуют Откровение святого Иоанна. Они говорят словами Исайи: «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот». Джерард много читает. Снова и снова перечитывает тексты священной истории, углубляется в толкования. Среди них самой популярной книгой — почти как Библия — были «Акты и памятники» Джона Фокса; Джерард внимательно ее изучал. Пять эпох, предсказанных Даниилом, означали согласно этой книге 300 лет преследований христиан в Риме, рост новой церкви, ее духовное падение, правление антихриста-папы и, наконец, время реформации и обновления. Точные даты каждой эпохи установить, конечно, было затруднительно, но схема эта утверждала главную идею: недолго осталось править миром беззаконию; страдания пуритан и сектантов неслучайны; спасение и наступление тысячелетнего царства Христова — близко. Фокс рассматривал библейские тексты и с точки зрения собственно английской истории. И юные подмастерья, читавшие его книгу, сознавали себя действующими лицами великой вселенской драмы. Они читали еще «Книгу мучеников» того же Фокса, где рассказывалось о страданиях пуритан при Марии Кровавой — королеве-католичке, нещадно преследовавшей протестантов, об их благочестии и героизме; читали трактат Джона Нэпира «Ясное раскрытие общего смысла Откровения святого Иоанна», обширный труд Томаса Брайтмана «Откровение Откровения», переведенное на английский язык сочинение Иоганна Генриха Альстеда «Возлюбленный град, или Тысячелетнее правление святых на земле». И уже тогда, в ранние юношеские годы, вставали перед Джерардом Уинстэнли смутные образы грядущего преображения мира, обновления человечества, счастья для всех, справедливости для угнетенных и обездоленных… А может быть, ему попадались в руки и книги великих английских утопистов — Томаса Мора и Френсиса Бэкона… Но мечты о счастье и попытки проникнуть в тайны грядущего наталкивались на жестокие проблемы дня. Проповедники говорили о свободе веры, о правомерности личных исканий и индивидуального общения с богом, а Уильям Лод, ставший в 1633 году архиепископом Кентерберийским и вторым после короля главой церкви, вел наступление на свободную мысль. Болезненно самолюбивый, ограниченный, жестокий, закосневший в мертвой догме старик требовал соблюдения внешней обрядности, узколобого идолопоклонства, коленопреклонений и бесчисленных крестных знамений, пышного, столь похожего на папистское, богослужения. Выступления тех пуританских проповедников, кого не утвердили в канцелярии Ло-да, были запрещены; тексты проповедей заранее составлялись под бдительным руководством архиепископа и рассылались по приходам. В угоду легкомысленной юной королеве были отменены благочестивые запреты на разгульные воскресные увеселения. А недовольные терпят гонения — их допрашивают с пристрастием в мрачных казематах суда Высокой комиссии, бичуют, клеймят каленым железом, налагают штрафы, бросают в тюрьму. В знаменательный для Джерарда Уинстэнли год — год окончания семилетнего ученичества и получения прав самостоятельного торговца — архиепископ Лод запрещает переиздание книги Фокса. Жарким июлем весь Лондон собирается на Тайберне: адвокату Уильяму Принну, доктору Баствику и священнику Бертону выжигают на лбу позорное клеймо и отрубают уши — они осмелились открыто осуждать власть епископов. Толпа негодует; она осыпает мучеников цветами; возмущение королевским и епископским произволом растет. Но и абсолютизм набирает силу. К давлению на умы прибавляется стремление выкорчевать с корнем всякую оппозицию. И еще — королю нужны деньги, деньги во что бы то ни стало. Парламент созывать опасно; значит, надо любыми средствами изыскивать источники побочных, не вотированных общинами налогов. Для выполнения этих задач еще одна зловещая фигура поднимается рядом с королем. Бывший лидер оппозиции Томас Уэнтворт берется навести в стране полицейский и финансовый порядок. Огнем и мечом он покоряет Ирландию, изгоняет местных жителей с плодородных земель, конфискует целые поместья; в несчастной стране свирепствуют иноземные чиновники; процветают незаконные поборы, штрафы, конфискации. Из Ирландии в Уайтхолл щедрой рекой текут деньги. А для усмирения местных жителей Уэнтворт создает в Ирландии регулярную армию. Всем понятно, что эта армия в любой момент может обернуться против непокорных и в самой Англии. Но королю Карлу этого мало — денег, как известно, всегда не хватает тем, кто хочет жить на широкую ногу. Ежегодно в кухнях королевского дворца Уайтхолла обрабатываются на потребу двора семь тысяч бычьих туш, семь тысяч овец, семь тысяч молоденьких ягнят и двадцать четыре тысячи птиц. Огромные количества свинины, рыбы, дичи стекаются туда; каждый день во дворце накрывают восемьдесят шесть столов — с поистине королевским гостеприимством. Но деньги — где взять денег для такого изобилия, для изысканных вин, для драгоценных шелков и бриллиантов? И Карл раздает своим придворным и льстивым купцам из Сити монополии и патенты — исключительные права на производство того или другого товара. С тем условием, что получит существенную долю их дохода. Монополии становятся важнейшим средством сбора денег без согласия парламента и значительной статьей государственного бюджета. Монополии на вино и мыло доставляют каждая ежегодно 30 000 фунтов стерлингов, монополия на табак — 13 000 фунтов. Сам король — владелец ряда монополий: ему принадлежит исключительное право выделки золотой и серебряной проволоки, производства булавок, игральных карт и квасцов. Мелкие и средние хозяева разорялись. Крупные купцы, не получившие патента, негодовали. Экономическое развитие искусственно задерживалось, и владельцы мануфактур теряли стимул к расширению производства. Установление самой возмутительной монополии — на мыло — лишило работы и источника существования множество хозяев и работников. Потребитель тоже возмущен: подавление свободной конкуренции приводило к чудовищному росту цен, а качество продуктов оставляло желать лучшего. К этому прибавлялось увеличение таможенных платежей и разного рода поборов. Глухое брожение росло, ненависть к абсолютистскому режиму и епископальной церкви искала выхода.
Положенный еще средневековыми обычаями семилетний срок ученичества Джерард Уинстэнли закончил в 1637 году, в возрасте 27 лет. Нудное, опостылевшее обучение позади: 21 февраля он становится фрименом — свободным гражданином Лондона; он принят в компанию торговцев готовым платьем. Он продолжает поддерживать тесные связи с родным Ланкаширом; вероятнее всего, отец посылает ему изделия своей мастерской — платья из сукна и бумазеи, а Джерард продает их в Лондоне. Вряд ли дело его шло успешно. Созерцательность и устремленность к неведомым глубинам духа — плохие помощники в торговле. Надо было считать десятки дублетов и юбок, заботиться о том, как подешевле купить и подороже продать. Он не чувствовал к этому призвания. Впоследствии он так будет описывать жизнь мелкого лавочника: «Если он, торгуя в этом мире, запросит за свой товар слишком мало или слишком много, — он встревожен: он делает все, что может, но сердце его полно тревоги, ибо он думает, что мог бы сделать лучше; когда дело идет ему на ум, он тревожится; ни ясная погода, ни охота. — ничто не занимает его, ибо он в постоянной тревоге… так что ни одной здравой мысли не возникает в его сердце, оно сковано раздражением и тревогой…» Не по душе ему такое состояние. «Я назвал бы это адом, — скажет он впоследствии, — ибо это — пребывание во тьме, вне жизни, вне довольства и мира божия». Да и трудно продержаться мелкому торговцу среди алчных столичных воротил, среди жестокой конкуренции торгового мира. «Хотя я и был воспитан как торговец, — скажет он, — все же поддерживать даже бедное существование — столь трудное дело, что человек скорее лишится куска хлеба, чем заработает его, торгуя среди людей, если он с открытым сердцем доверится кому-либо». Мелкому лавочнику угрожали неисчислимые беды: «болезнь, неодобрение друзей, ненависть людская, потеря имущества от огня, воды, мошенничество коварных обманщиков…» А это приводит к ужасным видениям, ночным кошмарам и страху разорения. В таком состоянии духа Джерард жил, вероятно, с самого начала своей самостоятельной деятельности. Ища выхода и отдыха от тревог, он усердно посещал церковь, слушал проповедников, читал и искал истинной веры. Он исповедовал того бога, грозный и смутный облик которого вставал из речей кальвинистских пасторов. Но карающий облик этот не давал утешения; Джерард чувствовал ложь и несправедливость официально одобренной церковной догмы. Год спустя после начала самостоятельной жизни он, быть может, шел в облаке пыли вместе с лондонской толпой за телегой, к которой был привязан истязаемый подмастерье Джон Лилберн. Этот юноша, пятью годами моложе его, Джерарда, тайно перевозил из Голландии отпечатанные там трактаты пуританских вождей. Он знал, за что борется и страдает. Его привязали к телеге, сорвали рубашку, и палач то и дело стегал треххвостой плетью по вспухшей окровавленной спине. Из толпы слышались сочувственные, подбадривающие страдальца возгласы. Потом его вместе с книгопродавцем, стариком Уортоном, зажали колодками позорного столба у здания Звездной палаты. Едва палач, примотав ремешком деревянные брусья, между которыми были зажаты голова и руки казнимого, отошел, истерзанный Лилберн начал говорить. — Братья! Не по божескому закону, не по закону нашей страны, не по воле короля терплю я это наказание, а только по злобе и жестокости прелатов. «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Не о епископах ли это сказано? Толпа напряженно молчала. Этот неистовый человек ничего не боялся. — В каком английском законе написано, — вопрошал он, — что от обвиняемого можно требовать показаний против себя самого под присягой? Меня не поставили лицом к лицу с обвинителем. Даже римские язычники не позволяли себе такого. Они хуже язычников, хуже книжников и фарисеев, эти наши мучители — епископы. Их власть не от бога, а от дьявола, их жестокое иго над народом — печать зверя. Смелость Лилберна поражала. Нечеловеческим усилием он высвободил из колодок руку, сунул ее в карман и бросил затем в толпу несколько экземпляров «Литании» — мятежного сочинения доктора Баствика. Но было в его словах и нечто гораздо более важное, чем бесстрашие — призыв к великой борьбе против сил тьмы. — Братья мои! — звучало на площади, и дыхание замирало от величия тайн, которые должны когда-нибудь открыться. — Не бойтесь принять страдания за свободу духа! Сегодня я на себе испытал, сколько душевной силы приливает тому, кто верит в свою правду… Как отступает перед нею всякий страх и боль. Облекитесь и вы во всеоружие божье, чтобы подняться против козней дьявольских. Помните, что наша война не против плоти и крови, но против миро-правителей тьмы века сего, против духа злобы… Руки палача подняли за волосы голову говорившего и сунули кляп ему в рот. Он замолчал. Толпа не расходилась. Если в ней стоял в этот час Джерард Уинстэнли, то он понял, вероятно, что война духа против сил тьмы и злобы вела к боли, жестокости, грозила погибелью телу. Через два года скончался его отец, Эдвард Уинстэнли. 27 декабря 1639 года Джерард, по всей вероятности, присутствовал на похоронах в Уигане; но в родной городок не вернулся. Магазин готового платья в Лондоне требовал постоянного присутствия. Возможно, и другие обстоятельства влекли его в столицу. Меньше чем через год, 28 сентября 1640 года он женился на Сузан, дочке небогатого лондонского хирурга Уильяма Кинга, и поселился в Сити, на улице Олд Джури, в приходе святого Олава.
ГОДЫ БЕДСТВИИ
 роза надвинулась с севера. Диковатая пуританская Шотландия, всегда стоявшая в оппозиции к английским властям, первой не пожелала мириться с произволом английского абсолютизма. Архиепископ Лод ввел там обязательное англиканское богослужение — суровые кланы затаили ненависть к религии англичан-поработителей. Лод распорядился усилить шотландский епископат — и глухое недовольство перешло в угрожающий ропот. Когда же в 1637 году по его приказу в Шотландии ввели «Книгу общих молитв» — обязательный англиканский требник, — ропот сменился открытым мятежом. Страна поднялась на защиту «Национального Ковенанта» — документа, который требовал управления страной согласно закону, соблюдения парламентских норм, а кальвинизм признавал «единственно истинной и угодной Богу верой».
В ноябре 1638 года Генеральная ассамблея Шотландии отменила власть епископов в стране и ввела пресвитерианский церковный строй. Вместо епископов во главе церковных общин встали теперь пресвитеры, избранные из почтенных, богатых граждан. Кальвинизм в стране утвердился окончательно. А в феврале следующего, 1639 года шотландская армия перешла границу и вторглась в Англию. Английские пуритане ликовали: они получили могучую поддержку от северного соседа. Карл поспешно собрал войско, но в первых же стычках с противником оно было наголову разбито. Без регулярной армии Стюарт не сумеет подавить непокорных.
Но для создания армии нужны деньги. Начался нажим на лондонских банкиров, Карл даже попробовал конфисковать у них золото и серебро. Они возмутились настолько решительно, что ему пришлось вернуть их сокровища обратно. Увещевания и угрозы покорителя Ирландии Уэнтворта — в 1640 году он получил титул графа Страффорда — не помогли: финансисты Сити отказались выдать ему требуемые суммы. Пуритане в графствах саботировали уплату налогов для войны против единоверцев. Карл пытался занять денег у Испании, у иезуитских купцов и даже у папы римского — тщетно.
И весной 1640 года наконец созывается парламент. Долгие годы произвола и тирании позади: в Вестминстер, старинные здания, отведенные для парламентских сессий, снова съезжаются народные представители. Лондонские подмастерья и хозяева мелких лавочек из уст в уста передают слова вождя оппозиции Джона Пима: «Опасность шотландского вторжения — менее грозная опасность, чем произвольное правление в стране. Первая находится далеко, а та опасность, о которой я буду говорить, находится здесь, дома!»
Парламент, вошедший в историю под названием Короткого, за три недели своего существования успел резко осудить политику короля и начать переговоры с шотландцами. 5 мая он был распущен, и молодой торговец Уинстэнли, возможно, вышел на следующий день вместе с возмущенным лондонским людом на площадь перед дворцом ненавистного Лода. В толпе раздавались выкрики: «Долой епископов! Долой церковные суды!»Потом королевские стражники стали разгонять народ, хватать зачинщиков; многих потащили в тюрьму.
Брожение шло по всей Англии, оно нарастало; английское войско вторично потерпело поражение от шотландцев, и те заняли север страны; местные жители, большинство из которых были пуританами, не оказали им сопротивления. Карла забрасывали петициями джентри из графств, наиболее разумные из пэров, горожане столицы и многочисленных местечек. Бунтовали крестьяне, разрушая вновь возведенные изгороди, продолжались волнения среди лондонских ремесленников. И осенью 1640 года король сдается: он вторично созывает парламент — Долгий парламент, как назовут его после в народе.
Все это время Уинстэнли, скромный лавочник с Олд Джури, улицы близ собора святого Павла, торговал готовым платьем. Он по-прежнему аккуратно развешивал и раскладывал по полкам дублеты и рубашки, панталоны и юбки. По вечерам, вздыхая, считал выручку, и печальная усмешка кривила его губы: доход с каждой неделей падал. А ему следовало заботиться о семье: раз ты женился, значит, отвечаешь не только за себя, но и за жену, и за будущее потомство. Он стал беспокойно спать; страх разорения заставлял просыпаться по ночам, ворочаться в постели, без конца пересчитывая: дебет — кредит, прибыль — убыток…
Позднее он сурово осудит себя за такое существование: «Прежде моя жизнь и радости, — скажет он, — были ограничены земными благами — богатством, друзьями, самодовольством, моей гордыней, жадностью и удовлетворением плотских желаний». Но и тогда уже, в первые годы торговой деятельности, смутное недовольство охватывает его. Постоянная тревога вызывает раздражение, проявляется подчас «в горьких словах и речах, в угнетении духа и беспокоит близких, которые называют это безумием или помрачением рассудка». Нет, не были безмятежными и счастливыми первые годы жизни с молодой женой в новом доме. Не было покоя ни внутри этого дома, ни в душах его обитателей, ни вне его…
Джерард, конечно, интересовался ходом дел в парламенте; каждый день приносил новые вести. Лидеры оппозиции требовали освобождения из тюрем пуритан Принна, Баствика, Бертона — тех самых, за распространение чьих трактатов бичевали и выставляли к позорному столбу подмастерье Лилберна. Пим в громовых речах обвинял короля в произволе, в незаконных арестах и поборах, в нарушении прав парламента, в искажении истинной религии. Провинциальный сквайр Оливер Кромвель требовал свободы Лилберну. По настоянию парламента Баствик, Принн и Бертон были выпущены на свободу, и Уинстэнли, вероятно, вместе с другими лондонцами радостно встречал изможденных, покалеченных палачом узников.
Он следил и за борьбой не на жизнь, а на смерть, разыгравшейся между парламентом и всесильным Страффордом, одно имя которого наводило ужас. Жестокий и коварный временщик убеждал Карла использовать созданную им в Ирландии армию для того, чтобы привести к повиновению английский парламент. Он задумал объявить вождей оппозиции государственными изменниками. Но Пим опередил его. Потребовав запереть двери парламента, он обвинил Страффорда во всех бедах, терзающих Англию: в произволе судебной власти, в жестокости тюремщиков, в разорении тысяч семей, в процветании монополий, в незаконных поборах. Против Страффорда выдвинули обвинение в государственной измене. А через месяц после ареста Страффорда обвиняют в измене и заключают в Тауэр архиепископа Лода.
Судебный процесс над первым министром разыгрывается весной 1641 года. Общины требуют смертной казни; Карл и некоторые из лордов категорически возражают. К Пиму в дом вечерами, после окончания заседаний, идут лондонские купцы, владельцы лавок и мастерских. Третьего мая огромная многотысячная толпа бушует у стен Вестминстера. «Правосудия, правосудия!» — раздаются крики. — «Долой великих преступников!» На следующий день толпа становится еще больше; она ощетинивается пиками, клинками, дрекольем. И восьмого мая лорды сдаются: они утверждают смертный приговор Страффорду.
После этого толпа перемещается к королевскому дворцу Уайтхоллу. Поют псалмы, к ночи народу еще прибывает, трепещет тревожный огонь факелов. И слабодушный монарх, обещавший своему любимцу, что ни один волос не упадет с его головы, сдается. 12 мая под ликующие клики народа, собравшегося на Тауэр-хилле, палач отсекает Страффорду голову.
Революция идет вперед, у нее свои законы, и никто уже не в силах остановить ее неумолимый ход. Парламент требует вырвать с корнем власть епископальной церкви. Лондонский люд с восторгом читает выдвинутый оппозицией «Билль о корнях и ветвях». Власть духовенства, говорится в нем, «является главной причиной и источником многих бедствий, притеснений и обид, причиняемых совести, вольностям и имуществу подданных… Наша церковь сохранила и увеличила черты большого сходства и подобия с Римской церковью: в одеяниях, во внешнем оформлении, в обрядах и порядке управления. Прелаты арестовывают и задерживают людей через специальных лиц, находящихся в их распоряжении… штрафуют и сажают в тюрьму людей всякого звания; врываются в их дома… уносят письма, книги, захватывают их имущество; устраняют от должностей; разделяют против их воли мужей и жен… Судьи страны запуганы властью и могуществом прелатов, и людям негде искать у них защиты…» Билль осуждает взяточничество, невежество, нечестность поставляемых университетами пасторов; обрушивается на монополии и патенты, которые вызывают бесчисленные злоупотребления; осуждает увеличение таможенных пошлин и налогов на предметы первой необходимости.
Но равенство в церкви означает и политическое, правовое равенство; а кое-кто не без оснований полагает, что оно ведет и к требованию имущественного уравнения, к наступлению на собственность. Лорды отклоняют мятежный билль: он заведет страну слишком далеко по пути свободы. Зато таможенные пошлины отменяются, упраздняются произвольные королевские суды — Звездная палата и Высокая комиссия, ликвидируются лесные налоги и «корабельные деньги». Армия, набранная для борьбы с шотландцами, распускается, и Карл лишается всякой опоры в Англии.
И тут восстали ирландцы. Доведенная до отчаяния, разоренная непосильными поборами и притеснениями католическая Ирландия начала кровавую резню. Англичанам не поздоровилось: восставшие убивали безоружных, женщин и детей, поджигали дома; никому не было пощады. Вдоль дорог валялись неприбранные трупы, повсюду возвышались виселицы со страшным грузом.
Для подавления ирландского мятежа парламент сам стал собирать и вооружать войско — это был еще один открытый вызов королю. «Великая ремонстрация», принятая палатой общин, в двухстах четырех пунктах перечисляет все беды и злоупотребления, которые выпали на долю несчастной Англии за годы правления последнего короля. «Большое количество общинных земель и отдельных участков отобраны у подданных… Созданы новые судебные трибуналы без законных на то оснований… Высокая комиссия в своей суровости и жестокости дошла до таких эксцессов, что почти не уступает римской инквизиции, и тем не менее архиепископ во многих случаях своею властью усиливал наказание еще больше, встречая в том поддержку Тайного совета… Пуритане — наименование, под которым они объединяют всех тех, кто хочет сохранить законы и вольности королевства и держать религию во власти последнего, — должны быть, по их мнению, либо выброшены из королевства силой, либо вытеснены из него страхом…»
Король отвергает демонстрацию и 2 января 4642 года обвиняет лидеров оппозиции в государственной измене. В соответствии с этим они подлежат заключению в тюрьму. Но палата укрывает своих вождей. Когда монарх проезжает по Сити, толпы народа кричат ему: «Привилегии парламента! Право неприкосновенности депутатов!» Это еще одна победа оппозиции: парламент и Сити действуют заодно. И Карл, взбешенный и униженный, бежит из Лондона. Королева-француженка, прихватив коронные бриллианты, в феврале отбывает на континент.
Парламент начинает сбор средств и войск для неминуемой гражданской войны. В июле подписан приказ о создании армии «для защиты… обеих палат парламента и всех тех, кто подчинится их повелениям, а также для охранения истинной веры, законов, гражданской свободы и мира в Соединенных королевствах». На стороне парламента — джентри и купцы центральных и юго-восточных графств, лавочники, ремесленники, подмастерья, работники, крестьяне — средние и мелкие, а также вся огромная масса английской бедноты.
А ветреным днем 22 августа 1642 года король в Ноттингемском замке под гром барабанов и возгласы труб поднимает огромный старинный штандарт, призывая верных вассалов встать на его защиту в борьбе с непокорным парламентом. С ним лорды-аристократы, крупные землевладельцы, часть зажиточных фригольдеров, крупные купцы, получавшие монополии и подачки, отсталое феодальное дворянство Севера и Запада. Гражданская война началась. Пророчества, с пристрастным вниманием изучавшиеся в тайных молельнях сектантов, исполнились: «И встанет народ на народ и брат на брата…»
роза надвинулась с севера. Диковатая пуританская Шотландия, всегда стоявшая в оппозиции к английским властям, первой не пожелала мириться с произволом английского абсолютизма. Архиепископ Лод ввел там обязательное англиканское богослужение — суровые кланы затаили ненависть к религии англичан-поработителей. Лод распорядился усилить шотландский епископат — и глухое недовольство перешло в угрожающий ропот. Когда же в 1637 году по его приказу в Шотландии ввели «Книгу общих молитв» — обязательный англиканский требник, — ропот сменился открытым мятежом. Страна поднялась на защиту «Национального Ковенанта» — документа, который требовал управления страной согласно закону, соблюдения парламентских норм, а кальвинизм признавал «единственно истинной и угодной Богу верой».
В ноябре 1638 года Генеральная ассамблея Шотландии отменила власть епископов в стране и ввела пресвитерианский церковный строй. Вместо епископов во главе церковных общин встали теперь пресвитеры, избранные из почтенных, богатых граждан. Кальвинизм в стране утвердился окончательно. А в феврале следующего, 1639 года шотландская армия перешла границу и вторглась в Англию. Английские пуритане ликовали: они получили могучую поддержку от северного соседа. Карл поспешно собрал войско, но в первых же стычках с противником оно было наголову разбито. Без регулярной армии Стюарт не сумеет подавить непокорных.
Но для создания армии нужны деньги. Начался нажим на лондонских банкиров, Карл даже попробовал конфисковать у них золото и серебро. Они возмутились настолько решительно, что ему пришлось вернуть их сокровища обратно. Увещевания и угрозы покорителя Ирландии Уэнтворта — в 1640 году он получил титул графа Страффорда — не помогли: финансисты Сити отказались выдать ему требуемые суммы. Пуритане в графствах саботировали уплату налогов для войны против единоверцев. Карл пытался занять денег у Испании, у иезуитских купцов и даже у папы римского — тщетно.
И весной 1640 года наконец созывается парламент. Долгие годы произвола и тирании позади: в Вестминстер, старинные здания, отведенные для парламентских сессий, снова съезжаются народные представители. Лондонские подмастерья и хозяева мелких лавочек из уст в уста передают слова вождя оппозиции Джона Пима: «Опасность шотландского вторжения — менее грозная опасность, чем произвольное правление в стране. Первая находится далеко, а та опасность, о которой я буду говорить, находится здесь, дома!»
Парламент, вошедший в историю под названием Короткого, за три недели своего существования успел резко осудить политику короля и начать переговоры с шотландцами. 5 мая он был распущен, и молодой торговец Уинстэнли, возможно, вышел на следующий день вместе с возмущенным лондонским людом на площадь перед дворцом ненавистного Лода. В толпе раздавались выкрики: «Долой епископов! Долой церковные суды!»Потом королевские стражники стали разгонять народ, хватать зачинщиков; многих потащили в тюрьму.
Брожение шло по всей Англии, оно нарастало; английское войско вторично потерпело поражение от шотландцев, и те заняли север страны; местные жители, большинство из которых были пуританами, не оказали им сопротивления. Карла забрасывали петициями джентри из графств, наиболее разумные из пэров, горожане столицы и многочисленных местечек. Бунтовали крестьяне, разрушая вновь возведенные изгороди, продолжались волнения среди лондонских ремесленников. И осенью 1640 года король сдается: он вторично созывает парламент — Долгий парламент, как назовут его после в народе.
Все это время Уинстэнли, скромный лавочник с Олд Джури, улицы близ собора святого Павла, торговал готовым платьем. Он по-прежнему аккуратно развешивал и раскладывал по полкам дублеты и рубашки, панталоны и юбки. По вечерам, вздыхая, считал выручку, и печальная усмешка кривила его губы: доход с каждой неделей падал. А ему следовало заботиться о семье: раз ты женился, значит, отвечаешь не только за себя, но и за жену, и за будущее потомство. Он стал беспокойно спать; страх разорения заставлял просыпаться по ночам, ворочаться в постели, без конца пересчитывая: дебет — кредит, прибыль — убыток…
Позднее он сурово осудит себя за такое существование: «Прежде моя жизнь и радости, — скажет он, — были ограничены земными благами — богатством, друзьями, самодовольством, моей гордыней, жадностью и удовлетворением плотских желаний». Но и тогда уже, в первые годы торговой деятельности, смутное недовольство охватывает его. Постоянная тревога вызывает раздражение, проявляется подчас «в горьких словах и речах, в угнетении духа и беспокоит близких, которые называют это безумием или помрачением рассудка». Нет, не были безмятежными и счастливыми первые годы жизни с молодой женой в новом доме. Не было покоя ни внутри этого дома, ни в душах его обитателей, ни вне его…
Джерард, конечно, интересовался ходом дел в парламенте; каждый день приносил новые вести. Лидеры оппозиции требовали освобождения из тюрем пуритан Принна, Баствика, Бертона — тех самых, за распространение чьих трактатов бичевали и выставляли к позорному столбу подмастерье Лилберна. Пим в громовых речах обвинял короля в произволе, в незаконных арестах и поборах, в нарушении прав парламента, в искажении истинной религии. Провинциальный сквайр Оливер Кромвель требовал свободы Лилберну. По настоянию парламента Баствик, Принн и Бертон были выпущены на свободу, и Уинстэнли, вероятно, вместе с другими лондонцами радостно встречал изможденных, покалеченных палачом узников.
Он следил и за борьбой не на жизнь, а на смерть, разыгравшейся между парламентом и всесильным Страффордом, одно имя которого наводило ужас. Жестокий и коварный временщик убеждал Карла использовать созданную им в Ирландии армию для того, чтобы привести к повиновению английский парламент. Он задумал объявить вождей оппозиции государственными изменниками. Но Пим опередил его. Потребовав запереть двери парламента, он обвинил Страффорда во всех бедах, терзающих Англию: в произволе судебной власти, в жестокости тюремщиков, в разорении тысяч семей, в процветании монополий, в незаконных поборах. Против Страффорда выдвинули обвинение в государственной измене. А через месяц после ареста Страффорда обвиняют в измене и заключают в Тауэр архиепископа Лода.
Судебный процесс над первым министром разыгрывается весной 1641 года. Общины требуют смертной казни; Карл и некоторые из лордов категорически возражают. К Пиму в дом вечерами, после окончания заседаний, идут лондонские купцы, владельцы лавок и мастерских. Третьего мая огромная многотысячная толпа бушует у стен Вестминстера. «Правосудия, правосудия!» — раздаются крики. — «Долой великих преступников!» На следующий день толпа становится еще больше; она ощетинивается пиками, клинками, дрекольем. И восьмого мая лорды сдаются: они утверждают смертный приговор Страффорду.
После этого толпа перемещается к королевскому дворцу Уайтхоллу. Поют псалмы, к ночи народу еще прибывает, трепещет тревожный огонь факелов. И слабодушный монарх, обещавший своему любимцу, что ни один волос не упадет с его головы, сдается. 12 мая под ликующие клики народа, собравшегося на Тауэр-хилле, палач отсекает Страффорду голову.
Революция идет вперед, у нее свои законы, и никто уже не в силах остановить ее неумолимый ход. Парламент требует вырвать с корнем власть епископальной церкви. Лондонский люд с восторгом читает выдвинутый оппозицией «Билль о корнях и ветвях». Власть духовенства, говорится в нем, «является главной причиной и источником многих бедствий, притеснений и обид, причиняемых совести, вольностям и имуществу подданных… Наша церковь сохранила и увеличила черты большого сходства и подобия с Римской церковью: в одеяниях, во внешнем оформлении, в обрядах и порядке управления. Прелаты арестовывают и задерживают людей через специальных лиц, находящихся в их распоряжении… штрафуют и сажают в тюрьму людей всякого звания; врываются в их дома… уносят письма, книги, захватывают их имущество; устраняют от должностей; разделяют против их воли мужей и жен… Судьи страны запуганы властью и могуществом прелатов, и людям негде искать у них защиты…» Билль осуждает взяточничество, невежество, нечестность поставляемых университетами пасторов; обрушивается на монополии и патенты, которые вызывают бесчисленные злоупотребления; осуждает увеличение таможенных пошлин и налогов на предметы первой необходимости.
Но равенство в церкви означает и политическое, правовое равенство; а кое-кто не без оснований полагает, что оно ведет и к требованию имущественного уравнения, к наступлению на собственность. Лорды отклоняют мятежный билль: он заведет страну слишком далеко по пути свободы. Зато таможенные пошлины отменяются, упраздняются произвольные королевские суды — Звездная палата и Высокая комиссия, ликвидируются лесные налоги и «корабельные деньги». Армия, набранная для борьбы с шотландцами, распускается, и Карл лишается всякой опоры в Англии.
И тут восстали ирландцы. Доведенная до отчаяния, разоренная непосильными поборами и притеснениями католическая Ирландия начала кровавую резню. Англичанам не поздоровилось: восставшие убивали безоружных, женщин и детей, поджигали дома; никому не было пощады. Вдоль дорог валялись неприбранные трупы, повсюду возвышались виселицы со страшным грузом.
Для подавления ирландского мятежа парламент сам стал собирать и вооружать войско — это был еще один открытый вызов королю. «Великая ремонстрация», принятая палатой общин, в двухстах четырех пунктах перечисляет все беды и злоупотребления, которые выпали на долю несчастной Англии за годы правления последнего короля. «Большое количество общинных земель и отдельных участков отобраны у подданных… Созданы новые судебные трибуналы без законных на то оснований… Высокая комиссия в своей суровости и жестокости дошла до таких эксцессов, что почти не уступает римской инквизиции, и тем не менее архиепископ во многих случаях своею властью усиливал наказание еще больше, встречая в том поддержку Тайного совета… Пуритане — наименование, под которым они объединяют всех тех, кто хочет сохранить законы и вольности королевства и держать религию во власти последнего, — должны быть, по их мнению, либо выброшены из королевства силой, либо вытеснены из него страхом…»
Король отвергает демонстрацию и 2 января 4642 года обвиняет лидеров оппозиции в государственной измене. В соответствии с этим они подлежат заключению в тюрьму. Но палата укрывает своих вождей. Когда монарх проезжает по Сити, толпы народа кричат ему: «Привилегии парламента! Право неприкосновенности депутатов!» Это еще одна победа оппозиции: парламент и Сити действуют заодно. И Карл, взбешенный и униженный, бежит из Лондона. Королева-француженка, прихватив коронные бриллианты, в феврале отбывает на континент.
Парламент начинает сбор средств и войск для неминуемой гражданской войны. В июле подписан приказ о создании армии «для защиты… обеих палат парламента и всех тех, кто подчинится их повелениям, а также для охранения истинной веры, законов, гражданской свободы и мира в Соединенных королевствах». На стороне парламента — джентри и купцы центральных и юго-восточных графств, лавочники, ремесленники, подмастерья, работники, крестьяне — средние и мелкие, а также вся огромная масса английской бедноты.
А ветреным днем 22 августа 1642 года король в Ноттингемском замке под гром барабанов и возгласы труб поднимает огромный старинный штандарт, призывая верных вассалов встать на его защиту в борьбе с непокорным парламентом. С ним лорды-аристократы, крупные землевладельцы, часть зажиточных фригольдеров, крупные купцы, получавшие монополии и подачки, отсталое феодальное дворянство Севера и Запада. Гражданская война началась. Пророчества, с пристрастным вниманием изучавшиеся в тайных молельнях сектантов, исполнились: «И встанет народ на народ и брат на брата…»
А Джерард Уинстэнли все это время продолжал торговать в своей лавке в Сити. Революция надвигалась на его глазах. Он видел воочию, как развертывалась великая драма, и, может быть, участвовал вместе с другими лондонцами в ее начальных актах: требовал казни Страффорда, уничтожения власти епископов, свободы пуританской проповеди. Тем более что дела в его магазине шли неважно. Кризис, в который вступила страна, никак не благоприятствовал успеху мелкого лавочника. Уже несколько десятилетий назад предприимчивые столичные купцы стали вытеснять мелких торговцев, особенно прибывших из провинции. А в десятилетие перед революцией, когда король щедро раздавал монополии, положение мелких хозяев решительно ухудшилось. Отдельные крупные предприниматели и торговые корпорации Сити шли по стопам королевской политики: они сами присваивали себе монопольное положение в торговле, всеми силами старались добиться прерогатив. Скромные лавочники, подобные Уинстэнли, попадали в зависимость от крупных; им постоянно грозило разорение. Вытесненные в глухие узкие кварталы, на зады улиц, они не имели защиты. Многие из них оказывались в кабале или становились банкротами. Закон — хваленый английский закон, изобилующий добавлениями, поправками и толкованиями, — всегда оставался на стороне сильного. Позднее Уинстэнли напишет: «Человек старается быть мудрым, а закон доказывает, что он глупец; он хочет быть справедливым, а в свете закона выглядит зловредным лицемером; он хочет иметь веру и благочестие, а закон показывает ему, что он безбожный грешник…» А он еще был непрактичен, Джерард Уинстэнли, не было в нем той торговой смекалки, которая позволяет ловкому человеку выкрутиться из любых обстоятельств. Мир, где продают и покупают, был ему чужд с самого начала. Он и в лавке, раскладывая товар или тоскливо ожидая покупателя, временами вдруг ловил себя на том, что думает совсем не о деле, а о вещах всеобщих и отвлеченных. Он недоволен своей жизнью. «Я сам не знал ничего, за исключением того, что получил по традиции из уст и писаний других, — вспоминал он позднее. — Я славил Бога, но не ведал, ни кто он, ни где он, так что я жил во тьме, будучи ослеплен воображением собственной плоти и воображением тех, кто поднимается на проповедническую кафедру, чтобы наставлять народ в знании господа, хотя сами они не ведают его…» Печаль и разъедающая душу горечь жили в нем постоянно. «Мое довольство часто разлеталось на куски, и наконец мне было указано, что, строя на словах и писаниях других людей или ища Бога вне себя, я строил на песке и не знал, что такое краеугольный камень…» В апреле 1641 года Уинстэнли заключил договор с неким Ричардом Олсвортом, гражданином Лондона, «о поставке бумазейных тканей, льняной одежды и подобных товаров». Через год началась гражданская война, налоги подскочили, покупатели в лавку почти не заглядывали. А еще через год, когда война бушевала уже вовсю, когда парламентские войска терпели поражения от бешеных налетов конницы принца Руперта, а Кромвель поспешно формировал первые отряды будущей армии железнобоких, мелкий лондонский торговец готовым платьем Джерард Уинстэнли разоряется окончательно. Его капиталы были не велики: почти за три года оборот сделок составил 331 фунт и 1 шиллинг. Теперь, после банкротства и ликвидации магазина, он оставался должен означенному Ричарду Олсворту 114 фунтов. Период относительного благополучия окончился: Джерард Уинстэнли из мелкого хозяина и торговца перешел в разряд неимущих. Он не вернулся под осиротевший родительский кров в Уиган; не остался в Лондоне, чтобы пополнить несметное число искателей поденного заработка; не сделался бродягой. Он принял приглашение друзей и уехал в графство Серри — сначала в Кингстон, потом в Уолтон-на-Темзе. Друзей этих он приобрел, может быть, через тестя, хирурга Уильяма Кинга: тот имел небольшое земельное владение в Серри возле местечка Кобэм, что стоит на реке Моль, впадающей в Темзу.
В деревне легче прокормиться, чем в огромном равнодушном Лондоне. И в то же время Серри совсем близко от Сити: всего два-три часа езды на хорошем коне. Можно было не рвать связей, завязавшихся там за тринадцать лет жизни, и все же уйти от забот, суеты, треволнений гигантского муравейника столицы. В тридцать три года он должен был начать жизнь заново. Он оказался в пустыне, в тишине; прихотливый Моль, то разливаясь по равнине и обегая острова, то уходя под землю, в известняки, подобно кроту, от чего и получил свое название[2], неспешно бежал к Темзе. То приближаясь к нему, то удаляясь, изобилуя отмелями и заводями, тек У эй. А между ними, среди лугов и пойменных болот, важно возвышался огромный пустынный горб холма Святого Георгия, поросший вереском, дроком, терновником и редкими рощами буков. Уинстэнли оказался лишенным всего: имущество было продано за долги, компаньон его предал, жена покинула. Сузан не последовала за мужем в деревню, а, вероятнее всего, осталась в доме отца. Какая драма разыгралась между ними — неизвестно; но мы не встретим упоминания о Сузан ни в одном из его сочинений: будто и не было у него никогда жены. И детей этот брак не принес. Тем легче было расстаться. В грязной бедной деревне он нанялся пасти скот своих соседей и тем кормился. Отчаяние владело его душой, ощущение холодного одиночества, конца, потери всего. «Я не имел ни состояния, ни определенного места жительства, ни способа добыть пропитание, все было зачеркнуто; у меня не было ни сердечного друга, ни помощи от людей; если кто-то и хотел помочь мне, то только для своей собственной выгоды, и когда они получали от меня, что могли, они покидали меня и становились врагами. Так что душа моя увидела, что она оставлена одна; и в этом бедствии страх и неверие, два могучих дьявола, обрушиваются на бедное создание и сдавливают его… Он смотрит на людей и мир вокруг — и нет от них помощи, все предали его и стоят равнодушно в стороне, он смотрит в себя самого — и не видит ничего, кроме рабского страха и неверия, вопрошая правду и силу божию: как такое могло случиться?» Медленно бредя за стадом по лугам и кочковатым общинным выгонам пустынного холма или ночами лежа без сна на соломенном тюфяке в убогой каморке, он мог думать, думать без конца, снова и снова мысленно переживать происшедшее, пересматривать прежнюю свою жизнь, искать в ней смысл. Он пытался найти утешение в Евангелии. Углублялся в пророчества Даниила и туманные угрозы Апокалипсиса. Вспоминал прочитанное раньше. Еще в бытность свою лондонским торговцем он, возможно, встречал у книгопродавца и просматривал популярные среди сектантов трактаты. Один назывался «Личное правление Христа на земле». Он вышел в 1641 году, его автором был Джон Арчер. Он писал об огромном истукане, который привиделся царю Навуходоносору: голова из чистого золота, руки и грудь — из серебра, чрево и бедра медные, а ноги частью железные, а частью глиняные. И о четырех зверях, явившихся во сне Даниилу: лев с орлиными крыльями, медведь, барс с четырьмя головами и ужасный зверь о десяти рогах. И об ангеле с раскрытой книгой в руках, и о жене, облеченной в солнце, и красном драконе, и о войне Михаила и ангелов против этого дракона, древнего змия, называемого диаволом и сатаною. О победе над ним и спасении, и о суде над великою блудницей. В другом трактате, изданном в том же году — «Проблеск славы Сиона» — речь шла о страданиях и нуждах простого народа. Его автор Томас Гудвин заверял, что то место в Откровении Иоанна, где сказано: «…святые будут править с ним тысячу лет», не может означать, что они будут править с ним на небесах. «Этого быть не могло, — писал он, — и потому это должно означать, что Иисус Христос придет и будет править со славою здесь, в течение тысячи лет. И хотя это может показаться странным, никто до сих пор не обратил на это внимания». А когда небесное царство придет на землю, нужда в законах и земных властях отпадет, ибо «само присутствие Христа заменит всякие земные установления». Трактат обещал единство и любовь между сектами и изобилие плодов земных для всех людей — богатых и бедных, знатных и униженных… Может быть, именно в это время Уинстэнли изучает английские статуты и Великую хартию вольностей, дарованную Англии королем Иоанном Безземельным в 1215 году, — позднее он будет ссылаться на них в своих трактатах, — а также «Институции» знаменитого юриста Эдварда Кока. Но больше всего в эти годы он читает горькую книгу жизни одинокого бедняка, лишенного средств к существованию. Он видел, как темны, забиты, несчастны люди вокруг него. Он каждый день сталкивался с их бедами и пороками. И вместе с тем какое утешение давало ему общение с бесхитростными крестьянскими сердцами! Он видел, насколько далека их мирная жизнь от суетных тревог купли и продажи. Насколько полна труда, естественна и чиста. Он наблюдал, как они делились друг с другом пищей, одеждой, кровом. Он постиг, как мало человеку нужно для того, чтобы жить в этом мире, — и чем проще, чем ближе к природе его существование, тем больший покой обретает душа.
Меж тем парламент сотрясали словесные бури. В нем появилась оппозиция пресвитерианским вождям. Индепенденты, и в первую очередь Кромвель, требовали продолжения революции, проведения новых реформ, решительной победы над монархией. В парламенте депутаты произносили громовые речи; враждующие армии проливали кровь, борясь за «истинные права» и «истинные свободы»; графство Серри, где жил Уинстэнли, несколько раз переходило из рук в руки. А в деревне все оставалось по-старому. Крупные собственники — лорды и фригольдеры — теснили мелких хозяев. Цены росли, ренты поднимались, солдаты стояли почти в каждом доме и опустошали и без того скудные закрома, нужда и голод гнали бедняков из селения в селение. Прежде аппетиты лордов сдерживали феодальные королевские ограничения, теперь, пользуясь войной и неразберихой в государственных делах, они ставили изгороди на общинных лугах и в рощах, лишая жителей деревни права пасти там свой скот, собирать хворост, охотиться на мелкого зверя. Открытых лугов и пастбищ становилось все меньше; лорды увеличивали арендную плату, требовали штрафов, исполнения бесчисленных мелких повинностей. Крестьяне едва сводили концы с концами: лучшая часть урожая шла лорду и на уплату церковной десятины. Дети были нездоровы и голодны, взрослые угрюмы, женщины старились рано. Бедствия невинных терзали душу, жгли огнем, заставляли искать выхода. Вопросы переполняли сознание — новые вопросы, над которыми Уинстэнли не задумывался ранее, ведя более или менее благополучную жизнь горожанина. Благоденствие притупляет духовные силы; бедствия же, раня нас, наоборот, оживляют их. Какова цель и каков объект этой бесконечной борьбы, из которой он был выбит, лишившись состояния, дома, работы? Что делает эту борьбу неизбежной? Кто получает от нее выгоду? Для чего ведется война, бремя которой столь тяжким ударом обрушилось на его плечи? Что принесет она беднякам? И возможно ли обернуть ее на благо народа? Можно ли сделать ее средством освобождения бедняков, «меньших братьев», из когтей нищеты — ведь это нищета держит их в невежестве, темноте, склоняет к порокам? И правда ли неотвратимо, самим богом определено проклятие, тяготеющее над их душами и телами? Кальвинисты-пуритане учили, что одни люди, «старшие братья», свыше предопределены ко спасению и процветанию как в этом мире, так и за гробом, что они от века поставлены быть господами и хозяевами жизни, а массы бедняков обречены быть дровосеками и водоносами, рабами и слугами таких же, как и они, людей. Неужто божественное провидение столь несправедливо? И он сам — неужели он проклят от рождения, обречен на жалкое прозябание, на провал любого своего дела? За что? И Джерард ищет ответа у духа святого, бога истинного, как и многие в его время, пытаясь понять высшую правду. Его личная беда связывается в сознании не только с бедами народа, но шире — с вселенским божьим замыслом, с той великой космической драмой, которую переживает мир с момента своего возникновения. Прежде он усердно ходил в церковь, слушал ученых пуританских проповедников. Теперь же рассуждения их вызывают протест в его душе: мертвая буква, цитатничество, ходульная книжная ученость говорят их устами. Нет правды в их словах, нет упования для простого и несчастного человека. И он идет к баптистам и крестится заново в одной из укромных речек, бегущих к Темзе. Старая секта баптистов, гремевшая в прошлом веке в Германии, сильна и многочисленна на Британских островах. В тридцатые годы их преследовал Лод, но они сохраняли свою веру с твердостью отчаяния. Они были борцами. В 1644 году, после падения Лода, несколько баптистских конгрегаций объединились и выработали свой символ веры. Баптистами становились ремесленники, наемные работники, батраки. Уинстэнли присоединился к ним и даже, возможно, некоторое время был у них проповедником. На баптистских собраниях он почувствовал в себе дар пророчества, вскормленный домашней молельней в Уигане. И стал осуждать вместе с баптистами лживую проповедь духовенства. Уинстэнли привлекала их терпимость; позднее мы найдем в его сочинениях ряд черт, роднящих его с этой сектой. До конца жизни он будет повторять вместе с ними, что власти не должны вмешиваться в дела веры, что священство и церковные обряды ничего не значат — их должен заменить личный религиозный опыт каждого верующего; что дух божий должен жить внутри человека и управлять его поступками; что несчастные и презираемые бедняки будут в конце концов избавлены от бремени угнетения и наследуют землю. «Как в дни пришествия Христа бедные прежде всего получили благую весть, — писали баптисты, — так и в нынешней реформации простой народ прежде всего пойдет искать Христа. Вы, те, что принадлежите к низшему рангу, вы, простой народ, ободритесь, ибо господь намерен использовать простых людей в великом деле провозглашения царства сына его…» Но тот, кто ищет всерьез, не останавливается надолго. Баптисты не преодолели кальвинизма, им не удавалось избежать сковывающей догматики и обязательных обрядов. Писание служило им настольным руководством к повседневной жизни — они старались следовать ему буквально. Дух воинственный и непреклонный владел ими. И Уинстэнли отходит от баптистов. Погружение в воду — не более чем «обряд по плоти», истинное крещение должно совершиться в духе. Он становится сикером — искателем. Перестает ходить в церковь, посещать собрания баптистов и прислушивается к голосу высшего разума внутри себя. И снова ищет истинной веры — такой веры, которая примирила бы его с болью и темнотой этого мира и дала бы выход, дала бы надежду. Он терпеливо и страстно ждет обещанного в священной книге пришествия Христа на землю, непрестанно молит бога о внутреннем просветлении. Его внимание привлекают фамилисты — «семья любви». Они пришли в прошлом веке из Нидерландов и были в свое время осуждены Елизаветой как «зловредная и еретическая секта». Основал секту Генри Никлас, сочинения которого переиздаются в английском переводе в 1646 году. Их опубликовал печатник Джайлс Калверт, с которым в будущем Уинстэнли свяжет долгое и тесное сотрудничество. Главное для фамилистов — любовь, всеобщая мистическая любовь ко всему творению, ко всем людям. Только любовь, осветившая изнутри сердца, может спасти мир. Ибо все пороки и добродетели гнездятся в душе человеческой, а ангелы и демоны — всего лишь добрые и злые побуждения внутри нее. Очищенный и просветленный любовью человек вновь обретет невинность и станет подобным первозданному Адаму, каким тот был до грехопадения. О фамилистах говорили даже, что они обобществили свое скудное имущество, и неудивительно, что власти опасались этой секты больше других. Мистическое вдохновение переполняло души. Искали духовный смысл борьбы между королем и парламентом. Множество невероятных событий произошло в Англии, пока Джерард Уинстэнли пас коров на бесплодных вересках холма Святого Георгия. Набранная и обученная Кромвелем пуританская армия в 1644 году начинает одерживать одну за другой победы над силами роялистов: при Гейнсборо, Уинсби, Марстон-Муре. В январе 1645 года парламент утвердил эти победы актом о создании регулярной парламентской армии — Армии нового образца. 14 июня 1645 года в битве при Нэсби королевские сторонники — кавалеры — разбиты наголову. В следующем, 1646 году парламент отменяет феодальные повинности лендлордов по отношению к королю. Веками существовавшее «рыцарское держание», которое обязывало лорда платить королю подать при вступлении в наследственные права и женитьбе, поставлять ему в случае необходимости вооруженных воинов, которое отдавало ему в опеку земли несовершеннолетних, потерявших родителей, было, наконец, аннулировано. Зависимость же крестьян от воли лорда по-прежнему осталась в силе: ее отменять никто не собирался. В это же время в стране рождается новая политическая сила — левеллеры, что в переводе значит «уравнители». Они требуют уравнения в правах всех англичан независимо от имущественного положения, избрания нового парламента, демократической конституции. Их глава — тот самый Джон Лилберн, которого истязал палач десять лет назад на площади Вестминстера. Возбужденная левеллерской агитацией армия избирает своих агитаторов-уполномоченных для борьбы с консервативными устремлениями пресвитерианского парламента. Она захватывает короля, вступает в Лондон и требует принятия новой справедливой конституции — «Народного соглашения». Осенью 1647 года в Петни, неподалеку от холма Святого Георгия, индепенденты во главе с Кромвелем и Айртоном и левеллеры Рейнсборо, Сексби, Петти, Уайльдман до хрипоты спорят о принципах политического устройства Англии. Сила на стороне офицеров, и левеллеры терпят поражение сначала в словесных спорах, потом на полях Уэра, где ряд полков идет на открытое восстание. Пользуясь раздорами в стане революции, роялисты поднимают голову. А вольные мыслители ищут объяснения этой борьбе в дышащих древней, притягательной силой пророчествах Писания, в творениях континентальных мудрецов. В 1645 году выходят переводы сочинений Якоба Беме, в 1646 году — «Лицезрение бога» Николая Кузанского, в 1648 — его «Теология Германика». Образованные и талантливые пуританские проповедники — Джон Эверард, Джон Солтмарш, Уильям Делл популяризируют эти сочинения в устных проповедях. Бог пребывает во всех творениях, твердят они, и в каждом человеке; не ищите его вне себя, он внутри вас; там он учит и наставляет. Христос и дьявол, небеса и ад присутствуют в каждой душе. Уинстэнли слышал этих проповедников в Лондоне — еще в то время, когда держал свою лавку на Олд Джури. Он жил тогда заурядной обывательской жизнью. И вот «посреди этих моих глупостей, — вспоминал он, — я услышал слова одного человека. Он отверг гнев, угрюмость, скупость и раздражение»; дух его очистился; это было подобно «операции отсечения мертвой плоти, чтобы излечить болезнь». В душе его «поднялось солнце справедливости, и человек этот обрел великую радость и сладостный покой, кротость и смирение и исполнился славы». Проповедь эта еще тогда поразила его. Быть может, он слышал знаменитого Джона Эверарда, который проповедовал как раз в приходе святого Олава на улице Олд Джури. Еще тогда, в Лондоне, Джерард попытался идти путем этого проповедника — отвергнуть вожделения плоти, страсть к наживе, стремление к наслаждениям мира сего. Но близкие его не поняли. Когда я жил, как все, вспоминал он, мною были довольны. Когда я встал на путь духа, «прежние мои знакомцы стали бояться меня, называли богохульником, заблудшим и смотрели на меня как на человека не от мира сего, ибо семя пало во мне на добрую почву; я имел Бога — я имел все». И теперь это первое обращение возрождается в его душе, и он пытается идти дальше. И иногда, может быть, благодарит Провидение за то, что оно лишило его благ земных и расчистило путь для восхождения духа. Его живой, самобытный ум и недюжинная нравственная сила снова наполняют его беспокойством. Он осуждает свою прошлую жизнь. Сознание собственного греха, лживости, суетности, грязи прошлого существования одолевает его. «Я лежал мертвый во грехе, — думает он с ужасом, — утопал в крови и смерти, пребывал в оковах моих вожделений… Я стыдился при мысли, что люди узнают об этом… Я наслаждался вкусом этих плевел… Те вещи, в которых я находил удовольствие, были моя смерть, мой стыд, сама власть тьмы, в темнице у которой я был заточен… И все же я не мог отказаться от себя; и чем больше я жаловался и стенал, чтобы подавить ее, тем больше эта власть тьмы проявлялась во мне, подобно затопляющей все волне злобы, повергавшей меня в рабство, и я видел, что я жалкий человек, погрязший в ничтожестве… И со скорбью зрел я, что не имею сип вырваться из этих уз себялюбия… Я был чужим Богу, хотя на людях я, как полагал, был исповедником веры…» Ужас от сознания собственного греха и отчаяние овладевают им; он страшится смерти — смерти духовной, проклятия. Он боится, что дьявол уже протянул свои когти к его душе; одинокими ночами его мучат кошмары или посещают странные, яркие видения. Он впадает в транс, он на грани небытия… И вот приходит освобождение. Он проникается сознанием, что дух божий, или Отец, присутствует в нем. С самого момента творения он покоится в каждом камне, растении или звере, в земле, воде, воздухе и в светилах небесных. Но более всего — в человеке, в каждом человеке, ибо господь создал всех подобными друг другу. «Я позволил этому сознанию войти в меня, отчасти даже без моего желания, потому что я усердно проникал в эти тайны и увидел их, прежде чем писать о них, что научило меня радоваться в молчании и лицезреть Отца в его благодатной работе…» …Неужели тяжкие бедствия одних и наглое, угнетательское благоденствие других — установления божественного Промысла? Или они — результат человеческой злой воли, несправедливости, неправедных законов? Неизбежны ли страдания бедняков? Он, кажется, нашел ответ. Кальвинистская вера в то, что одни от века избраны и благословенны, а другие прокляты до гроба и за гробом, — ложная вера. Каждый может быть спасен, ибо каждый — творение божье. Помочь беднякам нищей деревеньки у подножия холма Святого Георгия, помочь обездоленным всей Англии можно — для этого надо показать им, что все достойны спасения. Это поднимет их дух, даст надежду. Вера в свое спасение объединит их, наполнит энергией; они почувствуют себя свободными от угнетения лордов, от угроз проповедников, от притеснения власть имущих, от сил тьмы л ада, от слепых законов природы. Они перестанут пассивно терпеть и страдать, поднимут голову и потребуют возвращения своих прирожденных прав. Доказательству возможности всеобщего спасения Джерард Уинстэнли и посвятил свой первый трактат.
ОТКРЫТИЕ ТАИНЫ
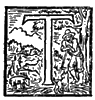 рактат назывался «Тайна Бога, касающаяся всего творения — человечества. Долженствующая стать известной каждому мужчине и женщине по истечении семи сроков и времен. Согласно замыслу божию, открытая его слугам».
В тридцать восемь лет Джерард Уинстэнли почувствовал в себе способность писать — складывать в слова и поверять бумаге те одинокие раздумья, вопросы, ту веру свою и надежду, которые не давали ему погибнуть и превратиться в тупое животное. И, конечно, видел в этом даре новое свидетельство правоты своих упований.
Ему странно было писать- свое имя под названием — сколько людей прочтут самые сокровенные его думы! И может быть, оставшиеся родные и сверстники там, на родине, в Уигане, графстве Ланкашир, удивятся, получив его творение. Он ведь не кончал университетов, не преуспел в богословских науках.
К землякам он и обратил первые свей слова — слова любви и надежды, слова ободрения. «К моим возлюбленным соотечественникам графства Ланкашир… — так он начал свой трактат. — Дорогие соотечественники! Не удивляйтесь, видя здесь мое имя… Если что-либо покажется странным, не клеймите это как ошибку, ибо я поначалу сам не мог выносить тех божественных истин, в которых ныне узрел красоту… Если кто либо из вас увидит мое имя под этим нижеследующим рассуждением, вы, может быть, удивитесь и будете презирать меня в сердцах ваших, как Давидовы братья презирали его, говоря ему: это гордыня сердца твоего ведет тебя на битву». Он чувствовал себя царем Давидом, вышедшим на бой с гигантом Голиафом: он воистину шел на битву со злом. Но не плотский, ранящий тело меч держал он в руке. Оставим Кромвелю и Фэрфаксу страшное дело кровопролития. Джерард Уинстэнли будет сражаться с грехом и проклятием, которые губят душу.
В воздухе и впрямь снова повеяло войной. Король, почетный пленник острова Уайт, вел тайные переговоры с шотландцами, в то же время коварно обещая уступки членам парламента. 3 января 1648 года общины приняли решение прекратить с ним всякие сношения. «Никаких обращений» — так назывался парламентский билль.
До деревеньки в Серри доходили из близкого Лондона слухи о роялистских мятежах. Кавалеры на острове Уайт несколько раз пытались освободить монарха из-под стражи. В марте на улицах Лондона открыто распивали вино за здоровье его величества. А в начале апреля против черни, кричавшей «Бог и король!», были двинуты боевые силы кавалерии Айртона. Поговаривали и о бунтах в Уилтшире, о скандале, учиненном роялистами во время игры в мяч в Кенте, о побеге из-под стражи сына короля, герцога Йорка.
Все тревожнее становилось вокруг; где-то рядом, в южных холмистых лесах Серри, роялисты собирали оружие, готовили коней… Война явная, война плоти против плоти, с ее грязью, кровью, страданием телесным, вот-вот грянет опять. Уинстэнли чувствовал, что за этой явной войной стоит борьба внутренняя, тайная, духовная. Извечная борьба добра и зла, жадности и смирения, зависти и любви…
На эту борьбу он и выходил с открытым забралом, сжимая в руке перо. Он осознавал себя орудием божьим. «Бог не всегда избирает мудрых, ученых, богатых мира сего, чтобы через них явить себя другим, он избирает презираемых, неученых, бедных, ничтожных в мире сем и наполняет их своим добром, а других отпускает с пустыми руками».
С первых же слов он заявлял себя защитником бедных. Благочестивые пуритане — пресвитериане, ипдепенденты, даже кое-кто из левеллеров — могли сочувствовать беднякам, пока те оставались смирными кроткими овцами, и даже уделять им от щедрот своих на пропитание. Но как только бедные поднимали головы и пытались говорить от своего имени — те самые благочестивые пуритане единодушно обрушивались на «невежественные грубые толпы», кричали о необходимости держать их в узде. Уинстэнли заговорил от имени самых несчастных и забитых.
Судьба лишила его состояния и благополучия буржуазного торговца — она не наказала его, а освободила. Она дала ему возможность духовного и нравственного обновления. Радость и покой, снизошедшие в его душу, рождали небывалую силу. Он был теперь уверен, что бог-отец любит его, как и бесчисленное множество других созданий; это делало его свободным.
Он прекрасно сознавал, что пишет ересь. Что с позиций строгой протестантской теологии тайна, открытая ему, подвергнется сокрушительной критике. Ведь кальвинисты-пуритане утверждали, что избраны и предопределены ко спасению только немногие «лучшие люди», а остальные обречены безропотно влачить бремя проклятия. Они ссылались при этом на ветхозаветные и евангельские тексты, на апостола Павла, на отцов церкви.
Но не его дело вступать с ними в богословские споры. Он пишет для бедняков, для таких же, как он, простых душ: «Может быть, кое-что здесь покажется весьма странным при первом чтении, и вы воскликнете: заблуждение, заблуждение! Ибо часто бывает, что когда плоть не может постичь и перенести истину божью, она клеймит ее как заблуждение и отвергает ее как нечто порочное».
И именно для них, для простых душ, для теряющих надежду в бедственном житейском море великим открытием будет сознание, что бог любит всех — больших и малых, умных и глупых, праведных и греховных. Вы желаете, писал Уинстэнли, чтобы господь явил вам свою любовь и сделал вас свободными — так не удивляйтесь, не негодуйте, не завидуйте, если он явит также свою любовь и другим, даже тем, кто кажется вам потерянным. Слава божья в том и состоит, чтобы избавить от смерти не избранных, но все человечество, ибо Христос искупил все грехи на земле.
Даже и гонители, такие, как Савл, в должное время обратятся и достигнут спасения в граде божьем — совершенном людском сообществе.
Но как случилось, что грех, пороки, несчастья сопровождают человека от рождения до могилы? Почему ничто не совершенно в этом мире — ни дела земные, ни человеческая любовь, ни природа, где тоже царит право сильного и смерть побеждает все живое? Учителя и пасторы объясняют это тем, что некогда первый человек Адам ослушался приказания бога и съел запретный плод с древа познания добра и зла, за что и был изгнан из рая и повержен в пучину бедствий. Но почему за древнего Адама страдаем все мы, даже после того, как Искупитель погиб за нас крестной смертью?
Уинстэнли не зря ходил слушать независимых свободных проповедников. Они давно уже доказывали прихожанам, что Адам и змий — лишь внутренние силы, борющиеся в душе человеческой. Ветхий, плотский Адам поддается искушению зла, нарушает божественный закон и подвергается наказанию. Новый Адам — Христос — борется со злом внутри человека. Но кальвинистские проповедники говорили, что лишь немногие достигнут спасения.
Он же, Джерард, полагал иначе. Он рассказывал читателю древний библейский миф, украшая и углубляя его своим поэтическим видением. Бог создал Адама совершенным и безгрешным; божественная мудрость управляла этим созданием. Адам — символ всего человечества — был задуман как благоухающий сад, где произрастают прекрасные травы и деревья — такие, как любовь, радость, мир; благочестие, знание, послушание, благоговение, чистота. Но змий-искуситель, который есть не что иное, как дух себялюбия и алчности, соблазнил его. Адам поддался эгоизму, вкусил запретный плод себялюбия и возомнил о себе, что он может стать подобным богу, равным ему, но отделенным от него. И тогда он отверг бога, а в сердце его поселился змий. И он возрадовался своему пороку и ощутил удовольствие от своих внешних пяти чувств. Отныне ведущим его стремлением станет услаждать эти чувства.
Поддавшись злу себялюбия, человечество из цветущего сада превратилось в зловонное гноище сорняков. В душах стали произрастать гордость, зависть, неудовлетворенность и неповиновение. А отсюда произошли злоба и несправедливость мира сего, ибо душа человеческая отныне отравлена пороком. Каждый из нас — Адам; каждый сделал выбор Адама и несет на себе всю тяжесть собственного эгоизма и гордыни.
Но ошибаются ортодоксы-кальвинисты, думая, что лишь немногие спасутся. Если бы основная масса душ человеческих погибла, труд божий потерпел бы посрамление. Нет, великая тайна, открывшаяся ему, Джерарду Уинстэнли, состоит как раз в том, что любовь божья распространяется на всех людей без исключения; создатель разрушит власть тьмы до основания, и когда эта работа будет закончена, поселится в сердце каждого человека, каждого мужчины и каждой женщины, как вселился он некогда в; сердце Иисуса. Окончательно повержен и проклят будет только змий — первопричина человеческого падения. А люди все спасутся, смерть будет побеждена, человек освободится от всяких окон и возродится к новой жизни.
Могут спросить, откуда он, Уинстэнли, все это знает. Прежде всего из своего собственного опыта. Он знает, что каждый день жизни ставит его перед выбором: поступить по совести или по желанию плоти, послушаться разума или вожделения. Его собственная душа всегда была полем битвы между добром и злом. И часто, о, часто он шел путем услаждения плоти, путем пустых удовольствий или потакания алчным, позорным аппетитам низшей своей натуры.
Но теперь — сила духа освободила его. Зло больше не властно над ним, «хотя иногда кажется, оно встает передо мною, — честно оговаривался он, — подобно дерзкому побежденному врагу, который больше уже не может причинить вреда». Его прежнее «я» встает перед ним, как в зеркале: традиционно благочестивый купец среднего достатка, лондонский торговец готовым платьем, хозяин магазина… Он отвергает этот сосуд греха и неразумия. «Я вижу и чувствую, — признается он, — что Бог освободил меня от господства и подавляющей власти этого греховного тела».
Но, отвергая свою прошлую корыстную, плотскую жизнь, он вместе с ней отвергает и условия своего существования, условия бытия подобных ему скованных подсчетами прибыли дельцов. Отвергает их ценности, их погоню за деньгами, отношение к миру вообще. Он сам освободился от оков мира купли-продажи и хочет освободить от них всех. Этим миром, говорит он, правит зло алчности и себялюбия — так пусть же оно будет вырвано с корнем из душ всех людей, пусть низвергнется в бездну вместе со всеми установлениями порочного, его порождающего мира. Так религиозный мыслитель Джерард Уинстэнли проникается революционным духом: он начинает понимать необходимость коренных изменений в мире.
Уже здесь, в первом своем трактате он порывает с протестантской этикой, которая учила, что земное предназначение человека состоит в работе для достижения собственного блага, и видела в мирском процветании и благополучии знак божьегоизбрания. Лишившись мещанского буржуазного благоденствия, он становится на путь исканий правды — на земле, как и на небе. И лишается вместе с собственностью сознания греховности своей натуры.
«Я радуюсь в совершенной надежде и уверенности, что хотя этот змий, или убийца, и начинает подчас подыматься путем искушении или внешних тревог, или пытается проявить себя в безрассудном гневе, в гордыне, недовольстве или тому подобном… все же каждое проявление во мне этого зла служит к еще большему его посрамлению; и никогда более он не подымется, чтобы править мною и порабощать меня, как прежде…»
Радость эта переполняет его ожиданием скорого грядущего преображения мира — его очищения, обновления. Конечно, нельзя думать, что все это свершится сразу, сдерживает он сам себя, — существует несколько этапов работы божьей; одни из них уже минули, другие происходят на наших глазах, а третьим еще только суждено наступить. И вся продажность, грязь, смерть и боль этого мира исчезнут, погибнут навеки.
Как лучше объяснить, доказать эту уверенность? И он ищет подтверждений в представлявшейся тогда единственно надежной и доступной всем книге — в Библии.
Еще в эпиграф он вынес слова псалма: «Царство твое — царство всех веков, и владычество твое во все роды». В тексте он снова и снова цитирует книгу Бытия. Откровение, послания к коринфянам и римлянам, послание Иоанна. Там ясно сказано, что все люди на земле будут спасены. Избранники божии — в первую очередь, другие— позже, но все до единого!
И что тогда будет? Каким он предстанет, новый совершенный мир, град обетованный? Это самый захватывающий вопрос. Что царство божие настанет совсем скоро — в этом не сомневался не только Уинстэнли. Великие потрясения, перевернувшие мир вверх дном, сделавшие последних первыми, а первых последними, заставляли народ Англии ждать второго пришествия со дня на день. Но каким оно будет, это царство Христово?
Здесь воображение разыгрывалось, мечта делала доступным самое невозможное. Все люди станут совершенны. Их стремления приобретут чисто духовный характер. Значит, весь внешний материальный мир, созданный «для удовольствия, пользы и употребления человеку», — исчезнет? Да, он станет ненужным. После того как человек очистится от греха и вожделений плоти, ему не потребуются больше домашний скот, зерно, пища и питье, и даже Солнце, Луна и звезды, столь услаждающие земной взор. Мир станет миром духа.
Но что же, возразят некоторые неразумные дети земли, «если это правда, если Бог спасет каждого, тогда я буду жить и получать удовольствие от, греха, есть, и пить, и веселиться, и орать все наслаждения, пока я живу; ибо я — божье создание, и он не захочет, чтобы его работа пошла впустую, я все равно буду спасен». Нет, отвечает Уинстэнли. Если вы посвятите вашу жизнь удовольствиям, ваше дело погибнет. Конечно, жить в праздности и довольстве лучше, чем влачить свои дни, убиваясь над непосильной работой. Но кто может позволить себе праздную жизнь? Только богатые. И, пожалуй, лучше, если они будут вести жизнь развратников-гедонистов, чем станут тиранами и угнетателями бедных. Но грех сам по себе — форма рабства. Его накажут не вечные муки за гробом, а больная совесть в этой жизни, «страдания более нестерпимые, чем если тебе вырвут правый глаз или отрежут правую руку».
Но почему же тогда люди так падки на грех, спрашивает он себя, если они страдают безмерно за свои злые деяния? И отвечает: дьявольское искушение велико; оно идет от себялюбивого желания быть подобным богу, отвергнуть его любовь, отделить себя от покровительства божия и спасения.
Путь избавления долог; он проходит несколько этапов или сроков. Первый этап — божественный завет Адаму не есть плода от древа познания; за ослушание — смерть. Адам преступил завет, и смерть заставила человечество создать свой собственный закон вместо божественного. И этот человеческий закон — первый убийца человека. Ведь не король вешает преступника, а королевский закон. Пока этот закон действует, никто не может быть спасен, ибо он каждого делает себялюбцем и грешником. А потому «проклятая власть закона должна быть уничтожена».
Но есть и второй убийца — честолюбивое желанно сделаться подобным богу. Не надо долго объяснять, кто здесь имеется в виду. Вся новая Англия взирала ныне с возмущением и гневом на того, кто осмелился ставить свои самодержавные прихоти выше справедливости и правды. Левеллеры — политические уравнители — открыто требовали суда над монархом. И вслед за ними Уинстэнли — своим языком, своими образами — клеймит нечестивого и гордого тирана. Нельзя поклоняться одновременно богу и королю, пишет он, ибо законы их противоположны. Королевский закон ведет к себялюбию; божеский — к общности и сотрудничеству. Власть себялюбия должна быть вырвана с корнем, или человечество не сможет более существовать. Так чисто духовные отвлеченные рассуждения смыкались с революционными порывами масс.
Битва идет повсюду. Ее арена — поля истерзанной усобицами Англии; но поле ее — и сердце человеческое. Грех внутри ведет к угнетению и несправедливости во внешнем мире. Уинстэнли призывает бедняков и праведников (для него это — почти одно и то же) готовиться к великим переменам. «Близится время, — предупреждает он, — когда они будут освобождены, а само зло, змий, будет выброшено в огненное озеро и погибнет навеки». Уничтожив несправедливый королевский закон, подавив власть греха внутри себя, народ освободится от уз и построит царство небесное на земле.
Второй этан великой истории грехопадения и постепенного освобождения человечества от скверны — это время от Адама до Авраама. Третий — история народа иудейского от Авраама до Моисея; четвертый — от Моисея до рождения Христа. Христос — первый знак освобождения от греха, ибо он первый совершенный человек на земле. Пятый срок пройден во время земной жизни Иисуса — до его явления апостолам после воскресения. Шестой срок переживает земля поныне, он окончится судным днем, и день этот близок.
Воображение снова рисует ему грозные картины грядущего. В течение этого шестого срока святые будут собраны в град божий, предсказанный в Откровении. А нечестивые «брошены в огненное озеро на все время этого срока, пока судный день не окончится». И только после этого смерть и грех будут побеждены и все человечество очистится и спасется.
Пока же «святые», узревшие божественную истину, должны терпеливо ждать знака; их главное оружие в борьбе «против осуждения, клеветы, угнетения, нищеты, слабости, тюрем и множества искушений» — вера. Гнев змия растет, ибо день приближается, беды обрушиваются на головы несчастных, и те, в сердцах которых гнездится змий, ожесточаются против святых. «Я полагаю, — убежденно пишет он, — со временем это будет явлено всем, а мне видится совершенно ясно, что великие бедствия, зависть, позорящие клички и выражения необузданного гнева среди мужчин и женщин в наши дни против тех, кого они клеймят как сектантов… есть показатель его, змия, последних мук, знак смятения его духа, начало его падения…»
Седьмой срок — это сам судный день, время, которое в конце концов принесет спасение всем, и праведным и грешным. Последние выйдут из горнила заслуженных, страданий очищенными и возрожденными. Нет оснований не верить, что грешники освободятся из оков ада, убеждает Уинстэнли. Бог есть любовь, бесконечная любовь, а раз так — всех вызволит его милосердие. И потому — всем открыты врата надежды. «Ждите, ждите терпеливо, — взывает он, — ждите со смирением и спокойным духом, ибо свобода божья — это действительная свобода… Это то, что я должен был сказать вам об истине. Я сделал все».
На самом деле он только еще начал.
рактат назывался «Тайна Бога, касающаяся всего творения — человечества. Долженствующая стать известной каждому мужчине и женщине по истечении семи сроков и времен. Согласно замыслу божию, открытая его слугам».
В тридцать восемь лет Джерард Уинстэнли почувствовал в себе способность писать — складывать в слова и поверять бумаге те одинокие раздумья, вопросы, ту веру свою и надежду, которые не давали ему погибнуть и превратиться в тупое животное. И, конечно, видел в этом даре новое свидетельство правоты своих упований.
Ему странно было писать- свое имя под названием — сколько людей прочтут самые сокровенные его думы! И может быть, оставшиеся родные и сверстники там, на родине, в Уигане, графстве Ланкашир, удивятся, получив его творение. Он ведь не кончал университетов, не преуспел в богословских науках.
К землякам он и обратил первые свей слова — слова любви и надежды, слова ободрения. «К моим возлюбленным соотечественникам графства Ланкашир… — так он начал свой трактат. — Дорогие соотечественники! Не удивляйтесь, видя здесь мое имя… Если что-либо покажется странным, не клеймите это как ошибку, ибо я поначалу сам не мог выносить тех божественных истин, в которых ныне узрел красоту… Если кто либо из вас увидит мое имя под этим нижеследующим рассуждением, вы, может быть, удивитесь и будете презирать меня в сердцах ваших, как Давидовы братья презирали его, говоря ему: это гордыня сердца твоего ведет тебя на битву». Он чувствовал себя царем Давидом, вышедшим на бой с гигантом Голиафом: он воистину шел на битву со злом. Но не плотский, ранящий тело меч держал он в руке. Оставим Кромвелю и Фэрфаксу страшное дело кровопролития. Джерард Уинстэнли будет сражаться с грехом и проклятием, которые губят душу.
В воздухе и впрямь снова повеяло войной. Король, почетный пленник острова Уайт, вел тайные переговоры с шотландцами, в то же время коварно обещая уступки членам парламента. 3 января 1648 года общины приняли решение прекратить с ним всякие сношения. «Никаких обращений» — так назывался парламентский билль.
До деревеньки в Серри доходили из близкого Лондона слухи о роялистских мятежах. Кавалеры на острове Уайт несколько раз пытались освободить монарха из-под стражи. В марте на улицах Лондона открыто распивали вино за здоровье его величества. А в начале апреля против черни, кричавшей «Бог и король!», были двинуты боевые силы кавалерии Айртона. Поговаривали и о бунтах в Уилтшире, о скандале, учиненном роялистами во время игры в мяч в Кенте, о побеге из-под стражи сына короля, герцога Йорка.
Все тревожнее становилось вокруг; где-то рядом, в южных холмистых лесах Серри, роялисты собирали оружие, готовили коней… Война явная, война плоти против плоти, с ее грязью, кровью, страданием телесным, вот-вот грянет опять. Уинстэнли чувствовал, что за этой явной войной стоит борьба внутренняя, тайная, духовная. Извечная борьба добра и зла, жадности и смирения, зависти и любви…
На эту борьбу он и выходил с открытым забралом, сжимая в руке перо. Он осознавал себя орудием божьим. «Бог не всегда избирает мудрых, ученых, богатых мира сего, чтобы через них явить себя другим, он избирает презираемых, неученых, бедных, ничтожных в мире сем и наполняет их своим добром, а других отпускает с пустыми руками».
С первых же слов он заявлял себя защитником бедных. Благочестивые пуритане — пресвитериане, ипдепенденты, даже кое-кто из левеллеров — могли сочувствовать беднякам, пока те оставались смирными кроткими овцами, и даже уделять им от щедрот своих на пропитание. Но как только бедные поднимали головы и пытались говорить от своего имени — те самые благочестивые пуритане единодушно обрушивались на «невежественные грубые толпы», кричали о необходимости держать их в узде. Уинстэнли заговорил от имени самых несчастных и забитых.
Судьба лишила его состояния и благополучия буржуазного торговца — она не наказала его, а освободила. Она дала ему возможность духовного и нравственного обновления. Радость и покой, снизошедшие в его душу, рождали небывалую силу. Он был теперь уверен, что бог-отец любит его, как и бесчисленное множество других созданий; это делало его свободным.
Он прекрасно сознавал, что пишет ересь. Что с позиций строгой протестантской теологии тайна, открытая ему, подвергнется сокрушительной критике. Ведь кальвинисты-пуритане утверждали, что избраны и предопределены ко спасению только немногие «лучшие люди», а остальные обречены безропотно влачить бремя проклятия. Они ссылались при этом на ветхозаветные и евангельские тексты, на апостола Павла, на отцов церкви.
Но не его дело вступать с ними в богословские споры. Он пишет для бедняков, для таких же, как он, простых душ: «Может быть, кое-что здесь покажется весьма странным при первом чтении, и вы воскликнете: заблуждение, заблуждение! Ибо часто бывает, что когда плоть не может постичь и перенести истину божью, она клеймит ее как заблуждение и отвергает ее как нечто порочное».
И именно для них, для простых душ, для теряющих надежду в бедственном житейском море великим открытием будет сознание, что бог любит всех — больших и малых, умных и глупых, праведных и греховных. Вы желаете, писал Уинстэнли, чтобы господь явил вам свою любовь и сделал вас свободными — так не удивляйтесь, не негодуйте, не завидуйте, если он явит также свою любовь и другим, даже тем, кто кажется вам потерянным. Слава божья в том и состоит, чтобы избавить от смерти не избранных, но все человечество, ибо Христос искупил все грехи на земле.
Даже и гонители, такие, как Савл, в должное время обратятся и достигнут спасения в граде божьем — совершенном людском сообществе.
Но как случилось, что грех, пороки, несчастья сопровождают человека от рождения до могилы? Почему ничто не совершенно в этом мире — ни дела земные, ни человеческая любовь, ни природа, где тоже царит право сильного и смерть побеждает все живое? Учителя и пасторы объясняют это тем, что некогда первый человек Адам ослушался приказания бога и съел запретный плод с древа познания добра и зла, за что и был изгнан из рая и повержен в пучину бедствий. Но почему за древнего Адама страдаем все мы, даже после того, как Искупитель погиб за нас крестной смертью?
Уинстэнли не зря ходил слушать независимых свободных проповедников. Они давно уже доказывали прихожанам, что Адам и змий — лишь внутренние силы, борющиеся в душе человеческой. Ветхий, плотский Адам поддается искушению зла, нарушает божественный закон и подвергается наказанию. Новый Адам — Христос — борется со злом внутри человека. Но кальвинистские проповедники говорили, что лишь немногие достигнут спасения.
Он же, Джерард, полагал иначе. Он рассказывал читателю древний библейский миф, украшая и углубляя его своим поэтическим видением. Бог создал Адама совершенным и безгрешным; божественная мудрость управляла этим созданием. Адам — символ всего человечества — был задуман как благоухающий сад, где произрастают прекрасные травы и деревья — такие, как любовь, радость, мир; благочестие, знание, послушание, благоговение, чистота. Но змий-искуситель, который есть не что иное, как дух себялюбия и алчности, соблазнил его. Адам поддался эгоизму, вкусил запретный плод себялюбия и возомнил о себе, что он может стать подобным богу, равным ему, но отделенным от него. И тогда он отверг бога, а в сердце его поселился змий. И он возрадовался своему пороку и ощутил удовольствие от своих внешних пяти чувств. Отныне ведущим его стремлением станет услаждать эти чувства.
Поддавшись злу себялюбия, человечество из цветущего сада превратилось в зловонное гноище сорняков. В душах стали произрастать гордость, зависть, неудовлетворенность и неповиновение. А отсюда произошли злоба и несправедливость мира сего, ибо душа человеческая отныне отравлена пороком. Каждый из нас — Адам; каждый сделал выбор Адама и несет на себе всю тяжесть собственного эгоизма и гордыни.
Но ошибаются ортодоксы-кальвинисты, думая, что лишь немногие спасутся. Если бы основная масса душ человеческих погибла, труд божий потерпел бы посрамление. Нет, великая тайна, открывшаяся ему, Джерарду Уинстэнли, состоит как раз в том, что любовь божья распространяется на всех людей без исключения; создатель разрушит власть тьмы до основания, и когда эта работа будет закончена, поселится в сердце каждого человека, каждого мужчины и каждой женщины, как вселился он некогда в; сердце Иисуса. Окончательно повержен и проклят будет только змий — первопричина человеческого падения. А люди все спасутся, смерть будет побеждена, человек освободится от всяких окон и возродится к новой жизни.
Могут спросить, откуда он, Уинстэнли, все это знает. Прежде всего из своего собственного опыта. Он знает, что каждый день жизни ставит его перед выбором: поступить по совести или по желанию плоти, послушаться разума или вожделения. Его собственная душа всегда была полем битвы между добром и злом. И часто, о, часто он шел путем услаждения плоти, путем пустых удовольствий или потакания алчным, позорным аппетитам низшей своей натуры.
Но теперь — сила духа освободила его. Зло больше не властно над ним, «хотя иногда кажется, оно встает передо мною, — честно оговаривался он, — подобно дерзкому побежденному врагу, который больше уже не может причинить вреда». Его прежнее «я» встает перед ним, как в зеркале: традиционно благочестивый купец среднего достатка, лондонский торговец готовым платьем, хозяин магазина… Он отвергает этот сосуд греха и неразумия. «Я вижу и чувствую, — признается он, — что Бог освободил меня от господства и подавляющей власти этого греховного тела».
Но, отвергая свою прошлую корыстную, плотскую жизнь, он вместе с ней отвергает и условия своего существования, условия бытия подобных ему скованных подсчетами прибыли дельцов. Отвергает их ценности, их погоню за деньгами, отношение к миру вообще. Он сам освободился от оков мира купли-продажи и хочет освободить от них всех. Этим миром, говорит он, правит зло алчности и себялюбия — так пусть же оно будет вырвано с корнем из душ всех людей, пусть низвергнется в бездну вместе со всеми установлениями порочного, его порождающего мира. Так религиозный мыслитель Джерард Уинстэнли проникается революционным духом: он начинает понимать необходимость коренных изменений в мире.
Уже здесь, в первом своем трактате он порывает с протестантской этикой, которая учила, что земное предназначение человека состоит в работе для достижения собственного блага, и видела в мирском процветании и благополучии знак божьегоизбрания. Лишившись мещанского буржуазного благоденствия, он становится на путь исканий правды — на земле, как и на небе. И лишается вместе с собственностью сознания греховности своей натуры.
«Я радуюсь в совершенной надежде и уверенности, что хотя этот змий, или убийца, и начинает подчас подыматься путем искушении или внешних тревог, или пытается проявить себя в безрассудном гневе, в гордыне, недовольстве или тому подобном… все же каждое проявление во мне этого зла служит к еще большему его посрамлению; и никогда более он не подымется, чтобы править мною и порабощать меня, как прежде…»
Радость эта переполняет его ожиданием скорого грядущего преображения мира — его очищения, обновления. Конечно, нельзя думать, что все это свершится сразу, сдерживает он сам себя, — существует несколько этапов работы божьей; одни из них уже минули, другие происходят на наших глазах, а третьим еще только суждено наступить. И вся продажность, грязь, смерть и боль этого мира исчезнут, погибнут навеки.
Как лучше объяснить, доказать эту уверенность? И он ищет подтверждений в представлявшейся тогда единственно надежной и доступной всем книге — в Библии.
Еще в эпиграф он вынес слова псалма: «Царство твое — царство всех веков, и владычество твое во все роды». В тексте он снова и снова цитирует книгу Бытия. Откровение, послания к коринфянам и римлянам, послание Иоанна. Там ясно сказано, что все люди на земле будут спасены. Избранники божии — в первую очередь, другие— позже, но все до единого!
И что тогда будет? Каким он предстанет, новый совершенный мир, град обетованный? Это самый захватывающий вопрос. Что царство божие настанет совсем скоро — в этом не сомневался не только Уинстэнли. Великие потрясения, перевернувшие мир вверх дном, сделавшие последних первыми, а первых последними, заставляли народ Англии ждать второго пришествия со дня на день. Но каким оно будет, это царство Христово?
Здесь воображение разыгрывалось, мечта делала доступным самое невозможное. Все люди станут совершенны. Их стремления приобретут чисто духовный характер. Значит, весь внешний материальный мир, созданный «для удовольствия, пользы и употребления человеку», — исчезнет? Да, он станет ненужным. После того как человек очистится от греха и вожделений плоти, ему не потребуются больше домашний скот, зерно, пища и питье, и даже Солнце, Луна и звезды, столь услаждающие земной взор. Мир станет миром духа.
Но что же, возразят некоторые неразумные дети земли, «если это правда, если Бог спасет каждого, тогда я буду жить и получать удовольствие от, греха, есть, и пить, и веселиться, и орать все наслаждения, пока я живу; ибо я — божье создание, и он не захочет, чтобы его работа пошла впустую, я все равно буду спасен». Нет, отвечает Уинстэнли. Если вы посвятите вашу жизнь удовольствиям, ваше дело погибнет. Конечно, жить в праздности и довольстве лучше, чем влачить свои дни, убиваясь над непосильной работой. Но кто может позволить себе праздную жизнь? Только богатые. И, пожалуй, лучше, если они будут вести жизнь развратников-гедонистов, чем станут тиранами и угнетателями бедных. Но грех сам по себе — форма рабства. Его накажут не вечные муки за гробом, а больная совесть в этой жизни, «страдания более нестерпимые, чем если тебе вырвут правый глаз или отрежут правую руку».
Но почему же тогда люди так падки на грех, спрашивает он себя, если они страдают безмерно за свои злые деяния? И отвечает: дьявольское искушение велико; оно идет от себялюбивого желания быть подобным богу, отвергнуть его любовь, отделить себя от покровительства божия и спасения.
Путь избавления долог; он проходит несколько этапов или сроков. Первый этап — божественный завет Адаму не есть плода от древа познания; за ослушание — смерть. Адам преступил завет, и смерть заставила человечество создать свой собственный закон вместо божественного. И этот человеческий закон — первый убийца человека. Ведь не король вешает преступника, а королевский закон. Пока этот закон действует, никто не может быть спасен, ибо он каждого делает себялюбцем и грешником. А потому «проклятая власть закона должна быть уничтожена».
Но есть и второй убийца — честолюбивое желанно сделаться подобным богу. Не надо долго объяснять, кто здесь имеется в виду. Вся новая Англия взирала ныне с возмущением и гневом на того, кто осмелился ставить свои самодержавные прихоти выше справедливости и правды. Левеллеры — политические уравнители — открыто требовали суда над монархом. И вслед за ними Уинстэнли — своим языком, своими образами — клеймит нечестивого и гордого тирана. Нельзя поклоняться одновременно богу и королю, пишет он, ибо законы их противоположны. Королевский закон ведет к себялюбию; божеский — к общности и сотрудничеству. Власть себялюбия должна быть вырвана с корнем, или человечество не сможет более существовать. Так чисто духовные отвлеченные рассуждения смыкались с революционными порывами масс.
Битва идет повсюду. Ее арена — поля истерзанной усобицами Англии; но поле ее — и сердце человеческое. Грех внутри ведет к угнетению и несправедливости во внешнем мире. Уинстэнли призывает бедняков и праведников (для него это — почти одно и то же) готовиться к великим переменам. «Близится время, — предупреждает он, — когда они будут освобождены, а само зло, змий, будет выброшено в огненное озеро и погибнет навеки». Уничтожив несправедливый королевский закон, подавив власть греха внутри себя, народ освободится от уз и построит царство небесное на земле.
Второй этан великой истории грехопадения и постепенного освобождения человечества от скверны — это время от Адама до Авраама. Третий — история народа иудейского от Авраама до Моисея; четвертый — от Моисея до рождения Христа. Христос — первый знак освобождения от греха, ибо он первый совершенный человек на земле. Пятый срок пройден во время земной жизни Иисуса — до его явления апостолам после воскресения. Шестой срок переживает земля поныне, он окончится судным днем, и день этот близок.
Воображение снова рисует ему грозные картины грядущего. В течение этого шестого срока святые будут собраны в град божий, предсказанный в Откровении. А нечестивые «брошены в огненное озеро на все время этого срока, пока судный день не окончится». И только после этого смерть и грех будут побеждены и все человечество очистится и спасется.
Пока же «святые», узревшие божественную истину, должны терпеливо ждать знака; их главное оружие в борьбе «против осуждения, клеветы, угнетения, нищеты, слабости, тюрем и множества искушений» — вера. Гнев змия растет, ибо день приближается, беды обрушиваются на головы несчастных, и те, в сердцах которых гнездится змий, ожесточаются против святых. «Я полагаю, — убежденно пишет он, — со временем это будет явлено всем, а мне видится совершенно ясно, что великие бедствия, зависть, позорящие клички и выражения необузданного гнева среди мужчин и женщин в наши дни против тех, кого они клеймят как сектантов… есть показатель его, змия, последних мук, знак смятения его духа, начало его падения…»
Седьмой срок — это сам судный день, время, которое в конце концов принесет спасение всем, и праведным и грешным. Последние выйдут из горнила заслуженных, страданий очищенными и возрожденными. Нет оснований не верить, что грешники освободятся из оков ада, убеждает Уинстэнли. Бог есть любовь, бесконечная любовь, а раз так — всех вызволит его милосердие. И потому — всем открыты врата надежды. «Ждите, ждите терпеливо, — взывает он, — ждите со смирением и спокойным духом, ибо свобода божья — это действительная свобода… Это то, что я должен был сказать вам об истине. Я сделал все».
На самом деле он только еще начал.
ДЕНЬ НАСТАНЕТ
 есна 1648 года принесла новые тревоги. Похоже, действительно сбывались пророчества сектантов. Битвы невидимые вот-вот прольются зримой, горячей человеческой кровью. И тогда, шептали многозначительно на церковных папертях и в тавернах, настанет конец света и грядет второе пришествие, в этом уж можно не сомневаться.
Пресвитериане парламента все больше склонялись вправо. 28 апреля они постановили, что «основы управления Англией», то есть монархическая конституция, не должны претерпевать изменений. Билль «Никаких обращений», принятый в январе, был отменен, и переговоры с королем вот-вот опять возобновятся.
Но союз с монархом означал одновременно и наступление на всех недовольных — в первую очередь на инакомыслящих, сторонников религиозной свободы, сектантов. 2 мая парламент издает «Ордонанс о безоговорочном пресечении богохульства и всяческих ересей». Кто отрицает учение о святой Троице, о божественной природе Христа, о боговдохновенности «Священного писания», о воскресении и Страшном суде — подлежит смертной казни. Каждому вменяется в обязанность посещать воскресные богослужения еженедельно. Задавать вопросы во время проповеди, обсуждать или оспаривать то, что сказал проповедник, категорически воспрещается. Церковные суды отменены, это так, по дисциплина! Дисциплина должна быть строгой как никогда. Доктрина ничто без практики, увещание ничто без послушания, власть наставлять ничто без власти требовать повиновения. Этот ордонанс являл собой прямую угрозу армии — все знали, сколь распространены в ней свободолюбивые секты и ереси.
Он содержал и недвусмысленное предупреждение левым республиканским силам. Один из его пунктов обрекал всех, кто, подобно Уинстэнли, верил во всеобщее спасение, в то, что каждый имеет свободную волю и право выбора между добром и злом, а также всех, кто отрицает таинства крещения и причастия, отказывается от применения оружия в защиту государства и тому подобное — на пожизненное тюремное заключение.
Роялисты ободрились. В апреле стало известно, что в Южном Уэльсе они соединились с мятежными силами полковника Пойера и захватили весь Пемброкшир. В конце апреля шотландцы подвели войска к северной границе Англии и направили английскому парламенту ультиматум: он должен ввести обязательное пресвитерианское церковное устройство по всей Англии, запретить все прочие религиозные течения и секты, распустить армию сектантов и возобновить почетные переговоры с королем. И парламент — подлое, трусливое пресвитерианское большинство, дрожавшее больше всего на свете за свои кошельки, — послушно согласился.
Вот тогда-то Кромвель и грохнул кулаком по столу. Разгневанный, с темным, страшным лицом он явился в Виндзор, ставку армии, и собрал совещание офицеров. Туда были допущены и индепенденты-республиканцы, и левеллеры, сторонники крайних мер. Три дня прошли в покаянных молитвах и жарких спорах. И 1 мая вынесли решение: «Карл Стюарт, Человек Кровавый, должен быть призван к ответу за пролитую им кровь и за тягчайшие преступления против Бога и народа». Через несколько дней Кромвель выехал в Уэльс во главе своей конницы «железнобоких».
И тут же смуты охватили пламенем центральные графства. 4 мая жители Эссекса потребовали возобновления переговоров с королем и роспуска армии. Вооруженное восстание вспыхнуло в Кенте. На севере роялисты захватили крепости Бервик и Карлайл.
И в Серри было неспокойно. В начале мая какие-то люди, все больше из господ — дворян и фригольдеров, — ходили по селам и собирали подписи под петицией. Они требовали, «чтобы король был возвращен с полагающимся ему почетом к своим прирожденным правам… и восстановлен на троне соответственно величию своих предков… Чтобы он теперь же вернулся в Вестминстер с честью и безопасностью для разбора всех несогласий. Чтобы свободнорожденные подданные Англии управлялись согласно известным законам и статутам. Чтобы начатая война прекратилась… Все армии со всей поспешностью распущены…»
В том взвинченном, раздраженном, недобром состоянии, которое владело деревней последние месяцы, господа эти нашли поддержку. Петицию подписывали дворяне из пресвитериан, зажиточные фригольдеры, богатые лавочники. И кое-кто из крестьян победнее: ведь она требовала прекращения солдатских постоев и полной уплаты жалованья армейцам. 8 мая подписавшие петицию толпой встретились в Доркинге, а 16 мая на рассвете собрались в Петни, откуда двинулись прямо на Лондон. Их было 700 или 800 человек.
Они вручили петицию общинам и стали ждать ответа. Подкрепились в прилежащих к Вестминстеру пивных и тавернах. Прошли торжественно по улицам с барабанами и свирелями, украсив шляпы зелеными и белыми лентами. Покричали: «Бог и король Карл! Да здравствует король Карл!» Еще добавили энтузиазма в пивных и харчевнях. И, возбужденные долгим переходом, ожиданием и большим количеством выпитого пива, вновь угрожающей толпой собрались у Вестминстера.
Солдаты, охранявшие вход, на требование впустить толпу в залы парламента ответили отказом. Тогда толпа сгрудилась, кое-где блеснули клинки.
— Как можете вы служить этой шайке мошенников! — раздались голоса.
— Продажные шкуры!
— Если нам не ответят немедленно, мы перережем вам глотки!
— Долой парламент!
Солдаты ожесточились тоже, отвечали резко; слово за слово — завязалась драка. Караул был обезоружен, один стражник убит, несколько ранены. Толпа смяла солдат и ворвалась в здание. Но тут из Уайтхолла и из конюшен подоспели подкрепления. Подателей петиции погнали по галереям, коридорам, переходам. Они, толпясь, в спешке вывалились на улицу, потеряв пять или шесть человек убитыми.
Через два дня жители Серри опубликовали памфлет, где обвиняли в происшедшем парламент и снова требовали возвращения короля. На помощь им поспешили роялисты Кента: они собрали конные и пешие отряды, выбрали офицеров, назначили сборные пункты и овладели Сэндвичем, Дувром и Рочестером. Вторая гражданская война заполыхала.
есна 1648 года принесла новые тревоги. Похоже, действительно сбывались пророчества сектантов. Битвы невидимые вот-вот прольются зримой, горячей человеческой кровью. И тогда, шептали многозначительно на церковных папертях и в тавернах, настанет конец света и грядет второе пришествие, в этом уж можно не сомневаться.
Пресвитериане парламента все больше склонялись вправо. 28 апреля они постановили, что «основы управления Англией», то есть монархическая конституция, не должны претерпевать изменений. Билль «Никаких обращений», принятый в январе, был отменен, и переговоры с королем вот-вот опять возобновятся.
Но союз с монархом означал одновременно и наступление на всех недовольных — в первую очередь на инакомыслящих, сторонников религиозной свободы, сектантов. 2 мая парламент издает «Ордонанс о безоговорочном пресечении богохульства и всяческих ересей». Кто отрицает учение о святой Троице, о божественной природе Христа, о боговдохновенности «Священного писания», о воскресении и Страшном суде — подлежит смертной казни. Каждому вменяется в обязанность посещать воскресные богослужения еженедельно. Задавать вопросы во время проповеди, обсуждать или оспаривать то, что сказал проповедник, категорически воспрещается. Церковные суды отменены, это так, по дисциплина! Дисциплина должна быть строгой как никогда. Доктрина ничто без практики, увещание ничто без послушания, власть наставлять ничто без власти требовать повиновения. Этот ордонанс являл собой прямую угрозу армии — все знали, сколь распространены в ней свободолюбивые секты и ереси.
Он содержал и недвусмысленное предупреждение левым республиканским силам. Один из его пунктов обрекал всех, кто, подобно Уинстэнли, верил во всеобщее спасение, в то, что каждый имеет свободную волю и право выбора между добром и злом, а также всех, кто отрицает таинства крещения и причастия, отказывается от применения оружия в защиту государства и тому подобное — на пожизненное тюремное заключение.
Роялисты ободрились. В апреле стало известно, что в Южном Уэльсе они соединились с мятежными силами полковника Пойера и захватили весь Пемброкшир. В конце апреля шотландцы подвели войска к северной границе Англии и направили английскому парламенту ультиматум: он должен ввести обязательное пресвитерианское церковное устройство по всей Англии, запретить все прочие религиозные течения и секты, распустить армию сектантов и возобновить почетные переговоры с королем. И парламент — подлое, трусливое пресвитерианское большинство, дрожавшее больше всего на свете за свои кошельки, — послушно согласился.
Вот тогда-то Кромвель и грохнул кулаком по столу. Разгневанный, с темным, страшным лицом он явился в Виндзор, ставку армии, и собрал совещание офицеров. Туда были допущены и индепенденты-республиканцы, и левеллеры, сторонники крайних мер. Три дня прошли в покаянных молитвах и жарких спорах. И 1 мая вынесли решение: «Карл Стюарт, Человек Кровавый, должен быть призван к ответу за пролитую им кровь и за тягчайшие преступления против Бога и народа». Через несколько дней Кромвель выехал в Уэльс во главе своей конницы «железнобоких».
И тут же смуты охватили пламенем центральные графства. 4 мая жители Эссекса потребовали возобновления переговоров с королем и роспуска армии. Вооруженное восстание вспыхнуло в Кенте. На севере роялисты захватили крепости Бервик и Карлайл.
И в Серри было неспокойно. В начале мая какие-то люди, все больше из господ — дворян и фригольдеров, — ходили по селам и собирали подписи под петицией. Они требовали, «чтобы король был возвращен с полагающимся ему почетом к своим прирожденным правам… и восстановлен на троне соответственно величию своих предков… Чтобы он теперь же вернулся в Вестминстер с честью и безопасностью для разбора всех несогласий. Чтобы свободнорожденные подданные Англии управлялись согласно известным законам и статутам. Чтобы начатая война прекратилась… Все армии со всей поспешностью распущены…»
В том взвинченном, раздраженном, недобром состоянии, которое владело деревней последние месяцы, господа эти нашли поддержку. Петицию подписывали дворяне из пресвитериан, зажиточные фригольдеры, богатые лавочники. И кое-кто из крестьян победнее: ведь она требовала прекращения солдатских постоев и полной уплаты жалованья армейцам. 8 мая подписавшие петицию толпой встретились в Доркинге, а 16 мая на рассвете собрались в Петни, откуда двинулись прямо на Лондон. Их было 700 или 800 человек.
Они вручили петицию общинам и стали ждать ответа. Подкрепились в прилежащих к Вестминстеру пивных и тавернах. Прошли торжественно по улицам с барабанами и свирелями, украсив шляпы зелеными и белыми лентами. Покричали: «Бог и король Карл! Да здравствует король Карл!» Еще добавили энтузиазма в пивных и харчевнях. И, возбужденные долгим переходом, ожиданием и большим количеством выпитого пива, вновь угрожающей толпой собрались у Вестминстера.
Солдаты, охранявшие вход, на требование впустить толпу в залы парламента ответили отказом. Тогда толпа сгрудилась, кое-где блеснули клинки.
— Как можете вы служить этой шайке мошенников! — раздались голоса.
— Продажные шкуры!
— Если нам не ответят немедленно, мы перережем вам глотки!
— Долой парламент!
Солдаты ожесточились тоже, отвечали резко; слово за слово — завязалась драка. Караул был обезоружен, один стражник убит, несколько ранены. Толпа смяла солдат и ворвалась в здание. Но тут из Уайтхолла и из конюшен подоспели подкрепления. Подателей петиции погнали по галереям, коридорам, переходам. Они, толпясь, в спешке вывалились на улицу, потеряв пять или шесть человек убитыми.
Через два дня жители Серри опубликовали памфлет, где обвиняли в происшедшем парламент и снова требовали возвращения короля. На помощь им поспешили роялисты Кента: они собрали конные и пешие отряды, выбрали офицеров, назначили сборные пункты и овладели Сэндвичем, Дувром и Рочестером. Вторая гражданская война заполыхала.
Сражались и лили кровь те, кто хотел действовать во что бы то ни стало — действовать силой оружия. Кто не мог, как он, Уинстэнли, ждать и размышлять в одиночку, терпеливо искать мирного, единственно достойного выхода. Бедняги, как они обманывались! Он думал о тех простых душах, которые поддались уговорам хитрых господ, подписали петицию, требовали возвращения короля и старых порядков. Они пытались найти управу на лордов у Карла, забывая, что и король, и лорды — одной масти. Лорд-де вводит новые правила, повышает ренту, отнимает у крестьян общинные земли — сидел бы на троне король, он бы этого не позволил. Но кто такой король? Потомок Вильгельма Завоевателя. Он и его нормандская дружина захватили Англию в незапамятные времена, отняли у коренных жителей и разделили меж собой лучшие земли, установили законы для укрепления своей власти и ввергли простых людей в рабство. Как же можно искать защиты у короля против лордов? Весенними ночами Уинстэнли писал снова — писал второй свой трактат. Ученый ли? Богословский ли? Нет, конечно. Хотя он и толковал в нем слова «Откровения святого Иоанна», главными в новом его сочинении были не религиозные рассуждения, а насущные вопросы дня. В стране бушевала война — он говорил о войне. Церковные власти требовали богослужебного единообразия — он отвечал на их свирепый и в то же время мелочно-педантичный ордонанс как свободный мыслитель и подлинно народный проповедник, идущий от опыта и здравого смысла, а не от буквы. Но самым сокровенным, самым смелым в трактате было обращение к беднякам, открытое выступление от их имени. К ним, «презираемым сынам и дщерям Сиона, рассеянным по всему Английскому королевству», обращал он первые слова посвящения. К тем, кого мир ненавидит и осуждает, потому что на них именно и сияет свет и слава отца небесного. Злые и завистливые не могут вынести этого света и потому клеймят их как злодеев, а веру их объявляют заблуждением. «И под именем обманщиков и смутьянов (хотя сами они воистину обманщики и смутьяны), — писал он, — они угрожают вам разрушением и смертью… Вы предмет насмешек и осуждения; вы люди, которых они грабят, вы люди, осужденные на смерть в ходе настоящих беспорядков и мятежей под именем круглоголовых, чтобы это имя Израиля не было больше известно в стране». Он считал бедняков новым, истинным Израилем. Древний народ иудейский получил свой закон от Моисея — великого учителя. Но Моисеев закон был в силе, покуда не пришел новый законодатель и спаситель — не иудейского народа только, но всего рода человеческого. Его-то иудеи и отвергли. Они не приняли благодати искупления, а продолжали держаться за букву закона, не приняв духа Христа. Бедняки же всего мира, истинные носители этого духа, и призваны обновить мир, спасти его от корысти и мертвящего душу эгоизма. «Вы люди, — говорил он им, — против которых проповедуют, пишут, шлют петиции властям, чтобы растоптать вас ногами; вы люди, которых считают возмутителями спокойствия в царствах и приходах, где вы живете; а правда заключается в том, что вы единственные мирные люди на земле». Те два свидетеля, о которых сказано в Апокалипсисе, что будут они пророчествовать во вретище тысячу двести шестьдесят дней, и сразятся со зверем, и будут им повержены и убиты, а по прошествии трех с половиной дней восстанут к великому ужасу тех, кто радовался их гибели, — те два свидетеля и есть Иисус Христос со святыми своими, детьми света, презираемыми и обиженными бедняками. В стране бушевала война, и Уинстэнли писал о великой битве. Древний змий, Сатана, проявляющий себя в душах поработителей такими качествами, как коварство, лицемерие, злоба и жестокость, восстал против святых тружеников; силы зла «клеймят их как сектантов, схизматиков, анабаптистов, круглоголовых». Четырех апокалипсических всадников он сравнивал с армией кавалеров, которые огнем, дымом и серой побивают своих врагов. Огонь — это виселицы и убийства, дым — вредоносные лживые доктрины, угрозы, судилища, глумление, угнетение, а сера — преследование, бичевание, клеймение железом и заточение в тюрьмах. За примерами далеко обращаться не приходилось. Уинстэнли, живя в Уолтоне, видел воочию жестокость и боль первой гражданской войны. Тогда, в 1643 году, графство захватили роялисты. Король стоял со своим войском к северу от Темзы, а глава его кавалерии — шальной и бесшабашный принц Руперт — к югу. Его ставка находилась в Отландском парке, совсем рядом с Уолтоном. В следующем году парламентские войска, сохранявшие за собой Кингстон, отвоевали Серри; в 1645 году кавалеры захватили Фарнхем, но скоро были выбиты. Когда первая гражданская война закончилась, графство стало ареной борьбы внутри парламентского лагеря. Отсюда, из Кингстона, двинулся 4 августа 1647 года на Лондон полк Рейнсборо, чтобы захватить столицу. Исторические дебаты армейского совета о конституции и судьбах правления Англией шли тут же, в Петни, ставшем на время центром английской политической жизни. Наконец, именно через Серри по портсмутской дороге бежал король в ноябре того же года на юг, на остров Уайт. Сам Уинстэнли жил мирной пастушеской жизнью, но он насмотрелся и наслушался о войне много такого, что на всю жизнь укрепит в нем убежденность в необходимости мирных, бескровных перемен. И сейчас, наблюдая начало новой бойни, он писал о войне так зримо, приводил такие убедительные подробности, что кавалеры под его пером встают как живые — дикие, безжалостные разрушители, бесчеловечные звери. Это такие, как они, корыстные души, на заре христианской истории отвергли избавителя. И не только потому, доказывал он, что не признали его сыном божьим, не потому, что подвергли его позорной казни. Сильные и преуспевающие в мире сем отвергли Христа потому, что видели в нем всего лишь «ремесленного работника, плотника; и не успокоились, пока не убили его». Они отвергли его низкое социальное происхождение, его причастность к труду. И сейчас они пытаются управлять так, чтобы принципы Христовы попирались, а истинные приверженцы его учения стонали под игом порабощения. «Зверь гуляет на свободе (как человек прогуливается там и сям по городу, где нет для него преграды) и не ведает печали… Бог позволил ему разгуливать на свободе… Дракон (то есть рас-давшиеся власти) и леопард (то есть дух блудницы, лживо являющей любовь к Богу, а на самом деле желающей поставить себя выше Бога) предаются блудодейству; и потом порождают этого зверя (или церковную власть), чтобы убивать и подавлять — не просто мужчин и женщин, но проявление Бога в душе их». Майский ордонанс о церковной дисциплине подавлял религиозную свободу, ощутимо урезал права и устремления «святых» — таких, как Уинстэнли, искателей истины. Против церковных властей, душителей свободы, направляет он острие своей критики. Англиканские священники и узколобые пресвитерианские догматики связываются в его сознании с ветхозаветными иудеями, приверженцами буквы, а не духа Писания. Их служение богу сводится к внешним обрядам и церемониям. По существу, каждый верующий может делать то, что делают ныне священники и поставленные властями проповедники; но последние имеют власть насильственно навязывать свои взгляды и обычаи всем жителям Англии. И «посредством этой ублюдочной церковной власти, которая была порождена от блудодейства с царями земными, зверь правит и живет в пышности и великолепии, подобно роскошной шлюхе, сначала убившей, а потом растоптавшей ногами божьих свидетелей, ибо теперь она делает все, что хочет, она сидит как королева и не знает печали, ибо она имеет власть от царей земных». Установление лживой, сковывающей душу церковной власти и есть предсказанное в Апокалипсисе убийство двух свидетелей; не просто уничтожение их физического тела, но «умерщвление их действий и свидетельств путем осуждения, подавления и церковных законов: не позволить им действовать». А чтобы завершить эту утонченную пытку, правители и сильные мира сего «переворачивают Писание, которое свидетельствует о Христе, вверх дном». Сторонники старых порядков и строгой церковной дисциплины «называют учение божье само по себе, без учения людей, — заблуждением». Они не позволяют человеку проповедовать, пока он «сперва не окончит их специальной школы и не будет говорить то, что он вычитал из комментариев, книг и древних авторов». Они объявляют, что любят бога, а сами убивают и угнетают мирных людей, не разделяющих их принципов. Они узурпировали власть бога и создают «директивы, ордонансы и церковные правительства, чтобы заставить каждого под страхом тюремного заключения и смерти… подчиниться им как божьим директивам, ордонансам и правлению…» Так в сознании Уинстэнли, как и в сознании многих его современников, отвлеченные апокалипсические видения обретают плоть и кровь современной ему социальной и политической действительности. Но эту действительность можно и нужно переделать. Времена исполнились; час избавления близок. Мотив близкого конца нынешнего мира и «наступления дня божьего» повторяется снова и снова. Страдать и терпеть гонения беднякам осталось недолго; правление зверя подходит к концу. С пророческим волнением Уинстэнли убеждает читателей: «Бог вскоре свершит это дело; ибо он уже судит змия. И если Англия, Шотландия и Ирландия, это триединое королевство, объединенное под одной главою, или Государственным правлением, станет той десятой частью града Вавилонского, которая первой отпадет от зверя, в чем я не сомневаюсь, но ежедневно вижу тому подтверждения», тогда народ сделается свободным. Угнетение и несправедливость падут. «Вот зима уже прошла, — обещает он словами Песни Песней, — дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей… Это святые… поднимутся подобно росе под солнцем… Всякое угнетение, несправедливость, ложные дары и формы богослужения — все будут разрушены в мире; и правосудие потечет по нашим улицам, как поток, и справедливость — как река… Это будет веселый мир, мы снова увидим добрые времена…» Об этом Уинстэнли писал и в «Тайне Бога». Но здесь, в новом трактате, он делает еще один решительный, важнейший для будущей его деятельности шаг. Весна настанет не сама собой, по мановению руки господней. Пришла пора от слов перейти к делу, осуществить в этой жизни то, о чем повествует, к чему зовет Писание. Царство небесное на земле будут строить сами «святые». Он снова и снова повторяет, что слова должны стать делом — горе тем проповедникам, которые говорят и не делают! Зло в душе человеческой и в мире сем существует; но оно не вечно и не неизбежно. Выход прост: все должны работать, сознательно и терпеливо, для того, чтобы уничтожить зло в себе и в обществе. Но он еще не знал, как переделать утвержденный веками и сотрясаемый ныне войнами и усобицами порядок. Он ищет ответа в эсхатологических пророчествах Апокалипсиса: три с половиной дня, сказано там, убитые свидетели господни будут лежать мертвыми на улицах, и не позволено будет предать их погребению. Это — символ истории всего человечества, истории рабства духа. Первый день, или век, — владычество Нерона, «когда власти и народ — все поддались обману». Второй век — правление папы римского, темное средневековье; третий — власть епископата, частично реформированной англиканской церкви. Последние же полдня — полвека — это нынешнее время, время самой ожесточенной борьбы со злом. Зверь, олицетворяемый земной властью, «не позволил Христу… избрать, одарить и послать в мир своих собственных служителей и учеников»; не позволил «пастухам и рыбакам или ремесленникам, не обученным мирской науке, проповедовать Евангелие, хотя Христос дал им помазание и приказал говорить вещи, которые они узрели и услышали». Полвека эти, однако, скоро заканчиваются, и день Христов засияет. Может быть, лучший путь к этому светлому дню — борьба каждого с самим собою, со злом внутри себя? Уинстэнли сам испытал подобную борьбу и с радостью признается: «Теперь Князь тьмы и силы моей плоти, которые боролись во мне против… духа истины, вырваны прочь». Душа очищена для дальнейшей работы, для того, чтобы семя господне упало на добрую почву. Он зовет и других проделать эту работу в своей душе: отказаться от мудрости мира сего, от его учения, памяти, силы, от обрядов, молений и богослужений, от собственного эгоизма — чти важнее всего. Все это — суета мирская, все лживо, пока не открылась человеку духовная истина. Уинстэнли, однако, сознавал, что этого мало. Взгляните в себя, говорит он, и взгляните на мир, окружающий вас. И вы увидите в нем «ту же самую смесь невежества, гордости, себялюбия, угнетения и пустых разговоров, которые действуют против Христа в государствах, в советах, в церквах мирских». Значит, надо действовать и в этом мире, надо бороться с несправедливостью и угнетением в обществе. Все, кто наносит вред простым людям, кто лжет им или чинит произвол, должны быть сокрушены. Особенно церковные власти. Здесь Уинстэнли беспощаден. «Клерикальное, церковное, традиционное» управление, пишет он, должно быть вырвано с корнем, «ибо оно украдено обманным путем у королей земных с целью развязать войну против святых». Но никого не надо убивать. Зло порождает только зло. Господь и так потряс до основания все устои этого мира, «продажные власти, фальшивые формы и обычаи так называемой божественной службы, королей, парламенты, армии, графства, королевства, университеты, человеческие знания, науки; он потрясает богатых и бедных и опрокидывает все, что стоит на его пути». Священнослужители, епископы и псевдоученые сами сложат с себя полномочия, когда увидят, что «низшие люди, глупцы в глазах этого мира… говорят о глубоких божественных вещах, которых эти мастера искусств не понимают». Ложные власти и угнетатели должны быть низвергнуты «не тюрьмами и бичами… не одним из оружий плоти», но словами истины. Уже здесь, в самом начале проповеднической работы Уинстэнли неколебимо утверждает один из важнейших принципов своего учения: принцип ненасилия. Работать, бороться надо постоянно: и в самом себе ежечасно одолевать черного духа злобы и корысти, и в мире внешнем стоять за правду, за справедливость и свободу. Но не проливать крови, не отвечать насилием на насилие. Не брать в руки грязного «оружия плоти». Путь к новому миру — духовный путь. Как писал позже великий Милтон:
…Рассвет, весенний рассвет 1648 года брезжил сквозь дощатые ставни маленького окошка. Сыроватый воздух благоухал свежестью и надеждой. Уинстэнли дописал последнюю фразу: «Солнце справедливости встает все выше, и светлое сияние его станет свободой для Англии». Работа была окончена. Около двухсот страниц, исписанных торопливым почерком, лежали на столе — плод многих, многих вечеров и бессонных ночей, плод высоких мечтаний и тяжких раздумий… Ему не хотелось с ним расставаться. Он приписал к нему заключительную оду:
«РАЙ ДЛЯ СВЯТЫХ»
 ожди лили не переставая с самой весны. В мае 1648 года едва ли выдалось два солнечных дня подряд. Лишь только облака расходились и на небе проступала долгожданная синева, как тут же злая темная сила нагоняла новые свинцовые тучи, закрывала небо, брызгала дождем. Реки разлились и стали непроходимы, дороги превратились в трясины. Солдаты терпеливо мокли в разбухших палатках, порок сырел, башмаки разваливались, мундиры не просыхали. Начались болезни.
В середине июня лорд-генерал Фэрфакс встал лагерем под Колчестером, в 50 милях к северо-востоку ст Лондона. Вместе с зятем Кромвеля Айртоном он командовал семью полками, выделенными для борьбы с роялистами в восточных графствах. Именно здесь положение было наиболее напряженным. В конце мая взбунтовался флот. Роялисты искусно воспользовались тем, что морякам вот уже несколько месяцев не платили жалованья, и настроили в свою пользу команды десяти лучших военных кораблей общим водоизмещением в 3690 тонн. Флот на всех парусах отплыл к границам Голландии, где его поджидали принц Уэльский Карл, наследник престола, и Руперт. Обрадованный наследник выпустил декларацию, в которой сообщал, что намеревается возвратить на трон своего отца и распустить армию. Он обещал отменить акциз, постои солдат в частных домах и бдительно охранять собственность подданных.
Флот мог выступить к берегам Англии в любую минуту, и потому весть о роялистском мятеже в Кенте, на восточной границе страны, ближе всего расположенной к враждебной Голландии, встревожила руководителей армии не на шутку. Страна, поправшая вековечные королевские прерогативы, оказывалась в кольце: с запада ей угрожали роялисты Уэльса, которых готова была поддержать всегда неспокойная Ирландия, с севера наступали шотландцы; кавалеры, ободренные их угрожающими действиями, захватили Бервик и Карлайл. И вот 21 мая престарелый лорд Горинг, граф Норич, собиравший антипарламентские силы в Эссексе и в самом Лондоне, поднял крупное восстание в Кенте. В его руках оказались западные порты, медлить было нельзя.
Кромвель находился к этому времени уже далеко — в Южном Уэльсе. В Кент направились Фэрфакс и Айртон. 1 июня главнокомандующий во главе послушных его воле парламентских войск ворвался в Мэдстон, находившийся всего в каких-нибудь тридцати милях от Лондона. Солдаты выдержали жестокий уличный бой и овладели городом полностью на следующий день. Через несколько дней в руки Фэрфакса перешел Рочестер, имеющий выход к морю. Шестого июня полковник Рич отвоевал у роялистов Дувр, через два дня Айртон захватил Кентербери. Главные роялистские силы отступили к северу и 12 июня подняли свое знамя в Колчестере, древней римской столице Британии. У них насчитывалось около 4 тысяч человек, и они укрепились не на шутку. Фэрфакс и подошедший из Кента Айртон были вынуждены начать осаду.
Он выполнял свой долг, тридцатишестилетний главнокомандующий армией лорд-генерал Томас Фэрфакс, сын барона и сам принявший от короля знаки баронского титула. Он был профессиональным военным — служил в голландских войсках во время Тридцатилетней войны на континенте, потом командовал отрядом драгун в Шотландии. Он привык беспрекословно повиноваться вышестоящей власти и бесстрашно, самоотверженно, с блеском вести армию в бой. Личный героизм, самодисциплина, сдержанность привлекали к нему сердца солдат: они любили и уважали «Черного Тома». Сам Кромвель отмечал его доблесть и писал: «В победе он видит перст божий и скорее умрет, нежели припишет себе всю славу».
Но когда дело доходило до политики… Здесь то ли старомодное понятие о воинской чести, то ли происхождение, то ли армейская выучка, то ли еще что-то мешало генералу Фэрфаксу идти безоглядно, действовать твердо. Одним из первых он вышел из парламента по требованию «Акта о самоотречении», который запрещал депутатам занимать высшие военные и государственные должности. И был за то избран главнокомандующим 21 января 1645 года. А вот Кромвель и из парламента не вышел, и в армии остался. Сам Фэрфакс писал об этом ходатайство: «Всеобщее уважение и любовь, которой он пользуется среди офицеров и солдат… его личные достоинства и способности… заботливость и прилежание, храбрость и верность… делают пашу просьбу о его назначении нашей обязанностью…»
Захват короля армией летом 1647 года претил генералу; в согласии с древними английскими традициями он относился к монарху с большим уважением и не переставал целовать ему руку при встрече, даже когда тот был уже пленником. Он всегда был за переговоры, за мир с королем, а не за войну, и никогда не решился бы говорить с «божьим помазанником» так дерзко, как позволял себе Айртон. Одним словом, когда дело доходило до политики, генерал чувствовал себя прежде всего миротворцем; этот явный парадокс заставлял его ощущать свою слабость рядом с резким, жестким, решительным «Кассием» — генералом Айртоном.
И сейчас, деловито отдавая приказы о подвозе орудий и снаряжения, стягивая понемногу кольцо осады вокруг солидно укрепленного Колчестера и вежливо выслушивая безапелляционные советы Айртона, Фэрфакс нет-нет да и подумывал о том, что война англичан против англичан бессмысленна и жестока, что агитаторы, возможно, были и правы, обвиняя его на прениях в Петни в сочувствии королю, что, может, и в самом деле в начале года следовало распустить армию…
В первых числах июня он узнал, что лондонский муниципалитет потребовал возобновления переговоров с Карлом и лорды одобрили это выступление. Из ряда графств приходили петиции о том же. Его длинное испанское лицо с глубоким шрамом на левой щеке — следом ранения — при получении подобных известий подергивалось, смуглая кожа бледнела, сердце сжималось. Парламентское большинство — пресвитериане, желавшие заключить мир с королем, правы, думал лорд-генерал, сам принадлежавший к умеренным пресвитерианам. Армейское своеволие не доведет страну до добра…
ожди лили не переставая с самой весны. В мае 1648 года едва ли выдалось два солнечных дня подряд. Лишь только облака расходились и на небе проступала долгожданная синева, как тут же злая темная сила нагоняла новые свинцовые тучи, закрывала небо, брызгала дождем. Реки разлились и стали непроходимы, дороги превратились в трясины. Солдаты терпеливо мокли в разбухших палатках, порок сырел, башмаки разваливались, мундиры не просыхали. Начались болезни.
В середине июня лорд-генерал Фэрфакс встал лагерем под Колчестером, в 50 милях к северо-востоку ст Лондона. Вместе с зятем Кромвеля Айртоном он командовал семью полками, выделенными для борьбы с роялистами в восточных графствах. Именно здесь положение было наиболее напряженным. В конце мая взбунтовался флот. Роялисты искусно воспользовались тем, что морякам вот уже несколько месяцев не платили жалованья, и настроили в свою пользу команды десяти лучших военных кораблей общим водоизмещением в 3690 тонн. Флот на всех парусах отплыл к границам Голландии, где его поджидали принц Уэльский Карл, наследник престола, и Руперт. Обрадованный наследник выпустил декларацию, в которой сообщал, что намеревается возвратить на трон своего отца и распустить армию. Он обещал отменить акциз, постои солдат в частных домах и бдительно охранять собственность подданных.
Флот мог выступить к берегам Англии в любую минуту, и потому весть о роялистском мятеже в Кенте, на восточной границе страны, ближе всего расположенной к враждебной Голландии, встревожила руководителей армии не на шутку. Страна, поправшая вековечные королевские прерогативы, оказывалась в кольце: с запада ей угрожали роялисты Уэльса, которых готова была поддержать всегда неспокойная Ирландия, с севера наступали шотландцы; кавалеры, ободренные их угрожающими действиями, захватили Бервик и Карлайл. И вот 21 мая престарелый лорд Горинг, граф Норич, собиравший антипарламентские силы в Эссексе и в самом Лондоне, поднял крупное восстание в Кенте. В его руках оказались западные порты, медлить было нельзя.
Кромвель находился к этому времени уже далеко — в Южном Уэльсе. В Кент направились Фэрфакс и Айртон. 1 июня главнокомандующий во главе послушных его воле парламентских войск ворвался в Мэдстон, находившийся всего в каких-нибудь тридцати милях от Лондона. Солдаты выдержали жестокий уличный бой и овладели городом полностью на следующий день. Через несколько дней в руки Фэрфакса перешел Рочестер, имеющий выход к морю. Шестого июня полковник Рич отвоевал у роялистов Дувр, через два дня Айртон захватил Кентербери. Главные роялистские силы отступили к северу и 12 июня подняли свое знамя в Колчестере, древней римской столице Британии. У них насчитывалось около 4 тысяч человек, и они укрепились не на шутку. Фэрфакс и подошедший из Кента Айртон были вынуждены начать осаду.
Он выполнял свой долг, тридцатишестилетний главнокомандующий армией лорд-генерал Томас Фэрфакс, сын барона и сам принявший от короля знаки баронского титула. Он был профессиональным военным — служил в голландских войсках во время Тридцатилетней войны на континенте, потом командовал отрядом драгун в Шотландии. Он привык беспрекословно повиноваться вышестоящей власти и бесстрашно, самоотверженно, с блеском вести армию в бой. Личный героизм, самодисциплина, сдержанность привлекали к нему сердца солдат: они любили и уважали «Черного Тома». Сам Кромвель отмечал его доблесть и писал: «В победе он видит перст божий и скорее умрет, нежели припишет себе всю славу».
Но когда дело доходило до политики… Здесь то ли старомодное понятие о воинской чести, то ли происхождение, то ли армейская выучка, то ли еще что-то мешало генералу Фэрфаксу идти безоглядно, действовать твердо. Одним из первых он вышел из парламента по требованию «Акта о самоотречении», который запрещал депутатам занимать высшие военные и государственные должности. И был за то избран главнокомандующим 21 января 1645 года. А вот Кромвель и из парламента не вышел, и в армии остался. Сам Фэрфакс писал об этом ходатайство: «Всеобщее уважение и любовь, которой он пользуется среди офицеров и солдат… его личные достоинства и способности… заботливость и прилежание, храбрость и верность… делают пашу просьбу о его назначении нашей обязанностью…»
Захват короля армией летом 1647 года претил генералу; в согласии с древними английскими традициями он относился к монарху с большим уважением и не переставал целовать ему руку при встрече, даже когда тот был уже пленником. Он всегда был за переговоры, за мир с королем, а не за войну, и никогда не решился бы говорить с «божьим помазанником» так дерзко, как позволял себе Айртон. Одним словом, когда дело доходило до политики, генерал чувствовал себя прежде всего миротворцем; этот явный парадокс заставлял его ощущать свою слабость рядом с резким, жестким, решительным «Кассием» — генералом Айртоном.
И сейчас, деловито отдавая приказы о подвозе орудий и снаряжения, стягивая понемногу кольцо осады вокруг солидно укрепленного Колчестера и вежливо выслушивая безапелляционные советы Айртона, Фэрфакс нет-нет да и подумывал о том, что война англичан против англичан бессмысленна и жестока, что агитаторы, возможно, были и правы, обвиняя его на прениях в Петни в сочувствии королю, что, может, и в самом деле в начале года следовало распустить армию…
В первых числах июня он узнал, что лондонский муниципалитет потребовал возобновления переговоров с Карлом и лорды одобрили это выступление. Из ряда графств приходили петиции о том же. Его длинное испанское лицо с глубоким шрамом на левой щеке — следом ранения — при получении подобных известий подергивалось, смуглая кожа бледнела, сердце сжималось. Парламентское большинство — пресвитериане, желавшие заключить мир с королем, правы, думал лорд-генерал, сам принадлежавший к умеренным пресвитерианам. Армейское своеволие не доведет страну до добра…
И летом 1648 года лили дожди, лили не переставая; темные низкие тучи закрывали небо, пастбища под копытами коров превращались в жидкое месиво. Сильные холодные ветры и бури, невиданные в это время года, сотрясали Англию. Уже к июлю стало ясно, что и в это лето, как и в прошедшие два, урожая не будет, и значит, цены на хлеб еще возрастут, голод станет ощутимее, безысходная нищета оскалит зубы. Тяжко было на душе, тяжко и беспокойно. И чтобы облегчить эту тяжесть, Уинстэнли писал. Новая работа, обращенная к братьям-беднякам, должна была вывести их на свет божий, показать обетованную землю — рай для святых, для лучших, для угнетенных… Открывая им свет, он сам получал облегчение. «Моим любимым друзьям, — писал он, — чьи души алчут чистого молока правды…» Взглядывал в окно, где из плотных свинцовых туч сеял нескончаемый дождь, и вновь склонялся к листу: «Земля покрыта тьмою, и Бог открывается лишь немногим, которые разбросаны и разъединены меж собой… Мне было открыто, что, строя на словах и писаниях других людей, я строил на песке…» Он уже знал откровение — то внезапное понимание сущности разных сторон жизни, которое приходило к нему иногда ночами, а иногда и днем, когда он рассеянно следил за коровами, разбредавшимися по широкому горбу холма Святого Георгия. Пастушеская жизнь располагает к созерцанию. Она медлительна и органична: небо и земля распахнуты перед тобой, дуб, под которым ты сидишь, шелестит ветвями, трава оплетает ноги… В таком вот долгом молчании и одиночестве он понял однажды, что образ бога, сидящего в славе на небесах, — это ложный образ, сотворенный немощной и загрязненной человеческой плотью. Этот ложный образ заставляет людей преследовать и убивать тех, кто думает иначе, кто отличается от них. «Смотрите на Бога, — писал он, — как на правителя внутри себя; и не только внутри себя; вы увидите и узнаете его в том духе, который пребывает в каждом мужчине и женщине, в каждом создании согласно его роли внутри мира творений… Тот, кто ищет Бога вне себя и поклоняется ему на расстоянии — поклоняется сам не знает чему, его уводит и обманывает воображение его сердца… Тот же, кто ищет Бога внутри себя и подчиняется духу справедливости, сияющему внутри, — такой человек знает, кому он поклоняется, ибо он подчиняется и приобщается тому духу, что создал всякую плоть и всякое творение на этом свете». Отдавал ли он себе отчет в том, какую ересь провозглашает? Всесильный и могучий ветхозаветный бог, поклоняться которому учили с детства, перед чьей могучей волей трепетали сердца Кромвеля, генерала Фэрфакса и самого несгибаемого Айртона, этот грозный, таинственный и вездесущий царь небес, еще до рождения определяющий судьбу и назначение человека, — всего лишь дух внутри каждого? Не верховная личная власть, а невидимая искра в душе, «дух справедливости»? За такое вольномыслие не так давно бросали в костер. Но как это подымало дух! Он говорил сам себе и бедным братьям своим: вы не жалкие приниженные создания, дрожащий лист перед лицом невидимого грозного судии, вы сами носители великого духа.Послушайтесь духа любви и справедливости внутри вас, ощутите присутствие его в душе своей, и вы станете сильны и свободны. Вам не надо будет других учителей, кроме этого единственного великого учителя, который всегда с вами. Уинстэнли не проклинал плоть; он не проклинал и смерть и не боялся ее; он просто хотел, чтобы плоть человеческая подчинялась высокому духу, который побеждает себялюбие и превращает злобу, жадность, гордость, гнев и лицемерие в терпение, смирение и благодарность. Собственно, и дьявол, которого нужно одолеть, думал он, — тоже внутри. Это и есть алчная, злобная, себялюбивая плоть. «Тот дух, который делает одного человека тираном над другим и обращает его даже против себя самого, — это плоть, или дьявол, что одно и то же… Он рождает соблазны богатства и похоти…» Достаточно понять это, достаточно уразуметь, убеждал Уинстэнли, «что та сила, которая карает, устрашает, мучит вас, сотрясает царства, семьи, души — та сила, которую вы зовете дьяволом, пребывает внутри вас и есть только сила вашей жадной плоти, — тогда только закон любви воссияет в ваших сердцах, и вы освободитесь тотчас же…» И в этой борьбе, в кровавой битве, от которой стонет и без того истерзанная Англия, вы победите, хоть вам, может быть, и не будет хватать пищи и одежды и даже общения с добрыми людьми.
К нему в каморку заглядывали односельчане, рассказывали новости. Восьмого июля герцог Гамильтон с 20-тысячной шотландской армией перешел границу. Еще до этого роялисты захватили Понтефракт — важный укрепленный пункт в Йоркшире. Если победят шотландцы, говорили шепотом, тревожно переглядываясь, — король вернется на трон, и страна будет порабощена окончательно. А пресвитериане в парламенте, в сердце Англии, спят и видят, чтобы Карл вернулся. Они плетут интриги, пишут доносы, в чем-то обвиняют Кромвеля… Главного его врага, Джона Лилберна, вождя левеллеров-уравнителей, третьего августа выпустили на свободу. Они думали, что Лилберн, острый язык и бесстрашное перо которого были известны всей Англии, снова, как год назад, обвинит Кромвеля в измене. Но Лилберн поддержал генерала, идущего на смертный бой с врагами английской свободы… Уинстэнли слушал, кивал, сокрушался вместе с ними, а ум его усваивал, обдумывал, переосмысливал новости. И когда бедняки уходили, он снова присаживался к столу и писал дальше. «В наши дни развращенность плоти выражается в неверии, лживости, жестокости и рабском страхе перед людьми. Некоторые святые преданы в руки злых людей, но это ненадолго. Ибо Бог не позволит глумливым сокрушить божьих людей, кого они клеймят как круглоголовых, анабаптистов и ипдепепдентов. Когда графства поднялись против парламентской армии, кое-кто не постыдился сказать, что они сокрушат мужчин, женщин и детей индепендептской партии. Но Бог не дозволит уничтожить чистых сердцем. Он освободит святых и умножит число их… Ведь злобные воюют не против них, по против самого Бога». Еще и еще раз задумывался Уинстэнли о смысле жестоких войн, кровопролития, мятежа. Может быть, Англия брошена ныне в огонь, чтобы очиститься от тщеты мира сего и стать свободной? Может быть, именно сейчас настало то время, когда дух засияет в человеке, когда бедняки, дорогие его сердцу, получат благодать и совершится, наконец, подлинный и справедливый переворот: мудрые по плоти обернутся глупцами и ученые — невеждами, а неграмотные покажут свое знание духа истины? Ведь дух познается не через церковь или писания других людей. Библия, которую ученые церковники называют вечным и неизменным законом, призванным управлять человеком, — всего лишь запись духовных откровений пророков и апостолов. Каждый из нас может пережить подобные откровения. Тот дух, который говорил в апостолах, может говорить и нам. А священнослужители, словно попугаи повторяющие слова Писания, не познавшие бога во внутреннем опыте, — лицемеры и невежды, несмотря на всю их ученость. Опи лишь лунный свет, который рассеется и исчезнет перед солнцем правды. Он писал и будто учился у себя самого, начинал лучше понимать то, что облекалось в слова и ложилось ровными строчками па бумагу. «Я сейчас более ясно вижу эти тайны, чем до того, как изложил их», — признавался он. «Я пишу не для того, чтобы учить, я просто излагаю то, что я знаю; вы можете учить меня, ибо вы имеете и себе источник жизни, как и я; он называется господом, так как правит он не в одном ком-нибудь, а в каждом на целом свете, и потому пас много, и мы объединены вместе в одно существо, и все должны иметь одно сердце и один ум от того духа, который просвещает каждого человека». Бог — это дух справедливости, который объединяет бедняков. Вот что открылось Уинстэнли дождливым летом 1648 года.
Фэрфакс с Айртоном все еще стояли под Колчестером. Все попытки взять крепость оканчивались неудачей. Роялисты, казалось, решили стоять насмерть. А Кромвель шел со своими солдатами на север. Едва пал Пемброк — твердыня роялистов в Уэльсе, — как ему' пришлось шагать сквозь дождь по грязи навстречу шотландцам. За тридцать три дня он прошел с почти разутой пехотой больше трехсот миль, соединился с войсками Ламберта и на рассвете 17 августа напал на 24-тысячное войско шотландцев при Престоне. У самого Кромвеля было не более 9 тысяч. Но его «железнобокие» показали, па что они способны. Победа была полной, с шотландским вторжением покончено. Надежды роялистов рухнули, северном армии больше не существовало. Война шла к концу. И Уинстэнли писал о победе. Скоро, скоро, говорил он, чистые души одолеют врага, и мы освободимся от дьявола угнетения. «Ныне настало время, когда знание возобладает и покроет землю, свет начинает подыматься над нею, дух проявляется во плоти, он распространяется в сынах и дщерях своих, так что как солнце сияет от востока до запада, так явится Сын справедливости; он придет не в темные углы, а открыто; бедняки получат благодать…» Он верил в человека. Каждый из пас, думал оп, — это прекрасно созданный мир. Правда, как говорит евангелист, люди любят больше тьму, чем свет, потому что дела их злы. Но по духу каждый может попять другого, ибо внутренняя природа у всех одна. Нет избранных и проклятых от века; но кто-то поддается соблазнам плотских вожделений и гордыни и тем самым отходит от бога, а другие открывают свое сердце духовному свету и побеждают низкие инстинкты. Это делает людей разумными созданиями, отличными от бессловесных тварей. «Если люди подчинятся разуму, они будут всегда поступать по справедливости». Надо только очистить себя от плотской алчности и прислушаться к голосу разума. Уинстэнли задумался о разуме и внезапно понял: голос разума — это и есть голос бога. Бог и разум — одно. «Тот дух, который очистит человечество, — торопился он записать, — это чистый разум… Хотя люди полагают, что слово Разум слишком мелко для обозначения Отца, это высочайшее имя, которое может быть ему дано». Разум создал все вещи и правит творением. Разум позволяет отличить правильное от ложного. Он показывает нам наши пороки, нашу темноту и наполняет нас подчас стыдом и мукой. Но он же учит нас добру, благоразумию, справедливости. «Когда проклятие плоти, — писал он, — побуждает человека угнетать или обманывать ближнего, или отнимать его права и свободы, бить или оскорблять его, — добрый Разум умеряет эту злую плоть и говорит внутри нее: хотела бы ты, чтобы так поступали и с тобою? Хотела бы ты, чтобы кто-то другой пришел и отобрал твое добро, твои свободы, твою жизнь? Нет, говорит плоть, не хотела бы. Тогда, говорит Разум, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой… Твой ближний сегодня голоден и наг — накорми и одень его, ведь, может быть, завтра то же будет с тобой, и он захочет помочь тебе…» Бог и разум — одно… Немногие в то время отваживались признать эту мысль, ошеломляющую своей простотой и несомненной, явной понятностью. Разум обычно представлялся свойством, присущим человеку, куда более низким, чем великий вселенский Отец, пребывающий за облаками. Уинстэнли решился отождествить эти понятия. И позднее строил на их тождестве свое учение.
Он познакомился с любопытным человеком. Звали его Уильям Эверард. Шумный, многословный, в неизменном потрепанном армейском мундире, с полыхающими неистовым огнем глазами, он производил впечатление человека горячего, дерзкого, иногда почти невменяемого. Он говорил в таверне и возле церкви, где после службы собирался народ, — говорил не в меру громко и возбужденно о грядущем царстве мессии и свободе, которую завоюет себе народ божий. — Все созданы равными на земле, никто не достоин принимать почести от собратьев! — выкрикивал он. — Это бог мира сего, который есть гордыня и алчность, породил все зло на земле, а имя этому злу — тирания и любоначалие, презрение к своим собратьям, убийство и уничтожение тех, кто не хочет либо не может подчиниться их тирании и поддерживать их господство, гордыню и алчность! Мы освободимся от власти царей земных!.. Ходили слухи, что Эверард сбился с пути и соблазнился, что он помешан и даже принадлежит к таинственным, блуждающим по ночам лунатикам. Эверард, как удалось выяснить Уинстэнли, был родом из Ридинга, старого городишки, что стоит на Темзе в 36 милях к западу от Лондона. В начале гражданской войны вроде бы служил платным шпионом у одного из генералов парламентской армии под командой графа Эссекса, потом был агитатором в полках, ярым сторонником левеллерского «Народного соглашения». Участвовал в мятеже в Уэре осенью 1647 года, был арестован. Поговаривали даже, что вместе с капитаном Бреем и Уильямом Томпсоном он был причастен к заговору с целью убить короля. В декабре Эверарда освободили из тюрьмы, но из армии уволили. В Серри он появился недавно, никаких видимых занятий там у пего не было; он то приходил в Уолтон неведомо откуда, проповедовал несколько дней, то потом опять надолго исчезал. Уильям Эверард не мог не заинтересовать Уинстэнли. Его решительность, убежденность в скором наступлении нового царства — царства полного равенства всех людей, яростное отрицание злобы мира сего, презрение к алчности и корысти — все это привлекало. В нем угадывалось много сил и разнообразных страстей; но было и что-то несерьезное, не внушавшее доверия: буйное, невменяемое, безрассудное. Они говорили, сначала осторожно, потом все более откровенно, о скорых и необходимых переменах, которые вот-вот произойдут в Англии. Но там, где в воспаленном воображении Эверарда вставали кровавые и жуткие апокалипсические сцены, гибель мира, беспощадный Армагеддон, чудовищный зверь, выходящий из моря и пожирающий народы, — Уинстэнли виделись иные картины. Гармония, ясность, очеловечивание ада и рая — вот к чему он стремился. Он обещал беднякам, для которых писал свой трактат, не воздаяние на том свете, не кровь, пот и слезы; «рай для святых» в его представлении означал не что иное, как полное и радостное раскрытие всех способностей человека в этой, земной жизни. Хотя «царь плоти» и правит сейчас в мире, писал он, «все же это позволено ему будет недолго… такое дозволение послужит к его падению и к избавлению человека от оков плоти». Вера Уинстэнли приобретала все более рационалистические черты. Он хотел, чтобы люди расстались с предрассудками и страхом, чтобы они перестали слепо следовать мертвой и лживой букве, проповедуемой с церковных кафедр, и приняли в душу только то, что они могут испытать собственным опытом и разумением. Он звал к революции в сознании — к новой системе ценностей, новой морали, новой вере, новому знанию, основанному па чувственном опыте. «Ибо если быстрый, безумный, неистовый гнев поднимается в человеке и заставляет его действовать согласно поспешной дикости этого дьявола, о нем говорят, что он человек неразумный или человек, который не подчиняется разуму. Но если разум правит подобно царю в человеке, тогда он сдерживает человека и внутри и снаружи, так что его по праву можно назвать разумным человеком или человеком, подчиненным разуму, и потому полезным своим братьям по творению». В мире тирании и злобствующего эгоизма голос разума и самообуздания был самым радикальным. «Когда проклятие плоти побуждает человека угнетать или обманывать ближнего, отнимать его права и свободы, бить или оскорблять его, — разум сдерживает дикую плоть и говорит внутри: «Хотел бы ты, чтобы так поступали и с тобою»?» Самоограничение, самоотверженность, самоконтроль — вот путь к справедливости. Небеса и бог, дьявол и преисподняя становятся метафорами; религия, несмотря на мистические откровения и внутреннее общение с высшей силой, становится прежде всего моральным правилом. Вот что открыл Уинстэнли читателям — своим возлюбленным друзьям-беднякам, чьи души жаждали чистого молока истины. Трактат «Рай для святых» вышел летом или ранней осенью 1648 года; он был набран в той же печатне Джайлса Калверта, что располагалась под черным распростертым орлом близ собора святого Павла.
А в Лондоне тем временем росла напряженность. На следующий же день по получении известия о победе над роялистами при Престоне палата общин начала организацию новых переговоров с королем. В специально назначенный комитет вошли склонные к компромиссу пресвитериане и несколько индепендентов. Они готовились выехать к Карлу на остров Уайт. Кромвель после Престона отправился с армией в Шотландию, дабы навести там порядок и заручиться союзом с оппозиционной роялистам партией маркиза Аргайла. Принц Уэльский, узнав о победе парламентских сил, отказался от мысли атаковать со своим флотом английские берега. А 27 августа, после почти трехмесячной осады, сдался на милость парламента изнуренный Колчестер. Фэрфакс давно уже чувствовал, как в груди его закипает, все более захватывая чувства и разум, холодное бешенство. Кромвель одну за другой брал неприступные крепости; он прошел пешком вместе с солдатами всю Англию и после немыслимой победы над втрое превосходившими силами противника снова, не зная устали, шагал и шагал, чтобы покорить Уэльс, Шотландию, весь мир… А он, главнокомандующий, торчит здесь три месяца с отборным войском неподалеку от Лондона — и не может взять крепости, не воюет, а ждет, ждет неизвестно чего… Едва войдя в крепость, ворота которой сами, без боя раскрылись перед ним, он приказал схватить трех ее командиров и расстрелять двух из них — за «напрасное кровопролитие». После первой гражданской войны все они поклялись не брать оружия против парламента и нарушили эту клятву, следовательно, должны умереть. Третий был отпущен па том основании, что являлся уроженцем Флоренции; отношения с Италией генерал осложнять не хотел.
СКАНДАЛЫ
 диннадцатого сентября 1648 года палате общин была вручена петиция — «Смиренное прошение нескольких тысяч благонамеренных граждан города Лондона, Вестминстера, Саутворка и окрестностей». В ее составлении принимали участие Лилберн и другие видные левеллеры.
Петицию прочли в палате, и содержание ее поразило пресвитерианское большинство, словно гром среди ясного неба. Теперь, когда с войной было покончено и добропорядочные зажиточные граждане жаждали, наконец, благополучия и мирного устроения страны, когда начатые в Ньюпорте, на острове Уайт, переговоры с его величеством королем должны были вот-вот принести благоприятные плоды, левеллеры, эти опасные смутьяны, все время будоражившие армию и графства, требовали неслыханных вещей. При всем своем стремлении к миру, заявляли петиционеры, они не могут забыть о тех страданиях, которые выпали на долю нации по вине короля и лордов, и решительно отвергают поэтому их право на верховную власть в стране. Необходимо, писали левеллеры, «обеспечить верховенство народа от всякого рода притязаний на право вето как со стороны короля, так и лордов»; они требовали ежегодного созыва народных представителей в парламенте и подчинения короля, принцев, герцогов, графов, лордов и всех лиц, им подобных, действию обыкновенных английских законов. Они настаивали на упрощении законодательства и равного суда над всеми путем рассмотрения дела двенадцатью присяжными заседателями. Это значило, что они добивались равенства, демократии, уничтожения всех феодальных сословных привилегий.
Идя прямо против майского ордонанса, они писали: необходимо изъять дела религии и богопочитания из ведения гражданской власти. То есть настаивали на свободе вероисповедания — опаснейшем для государства пункте. Свобода! — вот что читалось за каждой строкой их петиции. Свобода веры, свобода от принуждения к военной службе, свобода торговли от всяких монополий и откупов со стороны компаний или отдельных лиц, свобода от акцизов и налогов. И даже еще дальше. «Должны быть упразднены все производимые в последнее время огораживания общинных земель, — писали левеллеры. — Огораживания могут допускаться только или главным образом в интересах бедных».
Они предлагали обсудить вопрос о том, сколь много тысяч людей разорены и томятся в долговых тюрьмах, и принять меры к их освобождению. Они взывали к парламенту, требуя установления соразмерных наказаний, которые соответствовали бы совершенным преступлениям, дабы люди не лишались жизни и имущества за пустячные и незначительные правонарушения. Они, наконец, заявляли, что тягостное бремя церковной десятины должно быть уничтожено.
И совсем угрожающе звучало устное заявление подателей документа: они сказали, что не видят никакой пользы в дальнейшем существовании короля и лордов.
Неудивительно, что под этой петицией подписались 40 тысяч жителей одной только столицы. Под ней могли бы поставить подписи еще сотни и сотни тысяч людей по всей Англии — ремесленники, подмастерья, крестьяне, — все, кто страдал от налогов, огораживаний, постоев солдат и принудительных наборов в армию, от неправых судов, от произвола лорда и короля, от торговых монополий, десятин, бесправия…
Единственный пункт петиции мог бы, пожалуй, несколько успокоить почтенных членов палаты: в заключительном параграфе указывалось, что следует обязать настоящий и все будущие парламенты не допускать упразднения собственности, уравнения имуществ и превращения частных владений в общее достояние. Уже сейчас, накануне великих и грозных событий, левеллеры, сами принадлежавшие к имущему классу, отмежевались от тех — самых нищих, самых угнетаемых, самых несчастных, — кто стремился, пусть порой и неосознанно, к равенству наиболее справедливому и полному — к равенству имущественному. Равенство, на котором настаивали левеллеры, было лишь формальным, политическим, буржуазным равенством. Каждый, считали они, должен жить сам по себе, владеть своими правами и своей собственностью на равных условиях с другими.
Но и того, что содержала их петиция, было достаточно, чтобы потрясти до основания успокоившийся было парламент. И не только парламент. После вручения петиции левеллеры развернули широкую агитацию в армии, в городах и местечках. В Оксфордшире, Лестершире, Йоркшире и других графствах шумели митинги, широкие массы населения заявляли о полной поддержке левеллерской петиции. Раздавались требования строгого наказания всех виновников гражданской войны и конфискации их имущества в пользу государства.
И все громче и громче звучит страшное, невиданное: король должен быть предан суду как кровавый преступник, враг отечества. Петиции с прямыми угрозами идут в парламент из полков Айртона, Флитвуда, Уолли; и даже с севера, из кромвелевских отрядов звучит зловещий призыв. И Айртон, бестрепетный Кассий, который стал теперь, в отсутствие Кромвеля, «альфой и омегой всей армии» (так назвал его Лилберн) — понял, что противостоять атому натиску невозможно. Он дал понять офицерам-индепендентам, что некоторые требования левеллеров следует поддержать. Это касалось прежде всего требования суда над Карлом. Айртон сам составил петицию от своего полка. И даже Кромвель, говорят, собирал подобные же петиции от своих солдат на севере. Главари индепендентов понимали, сколь грозное движение растет по всей стране. Движение это может смести не только монарха, но и всех власть имущих вообще, весь порядок мироздания. Поэтому пусть лучше воюют против Карла. Может быть, на него одного и следует сложить всю вину за гнет неправедных судов, за произвол лордов, за жестокосердное упрямство церкви…
диннадцатого сентября 1648 года палате общин была вручена петиция — «Смиренное прошение нескольких тысяч благонамеренных граждан города Лондона, Вестминстера, Саутворка и окрестностей». В ее составлении принимали участие Лилберн и другие видные левеллеры.
Петицию прочли в палате, и содержание ее поразило пресвитерианское большинство, словно гром среди ясного неба. Теперь, когда с войной было покончено и добропорядочные зажиточные граждане жаждали, наконец, благополучия и мирного устроения страны, когда начатые в Ньюпорте, на острове Уайт, переговоры с его величеством королем должны были вот-вот принести благоприятные плоды, левеллеры, эти опасные смутьяны, все время будоражившие армию и графства, требовали неслыханных вещей. При всем своем стремлении к миру, заявляли петиционеры, они не могут забыть о тех страданиях, которые выпали на долю нации по вине короля и лордов, и решительно отвергают поэтому их право на верховную власть в стране. Необходимо, писали левеллеры, «обеспечить верховенство народа от всякого рода притязаний на право вето как со стороны короля, так и лордов»; они требовали ежегодного созыва народных представителей в парламенте и подчинения короля, принцев, герцогов, графов, лордов и всех лиц, им подобных, действию обыкновенных английских законов. Они настаивали на упрощении законодательства и равного суда над всеми путем рассмотрения дела двенадцатью присяжными заседателями. Это значило, что они добивались равенства, демократии, уничтожения всех феодальных сословных привилегий.
Идя прямо против майского ордонанса, они писали: необходимо изъять дела религии и богопочитания из ведения гражданской власти. То есть настаивали на свободе вероисповедания — опаснейшем для государства пункте. Свобода! — вот что читалось за каждой строкой их петиции. Свобода веры, свобода от принуждения к военной службе, свобода торговли от всяких монополий и откупов со стороны компаний или отдельных лиц, свобода от акцизов и налогов. И даже еще дальше. «Должны быть упразднены все производимые в последнее время огораживания общинных земель, — писали левеллеры. — Огораживания могут допускаться только или главным образом в интересах бедных».
Они предлагали обсудить вопрос о том, сколь много тысяч людей разорены и томятся в долговых тюрьмах, и принять меры к их освобождению. Они взывали к парламенту, требуя установления соразмерных наказаний, которые соответствовали бы совершенным преступлениям, дабы люди не лишались жизни и имущества за пустячные и незначительные правонарушения. Они, наконец, заявляли, что тягостное бремя церковной десятины должно быть уничтожено.
И совсем угрожающе звучало устное заявление подателей документа: они сказали, что не видят никакой пользы в дальнейшем существовании короля и лордов.
Неудивительно, что под этой петицией подписались 40 тысяч жителей одной только столицы. Под ней могли бы поставить подписи еще сотни и сотни тысяч людей по всей Англии — ремесленники, подмастерья, крестьяне, — все, кто страдал от налогов, огораживаний, постоев солдат и принудительных наборов в армию, от неправых судов, от произвола лорда и короля, от торговых монополий, десятин, бесправия…
Единственный пункт петиции мог бы, пожалуй, несколько успокоить почтенных членов палаты: в заключительном параграфе указывалось, что следует обязать настоящий и все будущие парламенты не допускать упразднения собственности, уравнения имуществ и превращения частных владений в общее достояние. Уже сейчас, накануне великих и грозных событий, левеллеры, сами принадлежавшие к имущему классу, отмежевались от тех — самых нищих, самых угнетаемых, самых несчастных, — кто стремился, пусть порой и неосознанно, к равенству наиболее справедливому и полному — к равенству имущественному. Равенство, на котором настаивали левеллеры, было лишь формальным, политическим, буржуазным равенством. Каждый, считали они, должен жить сам по себе, владеть своими правами и своей собственностью на равных условиях с другими.
Но и того, что содержала их петиция, было достаточно, чтобы потрясти до основания успокоившийся было парламент. И не только парламент. После вручения петиции левеллеры развернули широкую агитацию в армии, в городах и местечках. В Оксфордшире, Лестершире, Йоркшире и других графствах шумели митинги, широкие массы населения заявляли о полной поддержке левеллерской петиции. Раздавались требования строгого наказания всех виновников гражданской войны и конфискации их имущества в пользу государства.
И все громче и громче звучит страшное, невиданное: король должен быть предан суду как кровавый преступник, враг отечества. Петиции с прямыми угрозами идут в парламент из полков Айртона, Флитвуда, Уолли; и даже с севера, из кромвелевских отрядов звучит зловещий призыв. И Айртон, бестрепетный Кассий, который стал теперь, в отсутствие Кромвеля, «альфой и омегой всей армии» (так назвал его Лилберн) — понял, что противостоять атому натиску невозможно. Он дал понять офицерам-индепендентам, что некоторые требования левеллеров следует поддержать. Это касалось прежде всего требования суда над Карлом. Айртон сам составил петицию от своего полка. И даже Кромвель, говорят, собирал подобные же петиции от своих солдат на севере. Главари индепендентов понимали, сколь грозное движение растет по всей стране. Движение это может смести не только монарха, но и всех власть имущих вообще, весь порядок мироздания. Поэтому пусть лучше воюют против Карла. Может быть, на него одного и следует сложить всю вину за гнет неправедных судов, за произвол лордов, за жестокосердное упрямство церкви…
А король сидел на возвышении в высоком кресле под балдахином в парадной зале Ньюпортского замка — освобожденный от стражи, окруженный вельможами, капелланами, адвокатами, камергерами, пажами, — всей той блестящей свитой придворных, которой парламент вновь разрешил служить ему и от которой он уже порядком отвык за долгие месяцы скитаний и невзгод. Возвращение былого блеска вернуло ему веселость и уверенность в себе. Эта уверенность подкреплялась еще и тем обстоятельством, что как придворные свиты, так и делегаты парламента обращались к нему с величайшим почтением, а городишко был буквально наводнен его сторонниками, тайными и явными. Ни в гостинице, ни в частных домах, говорили, не осталось ни одного свободного места. Переговоры начались 18 сентября, и сразу стало ясно, что условия королю предлагаются весьма и весьма мягкие, то есть что делегация и стоящий за ее спиной парламент желают как можно скорее и полюбовнее договориться. От Карла требовали отменить все свои декларации против парламента, ввести в стране на три года пресвитерианское устройство церкви и на 20 лет передать парламенту управление милицией. Когда условия зачитали, Карл постарался подавить саркастическую усмешку: ему было известно, что Тридцатилетняя война в Европе закончилась и он может ожидать поддержки от Франции и Испании. Кроме того, герцог Ормонд в Ирландии готовил мятеж в его пользу. Его намерения Карл поддержал в тайно переправленном письме, намекая весьма прозрачно, что герцог не должен верить известиям о скором заключении договора с парламентом, Сам он надеялся на побег. А переговоры можно и потянуть, потешиться, видя, как серьезно стремятся заключить с ним союз важные суровые пресвитериане.
В Лондоне пресвитериане вели себя совсем не так мягко и уступчиво, как в Ньюпорте. Политика безжалостного подавления «ересей и богохульства», начатая майским ордонансом, ужесточилась. Завоеванная армией победа имела для них смысл только в том случае, если она приведет к установлению «истинной единой пресвитерианской церкви» по всей стране. Они полагали, что пресвитерианская церковь одна способна осуществлять руководство духовной жизнью. Власть ее, полученная от бога, претворяется в жизнь пресвитерами — почтенными гражданами, избранными приходом и утвержденными Синодом. Только они уполномочены проповедовать слово божье и наставлять народ. Пресвитеры обязаны заботиться о душе каждого, входить в любой дом, в любое сердце, в любое сознание, всех наставлять и за всеми надзирать — в парламенте, в армии, в духовных конгрегациях. А народ должен подчиняться установленной ими дисциплине. Такими методами расчистят они путь к победе. С проповеднических кафедр гремели ветхозаветные угрозы. «Сколь счастлива была бы наша церковь, если бы оппозиция и препоны к ее избавлению затевались только ее врагами! Неверные и отступники видны для глаза, а еретики, которые держатся еще за некоторые доски истины, когда ковчег разрушен, распознаются труднее. Какое честное и милостивое сердце не обольется кровью, видя, сколь многие, заявляя, что они стремятся к достижению истины и свободы, начисто забывают о единении! Для них все, что ново, то и истина, и все, что они полагают истиной, они считают себя вправе исповедовать, без всяких мыслей о единстве!» Единство — вот что было основным требованием пресвитериан. Церковь должна быть едина — во имя единства и стабильности государства. Всеобщая реформация и единообразие не только обрядов и установлений, но и мыслей, и чувствований понимались ими как путь к гражданской безопасности, а значит — к спокойной сытой жизни, к развитию торговли и финансовых сделок, к обогащению. «Я знаю, — пламенно ораторствовал пресвитерианский проповедник, — некоторые говорят, что поскольку истина — дар божий, то власти не могут применять принуждение или насилие в делах религии. Но значит ли это, что власти не могут заставить людей следовать путями господней благодати, или разве запрещено выпускать законы, чтобы обуздать и наказывать ошибки и заблуждения, которые идут против истины?» «Терпимость, — вторил ему другой, — не необходимое условие мира и справедливости в государстве, а последнее и смертоносное орудие Антихриста для разжигания беспорядков и раздоров среди народа Христова». «Вместо реформации, — увещевал третий, — мы бросаемся от одной крайности к другой, от Сциллы к Харибде. Едва один дьявол нас оставит, как другой приходит на его место, еще худший. Эти крайности более опасны и чудовищны, чем когда-либо». Англия, раздираемая смутами, представлялась им Вавилоном, миром греха. Именно они, пресвитериане, чувствовали себя избранниками божьими, призванными разрушить Вавилон, поразить блудницу схизмы и раздоров и воздвигнуть на обломках «второй храм Соломона», символ единой церкви внутри Нового Иерусалима — подчиненного церкви государства. 29 августа лордами и общинами после совещания с ассамблеей богословов принят был ордонанс, установивший пресвитерианскую систему церковного управления по всей Англии. Ни одной лазейки для свободомыслия и терпимости, казалось, больше не осталось. Но было уже поздно. Куда более могучие силы развязала война. Библию, карманные издания которой раздавали даже солдатам, каждый теперь мог прочесть сам. А значит, каждый мог и понимать ее по-своему. Офицеры-индепенденты и солдаты-сектанты, вкусившие плоды побед, осознали себя самостоятельным орудием в руках Провидения. И в каждом городе, в каждом селе находились люди, искавшие личного пути к богу, собственного понимания истины, свободы, справедливости. Б церквах и вне их — на папертях, на рыночных площадях, в тавернах — гремели скандалы.
Уильям Эверард обычно не стеснял себя в выражениях и говорил все, что думал, во всеуслышание, совершенно забывая об осторожности, Этой осенью он однажды позволил себе высказаться по поводу пресвитерианского церковного устройства и наступления властей на духовную свободу. Пресвитерианские пасторы и те, кто шел за ними, обвинили его в богохульных мнениях: в том, что он отрицает бога, Христа, Священное писание и молитву. Они нарекли его обманщиком и употребили выражения и посильнее, на основании чего самые разъяренные потащили его к властям. Бейлифы Кингстона, административного центра провинции, посадили Эверарда в тюрьму и продержали его там в течение недели. И поскольку к этому времени все уже знали Эверарда как близкого друга и единомышленника Джерарда Уинстэнли, уолтонского пастуха, издавшего в нынешнем году несколько весьма предосудительных с точки зрения пресвитериан трактатов, то и его имя было вовлечено в означенный скандал. Проповедники окрестных приходов заклеймили его как сотоварища бунтовщика Эверарда и обвинили в тех же смертных грехах: отрицании бога и Евангелия, святой Троицы, крестной смерти и воскресения господа Иисуса Христа и еще во множестве богохульных и нечестивых помыслов. Мало того, что за такие обвинения полагались весьма суровые кары вплоть до смертной казни, — они очерняли Уинстэнли в глазах односельчан и всех, кто читал его трактаты. Жизнь среди бедняков, знание их нужд и невзгод дало ему спокойное достоинство и неколебимую уверенность в себе. Уинстэнли почувствовал необходимость оправдаться. И не только оправдаться, а и высказать ученым пасторам, выпускникам Оксфорда и Кембриджа, что думает он о них самих, об их церкви, об их догмах. Возможно, безопаснее и легче было бы промолчать. Возможно, умнее было бы написать отвлеченное сочинение, бичующее университетское духовенство за буквоедство и искажение чистого духа правды, изложенного в Евангелии. Но он действовал прямо и бесстрашно. «Истина, подымающая голову поверх скандалов», — назвал он свой трактат. Сплетни, злословие, клевета, лившиеся на него и его друга с церковных кафедр, наполнили его возмущением. И первое обращение, гневное и едкое, он направил прямо им — «ученым Оксфорда и Кембриджа, а также всем тем, кто называет себя проповедниками Евангелия в городе и в стране». Господа, писал он им, вы сами присвоили себе власть учить народ тайнам духа. Вы думаете, что вы одни посланы свыше для этой цели. Вы видите, сколько разногласий и противоречий рождают сейчас вопросы духовной жизни. Люди интересуются, спрашивают, спорят друг с другом, взыскуют истины. Ваше дело — рассудить их сомнения, руководствуясь терпимым и кротким духом; ведь поспешность и гнев — плохие помощники в деле. А вы вместо того отвечаете им, что они отрицают бога, и Христа, и Писание, и Евангелие, и молитвы, и все ордонансы. Вы не вникаете в то, что говорят другие, но оговариваете и осуждаете их без разбора: это разве духовный подход к делу? А сами-то вы — не есть ли те самые люди, которые отрицают бога, Писание и установление божьи и обращают истины духа в ложь? Ведь есть только два корня, из которых проистекают все различия. Эти два корня — дух, который создал все на земле, и человеческая плоть, которая сбила с пути творение; и кто идет путями плоти, отрицает дух. Вы настоятельно требуете от людей, чтобы они соблюдали Евангелие; но сами-то вы каждодневно раздираете его на куски всякими переводами, толкованиями, заключениями. Один настаивает на такой доктрине, другой — на эдакой; как народу не потонуть в этом потоке словоизвержений? А слова не объясняют ничего; только дух внутри может судить и давать понимание. Кто проповедует Евангелие, должен сам жить по Евангелию, то есть иметь внутри себя мир, жизнь и свободу духа. Уинстэнли хотел ответить на их обвинения. Он еще раз собирался изложить миру свои взгляды. Но прежде чем пускаться в плавание по необъятному, волнующемуся морю духовных проблем, доктрин, задач, откровений, он хотел поговорить еще с читателем — воображаемым другом и, кто знает, может быть, и единомышленником. «К доброму читателю» обращено второе предисловие, предпосланное трактату. Говоря с читателем-другом, он успокаивался. И сообщал доверительно: «Я хочу добавить одно слово, чтобы объяснить, почему я употребляю слово Разум вместо слова Бог в моих работах, как вы увидите ниже. Если я спрошу вас, кто создал все вещи? Вы ответите: Бог. Если я спрошу: что такое Бог? Вы ответите: духовная сила, которая создала все, и всем управляет, и все сохраняет. Короче говоря, Бог есть главный творец или правитель, и этот творец и правитель есть Бог. И я потеряюсь в этом круге, который возвращается все к тому же и покрывается мраком. Но если вы спросите меня: почему я говорю, что Разум сделал и управляет и сохраняет все вещи? Я отвечу: Разум — это та живая сила света, которая присутствует во всех вещах; это соль, которая придает всему вкус; это огонь, который воспламеняет шлак и возрождает то, что погибло, и сохраняет то, что чисто; он — господь нашей справедливости». Он не просто повторял здесь то, что сказал уже в «Рае для святых»; он разрабатывал свое учение дальше. Слово Разум, писал он, не единственное название для этой духовной силы; каждый может дать ему имя согласно своему внутреннему пониманию и действовать, слушаясь его голоса в своей собственной душе. Кто назовет его духом справедливости или царем согласия, некоторые, может быть, нарекут любовью или другими подобными именами; я же называю его Разумом, ибо он представляется мне тем могучим светом, который делает правду правдой, справедливость справедливостью, любовь любовью. Без этого посредника и правителя все они превратятся в безумие. Он построил трактат в форме диалога. Сам себе задавал вопросы от лица воображаемого противника или обвинителя и сам же отвечал. А обвинителем этим был, конечно же, приходский пастор, выпускник Оксфорда, гордый своим знанием и почитавший неграмотных прихожан тупыми овцами, способными лишь из его уст воспринять голос истины. И Уинстэнли отвечал ему — как равный равному. Я уже говорил, писал он, намекая на последний свой трактат, что тот, кто поклоняется богу с чужих слов, как велят ему другие, тот не познал бога через свет внутри себя; или кто думает, что бог находится в небесах над облаками, и молится этому богу, не понимая, что бог находится внутри его самого, — тот поклоняется созданию своего собственного воображения, которое есть дьявол. «Что есть Бог?» — спрашивал его невидимый судия, и он отвечал: «Это непостижимый дух, Разум. Он правит всем творением в справедливости, мире и согласии». Разум ведет человека в повседневной жизни путями сдержанности и добра. Он побуждает его со вниманием и уважением относиться к своему телу, соблюдая умеренность в пище для сохранения его здоровья, не допускать крайностей пьянства или обжорства и не отдаваться нечистым вожделениям плоти, которые ведут его к саморазрушению. «Ибо если дух, Разум, предоставит плоть самой себе и не будет управлять ею и умерять ее на путях добродетели, она в короткое время разрушит сама себя; пусть же плоть живет в разумном законе умеренности и праведности, и она сохранит себя от разбивающих сердце печалей». Он сам жил когда-то бездумной плотской жизнью. Он слишком хорошо знал, какие беды, какие внутренние тяжкие страдания приносит такая жизнь. Он стремился тогда выручить побольше денег, чтобы накопить богатство или окружить себя комфортом. Он помнил, сколь притягательна нежная женская плоть, — и знал, что путь наслаждений этим внешним миром, путь искушений — это путь греха и отчаяния. И он уговаривал братьев-бедняков: не позволяйте водить себя за нос, как медведя на кольце; не поддавайтесь обольщению внешних предметов, проходящих перед вашими глазами, — предметов, к которым вожделеет плоть, чтобы наслаждаться ими. Нет, надо постоянно подчинять плоть свою Разуму, богу внутри тебя; надо «поступать справедливо со своими собратьями по творению; согласно Разуму возделывать землю, согласно Разуму использовать домашний скот; делать свое дело в ремесле или другом промысле честно, как того требует Разум; поступать с женщинами и мужчинами, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Но Разум имеет еще и другую важнейшую задачу. Он духовно объединяет всех людей. Заблуждаются те, кто думает, что бог охраняет одних и сокрушает других; он заботится равно обо всем творении и связывает всех воедино. Каждого он делает защитником и помощником другого, так что каждый в этом мире ответствен за благо и гармонию целого. Разум правит и природой. Облака посылают на землю дождь, иначе она не станет родить траву и плоды. На земле произрастают травы, иначе погибнет от бескормицы скот. Скот питается травой и тучнеет, и в этом тоже проявляется Разум, ибо без скота человек не сможет существовать в довольстве. Солнце дает свет и жар, без них живое захиреет. Все в природе связано великим кругом жизни, все поддерживает и сохраняет друг друга. Во всех же проявлениях власти плотской — одно неразумие: мы видим его в жадности, гордости, злобе. А чистый и совершенный Разум побуждает петь и веселиться в добродетели: когда царь царствует, град радуется. Ему казалось, что так просто понять это и воплотить в жизнь: каждый слушается Разума внутри себя, подчиняется данным природой законам — и гармония внутри человеческого общества, единство духовного и материального, человека и природы достижимы. Бог, Разум и естественный закон — одно. Рациональная мысль заставляла отходить от мистики и приближала к материалистическому пониманию мира. И здесь коренилось существенное отличие от левеллеров: те защищали как раз отделенность, независимость каждой личности от других, ее суверенные неотчуждаемые права во враждебном и иррациональном мире, управляемом непознаваемой волей всевышнего. Ему же, Уинстэнли, вся вселенная представлялась разумным и гармоническим целым, управляемым ясными, рациональными и постижимыми естественными законами, конечная цель которых — благоденствие и счастье человеческого рода. Каждый человек может познать эти законы, подчинить им свою непокорную алчную плоть и сознательным усилием пробиться к свету. «Но какое же проявление Разума, — спрашивал придирчивый противник, который, казалось, находился уже не где-то вовне, на воображаемой церковной кафедре, а внутри его самого, — какое же проявление Разума можно усмотреть в искушениях, рождающихся во мне самом и в несчастьях, окружающих меня?» И Уинстэнли отвечал, стараясь быть как можно более честным. «Есть Разум в том, чтобы ты был одолен своими собственными вожделениями, которые ты сам избрал себе для наслаждений ими; чтобы ты испытал их и изведал все мучения, которые они порождают, весь стыд их, и тем самым вернулся бы опять к водительству Разума, подчинился бы духу, который дает мир и свободу». «Но какой Разум в том, что другие люди меня угнетают?» «Чтобы дать тебе увидеть твою собственную несправедливость к другим; для того и допускаются неправедные к тому, чтобы поступать с тобой несправедливо. Ты должен понять, что пути неправедности не приносят ничего, кроме боли. «А кто призовет людей к ответу за их неправедность?» «Тот самый могучий дух, Разум, царь справедливости и мира. «Почему ты горд? — спросит Разум. — Почему жаден? Почему злобен и жестокосерд против ближних твоих? Почему ты нечист?» А плоть ответит: «Я хотела доставить себе удовольствие». А Разум скажет ей: «Разве ты сама сотворила себя, чтобы жить для себя самой? Разве не господь создал тебя, чтобы жить под моим водительством?» «А что значит жить по справедливости, или идти путями Разума?» «Это значит прежде всего жить и действовать в любви к братьям по творению: накормить голодных, одеть нагих, освободить угнетенных, заботиться о сохранении других, как и самого себя… Только так творение достигнет единства, любви и мира и ни один не пожалуется на то, что кто-то поступает с ним несправедливо или угнетает…»
Уинстэнли писал много, торопливо, он старался выложить все, заявить миру свое кредо, как оно сложилось у него теперь, темной ненастной осенью 1648 года. Он не осознавал или нарочно не хотел понимать, что не оправдывается этим трактатом от обвинений в ереси, а наоборот, защищает и утверждает свою ересь перед всей читающей Англией. Уже само отождествление понятий бога и разума было непозволительным вольнодумством. Ни англиканские иерархи, не пресвитерианские ученые проповедники никогда не согласились бы с тем, что любой малограмотный крестьянин или батрак может, сам читая Писание и размышляя о мире, решить, что в нем разумно и что нет, что истина, а что ложь. Если каждый будет судить об этих вещах по собственному разумению, заключали церковники, мир будет перевернут вверх дном, в нем воцарится анархия. Потому-то и были столь опасны для них казалось бы отвлеченные теологические рассуждения Уинстэнли. Но он шел и дальше. Он заявлял, что Иисус Христос — не только человек во плоти, живший некогда в Иерусалиме, а дух внутри каждого, призванный сокрушить алчного плотского змия. Крестную смерть Иисуса он признавал спасительной для людей только потому, что она показала торжество духа над плотью; все силы ада, проклятия, тяготевшего над иудеями, все силы алчной плоти объединились, чтобы оклеветать и убить его, но им не удалось сломить его дух; он остался кротким и терпеливым и тем показал миру, как надо идти путями духа, к лк надо сокрушать главу змия внутри себя. Этим примером он и спас человеческий род. А воскреснет он — и уже воскресает — в сердцах людей, решившихся следовать его примеру. Уинстэнли не верил в телесное воскресение Христа. «Мне совершенно ясно, — писал он, — то, что апостолы видели Христа воскресшего и вознесшегося и явились свидетелями его воскресения, было только видением возвышающегося духа; ибо смерть, и ад, и тьма, и печаль не смогли одолеть его; он не знает тления. Когда то тело, в котором он был заключен на время, было погребено, он возродился в телах апостолов и так начал распространяться по земле в сынах и в дщерях ее от востока к западу, от севера к югу…» «Но как же вы говорите, что тело Христово было положено в землю и осталось там лежать, — с ужасом спрашивал невидимый противник. — Ведь в Писании сказано, что оно не изведало тления? Как же это совместить?» «Да, оно пошло в землю и разложилось на элементы: огонь, воду, землю и воздух, как и другие тела людей, но дух его, пронизавший и подчинивший себе эти элементы, очистил их и восстал для того, чтобы засиять в душах живых. А евангельский рассказ о том, что апостолы видели и касались его после воскресения — это таинственное свидетельство о его возрождении в духе, о торжестве его над плотью. Ведь все Писание по сути — запись духовных тайн, увиденных внутренними очами. Христос воскрес в людях, их тела очистились и преобразились, и они видели и касались его внутри себя». Если бы Уинстэнли хотел нарочно навлечь на себя обвинение в ереси, он не мог бы выразиться определеннее. Но мало того, что он таким образом защищал и оправдывал себя. Он осмелился обвинять. Тот проповедник, который строит конструкции на примерах из Писания, утверждал он, черпает всего лишь из своего воображения, источника плотского и дьявольского, и тем самым предает небесного отца. Он — вор, грабитель, неправедно поступающий с пророками и апостолами, выхватывая их слова и вкладывая в них свое собственное, низкое понимание. Никто не может сказать другим: вот это — истина, а это — ложь, пока он сам не получил свидетельство тому внутри себя, подобно тем, кто писал Библию; и я уверен, что такого свидетельства не получил ни один из тех, кто по должности проповедует с церковных кафедр. И власть, поставившая таких учителей, не от отца небесного, а от плоти. Вы скажете, что в начальные времена христианства апостолы, говоря к народу, тоже опирались на речи пророков и примеры из Писания? Да, но они не проповедовали в организованных властями приходах, не сгоняли людей на свои проповеди с помощью гражданских правителей, не заставляли платить себе деньги под страхом наказания. Писание не требует таких порядков; значит, кто поступает подобным образом, тем самым отрицает Писание и являет себя врагом Иисусу Христу. Когда он писал о проповедниках, кроткий и мирный дух оставлял его, и гневом наполнялись слова трактата: «Та власть, которая принуждает, это малый рог, или дракон, где бы она ни находилась; а толкования — прямой отказ отПисания и предательство против духа… Страны и царства чаще всего управляются мудростью плоти, а не духа, а почему? Потому что дух отдает бразды правления в руки плоти; но когда плоть будет привлечена к ответу за дела свои, господь проклянет ее за неправедное, жестокое, себялюбивое и угнетающее правление над своими агнцами и овцами». Последние страницы трактата звучали как обвинительный акт. Английское духовенство и профессора, писал Уинстэнли, словно забывая, какой могущественной и беспощадной силе он бросает вызов, — в публичных богослужениях используют свои собственные измышления. Они называют их божьими установлениями, а на самом деле они отрицают бога и Христа и обращают Писание в ложь. Вы молитесь чужими заученными словами, укорял он, вы учите со слов других; вы делаете из своей профессии ремесло и живете на выручку; вы не исполняете своих собственных предписаний; вы просите гражданские власти заставлять народ ходить в храмы и слушать, как вы молитесь и проповедуете — а вы должны бы, наоборот, остерегать власти от подобных деяний: ни Христос, ни апостолы никогда никого не заставляли. Далее, вы называете приход (который создан для гражданской безопасности) церковью и заставляете прихожан платить вам десятину за ваши лживые проповеди. А если кто отказывается платить, вы жалуетесь в магистратуру и требуете, чтобы власти заставили их раскошелиться, — это уж с вашей стороны совсем непростительно. Вы принуждаете людей соблюдать первый день недели по образцу иудеев просто для того, чтобы процветало ваше ремесло; но Новый Завет этого не одобряет. Вы присвоили себе власть раздавать причастие прихожанам, испуганным или пристыженным от сознания своей греховности, которое вы им внушили; они сидят словно в рабском ярме, подавленные, никто не говорит ни слова, а один из вас торжественно преломляет хлеб. Но ни Разум, ни Писание не оправдают таких действий, ибо еда и питье вместе в любви и сладком согласии душ — вот истинное причастие. Вы крестите детей, чтобы обмануть их родителей и заставить платить вам деньги. И тем самым вы разрываете в клочки Евангелие, которое проповедуете, и загрязняете пищу, которую даете детям. Моисей был пастухом; Амос — сборщиком плодов; апостолы — рыбаками; Христос — плотником. Их сам господь сделал проповедниками, а вы делаете проповедниками себя, чтобы иметь туго набитые кошельки. Он никак не мог остановиться. Семьдесят пять страниц печатного шрифта — в рукописи же многим более сотни. Последнюю страницу он, уже изнемогая от усталости, снова увенчал стихами:
Даже Джайлс Калверт не смог напечатать этот трактат осенью 1648 года. Слишком беспокойное, слишком опасное было время. Скандалы и потрясения продолжались по всей стране. Полковник Рейнсборо, один из самых стойких левеллеров и сторонников суда над королем, был заколот роялистской бандой недалеко от Понтефракта, который осаждали голодные, обносившиеся солдаты Кромвеля. Петиции с требованиями привлечь «кровавого преступника» Карла Стюарта к ответу по-прежнему шли в парламент. В графствах проходили шумные митинги в поддержку левеллерской петиции от 11 сентября. В самом парламенте подняли голос республиканцы. Депутат Денис Бонд, богатый купец, заявил на одном из заседаний: «Скоро настанет день, когда мы своею властью повесим самого высокого из этих лордов, если он заслуживает того, без всякого согласия его пэров». А 18 ноября военный совет в Сент-Олбансе принял составленную Айртоном «Ремонстрацию армии», где в полный голос прозвучало требование суда над королем. Все преступления «кровавого тирана» были изложены на многих страницах: он развязал войну против своего народа, вверг страну в кровопролитие, заключил изменнический союз с шотландцами, нарушил собственные обязательства, арестовывал невинных и заключал их в тюрьму без суда и следствия, пытался сделать свою власть абсолютной… «Ремонстрация» в ряде пунктов прямо повторяла требования левеллеров. Она утверждала, что народ является верховной властью в стране. Король должен избираться представителями народа. Нынешний парламент следует распустить и назначить выборы в новый, на основе новой конституции. И если эти реформы проведены не будут, армия возьмет дело спасения отечества в свои руки. Немедленно «Ремонстрация армии» была перепечатана и размножена в сотнях брошюр; вся страна зачитывалась невиданным по смелости документом. Союз левеллеров с индепендентами армии был скреплен: теперь следовало ожидать дальнейших событий. И они не замедлили случиться. 20 ноября офицеры толпой ворвались в палату общин и вручили спикеру «Ремонстрацию». Поднялась буря. Индепендентское меньшинство предлагало одобрить требования армии. Но пресвитериане отказались прекратить переговоры с Карлом. Их ответом было принятие 22 ноября решения о том, что большая часть армии подлежит роспуску; сохраняются только несколько подразделений, которые размещаются в качестве гарнизонов по отдаленным городам. Кризис надвигался с неотвратимостью грозной бури. Тучи заволокли горизонт. Нет, не случайно такой смелый всегда Калверт не решился набрать в своей печатне трактат Уинстэнли о скандалах. Трактат этот вышел позже, в 1649 году, когда все устои монархии, а вместе с ней и пресвитерианской церкви рухнули.
СВЕТ СРЕДИ МРАКА
 ел проливной дождь, когда вечером 30 ноября на острове Уайт высадились значительные подразделения парламентских войск. Меся грязь башмаками, солдаты вслед за офицерами прошли от полосы прибоя к городу, к резиденции короля, окружили ее, расставили караулы у входов, на лестницах, у внутренних дверей. Немногословный серьезный офицер вошел в покои Карла и объявил, что ему приказано взять его величество под стражу.
Король пожал плечами. Несколько дней назад он отправил в Лондон ответ на предложения мира. Он был готов на время передать командование милицией в руки парламента и простить кое-кого из бунтовщиков. Но согласиться на замену высокой англиканской церкви пресвитерианством не мог. «Нет епископа, нет и короля», — гласила пословица; пойти на разрушение епископата значило поставить под угрозу само существование монархии. «Что выиграет человек, — написал он в парламент, — если он приобретет весь мир, но при этом потеряет душу?» Англиканскую церковь он вполне справедливо осознавал как душу монархии. И вот теперь он получил ответ.
На следующее утро, 1 декабря, короля без особых почестей вывезли из Ньюпорта, переправили через пролив и заключили в мрачном сыром замке Херст на южном побережье Англии. Многочисленная пышная свита рассеялась как дым: с ним оставили только двух камердинеров. Ни о каком побеге мечтать не приходилось: короля стерег полковник Ивер из кромвелевской гвардии, который позаботился о том, чтобы полностью отрезать Карла Стюарта от внешнего мира.
ел проливной дождь, когда вечером 30 ноября на острове Уайт высадились значительные подразделения парламентских войск. Меся грязь башмаками, солдаты вслед за офицерами прошли от полосы прибоя к городу, к резиденции короля, окружили ее, расставили караулы у входов, на лестницах, у внутренних дверей. Немногословный серьезный офицер вошел в покои Карла и объявил, что ему приказано взять его величество под стражу.
Король пожал плечами. Несколько дней назад он отправил в Лондон ответ на предложения мира. Он был готов на время передать командование милицией в руки парламента и простить кое-кого из бунтовщиков. Но согласиться на замену высокой англиканской церкви пресвитерианством не мог. «Нет епископа, нет и короля», — гласила пословица; пойти на разрушение епископата значило поставить под угрозу само существование монархии. «Что выиграет человек, — написал он в парламент, — если он приобретет весь мир, но при этом потеряет душу?» Англиканскую церковь он вполне справедливо осознавал как душу монархии. И вот теперь он получил ответ.
На следующее утро, 1 декабря, короля без особых почестей вывезли из Ньюпорта, переправили через пролив и заключили в мрачном сыром замке Херст на южном побережье Англии. Многочисленная пышная свита рассеялась как дым: с ним оставили только двух камердинеров. Ни о каком побеге мечтать не приходилось: короля стерег полковник Ивер из кромвелевской гвардии, который позаботился о том, чтобы полностью отрезать Карла Стюарта от внешнего мира.
В Лондоне и окрестностях росла тревога; странные, будоражащие слухи опережали друг друга. До Уинстэнли докатывались отголоски событий. В Виндзоре, в ставке армии, состоялась встреча между руководителями левеллерской партии и ведущими офицерами. Говорят, они долго спорили, прежде чем прийти к соглашению. Левеллеры обвиняли армию в стремлении захватить власть и установить диктатуру; они стояли за немедленное введение «Народного соглашения». Генералам же требовалось согласие сильной в народе партии на крутые меры, которые рвалась предпринять армия. Дело чуть было не дошло до разрыва: Лилберн пообещал поднять левеллеров против армии, если та решится узурпировать власть. Но положение спас левеллер Гаррисон, близкий к народным сектам. Он предложил создать согласительный комитет из представителей армии, левеллеров, даже пресвитериан, для доработки «Народного соглашения». Левеллеры утихли и обещали свою поддержку. Парламент отклонил армейскую «Ремонстрацию». Она казалась консервативным депутатам слишком смелой. Уильям Принн предложил объявить ее авторов мятежниками и удалить армию подальше от Лондона. В ответ на это военный совет, несмотря на возражения главнокомандующего, лорда Фэрфакса, 30 ноября выпустил декларацию, в которой говорилось, что большинство палаты состоит из изменников и продажных людей; в интересах народа парламент должен быть от них очищен. В отчаянии Фэрфакс послал гонца к Кромвелю в Понтефракт с приказом прибыть в Лондон «с наивозможной скоростью». В специальном письме лондонскому муниципальному совету он уведомил также, что армия намерена войти в столицу. И опять шел дождь, холодный и обильный, когда второго декабря войско, тускло блестя мокрыми шлемами и кирасами, входило в Лондон. Командование во главе с Фэрфаксом разместилось в Уайтхолле, солдаты разбили палатки в Гайд-парке. Ни приказ парламента немедленно остановить полки, ни обращение лондонского Сити не подействовали. Армия вышла из повиновения, и Фэрфакс не в силах был остановить ее железную поступь. Если уж «Ремонстрацию» приняли и вручили вопреки его воле, то дальнейшие запреты были бессмысленны. И лорд-генерал покорился.
А в парламенте бушевали пресвитериане. Узнав о переводе короля в замок-тюрьму Херст и о прекращении переговоров, они приняли резолюцию, где говорилось, что означенные действия совершены «без ведома и согласия парламента». И продолжали обсуждать условия договора с монархом. К утру 5 декабря, прозаседав всю ночь, постановили большинством голосов, что ответы Карла на предложенные условия удовлетворительны и являются достаточным основанием для заключения мира. В тот же день, 5 декабря, объединенный комитет ин-депендентских офицеров и левеллеров составил новый вариант «Народного соглашения». На совещании между парламентскими индепендентами и главарями армии было принято решение изгнать пресвитериан из парламента. На следующий день страна узнала о знаменитой «Прайдовой чистке». Армейские офицеры с утра заняли все подходы к парламенту и выставили караул у дверей палаты общин. Полковник Прайд со списком в руке встречал депутатов и разрешал войти вовнутрь только нндепендентам — сторонникам армии, сторонникам суда над королем. Пресвитерианам вход был закрыт. Несмотря на возмущение и шум, из палаты таким образом было исключено 143 человека. Протесты пострадавших, обращения их к Фэрфаксу и к совету армии не помогли: чистка была произведена без ведома лорда-генерала. В парламенте отныне остались только индепенденты. В эти дни вышел из печати памфлет, которого не могли не заметить ни противоборствующие члены парламента, ни левеллеры, ни сельские мыслители и мечтатели, подобные Джерарду Уинстэнли. Памфлет назывался «Свет, воссиявший в Бекингемшире, или Раскрытие главных основ и первоначальных причин всякого рабства в мире, но особенно в Англии, представленное в виде декларации многих благонамеренных жителей этой страны всем ее беднякам, угнетенным сельским жителям Англии, и также на рассмотрение армии под командованием лорда Фэрфакса». Бекингемшир… Графство, примыкающее к Лондону с северо-запада. Граничит с Оксфордширом, Беркширом, Серри… Чилтернские холмы, покрытые лесом и зелеными лугами. Старый земледельческий район, сердце Англии. Издавна крестьяне страдали здесь от произвола лордов и королей, от притеснений законников и духовенства. Здесь свирепствовали огораживания, лишая множество бедняков куска хлеба. И именно отсюда, с Чилтернских холмов, испокон века шли волны мятежей и народного протеста. Здесь проповедовал в XIV веке предтеча английской народной реформации Джон Уиклеф. Здесь собирались на тайные моления мятежные лолларды, бедные священники, выступавшие против гнета официальной церкви, лендлордов, королевских чиновников; двое из них, говорят, были живыми сожжены за свои убеждения. Здесь, в Чилтернах, пустила корни самая смелая, самая стойкая из народных сект — анабаптисты. Кто знает, может, правду говорили о них, что они имеют тайные связи с немцами и имя Томаса Мюнцера, вождя народа, у них в почете… А девять лет назад отсюда, с плодородных долин Эйлсбери, тысяча вооруженных йоменов провожала в парламент своего героя Джона Гемпдена, который в годы королевского произвольного правления бесстрашно выступил против «корабельных денег» — незаконного побора и поплатился за это тюрьмою. После же победы над королем в первой гражданской войне здесь очень сильны были позиции левеллеров. И вот теперь этот памфлет. Он, казалось, тоже вышел из-под пера левеллеров: фразеология его и аргументы, политическая и конституционная программа совпадали с тем, что требовали Лилберн и его единомышленники. Но присутствовало в нем и нечто такое, о чем левеллеры, даже самые смелые, и не помышляли. Автор памфлета писал, что творец создал человека господином над всею землей и над всеми живыми тварями, но не над себе подобными. Главный закон творения — закон равенства: все люди по рождению своему имеют равные права и привилегии и все могут наслаждаться плодами земными в одинаковой мере, так, чтобы владение одного не превышало владений другого. То, от чего левеллеры не раз уже настоятельно отрекались — требование уравнения состояний, — впервые прозвучало здесь в полный голос. «Все люди по дару божьему одинаково свободны, каждый человек в отдельности, это значит, что никто не может быть лордом и приказывать другим, ни огораживать сотворенное Богом для своего собственного пользования, что ведет к обнищанию ближнего его». И хотя дальше следовали ссылки на Библию, как и полагалось в то время, главное содержание памфлета составляли вполне реальные, мирские дела. Все другие публицисты революции считали необходимым подчеркивать естественное равенство политических прав и экономических возможностей для каждого отдельного человека; автор «Света, воссиявшего в Бекингемшире», на первое место ставил право всех людей на равную собственность. Владения и права лордов, писал он, произошли не сами собой; они — результат насильственного захвата, убийства, грабежа. Все творение — земля, деревья, животные, рыба, птица — попало в корыстные руки немногих, а остальные лишены этого и обращены в рабов, так что если они срубят дерево для того, чтобы растопить свой очаг, их казнят; если убьют птицу — их посадят в тюрьму. Беднякам нет возможности ни завести скот, ни построить дом, ибо вся земля огорожена лордами. Первоначальное равенство разрушено, на его место пришло общество владеющих собственностью и неимущих. То, что следовало за этим, со всей ясностью свидетельствовало об опасности подобных взглядов для государственных устоев. Вся тирания происходит от завоевания Англии нормандцами, писал анонимный автор. Вильгельм и его потомки роздали своим баронам наши земли. А чтобы охранить, и закрепить за собой награбленное, они ввели институт монархии; поставили над собой короля, хотя и из Писания, и па Разума явствует, что короли — не божье установление; они созданы язычниками, то есть теми, кто живет согласно своим животным вожделениям. Королевская власть — всегда тирания, ибо она узаконивает неравенство состояний путем сложной системы хартий, монополий, патентов, даров и огораживаний. Монархия — краеугольный камень в огромном здании тирании, «всякая тирания находит приют под королевскими крылами». Монархия создает продажное сословие юристов, которые усиливают угнетение, усложняя систему законодательства и повышая судебные издержки. Попы — еще одно ее порождение: они проповедуют народу покорность неправедным установлениям и за то имеют от короля поддержку, титулы, звания. Что же должны мы делать, друзья, спрашивалось в памфлете, с этим разрушительным господством темных сил? Не станем принимать печать зверя, будем сопротивляться его власти! Злобные хозяева мира сего стоят за короля; мы же, кому открылся свет истины, должны сопротивляться власти Велиала. Сказано у апостола: противьтесь дьяволу, и он побежит от вас. И мы испытали это на собственном опыте: когда мы смело сопротивлялись власти короля, он бежал с поля битвы. И потому уничтожение королевской власти должно быть главной задачей. А вместе с ней следует отвергнуть власть юристов, лордов, баронов, привилегированных корпораций, а также, если мы хотим, чтобы тирания пала, — власть землевладельцев, джентри, священников, неправых судов; надо уничтожить и церковную десятину. Чтобы установить на земле справедливое правление, надо дать каждому человеку на прожитье справедливую долю имущества, дабы не было ни у кого нужды просить милостыню или красть, но чтобы все жили в довольстве. Для всех следует установить единый закон, исходящий из правил Писания, и этот закон — «поступай с другим так, как он поступает с тобой», то есть око за око, зуб за зуб, рука за руку и так далее; а если кто украдет, пусть вернет в двойном размере. Правительство должно состоять из избранных народом старейшин, или судей — людей богобоязненных и ненавидящих жадность. Образец для такой республики дан в Писании: это древняя республика Израиля. Как там поступали с бедными? Существовал общественный фонд, из которого беднякам оказывалась помощь. Так и в Англии: епископские и коронные земли, которые теперь изменники в парламенте раздают друг другу, могут послужить таким фондом. И тогда с угнетением будет покончено; права народа более не станут попираться лордами и королем. Бедняки узрят свет истинного знания, постигнут простую истину: «Незаконно и не подобает, чтобы одни работали, а другие развлекались; ибо господь повелел, чтобы все работали; и пусть ест только тот, кто трудился наравне с другими; и разве не подобает всем есть наравне с другими и наравне наслаждаться всеми привилегиями и свободами?»
Некоторые думали потом, много времени спустя, что этот памфлет написал сам Уинстэнли. Он жил всего в нескольких милях от границы Бекингемшира и, возможно, имел там знакомых. И отдельные его мысли вполне совпадают с тем, что высказано в декабрьском памфлете. Божественный свет, писал его анонимный автор, «это тот чистый дух в человеке, который мы называем Разумом… От него исходит то золотое правило или закон, которое мы называем справедливостью; суть же ее, говорит Иисус, — поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой…» И еще — брошенная вскользь мысль, никак в памфлете не развитая: апостолы, как сказано в Деяниях, жили одной семьей и владели всеми вещами сообща, каждый трудился и ел свой хлеб. Но многое и различается. Уинстэнли во всех своих ранних сочинениях пытался вскрыть причины несправедливости мира сего, причины хаоса и насилий гражданской войны, угнетения и несчастий бедняков исходя из внутренней жизни человека, из борьбы духа и плоти, Христа и дьявола в его душе. «Свет, воссиявший в Бекингемшире» ставил вопрос на иную, более земную, более материалистическую основу. Несправедливость — результат грабежа и насилия. Конфликт разыгрывается не в душе человека, а в реальной общественной жизни. И потому сопротивляться ему надо делом, силой, ибо вера без дел мертва. Уинстэнли всегда ставил свое имя под тем, что написал; этот памфлет вышел анонимно. И еще важная деталь. Как правило, творения Уинстэнли публиковал Джайлс Калверт. «Свет» вышел из другой печатни. Но Уинстэнли, без сомнения, читал сочинение соседей — бекингемширских левеллеров. Они прямо называли себя левеллерами и заявляли, что их принципы освободят всех от рабства и послужат самой справедливой и честной основой достижения истинной свободы. Уинстэнли читал этот замечательный трактат, впервые за годы революции потребовавший кардинальных изменений в жизни общества: уравнения имуществ, уничтожения короля и лордов, отмены всякого угнетения человека человеком. И размышлял. Дать каждому поровну? Но один получит хороший надел, другой — скудный; один здоров и трудолюбив, другой ленив или болен. Бедняки все равно останутся. Иначе зачем фонд для бедных? Не есть ли земля общая сокровищница для всех, из которой надо черпать не поровну, а сообща?.. Иудейский закон гласил, что справедливость — в равном воздаянии за равный ущерб. Око — за око, зуб — за зуб, руку — за руку… Но разве не дан был человечеству пример отказа от всякой мести, пример любви и милосердия — даже к тем, кто мучит и ненавидит тебя?.. Из этого памфлета Уинстэнли мог почерпнуть и некоторые важные мысли. Например, что внутренняя борьба в человеке выражается во вполне реальных общественных законах и институтах и что их тоже надо изменить, коли желаешь изменить человека изнутри. «Свет, воссиявший в Бекингемшире» мог дать ему иное, более реалистическое понимание сути охватившего Англию кризиса, осознание жизненной важности общественной борьбы. Здесь было над чем подумать. И может быть, именно этот памфлет, вышедший в грозные, чреватые великой трагедией декабрьские дни 1648 года, дал Джерарду Уинстэнли тот необходимый толчок, тот импульс, который привел его к невиданной в истории программе справедливого общественного переустройства Англии?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ИСПЫТАНИЕ ДЕЛОМ
(1649–1650)

Ты нынче друг, назавтра стал врагом. Все клятвы рушатся, добро встречают злом. О, где же власть, что может мир спасти, Согреть сердца людей и правду принести?Уинстэпли
«НОВЫЙ ЗАКОН СПРАВЕДЛИВОСТИ»
 апыленный, усталый после долгой пятидневной дороги, Кромвель въехал в Лондон вечером 6 декабря 1648 года, когда Прайдова чистка в основном была уже закончена. Ему поспешили сообщить о происшедшем.
— Я ничего не знал об этом деле, — сказал он серьезно. — Но поскольку оно совершилось, я рад ему и постараюсь поддержать.
Знал ли лорд-генерал о действиях полковника Прайда или нет, но события с его возвращением стали развертываться еще стремительнее.
В парламенте теперь заседало не более пятидесяти человек; но они, в отличие от сотен пресвитериан, были решительны и активны. Они выразили благодарность Кромвелю; 13 декабря отменили решение о возобновлении переговоров с королем, а через несколько дней повторно издали билль «Никаких соглашений», вотированный год назад. Все пункты переговоров, принятые в Ньюпорте, были аннулированы; аресты пресвитериан, замешанных в приглашении шотландцев, получили законодательное подтверждение.
15 декабря короля было решено перевести в Виндзорский замок, поближе к Лондону. Он прибыл двадцать третьего, его поместили под двойной охраной. Стража несла службу днем и ночью, всякая связь с внешним миром была ему заказана.
Старшие офицеры днем заседали в палате, ночью — в военном совете, который переместился в королевский дворец Уайтхолл. Напрасно левеллеры пытались добиться от них уступок и нового обсуждения «Народного соглашения». В эти тревожные дни офицерам было не до споров о конституции. Они решали судьбу короля, левеллерский проект в который раз отложили.
Говорили, что Кромвель колеблется, тянет, не решается дать согласие на суд над Карлом. Но справедливости и возмездия требовали слишком многие: со всех концов страны шли петиции, неспокойные толпы собирались на улицах Лондона. Армейские офицеры, левеллеры, ветераны гражданских войн, парламентские республиканцы, подмастерья и лавочники — все требовали наказать виновников угнетения и кровопролития. И Кромвель сдался: с его молчаливого согласия 23 декабря палата общин постановила создать комитет для привлечения короля к судебной ответственности.
Первого января 1649 года палата общин сформулировала обвинение в адрес короля: «Карл Стюарт… задался целью полностью уничтожить древние и основные законы и права этой нации и ввести вместо них произвольное и тираническое правление, ради чего он развязал ужасную войну против парламента и народа, которая опустошила страну, истощила казну, приостановила полезные занятия и торговлю и стоила жизни многим тысячам людей… Посему король должен быть привлечен к ответу перед специальной судебной палатой, состоящей из 150 членов, назначенных настоящим парламентом, под председательством двух верховных судей».
Но лорды, о которых как-то забыли и которые едва ли и собирались на заседания после потрясений Прайдовой чистки, неожиданно выразили протест. Король — верховный суверен в стране, заявили они, он не может быть виновен в измене парламенту. Да и кто первый развязал войну? Не палата ли общин? Второго января палата лордов в составе всего двенадцати членов (остальные или давно перешли в роялистский стан, или разбежались) единогласно отвергла ордонанс о привлечении короля к суду и демонстративно отложила заседания на неделю.
Тогда палата общин объявила себя верховной властью в стране. Было постановлено, что источником всякой справедливой власти в Англии является не король, как думали много веков подряд, а «народ, находящийся под водительством божьим». И поскольку общины, собранные и парламенте, избраны народом и представляют его, — они, и никто другой, имеют высшую власть в государстве. То, что они объявят законом, должно иметь силу закона, хотя бы ни король, ни лорды не согласились на это.
Так Англия, по существу, была объявлена республикой — еще до процесса и казни…
Сам же процесс начался восьмого января. Верховный суд справедливости собрался в Расписной палате Вестминстера. Первоначально в списке судей значилось 150 человек. Но многие не пожелали или испугались участвовать в неслыханном деле: кто заболел, у кого нашлись дела в провинции… И правда, отваживались ли когда-нибудь подданные, да еще подданные низкого звания (в списке судей стояли имена бывшего возчика Прайда, бывших слуг Ивера и Хортона, бывшего клерка Гаррисона), всенародно судить своего суверена, божьего помазанника? Только Марию Стюарт, бабку нынешнего короля, судили и приговорили к смерти; но ее судил суд пэров во главе с самой королевой Елизаветой и судил за прелюбодеяние, мужеубийство и государственную измену. А ныне сами подданные в лице безродных судей собирались обвинить короля в развязывании войны, массовом кровопролитии, предательстве государственных интересов Англии. Неудивительно, что число судей вскоре было сокращено до 135, а на заседание в первый день явились всего 53 человека.
Были вызваны свидетели. О чем совещались судьи за закрытыми дверями палаты, можно только догадываться. Они составляли пункты обвинения, которые следовало сформулировать и обосновать самым тщательным образом.
19 января Карла Стюарта под усиленной стражей перевели в Лондон, в дом, непосредственно примыкавший к зданию Вестминстера.
А на следующий день широкие двери самого большого зала в стране — Вестминстер-холла — распахнулись перед лондонским людом, и народ хлынул туда, чтобы послушать беспрецедентный в истории процесс: члены палаты общин и армейские офицеры должны были открыто судить божьего помазанника, обманувшего доверие народа и поправшего законы королевской чести, установив в стране единоличную тиранию. Суд над королем Карлом I Стюартом начался.
апыленный, усталый после долгой пятидневной дороги, Кромвель въехал в Лондон вечером 6 декабря 1648 года, когда Прайдова чистка в основном была уже закончена. Ему поспешили сообщить о происшедшем.
— Я ничего не знал об этом деле, — сказал он серьезно. — Но поскольку оно совершилось, я рад ему и постараюсь поддержать.
Знал ли лорд-генерал о действиях полковника Прайда или нет, но события с его возвращением стали развертываться еще стремительнее.
В парламенте теперь заседало не более пятидесяти человек; но они, в отличие от сотен пресвитериан, были решительны и активны. Они выразили благодарность Кромвелю; 13 декабря отменили решение о возобновлении переговоров с королем, а через несколько дней повторно издали билль «Никаких соглашений», вотированный год назад. Все пункты переговоров, принятые в Ньюпорте, были аннулированы; аресты пресвитериан, замешанных в приглашении шотландцев, получили законодательное подтверждение.
15 декабря короля было решено перевести в Виндзорский замок, поближе к Лондону. Он прибыл двадцать третьего, его поместили под двойной охраной. Стража несла службу днем и ночью, всякая связь с внешним миром была ему заказана.
Старшие офицеры днем заседали в палате, ночью — в военном совете, который переместился в королевский дворец Уайтхолл. Напрасно левеллеры пытались добиться от них уступок и нового обсуждения «Народного соглашения». В эти тревожные дни офицерам было не до споров о конституции. Они решали судьбу короля, левеллерский проект в который раз отложили.
Говорили, что Кромвель колеблется, тянет, не решается дать согласие на суд над Карлом. Но справедливости и возмездия требовали слишком многие: со всех концов страны шли петиции, неспокойные толпы собирались на улицах Лондона. Армейские офицеры, левеллеры, ветераны гражданских войн, парламентские республиканцы, подмастерья и лавочники — все требовали наказать виновников угнетения и кровопролития. И Кромвель сдался: с его молчаливого согласия 23 декабря палата общин постановила создать комитет для привлечения короля к судебной ответственности.
Первого января 1649 года палата общин сформулировала обвинение в адрес короля: «Карл Стюарт… задался целью полностью уничтожить древние и основные законы и права этой нации и ввести вместо них произвольное и тираническое правление, ради чего он развязал ужасную войну против парламента и народа, которая опустошила страну, истощила казну, приостановила полезные занятия и торговлю и стоила жизни многим тысячам людей… Посему король должен быть привлечен к ответу перед специальной судебной палатой, состоящей из 150 членов, назначенных настоящим парламентом, под председательством двух верховных судей».
Но лорды, о которых как-то забыли и которые едва ли и собирались на заседания после потрясений Прайдовой чистки, неожиданно выразили протест. Король — верховный суверен в стране, заявили они, он не может быть виновен в измене парламенту. Да и кто первый развязал войну? Не палата ли общин? Второго января палата лордов в составе всего двенадцати членов (остальные или давно перешли в роялистский стан, или разбежались) единогласно отвергла ордонанс о привлечении короля к суду и демонстративно отложила заседания на неделю.
Тогда палата общин объявила себя верховной властью в стране. Было постановлено, что источником всякой справедливой власти в Англии является не король, как думали много веков подряд, а «народ, находящийся под водительством божьим». И поскольку общины, собранные и парламенте, избраны народом и представляют его, — они, и никто другой, имеют высшую власть в государстве. То, что они объявят законом, должно иметь силу закона, хотя бы ни король, ни лорды не согласились на это.
Так Англия, по существу, была объявлена республикой — еще до процесса и казни…
Сам же процесс начался восьмого января. Верховный суд справедливости собрался в Расписной палате Вестминстера. Первоначально в списке судей значилось 150 человек. Но многие не пожелали или испугались участвовать в неслыханном деле: кто заболел, у кого нашлись дела в провинции… И правда, отваживались ли когда-нибудь подданные, да еще подданные низкого звания (в списке судей стояли имена бывшего возчика Прайда, бывших слуг Ивера и Хортона, бывшего клерка Гаррисона), всенародно судить своего суверена, божьего помазанника? Только Марию Стюарт, бабку нынешнего короля, судили и приговорили к смерти; но ее судил суд пэров во главе с самой королевой Елизаветой и судил за прелюбодеяние, мужеубийство и государственную измену. А ныне сами подданные в лице безродных судей собирались обвинить короля в развязывании войны, массовом кровопролитии, предательстве государственных интересов Англии. Неудивительно, что число судей вскоре было сокращено до 135, а на заседание в первый день явились всего 53 человека.
Были вызваны свидетели. О чем совещались судьи за закрытыми дверями палаты, можно только догадываться. Они составляли пункты обвинения, которые следовало сформулировать и обосновать самым тщательным образом.
19 января Карла Стюарта под усиленной стражей перевели в Лондон, в дом, непосредственно примыкавший к зданию Вестминстера.
А на следующий день широкие двери самого большого зала в стране — Вестминстер-холла — распахнулись перед лондонским людом, и народ хлынул туда, чтобы послушать беспрецедентный в истории процесс: члены палаты общин и армейские офицеры должны были открыто судить божьего помазанника, обманувшего доверие народа и поправшего законы королевской чести, установив в стране единоличную тиранию. Суд над королем Карлом I Стюартом начался.
Чем живет в эти сокрушительные дни скромный пастух из Кобэма Джерард Уинстэнли? О, можно сказать с уверенностью: ни одно из великих дел, поражавших Англию, не проходит мимо его внимания. Кобэм так близко от Лондона — всего часа два езды на добром коне. Слухи о дивных событиях доходят в мгновение ока. Доставляются газеты, листки с новостями, будоражащие мысль памфлеты. Не тот ли небывалый, вселенский переворот, о котором мечтали вольнодумцы всех веков, надвигается сейчас на Англию? Не рушатся ли до основания опоры старого порядка? Не наступает ли новое царство — царство справедливости? Все признаки налицо: пала власть лордов, пошатнулась всесильная церковь, король предстает перед судом подданных, народ поднимает голову по всей стране — те самые угнетенные и бесправные бедняки, кого возлюбил господь от века… Что он, Джерард Уинстэнли, должен делать теперь? Каково его место, его роль в грядущем перевороте? Бекингемширские левеллеры призывают смести королевскую тиранию, уничтожить всякое угнетение и уравнять владения, чтобы каждый мог наравне с другими пользоваться своей долей земных благ… Они хотят установить древний библейский закон — око за око, зуб за зуб… Но разве не был дан человеку новый закон — истинный закон справедливости? Разве не жили апостолы сообща, как братья, ничего не деля, хотя бы и поровну, а пользуясь всем совместно? Мучительные раздумья, мучительные поиски. Мысль все об одном не дает покоя ни днем, ни ночью: как сделать жизнь всех людей счастливой и полной смысла, как помочь тому новому, что в муках рождается сейчас в Англии, пойти по правильному пути, как создать истинно справедливое общество? Джерард Уинстэнли уже не может думать ни о чем другом, и каждое новое событие, каждое новое известие о решении парламента или суда словно подкидывает охапку сухого хвороста в огонь его мысли. И однажды ночью, когда он лежит без сна в убогой своей каморке, огонь этот вспыхивает с невероятной силой. Он охватывает все его существо, великий свет освещает заветные уголки сознания, и Джерард слышит внутри себя неземной громовой голос: «РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ. ЕШЬТЕ ХЛЕБ ВМЕСТЕ. ВОЗВЕСТИ ЭТО ПОВСЮДУ». В волнении он приподымается, дыхание перехватывает: вот он, путь, путь для всех бедняков — вместе работать и вместе вкушать хлеб труда своего… Свет внутри его вспыхивает еще ярче, ощущение счастья и гармонии наполняет все существо, и тот же громовой неземной голос произносит еще: «КТО РАБОТАЕТ НА ЗЕМЛЕ ДЛЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ ВОЗВЫШАЮТ СЕБЯ КАК ЛОРДЫ И ПРАВИТЕЛИ НАД ДРУГИМИ, И КТО НЕ СМОТРИТ НА СЕБЯ КАК НА РАВНОГО ДРУГИМ ВО ТВОРЕНИИ, ДЕСНИЦА ГОСПОДНЯ ДА ПАДЕТ НА ТОГО РАБОТНИКА. Я, ГОСПОДЬ, ГОВОРЮ ЭТО, И Я СДЕЛАЮ ЭТО. ВОЗВЕСТИ ЭТО ПОВСЮДУ…» Вслед за тем наступает такая тишина, что голова кружится и легонько звенит в ушах… Он приходит в себя не сразу. А придя, понимает, что его посетило откровение. И пытается осознать смысл священных слов. Вместе работать. И самим есть плоды труда своего, а не отдавать их праздному лорду. Кто работает на господина — получит возмездие, сказал божественный голос. Никто не должен трудом своим поощрять чужую плоть, ленивую и корыстную. Каждый должен работать на общее благо, и все вместе в радости вкусят трудовой хлеб. Теперь он твердо знает, что делать ему, Джерарду Уинстэнли. «Возвести это повсюду», — сказал голос. Он откроет миру то, что засияло перед его взором в часы уединенных раздумий. Это будет новый большой трактат. Он так и назовет его — «Новый закон справедливости». И Уинстэнли в великом горении своем берется за перо. «Дорогие братья, — пишет он, — хотя вы и были прежде и остаетесь доныне презираемыми в мире сем, все же благословение Высшего (вашего царя справедливости) находится в вас и распространится от вас, дабы наполнить землю. Вы — то поле, в котором скрыто сокровище… И хотя мрачные тучи внутреннего порабощения и внешних гонений обволакивают вас, все же вы — та небесная твердь, где воскреснет Сын Справедливости, и через вас возвестит он себя всему творению…» Он пишет ночью и днем, забывая о сне и пище. Он знает: настало время, когда Сын человеческий возвращается на землю. Он вселяется в души бедняков и тружеников, чтобы встать у кормила правления и установить отныне единый для всех Закон справедливости. И благословение его наполнит землю. «Все части творения, где еще остается проклятие, будут потрясены до основания и устранены, и семя плоти не найдет мира нигде. Сын человеческий опрокинет горы плотских страстей и наполнит долины духа, сделает неровные дороги гладкими, кривые пути — прямыми. Он сделает землю плодородной, а ветры и погоду — добрыми для урожая; он повергнет все власти земные к вашим ногам, и сам станет вашим правителем и наставником, и жизнь ваша на земле будет проходить в мире, так что вы станете тем Градом божьим, Новым Иерусалимом, главою всей земли…» Он уверен, что царство справедливости должно наступить скоро, совсем скоро, и придет оно на землю, к живым людям, а не к мертвецам за гробом. «Я знаю, — повторяет он, — что слава господня будет увидена и познана на земле, в творении, и благословение распространится на все народы…»
А в Лондоне Верховный суд справедливости вершит свое дело. Шестьдесят семь судей сидят на помосте в старинном зале Вестминстер-холла, на обитых красным сукном скамьях. Председатель суда, Джон Брэдшоу, помещается в кресле темно-красного бархата. Перед ним покрытый ковром стол, на котором лежат знаки верховной власти — меч и скипетр. А против него, спиной к залу, где затаила дыхание публика всех возрастов и состояний, сидит тот, кто прежде принимал самые высшие почести, воздаваемые человеку на земле. — Карл Стюарт, король Англии! — произносит судья. — Общины, собранные в парламенте, в соответствии со своим долгом перед справедливостью, перед богом, нацией и перед самими собою, в соответствии с властью, которая им доверена народом, учредили эту высшую палату правосудия, перед которой вы предстали. Выслушайте предъявленное вам обвинение. Встает генеральный прокурор Джон Кук и читает обвинительный акт. Король, задавшись коварной целью присвоить тираническую власть, говорится в нем, попрал права и привилегии народа и злоумышленно развязал против него кровопролитную войну. Он поэтому объявляется ответственным «за все измены, убийства, насилия, пожары, грабежи, убытки… причиненные нации в указанных войнах» и «как тиран, изменник и убийца, открытый и беспощадный враг английской страны» призывается к ответу за свои злодеяния. И напрасно Карл пытается отвергнуть права и полномочия суда своих подданных, напрасно ссылается на божественный закон и свое наследственное право. Судьи не менее его убеждены в своей правоте. — Нас ведет воля бога и народа Англии, — отвечают они. 26 января, в тот самый день, когда Джерард Уинстэнли подписывает свое обращение к беднякам, Верховный суд справедливости признает Карла Стюарта «тираном, предателем и убийцей, открытым врагом английского государства». Его приговаривают к смерти «путем отсечения головы от тела». Но лишь 59 человек отваживаются поставить под приговором свои подписи. На следующий день приговор оглашают перед огромной, неестественно тихой толпой в Вестминстер-холле. Карл пытается протестовать — тщетно! Никто не верит больше его лживым обещаниям. «Справедливости! Справедливости! Казни!» — кричат солдаты. 30 января с утра площадь перед Банкетным залом Уайтхолла заполняется пародом. Несмотря на мороз, тысячи людей стекаются сюда со всего огромного города. На лодках, ломая прибрежный лед, переправляются из Саутворка. Верхом, в каретах, повозках, телегах едут из предместий, ближних и далеких. Прибывают из других графств. Неслыханное событие, которое должно произойти в этот день на площади с королем, монархом божьей милостью, помазанником, владыкой почти сверхъестественным, одно прикосновение которого, как известно, исцеляло золотуху и другие напасти, — привлекает несметные толпы. Прямо перед окнами второго этажа Банкетного зала за ночь сколочен деревянный помост, обтянутый черным сукном. Вокруг него дежурят отборные полки кромвелевских солдат. Около двух часов пополудни большое окно зала распахнулось, и из него на помост вышли офицеры. За ними — палач и его помощник в масках и с привязанными бородами. Через несколько мгновений показался король — невысокого роста, неестественно прямой, в черном одеянии. Рядом с ним — епископ. Быть может, и Джерард Уинстэнли, подобно тысячам соотечественников, стоял в этот час среди народа на площади, ожидая неминуемого и ужасного события. У него были в эти дни дела в Лондоне: следовало отдать в печатню Джайлса Калверта новый трактат — очень большое сочинение. II поторопить издателя — в такие дни медлить с предложением Нового закона справедливости не пристало. Если так, если он действительно стоял в этот час на площади, глотая морозный воздух и вместе со всем народом напряженно переживая происходящее, то он видел, как король оглянулся на епископа, вышел из полукруга и шагнул к плахе. Он сказал несколько слов палачу, указывая на странно короткий обрубок дерева, на который ему предстояло в последний раз преклонить голову. Затем подошел ближе к краю помоста и, заглядывая в заранее приготовленный листок бумаги, начал говорить. Мертвая тишина висела над многотысячной толпой. Но голос короля был слишком слаб, и его заикающуюся речь слышали хорошо только солдаты, окружавшие помост. Морозный ветер налетал порывами, и народу на площади доставались только обрывки фраз: — В моей смерти повинны те, кто встал между мной и парламентом… Грубая сила… В чем заключается свобода? Иметь правительство и законы, обеспечивающие личность и собственность… Смысл этих слов трудно было разобрать. Но стоило ли и раздумывать? Столько раз Карл отрекался от собственных слов, столько раз нарушал обещания, лгал, притворялся… Никто больше не верил ему. — Подданные и монарх… — долетало до притихших людей. — Пока вы не поймете разницу, у вас не будет свободы… Я умираю за свободу… Но что есть свобода? Для кого она? Кончив речь, Карл снял с себя драгоценности и передал епископу. Затем с его помощью снял камзол и убрал под шапочку свои длинные, развившиеся, с заметной сединой волосы. Шагнул к плахе, опустился на колени и после краткой молитвы подал знак палачу. Взмах топора — и голова упала, стукнув о доски помоста. Помощник палача подхватил ее и высоко поднял над толпой. — Вот голова изменника! — прокричал он. Странный, страдальческий стон пронесся над толпой. Будто весь старый привычный мир треснул и раскололся надвое, распался, перестал существовать. Толпу качнуло, кто-то бросился вперед — омочить платки в королевской крови. Кавалеристы в красных мундирах стали оттеснять народ от помоста.
Старый мир рухнул, и ничто от его обветшавших устоев не должно было сохраниться теперь в Англии. Предстояло начать совсем новую жизнь, невиданную прежде и счастливую. Так, по крайней мере, думали многие. Так думал и Джерард Уинстэнли. Свет, озаривший его в ночи, когда услышал он неземной голос, горел не угасая, программа построения нового мира обрела зримые формы и легла на бумагу в считанные дни. «Время настало», — повторял он снова и снова. Радуйтесь, ибо время настало, и младший, угнетенный брат, бедняк Иаков поднимется ныне и прославит себя. Древняя легенда о двух братьях-близнецах — кротком, мудром Иакове и алчном, грубом Исаве вставала в памяти. Более сильный Исав отнял у брата право первородства еще в утробе матери Ревекки. А когда братья выросли, Исав однажды, возвратясь голодный с охоты, продал Иакову свое право за чечевичную похлебку. Но суть не в этом, думал Уинстэнли. Иаков — духовный человек, который живет по закону добра и справедливости. А Исав — человек плоти, для него важнее всего чечевичная похлебка. Душа его корыстна и ограничена заботой о благах мира сего. В теперешней Англии Исавами стали лорды, королевские наместники и господа, все, кто силен и жесток. Они поработили меньшого брата, бедняка, и по пророчеству властвуют над ним. Но голова монарха, главного лорда в Англии, слетела; это порабощенный Иаков восстал от лица тех, кто попран и затоптан в грязь. Он прославит себя к посрамлению Исава. Он — то благословенное семя, что падет в землю и возвестит начало эры духа. «Трепещи, лорд Исав, — писал Уинстэнли, — ты, гордая и жадная плоть, осужден на смерть, приговор уже начали приводить в исполнение, ибо бедняк начинает получать благодать; ты будешь повержен, низложен, станешь слабеть все больше и больше, пока след от тебя не изгладится на этой земле». Фундамент духовной свободы заложен, время уже не служит тебе. Сын справедливости наследует ныне царство и будет править вовеки. И трижды лгут те, кто уверяет с церковных кафедр, что справедливость возможна только за гробом, где-то на небесах, за облаками. «О вы, питающиеся слухами проповедники, — взывает Уинстэнли, — не обманывайте больше народ, говоря, что слава эта не будет познана и увидена до тех пор, пока тело не рассыплется в прах. Говорю вам, эта великая тайна начала уже проявлять себя, и ее увидят материальные глаза плоти, и все пять чувств, которыми обладает человек, будут разделять эту славу». А носителями и исполнителями этого переворота станут бедняки, те, кто так долго страдал от нищеты и порабощения. Первым из великих мыслителей нового времени Уинстэнли увидел силу, способную построить справедливое общество на земле. Ни Томас Мор, ни Кампанелла, ни тем более Бэкон или Андреэ не доверяли «черни», «плебеям», «толпе» — тысячам тысяч тружеников, руками которых создавались все блага этого мира. Джерард Уинстэнли открыто заявил, что труженики эти, ныне поверженные и презираемые, одни смогут установить закон справедливости на земле. К их пробуждающемуся сознанию он и обращает самые пламенные свои слова. «Вы, прах земли, попираемый ногами, вы, бедные люди, сделавшие своим трудом ученых и богатых людей угнетателями, вспомните о своих правах, ибо Закон Справедливости уже провозглашен». Он обрушивается на неравенство — не только правовое, как делают это левеллеры, но главным образом имущественное, социальное. Многие думают, пишет он, что так называемые богатые, владеющие мирскими благами, независимо от того, по правде или по неправде добыты их имения, должны править бедняками, а бедняки обречены быть их слугами, вернее сказать — рабами. Но такое подчинение оскорбляет творца, ибо изначально все были созданы равными и имели равное право и долю в пользовании земными сокровищами. Здесь он согласен с левеллерами и с братьями из Бекингемшира: все равны перед богом, перед законом, друг перед другом, перед матерью-землей, которая их питает. «При начальном своем воплощении каждый человек имел равное право, данное ему Создателем, обрабатывать землю и иметь власть над зверем в поле, над птицей в небе и рыбой в морях. Впоследствии же это право было разрушенодотла властью алчности, и гордости, и себялюбия…» И сейчас следует восстановить это право. Время и в самом деле настало: раз уж короля всенародно осудили за тиранию, раз армия, из простых людей состоящая, победила королевские войска и встала у кормила правления, — дело должно быть доведено до конца, и власть богачей низвержена. Но казнить короля или перестать работать на праздных лордов еще не значит одолеть зло. Уинстэнли ищет и находит основу людских бедствий. Он будто знал ее и раньше, он подходил к этой мысли и в первых своих трактатах, когда размышлял о грехопадении как попытке завладеть благами мира. Но только теперь открывается ему со всей ясностью, что корень зла в существовании частной собственности. Земля была создана как общая сокровищница для пользования всех людей, повторяет он и подкрепляет эту мысль ссылками на соответствующие главы Писания. «Земля была создана не для немногих, но для всех, чтобы всем жилось хорошо от плодов ее; как единый дух справедливости является общим для всех, так и земля и ее блага должны быть общими… Все мужчины и женщины в Англии — все они дети этой земли, и земля принадлежит господу, а не частным лицам, которые претендуют на владение ею в ущерб другим…» Если кто говорит: «Это — мое, и то — мое же», он нарушает данный творцом Закон справедливости, закон Разума и порождает беды, угнетение, нищету, неправые законы. Ибо когда земля немногими жадными Исавами была захвачена в частное владение, остальной народ, лишенный средств к существованию, вынужден стал работать на захватчиков, чтобы прокормить себя. Так возникло порабощение бедняков. А лорды, дабы усилить власть над ними и утвердить свои привилегии, создали систему законов, правительств; установили церковь, послушную их воле, и подчинили жизнь людей от рождения до гроба власти корыстных, лживых священнослужителей. Как следствие частной собственности на землю возникла купля-продажа; она закабалила бедняков еще больше. Частное владение благами земными «сначала заставляет людей красть друг у друга. А потом создает законы, по которым того, кто крадет, вешают. Оно искушает людей на неправые действия, а потом убивает их за это». Богачи думают, что такое в порядке вещей — чтобы одни люди облекались всеми благами земными и становились владыками и правителями над бедняками, а бедные чтобы были слугами, вернее сказать — рабами богатых. С такой ясностью и прямотой никто до Уинстэнли не говорил о частной собственности. Для него она — причина всех бед и несчастий в мире, «проклятие и бремя, под которым стонет творение». И потому «не настанет всеобщая свобода до тех пор, пока не будет установлена общность для всех…» Чтобы закрепить победу над королем и лордами, чтобы построить в Англии, а затем и во всем мире действительно счастливую и разумную жизнь, следует отменить частную собственность на землю, уничтожить деление на «мое» и «твое», перестать работать на богачей, прекратить покупать и продавать, ибо торговля — не что иное, как орудие частной наживы. «Пока правителями являются те, кто называет землю своею, поддерживая эту частную собственность, «мое» и «твое», простой народ никогда не получит ни свободы, ни земли, не избавится от бед, угнетения и плача». Только в том случае, если земля станет общей сокровищницей для всех, справедливость будет восстановлена. Тогда только люди станут жить как братья и каждый будет поступать с другим так, как хотел бы, чтобы поступали с ним. В его воображении рисуется это скорое прекрасное будущее, предсказанное еще великими пророками древности. Никто не сможет тогда заявлять своих прав на землю или любую иную собственность; но каждый будет своими руками возделывать землю и выращивать скот. Никто не получит больше земли, чем сможет сам обработать, и другие станут работать рядом с ним в любви и единении. А если кому-либо понадобится зерно, или скот, или продукты, он возьмет это со складов. Люди будут жить, как апостолы в первые века христианства: «И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Тогда каждый будет иметь пишу, и питье, и одежду, ибо что еще нужно человеку на земле? Гордость и злоба отомрут; все человечество станет свободным, а с ним и земля освободится от терниев, сорняков и бесплодия; сам воздух станет чище; дикие бури и ветры улягутся; животные не будут больше ненавидеть и пожирать друг друга. Закон справедливости и любви восторжествует во всем творении. Так он писал, торопясь, переворачивая исписанные листы один за другим, соединяя пламенную веру прошлых лет с ясным пониманием законов мира сего, которое пришло к нему только недавно. Туманные библейские образы, пророчества, мистические откровения перемешивались с трезвым, удивительно глубоким для своего времени осознанием реального положения вещей. Не может быть справедливости и счастья на земле без равенства, без общего владения, без братской любви между людьми. Но как должен совершиться этот великий переворот? Уинстэнли уже тогда с поразительной для своего времени прозорливостью понимал, что переворот этот не должен быть делом рук небольшой кучки людей, «которые вырвут тираническую власть из рук одних и присвоют ее себе». Жадная и гордая плоть может убить тирана и захватить в свои руки его власть, тогда все останется по-старому: богатые будут угнетать бедных, а бедные страдать под игом порабощения. И Уинстэнли ищет — мучительно ищет истинного, единственно правильного пути и не замечает, что подчас противоречит сам себе, подчас впадает в крайности. То ему кажется, что надо ждать, чутко прислушиваясь в постоянной готовности, пока Христос сам не придет в души людские, не просветит их изнутри, не соединит их вместе, не поведет за собой. Но когда он думает о власти богатых и неправедных, угнетателей и паразитов на теле народном, гнев охватывает его и на память приходят зловещие ветхозаветные пророчества: «Плачьте и рыдайте, ибо золото и серебро ваше поест ржа, и не будет вам пощады…» Поистине, заверяет он, эти угрозы исполнятся буквально, и богачи лишатся всего, а их владения будут переданы народу. Но тут же, словно боясь причинить кому-то зло, оговаривается: «Я не хочу сказать, что какие-то отдельные люди отнимут принадлежащее их ближним добро путем насилия или грабежа, я это отвергаю…» Он хочет соединить нераздельно внутренний мир человека и внешнюю, общественную реальность. Когда души людей — всех людей озарятся внутренним светом, проникнутся пониманием и любовью друг к другу, — тогда и внешние действия их в этом мире станут разумными и справедливыми. «Эта всеобщая власть справедливого закона будет столь ясно написана в сердце каждого, что никто и не пожелает иметь больше, чем другие, или быть господином над другими, или требовать чего-либо себе лично». Тогда, может быть, богачи, проникнувшись духом справедливости, сами придут и отдадут свои сокровища добровольно в общую казну, не желая больше пользоваться ими в одиночку. Однако сомнения охватывают его с новой силой: он чувствует, что беды и потрясения еще впереди, что ветхий Адам будет жестоко биться за свое царство; тогда войны на земле умножатся, сын встанет на отца и брат на брата, а проповедники веры сделаются наизлейшими врагами Христу. И не все богачи принесут в дар народу свои владения; они будут стараться удержать их всеми силами. Но это им не удастся. Господь сам их покарает: все отнимется у них, и либо мор побьет их, либо, если жизнь будет им сохранена, они станут рабами до тех пор, пока дух Сына человеческого не поднимется в них и не сделает их свободными. Не пристало людям карать и убивать. Гражданские войны, мятежи в армии, восстания левеллеров, с жестокостью подавленные властями, достаточно ясно показали Уинстэнли, что земная кровопролитная борьба бесплодна. Работа по разрушению старого мира не будет совершаться «путем войн, указов или руками людей, ибо к этому я питаю отвращение, — признается он. — Господь один будет целителем, и восстановителем, и подателем Нового закона справедливости». Земля еще стонет под бременем греха и порчи, она не может очиститься руками самих людей, ибо все они подвержены проклятию. Только высшая, неземная власть сможет просветить сердца человеческие, очистить землю, и воздух, и все творение, снова и снова повторяет он, словно боясь еще доверить дело возрождения человека самому человеку. Но ростки новой, до удивления простой и реальной мысли все равно пробиваются, словно бы сами собой, там и сям, в разных местах трактата. Что делать им, беднякам, сейчас, пока господь не произвел еще великих глобальных перемен? Как выразить свою готовность идти за ним? Прежде всего — перестать работать на богатых, отвечает он. Недаром сказал божественный голос; проклят тот, кто трудится на праздного господина. Если бедняки, не отбирая у лорда ничего, просто откажутся обрабатывать его поля и предоставят ему добывать хлеб своими руками — это будет уже громадным шагом к установлению равенства и справедливости. Но как быть тогда беднякам? Ведь они кормились от тех грошей, которые получали за работу на полях лорда. Ответ давал «Свет, воссиявший в Бекингемшире», да и многие другие народные памфлеты: в Англии масса пустующих земель — общинных угодий, никем не обрабатываемых. Уинстэнли подхватывает эту мысль и призывает осваивать общинные владения. «Общинные земли и верески, — пишет он, — называются общенародными, и пусть мир увидит, кто обрабатывает землю по справедливости; кому господь дарует благодать, пусть те и будут людьми, наследующими землю». А если кто-нибудь скажет, что пустоши и верески бесплодны, на это можно ответить: пусть те, кто работает на них, делают свое дело; пророчества ныне исполняются, и бесплодная земля родит урожай. Это первые шаги. Но Уинстэнли отваживается предложить и более обширную, более смелую программу действий, рассчитанную на будущее. Во-первых, пусть каждый, пишет он, откажется следовать за чужими мыслями, чужим знанием и живет по собственному разумению. Это значит отвергнуть лживую ученость служителей церкви, их корыстные, обманные толкования, их буквалистские проповеди. Не слушайте их! Слушайте бога — разум внутри себя. Во-вторых, пусть каждый откроет свои закрома и амбары, чтобы все могли напитаться пищей земной, чтобы иго нищеты исчезло из мира. Откажитесь от купли и продажи земли и ее плодов. Пусть все будет общим, пусть все работают вместе и вместе едят хлеб. В-третьих, следует отказаться от всякого господства и власти одного человека над другим, ибо все человечество — единый живой организм. Надо уничтожить тюрьмы, прекратить бичевания и казни. И пусть тем, кто раньше, не имея ничего, был вынужден красть и грабить от нищеты своей, дадут землю, чтобы они работали па ней и наслаждались плодами своего труда. Тогда мир станет братством, истинным царством справедливости. Такова революционная программа построения нового мира, которую предложил Уинстэнли. Ее отличает предельная четкость мысли: ломка старом идеологии, в том числе и протестантской; ломка социально-экономического порядка — обобществление собственности и передача ее в руки трудящихся; разрушение старого государства — аппарата насилия. Эта программа явилась ему однажды из мистических порывов, откровений, цитат из Писания, размышлений, метаний, неустанных поисков. Она обрела ясные, реальные формы и, может быть, помимо сознания автора, конкретные материалистические черты: сначала нужно уничтожить корень всякого зла — частную собственность, и строить «царство справедливости» на основе общественной собственности на землю. Никто еще с такой смелостью не предлагал столь последовательную перестройку всей общественной жизни. В религиозных трактатах сорок восьмого года Уинстэнли выказал себя смелым и решительным противником старых церковных установлений, ограниченной пуританской догматики; он выступил как защитник бедняков и борец за их права. Но он не был еще в полной мере оригинален как мыслитель: подобные взгляды провозглашали многие его современники из крестьянско-плебейского лагеря. Теперь же, когда на первое место в его учении встает социальный и политический радикализм, требование республики и общности имуществ, он выступает как самостоятельный, далеко обогнавший свое время революционер в социальной теории, а вскоре — ив общественной практике. Но как осуществить его программу на деле? Как сейчас, завтра же, нет, сегодня начать великое строительство? Здесь Уинстэнли еще испытывает неуверенность. Он ищет, колеблется. Он выполнил приказ — возвестил миру о своем откровении, побудил его начать невиданную работу. Он готов действовать, но не знает, как. «Когда господь покажет мне место и способ, как нам, кто зовется простыми людьми, возделывать и обрабатывать общинные земли, я пойду дальше и покажу на деле, как есть свой хлеб, добытый в поте лица, не служа никому и никого не нанимая, видя в земле свободное всеобщее достояние, как мое, так и других…» Трактат «Новый закон справедливости» завершен. Он выходит в свет в дни окончания суда над королем. Новая власть принимает первые смелые декреты. 30 января, в день казни, палата общин объявляет государственным преступлением попытку провозгласить королем любого из потомков Карла Стюарта. 6 февраля отменяется за ненадобностью палата лордов. На следующий день, 7 февраля, провозглашается билль об упразднении королевской власти в Англии. «Опытом доказано, — заявляет палата общин, — что королевское звание в этой земле бесполезно, тягостно и опасно для свободы, безопасности и блага народного; поэтому отныне оно отменяется». Англия становится республикой. Последует ли она по путл, начертанному искателем правды из Уолтона, маленького городишки в графстве Серри?
ИСТИННЫЕ ЛЕВЕЛЛЕРЫ
 аворонки заливались в нежном весеннем небе. Перепархивали легкие бабочки. Оцепеневшие за зиму травы, что в обилии покрывали склоны холма Святого Георгия, раскрывались навстречу солнцу.
Погожим днем 1 апреля 1649 года, в воскресенье, пустынный прежде холм вдруг ожил: десятка полтора бедно одетых крестьян с заступами и мотыгами в руках вышли на гревшееся под солнцем плато и, благословясь, принялись за дело. Они начали вскапывать нетронутую, слежавшуюся песчаную землю. Один бережно пересыпал в лукошки семена — пастернак, бобы, морковь…
Все было необычно в этой работе. И то, что вышли они на холм Святого Георгия, который до этого не трогали ни плуг, ни мотыга. Массивным продолговатым горбом возвышался он над селениями Кобэм и Уолтон, достигая где двухсот, где четырехсот футов над уровнем моря. С двух сторон его подножие омывали мелкие речки Моль и Уэй; они бежали к северу, к Темзе. Почва на холме была бесплодна. Она поросла ежевикой, вереском, репьем; кое-где виднелись кусты шиповника, можжевельника, дрока, калины. В низинах росли деревья — сосны, дубы, буки. А на самой вершине тянулся длинный, поросший травой вал, белели развалины и остатки фортификационных сооружений. В незапамятные времена здесь стояли укрепленным лагерем легионеры Цезаря.
Никто никогда не возделывал эту скудную землю. Она была общинным владением и входила в маноры нескольких лордов из Кобэма и Уолтона. Та часть холма, на которой трудились сейчас бедняки, примыкала к римскому лагерю и принадлежала по древнему праву сэру Френсису Дрейку из Уолтона-на-Темзе, члену парламента, изгнанному во время Прайдовой чистки. На этой земле крестьяне издавна пасли коров, собирали хворост, ставили силки на тетеревов и куропаток, по временам подшибали лису или зайца. Но вскапывать, сеять — никогда.
И работать вышли они в воскресенье, день отдыха и молитв, когда добрым пуританам полагалось идти в храм, а потом читать дома Библию. Ни католическая, ни англиканская, ни пресвитерианская церковь под страхом наказания не позволяли работать в воскресенье. Даже готовить дома обед считалось грехом — пищу в этот день ели холодной. То, что бедняки с мотыгами и лопатами вышли у всех на виду работать в «день господень», было открытым вызовом старым порядкам.
И, может, не случайно произошло это в «день дураков» — первого апреля, в старинный средневековый праздник шутов и скоморохов, в праздник вольного смеха и недозволенной в другие дни потехи над власть имущими. Строгие пуританские обычаи отменили этот древний праздник, но память в сердцах не уничтожишь…
Они работали вместе. Не каждый на своем маленьком участке, как повелось веками, а вместе, на общей земле. Это было неслыханно. Не родня, не односельчане даже — из разных деревень собрались бедняки, чтобы делать общее дело. И действия их отнюдь не носили символического характера. Это было, если угодно, и политическим актом, заявкой самых убогих и обездоленных о своих правах, и началом строительства новой жизни — справедливого свободного общества, и насущным практическим делом: да, бедняки искали способа прокормить свои семьи в тяжелые годы бедствий.
Во главе копателей стояли два человека. Одним из них был Джерард Уинстэнли, которому совсем недавно открылся путь воплощения в жизнь той великой мечты, которая посетила его в начале 1649 года. «Вместе работайте и вместе вкушайте хлеб свой», — сказал ему явственный голос. Теперь Уинстэнли знал, как исполнить его веление, и вывел на пустошь вооруженных мотыгами бедняков. Вторым предводителем был Уильям Эверард — бывший солдат. Более шумный и говорливый, он на многих производил впечатление главаря колонии. Быть может, он и хотел им быть.
Такое событие не могло остаться незамеченным. Более того — не осужденным теми, кто привык жить по раз навсегда заведенному порядку. И хотя бедняки никому не угрожали, ничего не разрушали, не посягали ни на чьи права, на них смотрели с подозрением.
Плотные, неподвижные, благополучные хозяева подходили к краю взрыхленной земли, останавливались, смотрели. Дивное это дело — работать неизвестно на кого и за что, бесплатно, всем вместе на земле, никогда из ведавшей плуга… На лицах читалось недоверие.
Когда с копателями кто-нибудь заговаривал, они отвечали вежливо, дружелюбно. И приглашали всех прийти и присоединиться к их работе. Они даже разослали приглашения в окрестные села, обещая равный свободный труд, братство и обеспечение всем необходимым для жизни.
Крепкие хозяева качали головами и отходили, недобро хмурясь и перебрасываясь тихими фразами. И однажды утром бедные доверчивые копатели почувствовали на себе всю силу их неодобрения. Ничего не подозревавшие бедняки мирно обрабатывали посевы, когда большая толпа, не меньше ста человек, напала на них с кольями и дубинками. Хижину, построенную на пустоши, подожгли, палатки разрушили, повозки разбили в щепы. Несколько человек, в том числе Уинстэнли и Эверард, были схвачены; их потащили в Уолтон, избили и заперли в церкви. Судья из Кингстона, не видя состава преступления в действиях копателей, приказал выпустить их на волю.
Но слухи о злонамеренном сборище продолжали будоражить округу. Само имя, данное ему врагами, — «диггеры», что значит «копатели», зловеще отдавало бунтом. В самом начале века, в 1607 году, так называли многочисленных повстанцев, поднявшихся в центральной Англии на борьбу против огораживаний. «Они рубили и уничтожали изгороди, — писал хронист, — зарывали канавы и делали открытыми все огороженные общинные земли…» Когда против восставших двинулись войска, диггеры бесстрашно сопротивлялись. Но камни и лопаты — плохое оружие против мушкетов и сабель. Восстание было подавлено, главари повешены.
И вот теперь лорды и фригольдеры нарочно раздували опасность. Вскоре в Лондон, в Государственный совет, пришел донос.
«В прошлое воскресенье некто Эверард, ранее служивший в армии, но теперь уволенный, который именует себя пророком, некто Стюэр и Колтон, и еще двое — все они жители Кобэма, пришли на холм Святого Георгия, что в Серри, и начали вспахивать ту сторону холма, которая примыкает к огороженному лагерю; они засеяли ее пастернаком, морковью и бобами. В понедельник они снова пришли туда, уже в большем числе, а на следующий день, во вторник, подожгли вереск, не менее сорока руд[3], что является большим ущербом для города. В пятницу их стало 20–30 человек, и они копали весь день. Они намерены иметь в работе два или три плуга, но не запаслись поначалу семенами, что сделали в субботу в Кингстоне. Они приглашают всех прийти и помочь им и обещают за это еду, питье и одежду…»
Донос есть донос. Автору было важно обратить внимание Государственного совета на опасность затеянного копателями предприятия — с тем, чтобы он принял соответствующие санкции. Поэтому дальше шли следующие строки, способные вызвать сомнения у непредубежденного читателя:
«…Они угрожают разрушить и сровнять с землей все ограды и намереваются вскоре все засадить. Они заявляют, что в течение десяти дней их станет четыре или пять тысяч, и грозятся соседям, что заставят всех их выйти на холмы и работать, и предупреждают, чтобы они не подпускали свой скот близко к их плантации, иначе они оторвут ему ноги. Есть опасение, что они что-то замышляют».
Доносительное письмо это не было анонимным, под ним стояла подпись: Генри Сандерс. И дата: 16 апреля 1649 года.
Кто был этот Генри Сандерс? Сын, брат, племянник лорда? Зажиточный фригольдер из близлежащей деревни, опасающийся за свое добро и благополучие? Мелкий чиновник? Это осталось неизвестным.
Зато совершенно ясно, что донос произвел сильное впечатление в Государственном совете. В тот же самый день, 16 апреля, с поистине военной оперативностью он был направлен лорду-генералу Фэрфаксу, главнокомандующему вооруженными силами Английской республики. В сопроводительном письме значилось:
«Милорд, вложенное сюда сообщение известит вас о реляции, полученной Советом, где говорится о распущенном и буйном сборище людей, появившемся неподалеку от Отланда, в месте, называемом холмом Святого Георгия. И хотя предлог, который они выставляют для своего пребывания там, может показаться смехотворным, все же эта толпа народа способна положить начало гораздо более значительным и опасным событиям, ведущим к нарушению мира и спокойствия в республике. Мы поэтому рекомендуем вашему превосходительству позаботиться о том, чтобы послать в Кобэм, Серри и округу отряд кавалерии с приказом разогнать этих людей и пресечь подобные сборища в будущем, с тем чтобы злонамеренные и враждебные силы не могли под видом этой смехотворной толпы причинить нам еще больший вред».
Ниже — внушительно и торжественно — стояло:
«Подписано от имени и по приказанию Государственного совета, назначенного властью Парламента, Джоном Брэдшоу, президентом.
Дерби хаус, 16 апреля 1649 года».
аворонки заливались в нежном весеннем небе. Перепархивали легкие бабочки. Оцепеневшие за зиму травы, что в обилии покрывали склоны холма Святого Георгия, раскрывались навстречу солнцу.
Погожим днем 1 апреля 1649 года, в воскресенье, пустынный прежде холм вдруг ожил: десятка полтора бедно одетых крестьян с заступами и мотыгами в руках вышли на гревшееся под солнцем плато и, благословясь, принялись за дело. Они начали вскапывать нетронутую, слежавшуюся песчаную землю. Один бережно пересыпал в лукошки семена — пастернак, бобы, морковь…
Все было необычно в этой работе. И то, что вышли они на холм Святого Георгия, который до этого не трогали ни плуг, ни мотыга. Массивным продолговатым горбом возвышался он над селениями Кобэм и Уолтон, достигая где двухсот, где четырехсот футов над уровнем моря. С двух сторон его подножие омывали мелкие речки Моль и Уэй; они бежали к северу, к Темзе. Почва на холме была бесплодна. Она поросла ежевикой, вереском, репьем; кое-где виднелись кусты шиповника, можжевельника, дрока, калины. В низинах росли деревья — сосны, дубы, буки. А на самой вершине тянулся длинный, поросший травой вал, белели развалины и остатки фортификационных сооружений. В незапамятные времена здесь стояли укрепленным лагерем легионеры Цезаря.
Никто никогда не возделывал эту скудную землю. Она была общинным владением и входила в маноры нескольких лордов из Кобэма и Уолтона. Та часть холма, на которой трудились сейчас бедняки, примыкала к римскому лагерю и принадлежала по древнему праву сэру Френсису Дрейку из Уолтона-на-Темзе, члену парламента, изгнанному во время Прайдовой чистки. На этой земле крестьяне издавна пасли коров, собирали хворост, ставили силки на тетеревов и куропаток, по временам подшибали лису или зайца. Но вскапывать, сеять — никогда.
И работать вышли они в воскресенье, день отдыха и молитв, когда добрым пуританам полагалось идти в храм, а потом читать дома Библию. Ни католическая, ни англиканская, ни пресвитерианская церковь под страхом наказания не позволяли работать в воскресенье. Даже готовить дома обед считалось грехом — пищу в этот день ели холодной. То, что бедняки с мотыгами и лопатами вышли у всех на виду работать в «день господень», было открытым вызовом старым порядкам.
И, может, не случайно произошло это в «день дураков» — первого апреля, в старинный средневековый праздник шутов и скоморохов, в праздник вольного смеха и недозволенной в другие дни потехи над власть имущими. Строгие пуританские обычаи отменили этот древний праздник, но память в сердцах не уничтожишь…
Они работали вместе. Не каждый на своем маленьком участке, как повелось веками, а вместе, на общей земле. Это было неслыханно. Не родня, не односельчане даже — из разных деревень собрались бедняки, чтобы делать общее дело. И действия их отнюдь не носили символического характера. Это было, если угодно, и политическим актом, заявкой самых убогих и обездоленных о своих правах, и началом строительства новой жизни — справедливого свободного общества, и насущным практическим делом: да, бедняки искали способа прокормить свои семьи в тяжелые годы бедствий.
Во главе копателей стояли два человека. Одним из них был Джерард Уинстэнли, которому совсем недавно открылся путь воплощения в жизнь той великой мечты, которая посетила его в начале 1649 года. «Вместе работайте и вместе вкушайте хлеб свой», — сказал ему явственный голос. Теперь Уинстэнли знал, как исполнить его веление, и вывел на пустошь вооруженных мотыгами бедняков. Вторым предводителем был Уильям Эверард — бывший солдат. Более шумный и говорливый, он на многих производил впечатление главаря колонии. Быть может, он и хотел им быть.
Такое событие не могло остаться незамеченным. Более того — не осужденным теми, кто привык жить по раз навсегда заведенному порядку. И хотя бедняки никому не угрожали, ничего не разрушали, не посягали ни на чьи права, на них смотрели с подозрением.
Плотные, неподвижные, благополучные хозяева подходили к краю взрыхленной земли, останавливались, смотрели. Дивное это дело — работать неизвестно на кого и за что, бесплатно, всем вместе на земле, никогда из ведавшей плуга… На лицах читалось недоверие.
Когда с копателями кто-нибудь заговаривал, они отвечали вежливо, дружелюбно. И приглашали всех прийти и присоединиться к их работе. Они даже разослали приглашения в окрестные села, обещая равный свободный труд, братство и обеспечение всем необходимым для жизни.
Крепкие хозяева качали головами и отходили, недобро хмурясь и перебрасываясь тихими фразами. И однажды утром бедные доверчивые копатели почувствовали на себе всю силу их неодобрения. Ничего не подозревавшие бедняки мирно обрабатывали посевы, когда большая толпа, не меньше ста человек, напала на них с кольями и дубинками. Хижину, построенную на пустоши, подожгли, палатки разрушили, повозки разбили в щепы. Несколько человек, в том числе Уинстэнли и Эверард, были схвачены; их потащили в Уолтон, избили и заперли в церкви. Судья из Кингстона, не видя состава преступления в действиях копателей, приказал выпустить их на волю.
Но слухи о злонамеренном сборище продолжали будоражить округу. Само имя, данное ему врагами, — «диггеры», что значит «копатели», зловеще отдавало бунтом. В самом начале века, в 1607 году, так называли многочисленных повстанцев, поднявшихся в центральной Англии на борьбу против огораживаний. «Они рубили и уничтожали изгороди, — писал хронист, — зарывали канавы и делали открытыми все огороженные общинные земли…» Когда против восставших двинулись войска, диггеры бесстрашно сопротивлялись. Но камни и лопаты — плохое оружие против мушкетов и сабель. Восстание было подавлено, главари повешены.
И вот теперь лорды и фригольдеры нарочно раздували опасность. Вскоре в Лондон, в Государственный совет, пришел донос.
«В прошлое воскресенье некто Эверард, ранее служивший в армии, но теперь уволенный, который именует себя пророком, некто Стюэр и Колтон, и еще двое — все они жители Кобэма, пришли на холм Святого Георгия, что в Серри, и начали вспахивать ту сторону холма, которая примыкает к огороженному лагерю; они засеяли ее пастернаком, морковью и бобами. В понедельник они снова пришли туда, уже в большем числе, а на следующий день, во вторник, подожгли вереск, не менее сорока руд[3], что является большим ущербом для города. В пятницу их стало 20–30 человек, и они копали весь день. Они намерены иметь в работе два или три плуга, но не запаслись поначалу семенами, что сделали в субботу в Кингстоне. Они приглашают всех прийти и помочь им и обещают за это еду, питье и одежду…»
Донос есть донос. Автору было важно обратить внимание Государственного совета на опасность затеянного копателями предприятия — с тем, чтобы он принял соответствующие санкции. Поэтому дальше шли следующие строки, способные вызвать сомнения у непредубежденного читателя:
«…Они угрожают разрушить и сровнять с землей все ограды и намереваются вскоре все засадить. Они заявляют, что в течение десяти дней их станет четыре или пять тысяч, и грозятся соседям, что заставят всех их выйти на холмы и работать, и предупреждают, чтобы они не подпускали свой скот близко к их плантации, иначе они оторвут ему ноги. Есть опасение, что они что-то замышляют».
Доносительное письмо это не было анонимным, под ним стояла подпись: Генри Сандерс. И дата: 16 апреля 1649 года.
Кто был этот Генри Сандерс? Сын, брат, племянник лорда? Зажиточный фригольдер из близлежащей деревни, опасающийся за свое добро и благополучие? Мелкий чиновник? Это осталось неизвестным.
Зато совершенно ясно, что донос произвел сильное впечатление в Государственном совете. В тот же самый день, 16 апреля, с поистине военной оперативностью он был направлен лорду-генералу Фэрфаксу, главнокомандующему вооруженными силами Английской республики. В сопроводительном письме значилось:
«Милорд, вложенное сюда сообщение известит вас о реляции, полученной Советом, где говорится о распущенном и буйном сборище людей, появившемся неподалеку от Отланда, в месте, называемом холмом Святого Георгия. И хотя предлог, который они выставляют для своего пребывания там, может показаться смехотворным, все же эта толпа народа способна положить начало гораздо более значительным и опасным событиям, ведущим к нарушению мира и спокойствия в республике. Мы поэтому рекомендуем вашему превосходительству позаботиться о том, чтобы послать в Кобэм, Серри и округу отряд кавалерии с приказом разогнать этих людей и пресечь подобные сборища в будущем, с тем чтобы злонамеренные и враждебные силы не могли под видом этой смехотворной толпы причинить нам еще больший вред».
Ниже — внушительно и торжественно — стояло:
«Подписано от имени и по приказанию Государственного совета, назначенного властью Парламента, Джоном Брэдшоу, президентом.
Дерби хаус, 16 апреля 1649 года».
Оперативность досточтимого Брэдшоу нуждается в некоторых пояснениях. Первые месяцы существования Английской республики были неспокойны. Сразу же после создания Государственного совета — верховной исполнительной власти, подчиненной палате общин, члены его — генералы, юристы, судьи, парламентарии — столкнулись с огромными трудностями. Страна голодала. Три года подряд поля не приносили урожая; цены на хлеб небывало подскочили. Хозяйство было разорено войной. Налоги росли, церковная десятина продолжала взиматься, разоряя мелких крестьян и ремесленников. Дорожали соль, свечи, уголь. Тысячи нищих бродили по дорогам, выпрашивая работы и хлеба. Современник записывал: «Сообщают из Ланкашира о большом недостатке хлеба, вследствие чего многие семейства умерли от голода… Сообщают из Ньюкасла о том, что в Камберленде и Уэстморленде многие умирают на больших дорогах вследствие недостатка хлеба;…некоторые покидают жилища и уходят с женами и детьми в другие местности, чтобы получить помощь, но нигде не могут ее получить…» В парламент поступают петиции. Бедняки жалуются на голод, недостаток топлива, рост цен, низкую плату за труд, солдатские постои. «О, члены парламента и солдаты! — взывают они. — Нужда не признает законов… Матери скорее уничтожат вас, чем дадут погибнуть плоду их чрева, а голоду нипочем сабли и пушки… Прислушайтесь у наших дверей, как наши дети кричат: «Хлеба, хлеба!..» Мы вопием к вам: сжальтесь над порабощенным и угнетенным народом!» А роялисты продолжали свои интриги. Они собирали силы на севере, на западе Англии и в Ирландии. Они выпрашивали подачки у государей Европы, которые выразили Английской республике протест в связи с казнью законного монарха и порвали с ней дипломатические отношения. В Шотландии принц Уэльский был провозглашен королем Карлом II; в Англии неприступной твердыней держался еще роялистский Понтефракт. Анонимный памфлет «Царственный лик» красочно изображал высокие достоинства казненного и его мученическую кончину. В Ирландии граф Ормонд заключил союз с местными католиками и готовил войска для высадки в Англии. Сюда же прибыл принц Руперт с остатком флота и должен был явиться новый король Карл II. Лондонское Сити хранило непроницаемую холодность и отказывало парламенту в займах. Зато левеллеры бунтовали почти открыто. Они объявили республику военной диктатурой, не менее тираничной, чем королевский режим. Монархия, писали они спустя несколько недель после ее падения, «потеряла свое имя, но не свою природу; форму, но не власть»; члены парламента «сделали себя столь же абсолютными правителями, как и король…» Левеллеры снова будоражили солдат, призывали их к избранию агитаторов и организации Всеармейского совета. И хотя Государственный совет постарался пресечь эту мятежную деятельность, запретив солдатские митинги и постановив, что все петиции от рядовых должны вручаться через офицеров, антиправительственные памфлеты продолжали выходить из печати. «Раньше нами управляли король, лорды и общины, — писали с горечью левеллеры, — а теперь — генерал, военный совет и палата общин; мы спрашиваем, в чем разница?.. Старый король и старые лорды смещены, и новый король и новые лорды объединены теперь в одной палате. Мы находимся под более абсолютной и более деспотической властью, чем раньше». Джон Лилберн в феврале и марте выпускает памфлет в двух частях: «Раскрытие новых цепей Англии». Он обвиняет офицеров и членов Государственного совета в том, что они присвоили себе всю полноту власти, обманули народ, низвели его до ничтожества. Он требует распустить ныне существующий урезанный парламент и избрать новый, более полный и представительный, как предлагала левеллерская конституция «Народное соглашение». Он разъясняет народу: «Вы ждете облегчения и свободы от тех, кто угнетает вас, ибо кто ваши угнетатели, как не знать и джентри, и кто угнетен, как не йомен, арендатор, ремесленник и рабочий? Теперь подумайте: не избрали ли вы поработителей в качестве своих избавителей?» В некоторых левеллерских памфлетах содержался прямой призыв к восстанию. За это Лилберн, Овертон, Уолвин и Принс были арестованы и брошены в Тауэр. Но агитация против республиканских властей не прекратилась. Под петицией в защиту арестованных, поданной в парламент 2 апреля, стояло 80 000 подписей. А вскоре появился новый уравнительский памфлет: «Еще о свете, воссиявшем в Бекингемшире». В нем повторялись принципы, изложенные анонимным автором еще в декабре: свобода слова, равенство в правах и привилегиях, отмена монополий и патентов, выборные гласные суды, прекращение огораживаний, запрещение купли-продажи земли. Всякое угнетение, власть лордов, институт монархии, присвоение чужой собственности объявлялись незаконными. И с полной убежденностью подчеркивалось: «Никто не должен есть хлеб, не заработанный собственным трудом… Ибо кто не работает, не имеет права и есть». Продолжались волнения в армии. В феврале и марте, когда Государственный совет начал готовить экспедицию в Ирландию, в полках произошли волнения. В апреле открытый мятеж вспыхнул в полку Уолли. Солдаты изгнали офицеров, захватили полковые знамена, потребовали выплаты жалованья и проведения государственных реформ. Лишь ценою больших усилий Кромвелю и Фэрфаксу удалось их утихомирить. Зачинщиков схватили и предали казни самого молодого, самого любимого в армии — Роберта Локиера. На похороны казненного собрались недовольные со всего Лондона и из округи; их было так много, недовольных, что похороны больше походили на демонстрацию: тысячи людей шли по улицам за гробом, и еще тысячи ждали их на кладбище. Похороны эти стали сигналом к новым выступлениям. Вот почему известие о «мятежном сборище», которое появилось совсем недалеко от Лондона, в графстве Серри, на холме Святого Георгия, столь взволновало Государственный совет. Добавим к этому, что сам председатель совета, Джон Брэдшоу, подписавший письмо к Фэрфаксу с требованием немедленных санкций, владел кое-какими землями в Серри; к общегосударственному интересу, таким образом, прибавлялся личный.
Капитан Глэдмен, посланный Фэрфаксом для рассмотрения дела на месте, во главе отряда солдат прибыл в Серри и расположился в Кингстоне, административном центре округа. Он расспросил офицеров местного гарнизона о мятежниках, собравшихся на холме. И выяснил, что эти мирные бедняки вооружены лишь мотыгами и лопатами; что их собирается зараз не более двух десятков человек; что они взрыхляют бесплодную землю и сеют там бобы и морковь. На холм он послал четырех своих солдат посмышленее во главе с капралом — разведать обстановку. Те вернулись, ухмыляясь. Возле римского лагеря дул ветер, в небе заливались жаворонки. Полтора десятка бедно одетых людей ковырялись в земле. Когда солдаты подошли к ним, они почтительно их приветствовали и вежливо ответили на все вопросы. Даже самый придирчивый человек не мог бы усмотреть здесь мятежа или злоумышления. Двое из них, видимо, главари, обещали назавтра сами явиться в Лондон и объяснить свои цели главнокомандующему. 19 апреля Глэдмен писал из Кингстона: «Его превосходительству лорду-генералу Фэрфаксу. Сэр, согласно вашему приказанию я подошел к холму Святого Георгия и послал вперед четырех человек собрать для меня сведения; они пошли и встретили мистера Уинстэнли и мистера Эверарда (которые являются их главарями, склонившими этих людей к действию). И когда я расспросил их, а также тех офицеров, которые стоят в Кингстоне, я увидел, что нет никакой нужды идти дальше. Я не слыхал, чтобы там с самого начала было больше двадцати человек; мр. Уинстэнли и мр. Эверард оба обещали быть назавтра у вас; я полагаю, вы будете рады от них отделаться, особенно от Эверарда, который, по-моему, просто сумасшедший…» Капитан Глэдмен был умным офицером. Он хорошо понимал тайную враждебность своего командира к заправилам Государственного совета. Он чувствовал, что Фэрфакс недоволен возложенной на него миссией карателя. Поэтому, заканчивая донесение, он не без тайного злорадства приписал: «Право же, дело это не стоит того, чтобы о нем писать, ни даже упоминать. Меня удивляет, как это Государственный совет позволяет вводить себя в заблуждение подобными сообщениями…» На следующий день перед Фэрфаксом в Уайтхолле предстали два человека. Один в крестьянской одежде, другой в потрепанном армейском мундире. Грубые башмаки у обоих стоптаны. Это были Уинстэнли и Эверард, выполнившие свое обещание. Они стояли перед столом главнокомандующего в старых черных шляпах с обвисшими полями и круглыми тульями. — Шляпы снимите! — приказал стоявший в дверях ординарец. Но вошедшие не двинулись. Генерал переводил внимательные глаза то на одного, то на другого. Лицо того, что был в крестьянской одежде, казалось приятным и смышленым. — Почему вы не снимаете передо мной шляпы? — спросил генерал. — Потому что вы наш брат по творению, — просто ответил человек в крестьянском платье. Генерал на секунду смешался. В самом деле, и пресвитерианская вера, к которой он принадлежал, в теории признавала братство всех людей перед лицом бога. Но то — в теории. В реальном же мире между ним и этими безвестными бедняками лежала пропасть. — А как же вы понимаете то место в Писании, — саркастически спросил он, — где сказано: «Воздавайте почести тому, кому полагаются почести»? — Да будут запечатаны уста тех, кто нанесет нам такое оскорбление! — вдруг вскричал второй, в солдатском мундире. — Все созданы равными на земле, никто не должен принимать почести от собратьев! Это бог мира сего, который есть гордыня и алчность, породил презрение к меньшим братьям!.. Фэрфакс посуровел. — Назовите себя, — сказал он сухо. — Кто вы, откуда и каковы ваши цели. — Я Уильям Эверард. А это, — он показал на молчавшего человека в крестьянской одежде, — это Джерард Уинстэнли, из Уигана. Мы хотим вам сказать, что все свободы и права английского народа были отняты Вильгельмом Завоевателем, и с тех пор народ божий живет под властью тирании и угнетения. Но теперь настает время освобождения, бог избавит свой народ от рабства и вернет ему свободу пользования благами земли… Остановить такой поток красноречия было нелегко. Фэрфакс и не пытался: он слушал. А Эверард горячился все больше. — Мне было видение, — говорил он, — и оно побудило меня поднять народ и начать вскапывать и засевать землю, чтобы питаться плодами трудов своих. На вопрос о цели их действий Эверард ответил, что они пытаются возвратить мир к его первоначальному райскому состоянию. И поскольку бог обещал сделать бесплодные земли плодоносными, диггеры и выполняют его план, возделывают скудные земли в братской общности, чтобы распределить плоды своего труда среди бедных и нуждающихся, чтобы напитать голодных и одеть нагих. — Но земля, которую вы вскапываете, принадлежит лорду, — возразил генерал. — Вы нарушаете его наследственное право. — Нет! Ничьих прав мы не нарушаем, — последовал ответ. — Мы пашем на пустующей, нетронутой земле, мы не сносим оград и ничего ни у кого не отнимаем. А скоро к нам придут тысячи людей, богачи и лорды сами отдадут нам все свои богатства и будут работать в нашей общине наравне со всеми. — А что вы дадите им за работу? — Все, кто придет к нам и будет работать, получат еду, питье и одежду. Это все, что необходимо человеку для жизни. А что до денег — их не нужно! Как и лишнего платья, украшений, предметов суеты… Даже без домов можно обойтись — ведь праотцы наши жили в палатках. И в оружии нет нужды: мы не будем защищаться, но подчинимся властям, пока не произойдет великий переворот, которого мы ожидаем совсем скоро…
Так диггеры впервые заявили о себе миру. Хранитель Большой государственной печати республики Уайтлок, который слышал беседу с ними, записал в этот день в дневнике: «Я изобразил это здесь так подробно для того, чтобы мы могли лучше понимать и избегать этих неосновательных утверждений…» Но мало было заявить о себе главнокомандующему армией. Великое начало требовало самой полной гласности. И через неделю из печати выходит манифест «Знамя, поднятое истинными левеллерами, или Состояние общности, открытое и явленное сынам человеческим Уильямом Эверардом, Джоном Полмером, Джоном Саутом, Джоном Колтоном, Уильямом Тейлором, Кристофером Клиффордом, Джоном Баркером, Джерардом Уинстэнли, Ричардом Гудгрумом, Томасом Старром, Уильямом Хогриллом, Робертом Сойером, Томасом Идером, Генри Бикерстаффом, Джоном Тейлором и другими, начавшими возделывать и засевать пустующую землю на холме Святого Георгия, в приходе Уолтон, в графстве Серри». Они называли себя «истинными левеллерами». Они не хотели признавать кличку «диггеры», данную им врагами, потому что не хотели ничего разрушать и ни с кем воевать. Но и имя «левеллеры» не могли принять без оговорок: сторонники Лилберна и Овертона выступали только за уравнение в правах. А Уинстэнли — за полное имущественное, социальное и правовое равенство. Уже с самого начала левеллерские вожди, как и сами диггеры, осознали эту разницу. В «Манифесте», выпущенном пз Тауэра 14 апреля, Лилберн, Уолвин, Принс и Овертон постарались с возможно большей ясностью отмежеваться от тех, кто требовал подлинного равенства. «Наши враги, — писали они, — с великой страстностью распространяют о нас все, что только может нас дискредитировать в глазах других… Распускают самые невероятные слухи, что будто мы хотим уравнять состояния всех людей, что мы не хотим иметь никаких сословий и званий между людьми, что мы будто не признаем никакого правления, а стремимся лишь ко всеобщей анархии…» Левеллерские вожди решительно протестовали против подобных обвинений и тем самым расписывались в своей «неистинности». «Мы объявляем, — настаивали они, — что у нас никогда не было в мыслях уравнять состояния людей, и наивысшим нашим стремлением является такое положение республики, когда каждый с наивозможной обеспеченностью пользуется своей собственностью… А различия по рангу и достоинству мы потому считаем нужными, что они возбуждают добродетель, а также необходимы для поддержания властей и правительства… Они сохраняют должное уважение и покорность в народе…» Нет, эти левеллеры, добиваясь лишь политических реформ, шли по ложному пути. Они не затрагивали самой сути: собственнического эгоизма, своекорыстия, стремления к наживе. Бедняки-диггеры, вышедшие па холм Святого Георгия для мирного труда в общности и братстве, хорошо это понимали. «Бог мира сего, — писал Джон Тейлор, автор предисловия к «Манифесту», — есть гордыня и алчность, корни всякого зла, от которых проистекает все зло, свершающееся под солнцем, — коварство, тирания и любоначалие, презрение к своим собратьям, убийство и уничтожение тех, кто не хочет либо не может подчиняться их тирании и поддерживать их господскую власть, гордыню и алчность». Диггеры сознавали, что в глазах мудрости мира сего их действия смешны и нелепы: вскапывание заведомо бесплодной земли, убогие жилища и скудное питание вызовут насмешки и поругание со стороны плотских людей. Они были готовы к сопротивлению, насилиям и глумлению власть имущих. Но они считали, долгом объявить о своей великой работе людям и призвать их: делайте, что можете, и даже если вы потерпите поначалу неудачу, не отчаивайтесь: ваш труд даст плоды, и земля расцветет под вашими руками. Уинстэнли написал основную часть диггерского манифеста — «Декларацию властям Англии и всем властям в мире». Мысли, высказанные в «Новом законе справедливости» и еще раньше, в первых его трактатах, обрели здесь чеканную точность и законченность. «В начале времен великий творец Разум создал землю, чтобы она была общей сокровищницей и хранила зверей, птиц, рыб и человека, господина, предназначенного править этими созданиями; но ни слова не было сказано вначале, что одна ветвь человеческого рода должна править другою». Однако плоть людская пожелала наслаждаться внешним миром более, чем духом разума и справедливости, и человек впал в умственную слепоту и слабость сердца. Себялюбие и алчность побудили одного человека наставлять других и управлять ими, «и тем самым дух был убит, и человек был ввергнут в рабство и стал большим рабом себе подобных, чем полевые звери были рабами ему». Открытая, свободная земля покрылась изгородями; ее разъединили на огороженные участки, которые должны были служить своекорыстию богачей и правителей. Она покупается и продается и находится в руках немногих. А простой люд, младший и кроткий брат Иаков, лишен права пользования ею. Итак, нынешний порядок вещей — результат несправедливости, обмана и грубого насилия. «Если вы присмотритесь к тому, что творится по всей земле, вы увидите, что лендлорды, наставники и правители являются угнетателями, убийцами и грабителями». От насилия происходит и худшее из зол политических: монархический строй, попрание божественного закона равенства меж всеми людьми. «Правители, цари и судьи постоянно заправляли тем океаном, из которого изливались на землю тяготы, гнет и нищета». Последней победой, которую одержал враг, было завоевание Англии Вильгельмом Нормандским; это завоевание поставило над народом королей, лордов, судей, трибуналы, бейлифов и озлобленных насильников фригольдеров. Однако великая работа по восстановлению справедливости, по возвращению земли всем ее жителям уже началась. Исполнители ее — бедные простые люди, «от которых должно произойти благословение, распространяющее освобождение на все народы». Они подняли головы, бедняки, они восстали против короля и лордов, они помогли установить в стране новую власть, которая обещала им сбросить иго угнетения. И что же? Новая власть оказалась столь же лживой и угнетательской, как и прежняя. В критике установившегося после казни короля строя Уинстэнли и его товарищи шли вместе с левеллерами. С гневом, не уступающим гневу Лилберна, автор «Знамени, поднятого истинными левеллерами» обрушивается на установленные буржуазной республикой порядки. «О ты, власть Англии, хотя ты и обещала сделать ее народ свободным, но ты так распорядилась делом по своей себялюбивой природе, что ввергла нас еще в худшее рабство, и гнет тяготеет над нами еще тяжелее». Ты обещала нам истинную реформацию в религии, но как только кто-нибудь начинает жить в соответствии с духом реформации, его бросают в тюрьму, притесняют чиновники и судьи. Ты издала указы об отмене прерогатив и угнетения — но это только на словах; на деле же повсюду правит власть деспотизма и привилегий. Ты обещала сделать страну свободной. Однако и по сей день бедняки угнетены судами, описями, сессиями, мировыми судьями и секретарями; под их давлением они растрачивают тот хлеб, который мог бы спасти их от голода. «И все это за то, что они хотят сохранить всеобщую вольность и свободу, которая является не только нашим прирожденным правом, но которую вы обещали нам восстановить, освободив от прежних угнетающих властей, и они теперь уже устранены; ту свободу, что мы купили нашими деньгами, уплаченными налогами, постоями и пролитой нами кровью». Трезво, с беспощадной ясностью Уинстэнли анализирует избирательную систему буржуазной республики. Когда надо избрать доверенное лицо или государственного чиновника, пишет он, избирателями являются фригольдеры, то есть зажиточные крестьяне, и лендлорды. А кто должен быть избран? Конечно, какой-нибудь очень богатый человек, из потомков нормандских завоевателей. А для какой цели они избираются таким образом? Чтобы еще сильнее укрепить свою власть над порабощенной Англией «и снова придавить ее в то время, как она собирается с духом, чтобы добиваться свободы». Уинстэнли вспоминает свое откровение. Он ужерассказал о нем в «Новом законе справедливости». И здесь, в манифесте, снова толкует священные слова. «Кто обрабатывает землю для одного лица или для многих, поднявшихся править над другими и не смотрящих на себя как на равных другим в творении, — рука господня да падет на того работника». Ибо наемный труд, труд за плату — не божеское установление. Поэтому он объявляет беднякам, что они не смеют работать за плату на лендлордов или власть имущих, ибо в противном случае сами своим трудом создают тиранов и тиранию. Отказываясь же от наемной работы, бедняки низвергнут угнетателей. Этого принципа политические левеллеры никогда не выдвигали. Призывая трудящихся сбросить иго эксплуатации и превратить землю в общую сокровищницу, Уинстэнли решительно расходится с ними. Идя намного дальше Лилберна в критике общественных порядков, Уинстэнли бичует власть денег. «Разве я не вижу, — пишет он уже от первого своего лица, забывая, что манифест подписан многими, — что каждый проповедует ради денег, советует за деньги и за деньги сражается, чтобы поддерживать личные интересы. Земля стала смрадной от лицемерия, алчности, зависти, глупого невежества и высокомерия». Гнев его обрушивается на огораживания, притеснения чиновников, лицемерие властей, но пуще всего — на власть лендлордов, присвоивших себе землю и тем самым удерживающих народ в рабстве. Пока мы признаем землю предметом особых интересов лордов, а не общей собственностью всех людей, повторяет он, — мы заслуживаем проклятья и держим творение в рабстве, в страшной нужде и нищенстве. «А вы, Адамы земли, у вас есть богатая одежда и сытое брюхо, почести и достаток, и вы плюете на это. Но знай, жестокосердый фараон, что день суда уже настал и скоро дело дойдет и до тебя». Борьба началась, и повернуть ее вспять уже невозможно. Мы, бедняки, заверяет Уинстэнли, охотно отдадим свою кровь и жизнь для того, чтобы снять проклятие с творения. Но силу оружия он решительно отрицает, и здесь проходит вторая существенная линия размежевания между ним и политическими левеллерами. Уинстэнли убежден, что насилие порождает только насилие, кровопролитие — новое кровопролитие, и потому призывает к мирным способам борьбы. Противление диггеров несправедливости и угнетению — это общая обработка земли, «согласно справедливости, чтобы есть наш хлеб в поте лица, не платя наемной платы и не получая ее, но работая совместно, питаясь совместно, как один человек». Таким и только таким образом они достигнут счастья на земле, счастья, которое дают мир и свобода. Они уже вкусили его, выйдя работать на холм Святого Георгия. «В сердцах наших, — писал он, — царит мир и спокойная радость от нашего труда, они наполнены сладостным чувством удовлетворения, хотя пищей нам служат похлебка из кореньев и хлеб». Ближайшая цель диггеров — объявить всему миру о своем начинании, чтобы любой желающий мог присоединиться к ним; они намерены вскопать холм Святого Георгия и пустоши, прилегающие к нему, посеять хлеб и питаться совместно трудами своих рук. Они намерены добиваться того, чтобы «угнетенные были освобождены, двери тюрем открыты и сердца народа успокоены общим согласием превратить землю в общую сокровищницу». Им могут возразить, что пустошь на холме Святого Георгия бесплодна. Но может быть, именно на нее и пал выбор Творца для того, чтобы труд бедняков прославил его и сделал бесплодные земли плодоносными. «И но только эта общинная земля илп пустошь будет взята и обработана народом, но все общинные земли и пустоши в Англии и во всем мире будут взяты по справедливости людьми, не имеющими собственности». Они не были безответственными мечтателями-прожектерами, нет. Они сели и подсчитали, сколько средств потребует предпринимаемая ими работа и что она принесет. Чтобы собрать требуемую поначалу сумму для обзаведения хозяйством, покупки семян и инвентаря, они решили отдать все, что имеет каждый, в общую казну. Но чтобы никто не подумал, что они замышляют злокозненные мятежи против власти, Уинстэнли от имени диггеров заключал: «Здесь нет никаких намерений вызвать шум и столкновение, а только желание вырастить хлеб для пропитания в поте лица, работая совместно в справедливости и мирно питаясь благословением земли». В конце стояли подписи тех людей, что были перечислены в названии. Первым значилось имя Уильяма Эверарда; Джерард Уинстэнли подписался восьмым.
Так писали о себе диггеры, стараясь ясно изложить миру свои принципы, свое понимание жизни, свои цели. Они хотели, чтобы их действия поняли правильно. Но могли ли понять их те, кто смысл существования видел в наживе, в обмане и ограблении бессловесной массы народа? Начало движения диггеров не прошло незамеченным. Уже в апреле большинство газет отметили факт обработки общинной земли на холме Святого Георгия. Но что за известия они содержали! «Верный и беспристрастный разведчик» писал: «Объявились люди, которые начали вскапывать холм Святого Георгия в Серри. Они заявляют, что ожидают возвращения земли к ее первоначальному состоянию; сами себя они считают призванными начать эту великую работу, которая распространится скоро по всему миру (один из них, набрав большой мешок колючек и терниев, забросал ими кафедру проповедника в Уолтонской церкви, чтобы остановить проповедь)… Они хотят заставить всех поверить в их сны, видения, странные голоса, которые они якобы слышали… Они уверяют, что не будут сражаться, зная, что им в этом случае не поздоровится». «Прагматический Меркурий» изощрялся в остроумии. Эверард и тридцать его учеников, сообщал он, «собираются превратить Кэтландский парк в пустыню и проповедовать свободу угнетенным оленям; они начали выращивать в своей колонии растения для отшельников — пастернак, бобы и другую подобную исправительную пищу, но тем не менее намереваются в своем рвении умножиться и возрасти… Они нахальны в своем безумии и угрожают скоту своих соседей, они собираются распахать и вырвать с корнем такой оплот тиранической прерогативы, как парковая ограда». В издевательском тоне газетных сообщений проглядывал страх. Имущие видели в мирных действиях диггеров прямую угрозу своему благополучию. Тот же «Разведчик» добавляет в конце сообщения недвусмысленную угрозу: «Во что выльется это фанатическое возмущение, трудно предсказать, ибо Магомет имел столь же малое и ничтожное начало, а семя его проклятого учения много столетий спустя охватило полмира…» Республиканские листки утверждали, что диггеров подстрекают роялисты, дабы увеличить смуты в республике. Копателей отождествляли с левеллерами. Роялисты же, надеявшиеся на поддержку левеллеров против Кромвеля, старательно разъединяли сторонников Лилберна и диггеров: роялистов пугало намерение последних обобществить собственность. И не только пронырливые газетчики, конечно, видели прямую и далеко идущую угрозу в мирных, созидательных действиях диггеров. Соседи, благополучные жители окрестных деревень, богатые фригольдеры и владельцы лавочек, мастерских, пивоварен тоже боялись. В намерении жить сообща, делить труд и пищу по закону справедливости они чуяли опасность для своих земель и кошельков, для тех незыблемых устоев, по которым они и предки их жили испокон века. И 26 апреля, в день выхода манифеста «Знамя, поднятое истинными левеллерами», многие газеты республики сообщили: «Новая плантация на холме Святого Георгия совершенно стерта с лица земли, и новое их строительство полностью разрушено; местные жители округи выгнали их вон». В тоне сообщений звучало скрытое ликование.
БУНТ И ВОЗМЕЗДИЕ
 ервое мая — старинный английский праздник. В прежние времена по деревням в этот день бродили ряженые. На лужайках вокруг перевитых лентами высоких тонких деревьев — «майских шестов» — плясали под звуки свирелей и волынок добрый разбойник Робин Гуд и его бравые лучники в зеленых камзолах. По улицам гнали тяжелый кожаный мяч. Из сельских красавиц выбирали королеву мая и торжественно увенчивали ее венком из цветов и зеленых листьев.
Строгие пуританские обычаи запретили весенние пляски и хороводы: иные заботы, иные события беспокоили охваченную революцией страну. Первого мая 1649 года заключенные в Тауэр левеллеры выпустили новый вариант «Народного соглашения». Они требовали ежегодного демократически избираемого парламента, свободы личности, свободы торговли. При этом они еще раз подчеркивали, что будущий парламент не должен «уравнивать состояния, разрушать собственность или устанавливать общность имуществ».
И в этот же день в армии снова, как два года назад, начинают выбирать агитаторов для защиты прав освобожденного от королевской тирании народа. Полки Скрупа и Айртона, отправленные в Ирландию по решению Государственного совета, первого мая вдруг остановились на полдороге, в Солсбери, и потребовали выплаты задолженностей по жалованью, созыва совета агитаторов и введения новой конституции. К ним присоединилась инфантерия генерала Скиппона, расквартированная в Бристоле. В Оксфорде взбунтовался полк Рейнольдса; кавалеристы Мартена и несколько сотен лондонских горожан присоединились к ним в Бэнбери; командиром восставших стал Уильям Томпсон, друг Джона Лилберна.
Томпсон был горяч, самоуверен, невероятно смел в бою, всегда готов к драке и к отпору. Храбрость его рождала легенды, солдаты им восхищались. Он не раз обвинялся в подстрекательствах к мятежу и заключался под стражу, его даже приговорили к смерти. Но он избегнул ее, дважды бежав из тюрьмы. Сейчас он находился вне закона и скрывался в лесах с отрядом недовольных, подобно Робин Гуду. Как только левеллерский мятеж начал назревать, Томпсон возглавил его, выступив во. главе отряда солдат и офицеров в Эссексе.
Кромвель и Фэрфакс вышли на подавление бунта. Четырехтысячная армия — два кавалерийских полка и три пехотных — быстрым маршем двинулась к Оксфорду, чтобы помешать мятежникам, шедшим из Солсбери к северу, соединиться с отрядом Томпсона. Ночью 14 мая в местечке Бэрфорд, к северо-западу от Оксфорда, левеллерские полки, расположившиеся на отдых, были настигнуты «железнобокими» врасплох. В жестокой битве повстанцы были смяты, раздавлены, рассеяны. Четыреста человек захвачены в плен.
Томпсон же повел свой отряд на Норгемптон, захватил его, овладел тюрьмой, акцизной палатой, гарнизонным снаряжением и пушками. Но сил у него было слишком мало, чтобы удержать добытое, и он, бросив половину трофеев, а деньги раскидав в толпу на улицах, отошел к Уэллингборо.
Там их настиг карательный полк, и после краткой жестокой схватки повстанцы были наголову разбиты. Томпсон погиб, геройски сражаясь один с целым взводом; он продолжал стрелять, лежа в кустах, уже получив смертельную рану. Его солдаты или погибли, или попали в плен.
В эти же дни Государственный совет выпустил акт, согласно которому любое заявление, будто нынешнее правительство «является тираническим, узурпаторским или незаконным, или будто общины, собранные в парламенте, не являются верховной властью страны, равно как и любая попытка поднять мятеж или заговор против настоящего правительства или для замены или изменения последнего, а также любая попытка подстрекать к мятежу в армии будет рассматриваться отныне как государственная измена». С движением политических левеллеров было покопчено.
ервое мая — старинный английский праздник. В прежние времена по деревням в этот день бродили ряженые. На лужайках вокруг перевитых лентами высоких тонких деревьев — «майских шестов» — плясали под звуки свирелей и волынок добрый разбойник Робин Гуд и его бравые лучники в зеленых камзолах. По улицам гнали тяжелый кожаный мяч. Из сельских красавиц выбирали королеву мая и торжественно увенчивали ее венком из цветов и зеленых листьев.
Строгие пуританские обычаи запретили весенние пляски и хороводы: иные заботы, иные события беспокоили охваченную революцией страну. Первого мая 1649 года заключенные в Тауэр левеллеры выпустили новый вариант «Народного соглашения». Они требовали ежегодного демократически избираемого парламента, свободы личности, свободы торговли. При этом они еще раз подчеркивали, что будущий парламент не должен «уравнивать состояния, разрушать собственность или устанавливать общность имуществ».
И в этот же день в армии снова, как два года назад, начинают выбирать агитаторов для защиты прав освобожденного от королевской тирании народа. Полки Скрупа и Айртона, отправленные в Ирландию по решению Государственного совета, первого мая вдруг остановились на полдороге, в Солсбери, и потребовали выплаты задолженностей по жалованью, созыва совета агитаторов и введения новой конституции. К ним присоединилась инфантерия генерала Скиппона, расквартированная в Бристоле. В Оксфорде взбунтовался полк Рейнольдса; кавалеристы Мартена и несколько сотен лондонских горожан присоединились к ним в Бэнбери; командиром восставших стал Уильям Томпсон, друг Джона Лилберна.
Томпсон был горяч, самоуверен, невероятно смел в бою, всегда готов к драке и к отпору. Храбрость его рождала легенды, солдаты им восхищались. Он не раз обвинялся в подстрекательствах к мятежу и заключался под стражу, его даже приговорили к смерти. Но он избегнул ее, дважды бежав из тюрьмы. Сейчас он находился вне закона и скрывался в лесах с отрядом недовольных, подобно Робин Гуду. Как только левеллерский мятеж начал назревать, Томпсон возглавил его, выступив во. главе отряда солдат и офицеров в Эссексе.
Кромвель и Фэрфакс вышли на подавление бунта. Четырехтысячная армия — два кавалерийских полка и три пехотных — быстрым маршем двинулась к Оксфорду, чтобы помешать мятежникам, шедшим из Солсбери к северу, соединиться с отрядом Томпсона. Ночью 14 мая в местечке Бэрфорд, к северо-западу от Оксфорда, левеллерские полки, расположившиеся на отдых, были настигнуты «железнобокими» врасплох. В жестокой битве повстанцы были смяты, раздавлены, рассеяны. Четыреста человек захвачены в плен.
Томпсон же повел свой отряд на Норгемптон, захватил его, овладел тюрьмой, акцизной палатой, гарнизонным снаряжением и пушками. Но сил у него было слишком мало, чтобы удержать добытое, и он, бросив половину трофеев, а деньги раскидав в толпу на улицах, отошел к Уэллингборо.
Там их настиг карательный полк, и после краткой жестокой схватки повстанцы были наголову разбиты. Томпсон погиб, геройски сражаясь один с целым взводом; он продолжал стрелять, лежа в кустах, уже получив смертельную рану. Его солдаты или погибли, или попали в плен.
В эти же дни Государственный совет выпустил акт, согласно которому любое заявление, будто нынешнее правительство «является тираническим, узурпаторским или незаконным, или будто общины, собранные в парламенте, не являются верховной властью страны, равно как и любая попытка поднять мятеж или заговор против настоящего правительства или для замены или изменения последнего, а также любая попытка подстрекать к мятежу в армии будет рассматриваться отныне как государственная измена». С движением политических левеллеров было покопчено.
Но те, кто назвал себя «истинными левеллерами», и не думали складывать свое мирное оружие. Через несколько дней после апрельского разгрома диггеры во главе с Уинстэнли возобновили работу на холме Святого Георгия. Терпеливые крестьянские руки убрали обломки, сколотили новые повозки, выправили орудия. Спустя некоторое время на срубах хижин, уцелевших от погрома, поднялись вверх стропила. Землю взрыхлили снова, засеяли, полили. Один Уильям Эверард покинул колонию. Вначале он считал себя ее вождем. Он громко и бойко отвечал на вопросы Фэрфакса, любил ораторствовать и перед диггерами. Пылкий, импульсивный, фанатичный, он больше обращал на себя внимание, чем скромный Уинстэнли. Кое-кто считал его помешанным, заблудшим. То ли жестокий разгром колонии оттолкнул его, то ли он не мог согласиться в чем-то с Уинстэнли, — во всяком случае, в мае он уже не числится среди ее членов. Рассказывали, что он, покинув диггеров в конце апреля, присоединился к мятежным левеллерским полкам, позднее разбитым при Бэрфорде. Может быть, он в отличие от Уинстэнли считал, что с неправдой и злом надо сражаться земным, убивающим и режущим плоть оружием? Как бы то ни было, мы более не встретим Эверарда среди диггеров. Уинстэнли теперь один остался главой и идейным вдохновителем движения. Разрыв с Эверардом, конечно, явился для него тяжелым ударом. Его смущало и то, что на призыв диггеров не откликнулось столь много желающих, как он ожидал. Но зато как порадовался он вышедшей 10 мая декларации своих старых знакомцев, бекингемширских левеллеров! Они, как и вожди их партии, обрушивались на тираническую власть буржуазной республики: на монополии, привилегии власть имущих, на тяготы акцизов, пошлин, десятин, на угнетение чиновников и юристов. Но в отличие от остальных соратников по партии они заявляли: «Мы будем помогать и поддерживать бедняков в возвращении им всех их прав, задолженностей и т. п., которые принадлежат им и отняты у них тиранами. И помогать им возделывать, вскапывать и т. п. означенные общинные земли и валить леса, растущие на них, чтобы помочь им прокормиться. Все благонамеренные люди, которые божьим путем объединятся в общности, подобно тем, о ком говорится в Деяниях, гл. 2, и пожелают возделывать, вскапывать и засевать пустующие общинные земли, не будут потревожены или тронуты никем из нас, но скорее ободрены в этом». Колония мало-помалу возрождалась. Вот уже круглые листочки бобов зазеленели на поле; показались первые всходы ячменя. Отстроились несколько хижин. Некоторые бедняки, вконец изнуренные непосильной кабалой у лорда, бросили старые жилища и перебрались с семьями сюда, на холм. Другие приходили помочь в работе или посидеть вечером с колонистами. Они были терпеливы и деятельны, эти труженики, они без конца рыхлили землю, поливали, удобряли всходы. Они отстраивали свои хижины и ухаживали за тощими коровенками. Но это не спасало от нужды. Бее их нехитрое имущество, все средства, собранные в колонии как общая собственность, пошли на семена, на орудия и инструменты, на строительство хижин. До урожая было еще далеко — шел только май 1649 года. Похлебка из кореньев да хлеб — разве можно было этим прокормиться? И Уинстэнли решается на отважный шаг. Холм Святого Георгия велик; общинная пустошь включает и вересковые луга, и овражки, поросшие дубняком и колючим кустарником, и буковые рощи… Раньше крестьяне могли собирать здесь хворост, изредка подбить зайца или лисицу. Но теперь — разве не стали все эти земли народным достоянием после казни тирана? Диггеры начинают валить деревья в общинном лесу и свозить их на продажу. Правда, купля-продажа — дело нечистое, порабощающее; Уинстэнли сам много раз писал об этом. Но чтобы выжить в жестоком сем мире, надо считаться с его законами. Диггеры будут продавать лес до поры до времени — до урожая, когда смогут, наконец, собрать плоды труда своего и кормиться ими совместно, ничего не покупая и не продавая. А пока на вырученные деньги они смогут купить мяса и хлеба для работников, повозки и плуг, может быть, лошаденку… Ведь и лорды сплошь и рядом вырубают и продают общинные леса себе на потребу. Так почему же беднякам, братьям их, не кормиться тем же? Так рассуждал про себя Уинстэнли, глядя на возрождающуюся, расцветающую под майским солнцем колонию. Погожим утром 29 мая он с дюжиной диггеров трудился на общинном поле — бобы требовали постоянного окучивания. Наступало лето; легкие кучевые облака не закрывали солнца. И вдруг резкий звук боевой трубы прорезал воздух. Джерард выпрямился. Кавалькада из нескольких десятков одетых в латы, поблескивающих шлемами всадников на крупных рысях двигалась прямо к ним. Сердце его забилось: в одном из всадников он узнал лорда Фэрфакса. Вокруг — офицеры и адъютанты свиты. На краю вскопанного поля всадники остановились. Уинстэнли приблизился к ним, поклонился с достоинством, не сняв шляпы. — Вы и есть диггеры? — спросил один из офицеров. Уинстэнли кивнул. Его товарищи несмело придвинулись ближе. — Лорд-генерал Фэрфакс оказал вам честь, — сказал тот же офицер, — и по дороге из Гилфорда в Лондон заехал посмотреть на вашу работу. Сколько вас? — Двенадцать, — ответил Уинстэнли. — И много земли вы засеяли? — Около сорока руд. — А там что за гарь? — Мы подожгли вереск, чтобы удобрить землю. Эта земля бесплодна, на ней никогда ничего не росло, кроме вереска. — Чья это земля? — Ничья. Она принадлежит свободному народу Англии. — Вы хотите сказать, что это общинная земля? — вмешался Фэрфакс. — Но общинные земли — такая же собственность лорда, как и все остальное. — Это коронные земли, генерал, — возразил Уинстэнли. — Раньше они принадлежали королю. Но теперь король, владевший ими по праву нормандского завоевания, мертв. И земля эта вернулась к простому народу Англии, который может возделать ее, если пожелает. Любой может прийти сюда и работать вместе с нами. — А что вы дадите тому, кто придет к вам работать? — Они будут трудиться на тех же условиях, что и мы, и есть с нами хлеб. — Говорят, они заставляют односельчан работать на их полях, — сказал другой офицер Фэрфаксу. — Мы никого не заставляем, — тотчас же откликнулся Уинстэнли. — Мы придерживаемся золотого правила: «Поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». — И прекрасно, держитесь этого правила и впредь, — назидательно вымолвил кто-то из офицеров. — Хорошо только, если вы так и поступаете, не замышляя ничего иного, — добавил другой. — О, мы открыто готовы заявить о наших намерениях всему миру, и мы уже сделали это, — сказал Уинстэнли. — Мы никому не собираемся причинять зла. Многие из деревенских жителей в округе, которые были сначала обижены, теперь начинают смягчаться, видя справедливость в нашем деле. — Но кое-кто из односельчан все же недоволен вашими действиями? — спросил Фэрфакс. — Ну, разве что один или два алчных фригольдера, которые хотели бы иметь общинные земли в своем собственном распоряжении. Но мы надеемся, что эти наши сердитые соседи, которых мы никогда не обижали и не хотим обижать, увидят со временем, что их ярость — безумие. Они станут мягче и будут вести себя и говорить разумно, как подобает людям, а не бодаться рогами, как звери. Фэрфакс усмехнулся. Ему нравилась подкупающая искренность этого бедняка. И нельзя сказать, что он глуп. — Но, я надеюсь, вы не выступаете против того, что управляется законами и должностными лицами? — спросил он, желая еще раз продемонстрировать своим офицерам лояльность и миролюбие копателей и тем закончить беседу. — Конечно, нет, — ответил Уинстэнли. — Мы не против ваших законов и правителей. Но с нашей стороны мы не нуждаемся ни в том, ни в другом виде правления, ибо раз наша земля — общая, то таким же общим должен быть и наш скот и общими должны быть злаки и плоды земли. Кроме того, какая нам нужда в законах, осуждающих на тюремное заключение, пытки и бичевания? На превращение одного — в раба, а другого — в господина?.. — Но как же вы собираетесь снять урожай, если эта земля бесплодна? — перебил Фэрфакс, желая сменить опасную тему. — Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы она стала плодородной, — ответил Уинстэнли. — Мы верим, что бог вознаградит наши усилия. Он обещал превратить скудные земли в плодоносные. Может быть, нас, бедняков, он и выбрал для того, чтобы исполнить пророчества… Фэрфакс промолчал. Эти убогие люди совсем не казались жалкими и презренными. Но его долг — долг одного из правителей Английской республики — предостеречь их. — Я надеюсь, — сказал он, — что ваши действия не нанесут ущерба ни владельцам этого манора, ни спокойствию и безопасности республики. Лучше всего вам, для вашего собственного благополучия, разойтись по домам и вернуться к обычным занятиям. Но если вы настаиваете и если ваши действия будут и впредь носить мирный характер, что мы усматриваем в них теперь, — то армия республики не причинит вам вреда. Мы оставляем вас на попечение джентльменов вашего графства и законов страны.
Встреча с Фэрфаксом убедила Уинстэнли в том, что действия диггеров нуждаются в дальнейшем разъяснении. Манифеста «Знамя, поднятое истинными левеллерами» оказалось недостаточно. И первого июня из-под его пера выходит новое заявление, подписанное сорока пятью именами. Оно называется «Декларация бедного угнетенного люда Англии, обращенная ко всем именующимся или именуемым лордами маноров во всей нации, которые приступили к вырубке или, побуждаемые страхом и алчностью, намереваются рубить леса и деревья, произрастающие на общинных землях и пустошах». Он снова повторял в нем свои главные принципы: что земля создана для всех людей, что нынешний порядок вещей, при котором существуют господа и рабы, сытые и голодные, — несправедлив; что бедняки начинают освобождаться от рабского страха перед власть имущими, выходят на общинные поля и начинают работать на себя, на общее благо, а не на господ и лордов. А чтобы предупредить ваши мелочные возражения, писал он далее, знайте, что мы не должны ни покупать, ни продавать. Деньги не должны больше быть великим богом, который одних пускает за ограду, а других выбрасывает вон, ибо деньги — всего лишь часть земли и как таковые принадлежат всем людям сообща. Чье изображение помещено на деньгах? Короля. И имя его высечено на них по кругу. Но если подсчитать значения цифр, складывающихся из этих букв, получится число зверя — 666. Это значит, что время земное подходит ныне к образу зверя, к зениту дня, и печать зверя — число — 666 — должна стать последней тиранической властью; народ освободится от нее и будет жить, свободно пользуясь землею, не отдавая за нее монет с печатью зверя. Мы не будем покупать и продавать за деньги, «ибо купля и продажа есть великий обман, посредством которого грабят и крадут землю друг у друга; он делает одних лордами, других — нищими; одних — правителями, других — управляемыми; и великих убийц и воров делает тюремщиками и палачами малых или чистосердечных людей». Он старался ясно и доходчиво изложить всем, чего же хотят диггеры. Мы хотим, писал он, чтобы привилегии, дарованные нам при создании нашем и до сих пор не признаваемые за нами и за отцами нашими, были возвращены… Но мысли увлекали его, и он отклонялся от прямой цели для того, чтобы помянуть недобрым словом и «шаблонную, наподобие попугая, болтовню в университетах и колледжах», скрывающую от народа тайны творения; и власть тюрем и смертных приговоров, принуждающую народ слепо повиноваться тирании; и алчность великого бога, правящего миром сим; и опять же богачей и лордов, обладающих сокровищами земли, запертыми в их мешках, сундуках и амбарах, из которых они не хотят дать ничего в общественную казну. И, наконец, добирался до сути. «Главное, к чему мы стремимся, — объявлял Уинстэнли от имени графства Серри, — это наложить нашу руку на леса и, так как мы находимся в нужде, валить, и рубить, и использовать, как мы лучше сможем, леса и деревья, произрастающие на общинных землях, в качестве материала для себя и для наших бедных братьев по всей стране Англии… для того, чтобы обеспечить себя хлебом, пока труды наши на земле не принесут плодов». Чтобы их не сочли грабителями, он прибавлял, что владений лордов диггеры касаться не будут, пока сами лорды не захотят отдать в общее пользование свои земли. Нет, они станут валить лес только на общинных владениях. Ведь лорды тоже рубят леса, растущие на общинных землях, но делают это для личной выгоды. Тем самым они крадут права у бедного угнетенного люда. И еще задерживают тех, которые рубят лес или кустарник или собирают торф и вереск на общинной земле. Мы решили осуществить свои права на деле, заявлял он, чтобы почувствовать себя свободными, ибо «свобода в стране в такой же мере наш удел, как и ваш, наравне с вами». И мы объявляем вам, что вы не должны сводить общинные леса, дабы не грабить бедняке® в округе. А если вы уже начали валить деревья и увозить их для своего частного употребления, то вы должны прекратить это и не идти дальше. И никто из истинных друзей республики не должен покупать ничего из этих общинных деревьев и лесов у этих так называемых лордов маноров. Мы надеемся, что все лесоторговцы откажутся от подобных сделок с лордами, а у бедных будут покупать то, что они предлагают. Если же вы, лесоторговцы, будете покупать у лордов, то не взыщите: мы остановим посланные вами повозки и используем лес для собственного потребления, как требуют наши нужды. Не один и не два человека из нас будут продавать упомянутые леса. Мы собираемся публично, через печать объявить всем, за сколько продана та или другая часть леса и во что она обращена — в съестные ли припасы, злаки, плуги или другие необходимые материалы. Декларация заканчивалась обращением к парламенту. От имени диггеров Уинстэнли требовал, чтобы общины поддержали их справедливые действия, ибо депутаты «выбраны нами на специальную работу и на определенное время из нашей среды не для того, чтобы стать угнетающими нас господами, но слугами, помогающими нам». Они, бедные копатели, осмеливались говорить с правителями, как с равными. Они выражали готовность отдать свою жизнь в темнице или на виселице во имя справедливости. Декларация была выпущена в Лондоне, в печатне Джайлса Калверта. Те, кто подписал ее, полагали, что теперь вся страна достаточно знает об их убеждениях и намерениях, что их запомнят и не спутают ни с кем другим. Они ошибались. Занятая шумными процессами над поверженными левеллерами, пресса пыталась использовать декларации диггеров в своих целях. Многие газетчики и памфлетисты старались дискредитировать левеллеров с помощью того, что было написано Уинстэнли. Их намеренно отождествляли, нанося этим вред и тем и другим. «Исследователь» обвинял политических левеллеров в намерении отменить частную собственность, а в качестве доказательств приводил цитаты из «Нового закона справедливости», манифеста «Знамя, поднятое истинными левеллерами» и «Декларации бедного угнетенного люда». Левеллеры немедленно откликнулись. «Исследователь», заявили они, хочет навязать им воззрения другой партии и обмануть общественное мнение. «Какой-то человек, к которому мы не имеем ни малейшего касательства, написал книгу, содержащую много такого, что принадлежит столько же нам, сколько тому, кто их цитирует!» Они не согласны с бекингемширской группой. Они еще раз настойчиво объявляют, что не желают иметь с диггерами ничего общего. Однако размежевание с копателями не спасло левеллеров: аресты и репрессии продолжались. По всей стране власти выискивали и хватали недовольных. Лилберн, заключенный в Тауэре, был объявлен находящимся «на особом режиме». К нему и другим узникам-левеллерам было приказано никого не допускать. Им запретили даже свидания друг с другом в тюремном дворе. Но и диггеры не избежали возмездия. В начале июня несколько солдат из расквартированного в Уолтоне пехотного полка под командой капитана Стрэви поднялись на холм Святого Георгия и подошли к плантации диггеров. Там работал в то время только один человек с мальчиком. Не говоря ни слова, солдаты напали на этих двоих и, хотя те не сопротивлялись, отняли у мальчика куртку, сорвали рубашонку и жестоко избили. У взрослого они отобрали съестные припасы, находившиеся при нем, и, избивая, тяжело ранили. Хижину, возведенную неподалеку, подожгли, и только когда запылала и рухнула соломенная крыша, они, наконец, удалились, оставив лежать на поле двоих беспомощных людей. Каково было пережить это Уинстэнли! Он, глава и вдохновитель коммуны, он, обещавший беднякам в самом скором времени поддержку всей страны, и освобождение от гнета лордов, и благоволение власть имущих, и царство справедливости наконец, — он, получалось, навлекал на колонистов сплошные беды. Узнав о зверском избиении и поджоге, он садится снова писать — на этот раз письмо лично Фэрфаксу и его военному совету. Он пишет день и ночь, не отрываясь. С болью и гневом опять объясняет, растолковывает, на каком основании они вышли вспахивать общинные земли. Повторяет, что цель диггеров — мирная обработка пустошей. Что копатели не выступают против властей или законов, не собираются вторгаться в чью-либо собственность и разрушать изгороди… «Сэр, — пишет он, — вы видели некоторых из нас и выслушали нашу защиту, и мы встретили мягкое и умеренное отношение от вас и от вашего военного совета… Мы понимаем, что наше вскапывание общинных земель служит темой для разговоров по всей стране…» Враги клевещут, что будто мы посягаем на чужое добро, что на самом деле внушает нам ужас. Наши же стремления направлены на уничтожение угнетения и внешнего рабства, под которым стонет творение, и на возвышение, и сохранение чистоты нашего дела. Впервые он отважился высказать генералу Фэрфаксу горькие упреки. Вы, наши старшие братья, написал он, называете огороженные земли своими и изгоняете бедняков за пределы изгороди. Вы желаете иметь должностных лиц и законы по чисто внешнему образцу других наций. Мы не выступаем против этого. Живите как вам угодно; что же касается нас, то мы просто уйдем от вас, оставим вас одних. Если же кто-либо из нас украдет ваш хлеб или скот либо повалит ваши изгороди, то пусть ваш закон наложит руку на того из нас, кто явится нарушителем. Кто-то, может быть, еще Эверард, говорил ему: надо огородить диггерские посевы и запереть на замок орудия и хлеб, если мы хотим сохранить их для себя и своих детей. Но с этим нельзя соглашаться. Это значит идти по неправому пути тех же собственников. Все добро, принадлежащее «истинным левеллерам», должно быть открыто народу. «Наш хлеб и наш скот, — писал он с уверенностью, — не будут запираться на замок, как если бы мы были собственниками посреди народа; нет, нет, мы открыто заявляем, что наш хлеб, и наш скот, и все, что мы имеем, будет находиться открытым ради безопасности и сохранности народа». Чего хотел Уинстэнли от Фэрфакса и его офицеров? Он не просил ни о покровительстве, ни о возмездии. Но он стремился объяснить наиболее доходчиво и ясно дело, которое начали диггеры. Он старался пробудить совесть в сердцах тех, к кому обращался. «И если после этого нашего письма вы или ваши подручные, именуемые солдатами, — писал он, — или кто-либо из тех, кто владеет землею по вашим законам, так называемые фригольдеры, оскорбят или убьют нас, мы объявляем, что мы умрем, исполняя наш долг по отношению к творцу, стремясь поднять творение из рабства, а вы и они будете оставлены без оправдания в день суда». Он рассказал о чудовищных действиях капитана Стрэви против безоружных людей, мужчины и мальчика. «Мы считаем очень страшным и языческим поступком, — сетовал он, — что солдаты связались с безоружными, мирными людьми, которые не вмешивались в солдатское дело и не оскорбили их ни словом, ни действием… Но что касается вас лично, мы уверены в вашей мягкости и дружбе к нам, бывшим вашим друзьям в трудные времена, и в том, что вы не дали бы поручения избивать нас или поджигать и ломать наши дома, но сначала доказали бы, что мы враги». Просил ли он наказания для виновных? Нет, если и возникало у него порой желание мести, то он тут же старался его подавить: оно было недостойно великого дела справедливости. «Мы только хотим, чтобы вы послали предупреждение вашим солдатам не оскорблять нас; в самом деле, если наши нарушения покажутся такими серьезными, вам не будет надобности посылать солдат против нас или избивать нас, потому что мы добровольно придем к вам по одному простому письму». Уинстэнли надеялся, что Фэрфакс и его офицеры поймут диггеров и проявят к ним любовь и братское покровительство. И тогда «мы будем жить в спокойствии, — писал он, — и народу будет возвращен мир, а вы, воинство, вы будете огненной стеной, ограждающей народ от иностранного врага… Но если вы обманете нас и наше дело, знайте, мы будем сражаться не мечом и копьем, а заступом и плугом и подобным оружием, чтобы сделать пустоши и общинные земли плодородными». Он не угрожал, нет, но он хотел, чтобы об их упорстве, их решимости делать свое святое дело знали. Он чувствовал за собой силу и покровителя более могущественного, чем сам главнокомандующий. Вопрос представлялся ему предельно ясным. Может ли быть несправедлив Царь справедливости? Если нет, то кто же создал неравенство и угнетение, господство и рабство, роскошь и нищету? Я утверждаю, писал он Фэрфаксу, что это сделала и делает алчность. И человек не сможет обладать истинным миром и счастьем, пока он следует закону алчности и эгоизма. Он писал все это и чувствовал в себе силу — огромную силу жизни, идущую от сознания правды и справедливости своего пути. Он не питал ненависти ни к кому, даже к солдатам, избившим ребенка. Сила любви ко всем людям ясным огнем пылала в нем; он ощущал себя исполнителем великого дела. «И я не могу делать ничего другого, — писал он, заканчивая письмо, — закон любви в сердце моем принуждает меня». Пусть называют его глупцом, безумцем, пусть обрушивают на него свою ярость — от этого дух его будет лишь крепнуть. «Я никого не ненавижу, я люблю всех, я буду радоваться, видя, как все живут в достатке. Я хотел бы, чтобы никто не пребывал в бедности, в стеснении и скорби». Если я не прав или движим недостойными мотивами, скажите мне об этом столь же чистосердечно и открыто. Но если вы увидите в моем труде справедливость и силу всеобщей любви ко всем, тогда присоединитесь и защищайте его. Уинстэнли сам поехал в Лондон и в субботу, 9 июня, собственноручно вручил это письмо генералу и высшим офицерам. Его приняли благосклонно, выслушали, и очень мягкосердечно обещали, что прочтут и обдумают то, что там написано. Он отнес копию письма к Джайлсу Калверту, и оно тут же было размножено для сведения всех англичан, чтобы «доказать с неоспоримой правотой, что простой народ смеет пахать, копать, засевать и селиться на общинных землях, не арендуя их и не уплачивая никому ренты». Из печатни под черным распростертым орлом, что к западу от собора святого Павла, вышел еще один диггерский манифест.
СУД НЕПРАВЫЙ
 инстэнли едва успел вернуться из Лондона, как новая беда обрушилась на колонию. Одиннадцатого июня четверо диггеров валили деревья в общинном лесу. Они делали это для колонии — на вырученные от продажи деревьев деньги можно было купить хлеба и необходимых припасов. Повозка была уже наполовину нагружена бревнами. Лес искрился солнечными бликами. Пели птицы. Ничто не предвещало несчастья.
Внезапно они увидели, что к ним приближается большая толпа. Впереди на конях ехали уолтонские фригольдеры Уильям Старр и Джон Тейлор. За ними шли вооруженные досками и дубинками пешие. Но что за странность? На головах их косо сидели заломленные женские чепцы, длинные ноги путались в юбках, на плечи накинуты шали… Диггеры выпрямились. Что за новые, непонятные гости пожаловали к ним на холм?
Они не успели опомниться, не успели спросить ни о чем, как дикая толпа с воем и рычанием напала на них. Их били беспощадно — досками, дубинками, кулаками… Когда они упали, не выдержав града ударов, — били ногами, норовя угодить по голове…
Диггеры не сопротивлялись. Они не носили с собой оружия, они никогда не отвечали насилием на насилие. В самом начале, когда стало ясно, что гости пришли не с добром, диггеры попытались сказать, что они готовы по закону, перед судом ответить за свои действия. В ответ град ударов обрушился на их головы и плечи. Дьяволы в нелепых женских одеяниях не хотели говорить: они рычали, как звери, и били, били неистово и безжалостно.
Только убедившись, что четверо несчастных лежат недвижно и, возможно, никогда уже не встанут, они наконец остановились. Вытерли пот. Ухмыляясь и путаясь, поспешно стащили с себя юбки, чепцы и шали. И снова превратились в добропорядочных землевладельцев и лавочников, хозяев и глав семей, озабоченных делами прибыли, благочестивых посетителей воскресных богослужений…
Почему они вырядились в женское платье? Постеснялись вершить черное дело избиения безоружных в своей обычной одежде? Видимо, так. Непривычное, дурацкое обличье позволяло любую жестокость, делало их безымянными, развязывало низкие страсти. Мужчине бить лежачего стыдно. Мужчина обязан помнить свое имя, знать свой долг и управлять собою. Мужчина должен подчиняться разуму и бояться бога. Чужие же, нелепые одеяния стерли все — и память, и разум, и достоинство. Неистовой мегере в косо надетой юбке все пристало — истерически хохотать, визжать, царапать и бить, бить недвижного, лежащего человека, не боясь ни земного суда, ни небесного.
Четверо диггеров лежали на земле, не проявляя признаков жизни. Раненая лошадь истекала кровью. Сколько прошло времени после ухода мучителей — никто не знал. Пошевелился, застонал один; другой медленно привстал, сел. Пошатываясь, встал на ноги третий. Четвертый идти не мог; похоже было, что он умирает. Сами едва держась на ногах, трое впряглись в повозку и повезли его к лагерю.
инстэнли едва успел вернуться из Лондона, как новая беда обрушилась на колонию. Одиннадцатого июня четверо диггеров валили деревья в общинном лесу. Они делали это для колонии — на вырученные от продажи деревьев деньги можно было купить хлеба и необходимых припасов. Повозка была уже наполовину нагружена бревнами. Лес искрился солнечными бликами. Пели птицы. Ничто не предвещало несчастья.
Внезапно они увидели, что к ним приближается большая толпа. Впереди на конях ехали уолтонские фригольдеры Уильям Старр и Джон Тейлор. За ними шли вооруженные досками и дубинками пешие. Но что за странность? На головах их косо сидели заломленные женские чепцы, длинные ноги путались в юбках, на плечи накинуты шали… Диггеры выпрямились. Что за новые, непонятные гости пожаловали к ним на холм?
Они не успели опомниться, не успели спросить ни о чем, как дикая толпа с воем и рычанием напала на них. Их били беспощадно — досками, дубинками, кулаками… Когда они упали, не выдержав града ударов, — били ногами, норовя угодить по голове…
Диггеры не сопротивлялись. Они не носили с собой оружия, они никогда не отвечали насилием на насилие. В самом начале, когда стало ясно, что гости пришли не с добром, диггеры попытались сказать, что они готовы по закону, перед судом ответить за свои действия. В ответ град ударов обрушился на их головы и плечи. Дьяволы в нелепых женских одеяниях не хотели говорить: они рычали, как звери, и били, били неистово и безжалостно.
Только убедившись, что четверо несчастных лежат недвижно и, возможно, никогда уже не встанут, они наконец остановились. Вытерли пот. Ухмыляясь и путаясь, поспешно стащили с себя юбки, чепцы и шали. И снова превратились в добропорядочных землевладельцев и лавочников, хозяев и глав семей, озабоченных делами прибыли, благочестивых посетителей воскресных богослужений…
Почему они вырядились в женское платье? Постеснялись вершить черное дело избиения безоружных в своей обычной одежде? Видимо, так. Непривычное, дурацкое обличье позволяло любую жестокость, делало их безымянными, развязывало низкие страсти. Мужчине бить лежачего стыдно. Мужчина обязан помнить свое имя, знать свой долг и управлять собою. Мужчина должен подчиняться разуму и бояться бога. Чужие же, нелепые одеяния стерли все — и память, и разум, и достоинство. Неистовой мегере в косо надетой юбке все пристало — истерически хохотать, визжать, царапать и бить, бить недвижного, лежащего человека, не боясь ни земного суда, ни небесного.
Четверо диггеров лежали на земле, не проявляя признаков жизни. Раненая лошадь истекала кровью. Сколько прошло времени после ухода мучителей — никто не знал. Пошевелился, застонал один; другой медленно привстал, сел. Пошатываясь, встал на ноги третий. Четвертый идти не мог; похоже было, что он умирает. Сами едва держась на ногах, трое впряглись в повозку и повезли его к лагерю.
Уинстэнли, потрясенный случившимся до глубины души, пишет новую бумагу: «Декларацию о кровавых и нехристианских действиях Уильяма Старра и Джона Тейлора из Уолтона». Животная злоба этих фригольдеров доказала, говорит он, что их земля добыта путем грабежа, насилия и воровства, и этой самой властью они и удерживают ее в своих руках. Что касается диггеров, то дух их бодр по-прежнему. Дело отмщения они вручают единственному справедливому судье, который один властен карать и миловать; сами же, как только поправятся, снова примутся за свой труд, чтобы попытаться установить общность владения землей. Но можно ли убедить в правом деле имеющих власть? Колония едва оправилась от удара, и вот Уинстэнли сажают в тюрьму. Его арестовали по иску, возбужденному 23 июня в кингстонском суде тремя доверенными Френсиса Дрейка, собственника земли, на которой работали диггеры. Сам Дрейк, аристократ, пресвитерианин, изгнанный из парламента во время «Прайдовой чистки», видимо, находился в отъезде. Но доверил дело преследования диггеров в законодательном порядке своим родственникам Ральфу Верни, Томасу Венмену и Ричарду Уинвуду. Все они принадлежали к землевладельческим кругам пресвитерианского толка. Уинстэнли вместе с двумя другими диггерами, Генри Бикерстаффом и Томасом Старом, был арестован в начале июля и привезен в кингстонский суд. Они сидели в тесной камере, прямо на полу, на несвежей соломе. Стояло лето, было жарко, и от соломы, от отхожего места в углу исходило страшное зловоние. Стены каземата покрывала непросыхающая плесень, в ней ползали несметные полчища насекомых. Мухи назойливо жужжали и жалили, от них никак не удавалось отделаться. Ночами приходилось то и дело вспугивать крыс, вылезавших из нор, чтобы поживиться какими-нибудь остатками от скудной трапезы заключенных. От них потребовали, чтобы они наняли адвоката для защиты по иску. Но какой адвокат согласится взять дело бедняков, осмелившихся вскапывать общинную пустошь, чтобы установить справедливость на земле? По старым королевским установлениям, они не имели права ни жить на холме, ни строить там хижины, ни обрабатывать землю. Ученый юрист вместо того, чтобы защищать их, наоборот, приведет десятки законов, поправок, добавлений, указов, статутов, которые непреложно докажут, что вся земля манора принадлежит лорду. Недаром и месяца не прошло после казни последнего Стюарта, а палата общин уже издала указ, предписывающий местным судам оставаться на местах и исполнять королевские законы впредь до специального распоряжения. И чем платить ему, наемному адвокату, привыкшему брать деньги с подзащитных? Не сказал ли Уинстэнли тот божественный голос, что работа по найму — нечистое дело? Нет, они не будут нанимать адвоката. Они будут защищаться сами. Уинстэнли попросил у судьи копию обвинительной декларации и даже обещал заплатить за возможность с ней ознакомиться. Но ему было отказано. «Наймите адвоката, — ответили диггерам, — и мы покажем ему обвинение». Они просили неоднократно, обращались к секретарю суда. Тот, наконец, ответил, что дело их еще не зарегистрировано. Они прождали два дня и снова обратились в суд с просьбой дать им ознакомиться с обвинением, и снова им ответили, что его выдадут только адвокату. А как жадны эти адвокаты до денег! Вознаграждение интересует их гораздо больше, чем защита правого дела. Уинстэнли пытался убедить равнодушных судейских чиновников в том, что парламент и народ Англии вместе начали великое дело преобразований; что нанимать адвокатов и подчиняться старым законам — значит предавать это великое дело, жить под старым нормандским игом, давно осужденным и отмененным в Англии… Но им упорно не хотели дать возможность говорить в суде. Уинстэнли удалось выяснить, что согласно параграфу статута короля Эдуарда VI, продолжавшего оставаться в силе, «каждый человек имеет свободу говорить на суде от своего имени или избрать для этой цели своего отца, друга или соседа для своей защиты, не прибегая к помощи адвоката». Тогда он решил написать защитительную речь наугад, представив себе мысленно, в чем их могли обвинить. Он подчеркивал, что, несмотря на клевету врагов, обвиняющих диггеров в неуважении к законам, они на самом деле готовы принять всякую справедливую законную процедуру; несправедлив лишь тот закон, который одним разрешает говорить, а другим затыкает рты. Пусть мистер Дрейк как разумный человек, в прошлом — член парламента, докажет нам, что наша работа на холме неправомерна, а он, лорд манора, имеет справедливое и обоснованное право на эту пустошь. Тогда я опровергну эти его утверждения и покажу по закону справедливости, что бедняки имеют право на эту землю, как и богачи, и что земля должна стать общей сокровищницей для всех; наоборот, нарушением господнего закона является такое положение, когда один препятствует другому возделывать землю. «Мы отрицаем, — продолжал он, — что мы допустили какое-либо нарушение по отношению к этим трем людям или к мистеру Дрейку или что мы вообще нарушаем чье-либо право, когда копаем или пашем дляподдержания нашей жизни на любой пустующей земле в Англии, ибо тем самым мы не нарушаем ни одного конкретного закона, а только старый обычай, рожденный силой королевской прерогативы и недействительный с тех пор, как королевская власть и титул низвергнуты… И если какие-либо должностные лица будут заключать в тюрьму, и угнетать, или приговаривать к смерти человека, стоящего за эту купленную дорогой ценой свободу, то они покажут себя убийцами и ворами, а не справедливыми правителями». Он доказывал, что все старые прерогативы, тяжелым игом лежавшие на плечах народа, следует считать отмененными вместе с королевской властью, а землю Англии рассматривать как свободную общую сокровищницу для всех ее детей. И потому полностью оправдывал действия диггеров на холме Святого Георгия. Он даже высказывал надежду, что и парламент, и судьи, и приходские проповедники, и лорды маноров, и сам Френсис Дрейк помогут диггерам в их деле и защитят их от тех, кто хочет помешать им. «Если вы христиане, как вы говорите, — взывал он к обвинителям и судьям, — проявите к нам любовь, как и мы любим вас; если же вы чините над нами произвол, арестовываете нас, судите, проклинаете и казните и даже не хотите разрешить нам говорить от своего собственного имени, но хотите заставить нас отдать деньги нашим врагам, чтобы они говорили вместо нас, — то вы, конечно, не сможете сказать, что ваше дело правое». Он вставил в текст защиты стихи:
Но вера его была напрасна. Власти республики принимали все более крутые меры, чтобы не дать говорить в полный голос таким, как Лилберн или Уинстэнли. Двадцатого сентября парламент принял «Акт о неразрешенных и возмутительных книгах и памфлетах и о лучшем упорядочении книгопечатания». Он должен был действовать до 23 сентября 1651 года. Во избежание распространения «лживых, неправильных и нелепых известий», а также публикации «какого-либо мятежного, возмутительного или изменнического памфлета… направленного против государства или правительства», каждый владелец печатного станка должен был в десятидневный срок представить парламенту внушительный залог в триста фунтов стерлингов и двух поручителей его благонадежности. На заглавном листе каждой книги и памфлета предписывалось помещать имя автора и его адрес, а также имя и адрес типографщика, которому в случае неповиновения грозил штраф в 10 фунтов и уничтожение всей его печатной продукции; при вторичном нарушении указанного акта его лишали права заниматься издательским делом. Джайлсу Калверту, который публиковал почти все сочинения Уинстэнли, пришлось быть поосторожнее. Во всяком случае, до конца года больше ни одного диггерского манифеста не вышло из его печатни.
ЧЕРНАЯ ОСЕНЬ
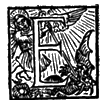 ще в августе диггерам пришлось переселиться с земли Фрэнсиса Дрейка. Судебные преследования и постоянная злоба соседей, которые гнали свиней и коров на их посевы и сами топтали их, вопя и улюлюкая, словно пьяные в Троицын день, возымели свое действие. Диггеры перешли на другой склон холма Святого Георгия, в пяти милях от прежнего лагеря, на пустошь, входившую в манор Кобэм. Манор этот принадлежал пастору Джону Плэтту.
Пастор Плэтт был образованным человеком. Он учился в Оксфорде; в 1632 году, девятнадцати лет от роду, получил степень бакалавра, а три года спустя — магистра свободных искусств. Именитые граждане графства Серри и центральные духовные власти относились к нему с уважением: в 1643 году он был назначен ректором собора в Западном Хорсли, неподалеку от Кобэма, а в 1647 году избран членом городской корпорации Гилфорда и мировым судьей. Манор Кобэм он получил в качестве приданого за своей женой Маргарет, урожденной Лайнд, дочерью местного пуританского богослова. От этого брака пастор Плэтт имел пятерых детей.
Может быть, диггеры думали, что духовное лицо, призванное проповедовать христианскую любовь, отнесется к ним менее жестоко, чем аристократ Френсис Дрейк и его родственники? Если так, то они ошибались. Пастор Плэтт был прежде всего лордом — собственником земли. Новым лордом, сочетавшим в себе замашки землевладельца со стремлением к буржуазному предпринимательству. Недаром он стал членом городской корпорации Гилфорда.
Дух буржуазного стяжательства владел подобными людьми в полной мере. Они рассматривали всю землю манора как свою безраздельную собственность и были беспощадны к традиционным патриархальным отношениям в деревне. Они становились лютыми врагами своих держателей и всеми средствами старались выжить с земли беднейших крестьян — копигольдеров, лизгольдеров, коттеров. Они предпочитали средневековым патриархальным обычаям закон чистогана и раздавали свою землю крупным арендаторам, уплачивавшим им денежную ренту. Они нанимали батраков на кабальных условиях и не брезговали разведением крупного рогатого скота для продажи на рынке мяса, масла и сыра, а также выращиванием овец и торговлей шестью. Как мог такой человек отнестись к известию о появлении на его земле коммуны нищих копателей?
Диггеры меж тем успели вспахать и засеять озимыми небольшой участок вересковой пустоши. К октябрю зазеленели всходы ржи и пшеницы. Неподалеку отстроились четыре хижины. Колония продолжала жить.
И вот однажды холодным осенним вечером сам лорд-пастор со слугами и зависимыми от него арендаторами явился на холм и приказал снести хижину одного из диггеров, стоявшую на общинной земле. Старика, жителя хижины, вместе с женой и дочерью он выгнал в открытое поле и оставил без крова.
Затем он сам, а по совету его и другие лорды и джентльмены Кобэма велели своим держателям и соседям, владельцам лавочек и торговцам, не предоставлять диггерам ни жилища, ни пропитания, ничего не продавать им и не давать в кредит.
Несколько диггеров были снова избиты джентри в присутствии шерифа и затем пятеро из них арестованы; их продержали в кобэмской тюрьме пять долгих недель.
В Лондон поступил новый донос о мятежном сборище на холме Святого Георгия.
В самом деле, основания для беспокойства имелись. Диггеры не посещали богослужений, не исполняли обрядов. Они работали по воскресеньям, то есть не соблюдали заповеди о «дне субботнем», что пресвитериане осуждали очень сурово. Они не платили десятину, не соблюдали общепринятых норм поведения и главное — своим вскапыванием общинной земли посягали на чужую собственность.
10 октября Государственный совет поручил лорду Фэрфаксу послать войска в Кобэм для оказания поддержки мировым судьям. В газетах потом писали, что около пятидесяти диггеров, собравшихся на пустоши, отказались выполнить требование мировых судей и разойтись; сообщалось также, что их дело будет рассмотрено на следующем квартальном заседании местного суда.
Пастор Плэтт был настолько встревожен происходящим, что сам поехал в Лондон и лично доложил обо всем главнокомандующему. Две недели он провел в ставке армии, пытаясь убедить Фэрфакса послать солдат для окончательного разгона диггеров. Он доказывал лорду-генералу и Государственному совету, что диггеры — бунтовщики, не желающие подчиняться правосудию, что они силою захватили дом одного из его людей и держат там оружие для своей охраны, что они пьяницы и роялисты, только выжидающие момента, чтобы оказать содействие вступлению на престол принца Чарлза.
Видимо, генерал не очень спешил посылать войска для подавления диггеров. Он помнил встречу с их вожаками в Уайтхолле, помнил и разговор с Уинстэнли в мае, когда он по пути в Лондон заехал посмотреть на так называемое «мятежное сборище». Диггеры не казались ему тогда опасными, и он даже обещал им, что армия не причинит им вреда. Однако обвинения этого пастора, лица почтенного и внушающего доверие, были настолько серьезны, что генерал, наконец, послал отряд солдат в Серри. Но приказал им не бесчинствовать, не проливать крови, а поддержать действия местного шерифа.
Солдаты явились на холм Святого Георгия 28 ноября, ветреным и холодным днем. Вместе с ними к лагерю диггеров поднялись шериф, пастор Плэтт с одним местным землевладельцем и их арендаторы.
Диггеры встретили незваных гостей спокойно и миролюбиво. Оружия при них не было, и солдатам, привыкшим к битвам, ожесточению и крови, неловко показалось применять насилие к горстке мирных бедняков, благо и приказ их к этому не обязывал. Но лорды думали иначе. Один из них, выйдя из кареты, приказал своим людям снести хижину. Запуганные, всецело подчиненные воле господ крестьяне начали дело разрушения, а лорды подбадривали их; когда домик зашатался, воздух огласился радостными криками.
Диггеры стояли в стороне и не сопротивлялись. Они понимали, что любая попытка силой противостоять разрушителям может стоить им свободы и самой жизни. Только некоторые из них пытались образумить врагов, напомнить им евангельские заветы. Тщетно! Дом рухнул, варвары торжествовали.
Арендаторы с топорами в руках, которые исполняли злую волю лордов, прятали глаза и не выражали радости. Они сами не желали зла диггерам, но боялись, что, если ослушаются воли хозяев, то их выгонят с земли и лишат средств к существованию. Один из них, победнее, смотрел на диггеров с сочувствием, хотя и боялся подойти к ним и заговорить. Через несколько дней в деревне узнали, что к этому арендатору явился бэйлиф и потребовал, чтобы тот убирался с семьей из своего дома. Могут ли турецкие паши держать своих рабов в большей неволе, чем эти проповедующие Евангелие лорды держат своих бедных арендаторов?
Когда дом рухнул и ветер разметал поднявшуюся вверх труху от соломенной крыши, лорды подошли к разрушителям и протянули им деньги — десять шиллингов на выпивку. И ухмыльнулись один другому. А те молчали, не смея взглянуть друг другу в глаза, исполненные страха, подобно собаке, когда хозяин дает ей кость и стоит над ней с хлыстом; она глодает, и смотрит вверх, и виляет хвостом, дрожа от страха…
На следующий день два солдата из присланного Фэрфаксом отряда и три крестьянина подошли к другому дому, стоявшему на пустоши. Накануне лорды собирались разрушить и его, но шериф, блюститель порядка, устыдясь насилия над безоружными, приказал оставить его. Диггеры вышли навстречу. Один из солдат уверил их, что им не причинят зла, и попросил показать посевы. Ему показали возделанное поле, и он всячески старался выказать свое миролюбие и хвалил их работу. Прощаясь, он вложил в руку своему провожатому двенадцать пенсов.
Но едва его фигура скрылась из виду в туманной мгле ноябрьского дня, другой солдат грубо приказал крестьянам, которые пришли с ним, помочь ему снести и этот дом. Те заколебались, но он грязной бранью и угрозами заставил их приступить к делу. И страх, подлый страх перед властью лордов и перед этим солдатом победил: крестьяне взялись за топоры, и скоро этот второй дом лежал грудой мусора под стынущим небом. О, есть ли правда на этой земле?
Собрав уцелевшие пожитки, диггеры переселились вновь. Они верили, что бог справедливости не оставит их. Их дух был бодр и спокоен. «И они построили себе несколько маленьких хижин, наподобие телячьих стойл, и там проводят ночи, а днем продолжают свою работу, с удивительной радостью сердца, весело относясь к разрушению своего добра, считая великим счастием быть преследуемыми за справедливость священнослужителями и исповедниками, которые являются преемниками Иуды и злобных фарисеев… И они возделали несколько акров и засеяли их пшеницей и рожью, которые восходят и обещают надежный урожай, и поручили свое дело Богу…»
ще в августе диггерам пришлось переселиться с земли Фрэнсиса Дрейка. Судебные преследования и постоянная злоба соседей, которые гнали свиней и коров на их посевы и сами топтали их, вопя и улюлюкая, словно пьяные в Троицын день, возымели свое действие. Диггеры перешли на другой склон холма Святого Георгия, в пяти милях от прежнего лагеря, на пустошь, входившую в манор Кобэм. Манор этот принадлежал пастору Джону Плэтту.
Пастор Плэтт был образованным человеком. Он учился в Оксфорде; в 1632 году, девятнадцати лет от роду, получил степень бакалавра, а три года спустя — магистра свободных искусств. Именитые граждане графства Серри и центральные духовные власти относились к нему с уважением: в 1643 году он был назначен ректором собора в Западном Хорсли, неподалеку от Кобэма, а в 1647 году избран членом городской корпорации Гилфорда и мировым судьей. Манор Кобэм он получил в качестве приданого за своей женой Маргарет, урожденной Лайнд, дочерью местного пуританского богослова. От этого брака пастор Плэтт имел пятерых детей.
Может быть, диггеры думали, что духовное лицо, призванное проповедовать христианскую любовь, отнесется к ним менее жестоко, чем аристократ Френсис Дрейк и его родственники? Если так, то они ошибались. Пастор Плэтт был прежде всего лордом — собственником земли. Новым лордом, сочетавшим в себе замашки землевладельца со стремлением к буржуазному предпринимательству. Недаром он стал членом городской корпорации Гилфорда.
Дух буржуазного стяжательства владел подобными людьми в полной мере. Они рассматривали всю землю манора как свою безраздельную собственность и были беспощадны к традиционным патриархальным отношениям в деревне. Они становились лютыми врагами своих держателей и всеми средствами старались выжить с земли беднейших крестьян — копигольдеров, лизгольдеров, коттеров. Они предпочитали средневековым патриархальным обычаям закон чистогана и раздавали свою землю крупным арендаторам, уплачивавшим им денежную ренту. Они нанимали батраков на кабальных условиях и не брезговали разведением крупного рогатого скота для продажи на рынке мяса, масла и сыра, а также выращиванием овец и торговлей шестью. Как мог такой человек отнестись к известию о появлении на его земле коммуны нищих копателей?
Диггеры меж тем успели вспахать и засеять озимыми небольшой участок вересковой пустоши. К октябрю зазеленели всходы ржи и пшеницы. Неподалеку отстроились четыре хижины. Колония продолжала жить.
И вот однажды холодным осенним вечером сам лорд-пастор со слугами и зависимыми от него арендаторами явился на холм и приказал снести хижину одного из диггеров, стоявшую на общинной земле. Старика, жителя хижины, вместе с женой и дочерью он выгнал в открытое поле и оставил без крова.
Затем он сам, а по совету его и другие лорды и джентльмены Кобэма велели своим держателям и соседям, владельцам лавочек и торговцам, не предоставлять диггерам ни жилища, ни пропитания, ничего не продавать им и не давать в кредит.
Несколько диггеров были снова избиты джентри в присутствии шерифа и затем пятеро из них арестованы; их продержали в кобэмской тюрьме пять долгих недель.
В Лондон поступил новый донос о мятежном сборище на холме Святого Георгия.
В самом деле, основания для беспокойства имелись. Диггеры не посещали богослужений, не исполняли обрядов. Они работали по воскресеньям, то есть не соблюдали заповеди о «дне субботнем», что пресвитериане осуждали очень сурово. Они не платили десятину, не соблюдали общепринятых норм поведения и главное — своим вскапыванием общинной земли посягали на чужую собственность.
10 октября Государственный совет поручил лорду Фэрфаксу послать войска в Кобэм для оказания поддержки мировым судьям. В газетах потом писали, что около пятидесяти диггеров, собравшихся на пустоши, отказались выполнить требование мировых судей и разойтись; сообщалось также, что их дело будет рассмотрено на следующем квартальном заседании местного суда.
Пастор Плэтт был настолько встревожен происходящим, что сам поехал в Лондон и лично доложил обо всем главнокомандующему. Две недели он провел в ставке армии, пытаясь убедить Фэрфакса послать солдат для окончательного разгона диггеров. Он доказывал лорду-генералу и Государственному совету, что диггеры — бунтовщики, не желающие подчиняться правосудию, что они силою захватили дом одного из его людей и держат там оружие для своей охраны, что они пьяницы и роялисты, только выжидающие момента, чтобы оказать содействие вступлению на престол принца Чарлза.
Видимо, генерал не очень спешил посылать войска для подавления диггеров. Он помнил встречу с их вожаками в Уайтхолле, помнил и разговор с Уинстэнли в мае, когда он по пути в Лондон заехал посмотреть на так называемое «мятежное сборище». Диггеры не казались ему тогда опасными, и он даже обещал им, что армия не причинит им вреда. Однако обвинения этого пастора, лица почтенного и внушающего доверие, были настолько серьезны, что генерал, наконец, послал отряд солдат в Серри. Но приказал им не бесчинствовать, не проливать крови, а поддержать действия местного шерифа.
Солдаты явились на холм Святого Георгия 28 ноября, ветреным и холодным днем. Вместе с ними к лагерю диггеров поднялись шериф, пастор Плэтт с одним местным землевладельцем и их арендаторы.
Диггеры встретили незваных гостей спокойно и миролюбиво. Оружия при них не было, и солдатам, привыкшим к битвам, ожесточению и крови, неловко показалось применять насилие к горстке мирных бедняков, благо и приказ их к этому не обязывал. Но лорды думали иначе. Один из них, выйдя из кареты, приказал своим людям снести хижину. Запуганные, всецело подчиненные воле господ крестьяне начали дело разрушения, а лорды подбадривали их; когда домик зашатался, воздух огласился радостными криками.
Диггеры стояли в стороне и не сопротивлялись. Они понимали, что любая попытка силой противостоять разрушителям может стоить им свободы и самой жизни. Только некоторые из них пытались образумить врагов, напомнить им евангельские заветы. Тщетно! Дом рухнул, варвары торжествовали.
Арендаторы с топорами в руках, которые исполняли злую волю лордов, прятали глаза и не выражали радости. Они сами не желали зла диггерам, но боялись, что, если ослушаются воли хозяев, то их выгонят с земли и лишат средств к существованию. Один из них, победнее, смотрел на диггеров с сочувствием, хотя и боялся подойти к ним и заговорить. Через несколько дней в деревне узнали, что к этому арендатору явился бэйлиф и потребовал, чтобы тот убирался с семьей из своего дома. Могут ли турецкие паши держать своих рабов в большей неволе, чем эти проповедующие Евангелие лорды держат своих бедных арендаторов?
Когда дом рухнул и ветер разметал поднявшуюся вверх труху от соломенной крыши, лорды подошли к разрушителям и протянули им деньги — десять шиллингов на выпивку. И ухмыльнулись один другому. А те молчали, не смея взглянуть друг другу в глаза, исполненные страха, подобно собаке, когда хозяин дает ей кость и стоит над ней с хлыстом; она глодает, и смотрит вверх, и виляет хвостом, дрожа от страха…
На следующий день два солдата из присланного Фэрфаксом отряда и три крестьянина подошли к другому дому, стоявшему на пустоши. Накануне лорды собирались разрушить и его, но шериф, блюститель порядка, устыдясь насилия над безоружными, приказал оставить его. Диггеры вышли навстречу. Один из солдат уверил их, что им не причинят зла, и попросил показать посевы. Ему показали возделанное поле, и он всячески старался выказать свое миролюбие и хвалил их работу. Прощаясь, он вложил в руку своему провожатому двенадцать пенсов.
Но едва его фигура скрылась из виду в туманной мгле ноябрьского дня, другой солдат грубо приказал крестьянам, которые пришли с ним, помочь ему снести и этот дом. Те заколебались, но он грязной бранью и угрозами заставил их приступить к делу. И страх, подлый страх перед властью лордов и перед этим солдатом победил: крестьяне взялись за топоры, и скоро этот второй дом лежал грудой мусора под стынущим небом. О, есть ли правда на этой земле?
Собрав уцелевшие пожитки, диггеры переселились вновь. Они верили, что бог справедливости не оставит их. Их дух был бодр и спокоен. «И они построили себе несколько маленьких хижин, наподобие телячьих стойл, и там проводят ночи, а днем продолжают свою работу, с удивительной радостью сердца, весело относясь к разрушению своего добра, считая великим счастием быть преследуемыми за справедливость священнослужителями и исповедниками, которые являются преемниками Иуды и злобных фарисеев… И они возделали несколько акров и засеяли их пшеницей и рожью, которые восходят и обещают надежный урожай, и поручили свое дело Богу…»
Едва диггеры оправились после разгрома и утвердились на новом месте, как тут же написали Фэрфаксу письмо с протестом против действий лордов. Под ним стояло семь подписей: к уже выступавшим в весенних декларациях Джону Хейману, Джону Полмеру, Джону Колтону присоединили свои имена Энтони Ренн, Генри Бартон, Джекоб Хард, Роберт Костер. Они рассказали генералу о происшедшем и в заключение писали: «Наша настоятельная просьба к вам, чтобы вы призвали ваших солдат к ответу за попытку обидеть нас без вашего приказания, чтобы страна знала, что вы не участвовали в таком несправедливом и жестоком деле. И, кроме того, мы желаем, чтобы вы по-прежнему не изменяли вашей доброте и обещали приказать своим солдатам не вмешиваться в наши дела…» Уинстэнли написал генералу и его военному совету от собственного имени. Сэр, убеждал он, не слушайте наветов наших врагов. Мы мирные люди и не ищем ничего, кроме справедливости. Враги многажды посылали избивать нас и сносить наши дома, мы же никогда не отвечали им бранью и не оказывали сопротивления, но терпеливо сносили все их бесчинства. Посмотрите на них: кто они, наши гонители? Одни из них были причастны к роялистскому восстанию к Кенте, приведшему ко второй гражданской войне, другие — главные зачинщики оскорбительной для парламента майской петиции из Серри. Стоит ли доверять доносам таких людей? Что до нас, то цель нашего вскапывания общинных земель — обеспечить себя и всех обездоленных бедняков хлебом и кровом. Мы имеем на это право, потому что вместе с вами победили тирана Карла Стюарта, преемника Вильгельма Завоевателя. Мы требуем свободы пользования общинной землей для обеспечения нашей жизни, ибо мы оплатили ее ценою нашей крови и наших денег. Ведь Англия не может стать свободной республикой до тех пор, пока бедные простые люди не получат право свободно пользоваться землею. Если эта свобода не будет нам дарована, то мы, бедняки, окажемся в худшем положении, чем в королевские времена. Если же вы позволили бы нам трудиться на общинных землях, заключал он, то в стране появился бы избыток хлеба и других полезных продуктов для удовлетворения всех запросов, и умолк бы народный ропот против вас и парламента, а через несколько лет в стране не было бы ни нищих, ни тунеядцев. Ведь это позор для христианской религии Англии, что у нас так много запущенной земли и в то же время столько людей умирает с голоду… Он сам вручил это письмо Фэрфаксу 12 декабря в Уайтхолле, в галерее для посетителей. И вернулся в колонию, чтобы снова, в который раз, начать все заново.
Черные декабрьские дни заволакивали небо мглой; оттуда то сыпался дождь, то снежная крупа; темнело рано. Нищета и безнадежность жизни в убогих хижинах диггеров угнетали дух, склоняли к отчаянию. Как они жили? Вероятно, занимались нехитрым деревенским ремеслом, пытаясь выручить за свои поделки хоть малую толику денег или продовольствия. Кто-то ездил, быть может, на дальние угодья и продолжал потихоньку валить и продавать деревья из общинных лесов, чтобы как-то прокормить колонию. Кто-то ушел на отхожие промыслы. Женщины пряли, вязали, ухаживали за скотиной. Бедствия, пережитые вместе столько раз, не только закалили их дух и тело, но и создали и спаяли тесное содружество между этими нищими, убогими, темными людьми, лепившимися вокруг Уинстэнли. Они и ему стали верными друзьями. Они готовы были слушать его рассказы вечерами, а днем делать любую работу. И работа их спасала. Уинстэнли решил снова обратить свое слово к англичанам и растолковать им все с самого начала. Он задумал переиздать пять своих первых трактатов: «Тайна Бога», «Наступление дня божьего», «Рай для святых», «Истина, поднимающая голову над скандалами» и «Новый закон справедливости». И обращал ко всем разумным и мягкосердечным людям предисловие-исповедь. Он перебирает в уме свою внутреннюю жизнь, свои искания. По временам дух его был полон апатии, тоски; он чувствовал, что блуждает по бездорожью во тьме и слякоти, как бедный бродяга, не имея пристанища. Но внезапно посреди этого мрака его озарил такой свет, мир и полнота бытия, что ему казалось: будь у него две пары рук, он всем им нашел бы достаточно работы, чтобы писать, писать о том, что говорил ему свет внутри. «Тогда я принял указание духа и стал писать, — говорил он читателю, — и сила эта так переполняла меня, что я днями напролет отказывался от пищи; и когда друзья мои по дому уговаривали меня прийти к ним и поесть, внутренняя полнота эта поднимала меня из-за стола посреди трапезы, и я оставлял их, чтобы писать снова». Да, иногда и друзья диггеры, которых он так любил, становились ему в тягость, ему хотелось остаться наедине с собой. Он так был полон этим восторгом внутренней жизни, что сидел в своей убогой каморке напролет целыми днями, не вставая. Зимнего холода, пробиравшего до костей, он не чувствовал. Только когда надо было встать, он обнаруживал: ноги окоченели настолько, что нужно крепко ухватиться за край стола и подниматься постепенно, пока кровь опять не побежит по жилам. И все же он жалел, когда наступала ночь и приходилось прерывать дело и ложиться на жесткое, промерзлое, покрытое лежалой соломой ложе. В один черный ненастный день сердце его вдруг закрылось; божественный источник творчества иссяк. Он отложил перо и почувствовал, что страшный озноб пробирает его до костей и он ничего не может более делать. Ему вспомнилось жестокое противодействие внешнего мира всем его начинаниям, и страх и тревога внутри его сказали: «Я больше никогда не буду ни писать, ни говорить ничего о моей внутренней жизни, ибо с тех пор, как я начал писать и говорить о свете, который засиял в моей душе, меня все больше и больше ненавидят, и поэтому я буду молчать». Но отчаяние было недолгим. Великая сила таилась в нем самом; незадолго до рождества он почувствовал вдруг, что новый человек просыпается в нем. Сердце раскрылось, как будто кто-то растворил дверь и внес горящие свечи в темноту. Сила любви, радости, мира и жизни наполнила его; он ощутил, что должен говорить и писать снова. И когда подчинился этому властному зову, обрел покой и радость. Если имеешь свет внутри — отдай его людям, и он в тебе не иссякнет.
Наступило рождество — праздник, когда надо забыть все невзгоды, простить обиды, и радоваться рождению новой жизни, и надеяться на лучшее. Диггеры в своих жалких хижинах тоже праздновали этот день. Кто-то, может, сам Уинстэнли, сложил рождественский гимн, и они распевали его за скудным ужином, собравшись все вместе:
РАНТЕРЫ
 недавних пор, а точнее — после разгрома майского восстания левеллеров в Англии появились люди, которых стали называть рантерами. «Рант» по-английски изрекать напыщенно, разражаться тирадами, суесловить, а также шумно веселиться, громко петь, буянить. Когда говорили о «рантерском поведении», под этим понимали пьянство, разгул, неистовство, богохульство, разрушение всех моральных устоев.
С казнью Карла Стюарта, «божьего помазанника», мир, казалось, перевернулся вверх дном и все основания старого строя рухнули. Вслед за тем рухнули надежды на «справедливую республику». Новые правители продолжали угнетательскую политику тирана; в мае они потопили в крови движение левеллеров — борцов за равенство и демократическое устройство. Цинизм и отчаяние, вызванные этим разгромом, и породили движение рантеров.
Разгульными бродягами-рантерами становились обнищавшие ремесленники, батраки, крестьяне, потерявшие землю и имущество в результате войны, поденщики. Возможно, и кое-кто из левеллеров, участников восстания, вынужденных теперь скрываться от властей, примкнул к их веселым сборищам. Вожди рантеров — Кларксон, Коппе, Фостер — называли господа бога «главным левеллером», который придет на землю, чтобы сровнять горы с долинами, высоких с низкими, богатых и сильных с бедными и слабыми.
Рантерские проповедники, вещавшие на церковных папертях, на базарных площадях и в тавернах, дерзко отрицали старую религию — религию папистов, епископа лов (сторонников англиканской церкви) и пресвитериан; они нападали и на индепендентов, и на анабаптистов. Они отвергали Библию, храмы, богослужение. И уверяли, что бог присутствует во всех вещах, он неотделим от сотворенного им мира. «Я вижу, — писал Джекоб Ботумли, один из рантерских памфлетистов, — что Бог находится во всех творениях, в человеке и животном, рыбе и птице, и в каждом растении от высочайшего кедра до плюща на стене». А другие рантеры добавляли: бог — ив кошке, и в собаке, и в этой трубке с табаком, и в табурете.
А раз так — свято все, и нет греха на земле. Рантеры отождествляли добро и зло, добродетель и грех, дозволенное и недозволенное. Чистые, не замутненные предрассудками глаза, уверял Лоуренс Кларксон, увидят, что «дьявол — это Бог, ад — это небеса, грех — святость, проклятие — спасение». Нет действия, нечистого перед богом.
Рантеры бродили по дорогам, проповедовали, собирая деньги со слушателей, а потом пропивали и проедали эти деньги в дешевых тавернах. Вместе с ними шли женщины, и нельзя было понять, кто у них муж, кто — жена, от кого рождаются дети; они совращали жен местных жителей, курили табак, что в те времена было редкостью и вызывало возмущение благочестивых пуритан. Оргии их носили буйный характер: девушки танцевали без одежды, а мужчины пели на мотив церковных литаний похабные песни. Иногда, обедая, кто-нибудь из них разрывал руками кусок мяса и говорил, подражая акту евхаристии: «Сие есть тело Христово, берите и ешьте». И, плеснув пива в огонь: «А это — кровь Христова, пейте ее все».
Осенью 1649 года рантеры появились в Серри, в округе Кобэма. Они призывали конец света, пророчествовали и веселились. «О, царство придет! — восклицали они. — О, день господень придет, словно тать в нощи, внезапно и неожиданно. Господь скажет тебе, нерадивый хозяин: «У тебя много мешков денег, но смотри! Я приду к тебе с мечом в руке и яко тать скажу тебе: давай твой кошелек, давай, живо! Давай, или я перережу тебе глотку!»
Рантеры угрожали сильным мира сего, тем, кто угнетает бедняков: «Я низвергну вашу гордыню, чванство, величие, превосходство и заменю их равенством, единством, общностью… Кара божья обрушится на ваши кошельки, амбары, лошадей; ящур падет па ваших свиней, о вы, жирные свиньи земли, вы скоро пойдете под нож!..»
Обличая власть имущих, рантеры говорили о тяжких бедствиях простого народа, который живет в страшной нужде; сотни бедняков умирают каждую неделю от голода, страдают в зачумленных тюрьмах и грязных подвалах. «Сколь долго еще я буду слышать, — взывали они, — вопли и стоны и видеть слезы бедных вдов, и слышать проклятия из каждого угла; весь народ вопиет: угнетение, угнетение, тирания, тирания, худшая из тираний, неслыханная, противоестественная тирания! О, моя спина, мои плечи! О, десятины, акцизы, налоги и прочее! О, господи! О, господи боже всемогущий!»
Они повторяли, что бог ныне избрал бедных и невежественных, чтобы явить миру свою правду. И, наконец, они отрицали частную собственность. Все наши беды и сама смерть, утверждали они, происходят от частного присвоения. Весь мир, вся земля и ее плоды — общее достояние, и каждый может пользоваться всем свободно. «Отдайте, отдайте, отдайте, — писал Коппе, — отдайте ваши дома, лошадей, добро, золото, земли, отдайте, не считайте ничего своим собственным, владейте всем сообща».
И кое-кому в Кобэме и поблизости — из тех, кого так гневно обличали рантеры, — показалось очень кстати смешать воедино, перепутать их неистовые исумбурные выступления с движением диггеров, которые тоже ведь осуждали богачей и защищали бедняков, выступали за всеобщее равенство и общность имуществ.
О диггерах пустили слух, что они в своей колонии обобществили не только землю и орудия труда, но и женщин. Уже в «Новогоднем подарке парламенту и армии» Уинстэнли пришлось решительно отвергнуть эту клевету. «Враги наши сообщают, — написал он, — что мы, диггеры, владеем женщинами сообща и пребываем в этом скотстве. С моей стороны, я выступаю против этого. Я признаю правильным, что земля должна быть общей сокровищницей для всех; но что касается женщин, пусть каждый мужчина имеет свою собственную жену, а каждая женщина — своего собственного мужа. И я не знаю никого из диггеров, которые действуют так неразумно в отношении общности женщин». О рантерах он написал осторожно: «Если кто-либо и поступает так, я заявляю, что не имею ничего общего с такими людьми, а предоставлю их собственному их господину, который отплатит им мучениями духа и болезнями плоти».
недавних пор, а точнее — после разгрома майского восстания левеллеров в Англии появились люди, которых стали называть рантерами. «Рант» по-английски изрекать напыщенно, разражаться тирадами, суесловить, а также шумно веселиться, громко петь, буянить. Когда говорили о «рантерском поведении», под этим понимали пьянство, разгул, неистовство, богохульство, разрушение всех моральных устоев.
С казнью Карла Стюарта, «божьего помазанника», мир, казалось, перевернулся вверх дном и все основания старого строя рухнули. Вслед за тем рухнули надежды на «справедливую республику». Новые правители продолжали угнетательскую политику тирана; в мае они потопили в крови движение левеллеров — борцов за равенство и демократическое устройство. Цинизм и отчаяние, вызванные этим разгромом, и породили движение рантеров.
Разгульными бродягами-рантерами становились обнищавшие ремесленники, батраки, крестьяне, потерявшие землю и имущество в результате войны, поденщики. Возможно, и кое-кто из левеллеров, участников восстания, вынужденных теперь скрываться от властей, примкнул к их веселым сборищам. Вожди рантеров — Кларксон, Коппе, Фостер — называли господа бога «главным левеллером», который придет на землю, чтобы сровнять горы с долинами, высоких с низкими, богатых и сильных с бедными и слабыми.
Рантерские проповедники, вещавшие на церковных папертях, на базарных площадях и в тавернах, дерзко отрицали старую религию — религию папистов, епископа лов (сторонников англиканской церкви) и пресвитериан; они нападали и на индепендентов, и на анабаптистов. Они отвергали Библию, храмы, богослужение. И уверяли, что бог присутствует во всех вещах, он неотделим от сотворенного им мира. «Я вижу, — писал Джекоб Ботумли, один из рантерских памфлетистов, — что Бог находится во всех творениях, в человеке и животном, рыбе и птице, и в каждом растении от высочайшего кедра до плюща на стене». А другие рантеры добавляли: бог — ив кошке, и в собаке, и в этой трубке с табаком, и в табурете.
А раз так — свято все, и нет греха на земле. Рантеры отождествляли добро и зло, добродетель и грех, дозволенное и недозволенное. Чистые, не замутненные предрассудками глаза, уверял Лоуренс Кларксон, увидят, что «дьявол — это Бог, ад — это небеса, грех — святость, проклятие — спасение». Нет действия, нечистого перед богом.
Рантеры бродили по дорогам, проповедовали, собирая деньги со слушателей, а потом пропивали и проедали эти деньги в дешевых тавернах. Вместе с ними шли женщины, и нельзя было понять, кто у них муж, кто — жена, от кого рождаются дети; они совращали жен местных жителей, курили табак, что в те времена было редкостью и вызывало возмущение благочестивых пуритан. Оргии их носили буйный характер: девушки танцевали без одежды, а мужчины пели на мотив церковных литаний похабные песни. Иногда, обедая, кто-нибудь из них разрывал руками кусок мяса и говорил, подражая акту евхаристии: «Сие есть тело Христово, берите и ешьте». И, плеснув пива в огонь: «А это — кровь Христова, пейте ее все».
Осенью 1649 года рантеры появились в Серри, в округе Кобэма. Они призывали конец света, пророчествовали и веселились. «О, царство придет! — восклицали они. — О, день господень придет, словно тать в нощи, внезапно и неожиданно. Господь скажет тебе, нерадивый хозяин: «У тебя много мешков денег, но смотри! Я приду к тебе с мечом в руке и яко тать скажу тебе: давай твой кошелек, давай, живо! Давай, или я перережу тебе глотку!»
Рантеры угрожали сильным мира сего, тем, кто угнетает бедняков: «Я низвергну вашу гордыню, чванство, величие, превосходство и заменю их равенством, единством, общностью… Кара божья обрушится на ваши кошельки, амбары, лошадей; ящур падет па ваших свиней, о вы, жирные свиньи земли, вы скоро пойдете под нож!..»
Обличая власть имущих, рантеры говорили о тяжких бедствиях простого народа, который живет в страшной нужде; сотни бедняков умирают каждую неделю от голода, страдают в зачумленных тюрьмах и грязных подвалах. «Сколь долго еще я буду слышать, — взывали они, — вопли и стоны и видеть слезы бедных вдов, и слышать проклятия из каждого угла; весь народ вопиет: угнетение, угнетение, тирания, тирания, худшая из тираний, неслыханная, противоестественная тирания! О, моя спина, мои плечи! О, десятины, акцизы, налоги и прочее! О, господи! О, господи боже всемогущий!»
Они повторяли, что бог ныне избрал бедных и невежественных, чтобы явить миру свою правду. И, наконец, они отрицали частную собственность. Все наши беды и сама смерть, утверждали они, происходят от частного присвоения. Весь мир, вся земля и ее плоды — общее достояние, и каждый может пользоваться всем свободно. «Отдайте, отдайте, отдайте, — писал Коппе, — отдайте ваши дома, лошадей, добро, золото, земли, отдайте, не считайте ничего своим собственным, владейте всем сообща».
И кое-кому в Кобэме и поблизости — из тех, кого так гневно обличали рантеры, — показалось очень кстати смешать воедино, перепутать их неистовые исумбурные выступления с движением диггеров, которые тоже ведь осуждали богачей и защищали бедняков, выступали за всеобщее равенство и общность имуществ.
О диггерах пустили слух, что они в своей колонии обобществили не только землю и орудия труда, но и женщин. Уже в «Новогоднем подарке парламенту и армии» Уинстэнли пришлось решительно отвергнуть эту клевету. «Враги наши сообщают, — написал он, — что мы, диггеры, владеем женщинами сообща и пребываем в этом скотстве. С моей стороны, я выступаю против этого. Я признаю правильным, что земля должна быть общей сокровищницей для всех; но что касается женщин, пусть каждый мужчина имеет свою собственную жену, а каждая женщина — своего собственного мужа. И я не знаю никого из диггеров, которые действуют так неразумно в отношении общности женщин». О рантерах он написал осторожно: «Если кто-либо и поступает так, я заявляю, что не имею ничего общего с такими людьми, а предоставлю их собственному их господину, который отплатит им мучениями духа и болезнями плоти».
Но сплетни продолжали будоражить округу. Райтеров стало больше. Они приходили и к диггерам, проповедовали, склоняя их к своей вере. Один из них — Лоуренс Кларксон — был весьма примечательной фигурой. Он был моложе Уинстэнли на шесть лет и родом происходил, как и тот, из Ланкашира. В юности он работал портным и являлся приверженцем официальной англиканской церкви. Потом, разочаровавшись в папистской роскоши и разнузданности клира, стал пуританином — перешел в пресвитерианство. Но вскоре отошел и от пресвитериан и стал антиномианским проповедником, Индепендентом. Потом — анабаптистом, потом — сикером. Несколько раз сидел в тюрьме за свои проповеди и за то, что самовольно крестил взрослых — погружал новообращенных сектантов в источники и речки. Писал трактаты о своих поисках истины, осуждал парламент за медлительность в деле реформ. В начале 1650 года он явился в Серри и там сразу сблизился с диггерами. Циничный, сластолюбивый, говорливый сверх меры, он расспрашивал Уинстэнли о делах колонии. Они встречались и говорили подолгу, в чем-то соглашались. Кларксон убеждал, что бог сделал все вещи добрыми, только человек делит их на добрые и злые; нет таких пороков, полагал он, как воровство, обман или ложь — ведь человек был создан творцом без всякой собственности, без «моего» и «твоего». Все общее, значит, каждый может брать себе все, что захочет. Да, отвечал Уинстэнли, вот для этого-то, для уничтожения подобных пороков мы и вскапываем общинные земли, чтобы все могли жить своим трудом и не возникало нужды в обмане. Кларксон отрицал рай и ад и вообще загробный мир в какой бы то ни было форме — и Уинстэнли согласно кивал головой: что мы можем знать о существовании за чертой смерти? Он соглашался и тогда, когда Кларксон говорил о возможности всеобщего спасения и о том, что Библия отнюдь не является непогрешимым, абсолютным авторитетом. Об этом и Уинстэнли уже писал в своих первых трактатах. Они сходились и в том, что падение монархии Карла Стюарта открыло новую страницу в истории человечества, что это только начальная стадия в преобразовании мира. И в том, что бог ныне пребывает в бедняках, а богатство, начавшееся с частного присвоения земли, породило все несчастья в мире, все пороки, всю кровь — от праведного Авеля до крови недавно расстрелянных левеллеров. Но выводы из этих сходных мыслей у них получались разные. — Богатство неправедно, — говорил Кларксон, — значит, можно грабить и красть. — Нет, — отвечал Уинстэнли, — богатство неправедно, значит, не надо присваивать ничего чужого, а вместе трудиться на общей земле, чтобы питаться плодами труда рук своих в справедливости. — Все равны, — говорил еще Кларксон, — значит, не будем трудиться, как не трудятся лорды, будем жить в праздности и веселье и уповать на счастливый Кокейн, где жареные утки сами летят в руки, а реки текут медом и молоком. — Будем трудиться в равенстве и свободе, — повторял опять Уинстэнли, — и своим трудом создавать мир и счастье на земле. Он приглашал рантеров, пришедших вместе с Кларксоном, присоединиться к их свободному и радостному ТРУДУ, дабы жить в справедливости. Но Кларксон и ему подобные не хотели трудиться. Беспечная и разгульная жизнь бродяг нравилась им куда больше, чем благородная, самоотверженная скромность диггерской жизни. — Вы хотите жить в разуме, — ворчал в ответ Кларксон, разум и есть дьявол; он любит себя превыше всех других и захватывает власть над собратьями по творению… Кларксон не встретил поддержки у диггеров. Они не променяли выстраданную многими месяцами труда, совместных мучений и борьбы жизнь на легкое, бездумное, лишенное светлой идеи рантерское существование. Они, эти несчастные бедняки, едва ли и евшие каждый день досыта, остались верны идеям своего вождя Уинстэнли. Видя свое поражение и, может быть, завидуя авторитету Уинстэнли среди бедняков округи, Кларксон заявил, что тот собрал диггеров в коммуну потому, что в сердце его царят себялюбие и тщеславие. С помощью вскапывания общинных земель он хочет привлечь на свою сторону народ, дабы возвеличить свое имя среди бедных обитателей страны. «Все, что говорят и делают диггеры — ложь», — решил он про себя и заключил, что прекрасно может обмануть их и жить среди них процветая и не попадая под плеть закона. Позже, уже после ухода из Кобэма, Кларксон был арестован и приговорен к месячному тюремному заключению и изгнанию за пределы республики за трактат «Единое око; все свет, тьмы нет, или свет и тьма — одно». Трактат бесстыдно проповедовал распущенность и моральную вседозволенность. Он был сожжен рукой палача. Сам же Кларксон из Англии никуда не уехал. Он продолжал скитаться, выдавая себя за профессора астрономии и физики, занимался магией, пытался лечить больных, пока наконец не примкнул к мистическому и далекому от насущных проблем дня движению Лодовика Магглтона. Умер Кларксон после реставрации, в 1667 году, вновь примкнув к победившей англиканской церкви. Пока же рантеры продолжали будоражить обитателей Кобэма и навлекать гнев на себя, а заодно и на диггеров. Уинстэнли решил открыто размежеваться с ними. В феврале 1650 года он пишет памфлет «Оправдание тех, называемых диггерами, чья цель — всего лишь сделать землю общей сокровищницей, или Некоторые основания, выдвинутые ими против неумеренности в использовании дара творения или необузданной общности женщин, что носит название рантерства». Царство рантеров, писал оп, царство внешнее, предметное, подверженное порче. Их радость состоит в пище, питье, удовольствиях и женщинах. Так что внутренний их человек не может успокоиться, пока с избытком не насладится всеми этими внешними, суетными вещами. И потому их царство — дьявольское царство тьмы, лишенное света и спокойной внутренней радости. Ведь внешняя жизнь, неумеренная еда и питье, неразборчивые связи со многими женщинами — это всего лишь жизнь наших пяти внешних чувств, животная жизнь плоти. Она помрачает разум, который есть истинное семя или древо жизни, настоящий источник внутренней радости. Когда правит разум, не позволяя внешним чувствам впадать в излишества, тогда все тело вкушает мир и блаженный покой. Рантерство, продолжал он, это поистине царство жадности, царство плотских наслаждений, чем оно отличается от того, чем живут лорды и князья мира сего? Такая жизнь, доказывал он, разрушительна для тела, которое является храмом духа; она приносит болезни, делает тело хилым, слабосильным и вялым; а болезни влекут за собой печаль. Все это разрушает дух, рождает гнев, раздражение, недовольство. Мир и радость, верные свидетели присутствия бога в душе, уходят, люди ссорятся друг с другом и дерутся как собаки из-за денег или женщин, оскверняя себя кровопролитием и убийством. Рантерство разрушает согласие в семье; оно вторгается между мужем и женой, которые живут в мире и истинной любви друг к другу; разрывает их союз, ввергает их в море безумия и разрушения, и они уже не могут любить друг друга. Мужчины топчут домашний очаг и оставляют своих детей сиротами, женщины забывают долг материнский и супружеский. Крайности в общении с женщинами нарушают чистоту и здоровье будущих поколений. Семя жизни пропадает втуне, и дети рождаются слабосильными и нечистыми, что делает несчастными их матерей и воспитателей. Они либо умирают во младенчестве, либо впадают в слабоумие, а иногда это прирожденные злодеи, полные ненависти ко всем, неистовые и беспощадные. Что может произойти в будущем от такого потомства, как не войны, мятежи и разрушения? Больше всего от рантерства страдают, конечно, женщины и рожденные ими дети, ибо мужчина уходит и оставляет их ради других женщин, подобно быку, который зачинает теленка, но не заботится ни о нем, ни о корове, а лишь о своем удовольствии. Уинстэнли указывал и на огромный общественный вред рантерства. Оно рождает праздность, ибо эти дети неразумия не хотят, да и не могут работать. А для вина, мяса и продажных женщин нужны деньги. Задумались ли вы, откуда у них деньги? Одни воруют, другие проповедуют на базарных площадях и потом, как циркачи, обходят с шапкой доверчивых слушателей, третьи показывают фокусы или занимаются магией, четвертые составляют гороскопы. И все обирают и обманывают бедняков, которые выращивают хлеб в поте лица. Только два совета мог он дать этим заблудшим овцам — два совета, диктуемые чувством любви и справедливости. Во-первых, пусть каждый, желающий жить в мире, посвятит себя прилежному труду по вскапыванию, вспахиванию и засеванию общинных и пустующих земель, чтобы добывать свой хлеб усердной, праведной работой среди других скромных и разумных людей: это лучшее средство против безделья и рантерских искушений. А во-вторых, — тут он уже обращался к властям, — не надо подавлять рантеров силой. Лучше переделывать человека изнутри, а не с помощью внешней силы. Если хочешь карать — оборотись прежде на самого себя: безгрешен ли ты? И тогда уже брось в них камень. Пусть одни грешники не наказывают других за грех, по пусть власть разума и справедливости правит и теми и другими. В начале марта прошел слух, что какие-то люди ходят по стране и от имени диггеров собирают деньги на нужды колонии. Они показывают всем сочувствующим диггерскому движению бумагу, на которой стоят подписи Уинстэнли и его друзей. Никто из диггеров такой бумаги не подписывал; никаких денег колонисты не получали. Не рантеры ли, озлобленные на диггеров, пустились в очередную авантюру? К уже готовому памфлету Уинстэнли пришлось приписать еще несколько строк, чтобы предотвратить дальнейший обман. «Если кто-либо пожелает пожертвовать на поддержку диггеров, копающих на общинных землях, пересылайте свои дары непосредственно нам в руки с каким-либо верным другом». Но в сообщении о сборе денег была и своя отрадная сторона: о диггерах знают, им сочувствуют, о них заботятся. Незнакомые люди, нуждаясь сами, отделяют от своих скудных доходов деньги им в помощь. В их дело верят не только они одни, а значит, можно надеяться на победу.
ПРИНЯТЬ РЕСПУБЛИКУ
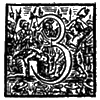 има нового, 1650 года выдалась суровой. Но не морозы, не ветры удручали англичан. Республика опять оказалась под угрозой. Пока Кромвель, проливая потоки крови, зверствуя и теряя сотнями своих солдат, подавлял ирландское восстание, на севере зашевелились шотландцы. Они вели переговоры с сыном казненного короля Карлом и обещали ему корону Англии, Шотландии и Ирландии, если он подпишет «Ковенант» и признает пресвитерианство государственной религией во всех трех королевствах. В самой Англии пресвитериане также подняли головы. Кромвель далеко, а главнокомандующий Фэрфакс сам принадлежит к их партии. Начались памфлетные выступления против республики. И прежде всего массовые отказы подписывать «Обязательство».
«Обязательство», или клятва верности республике, было введено парламентом сразу же после казни короля, в феврале 1649 года. Все члены вновь назначенного Государственного совета должны были собственноручно подписать его и тем самым признать себя сторонниками цареубийства и правления без монархии и палаты лордов. Не все даже тогда, в первые дни республики, отважились поставить свое имя под таким документом.
Впоследствии он был переделан: всякое одобрение «цареубийства» убрали. Осенью 1649 года сокращенный вариант «Обязательства» звучал так: «Я заявляю и обещаю, что буду верным и преданным республике Англии в том виде, в каком она установлена ныне, без короля или палаты лордов». Это «Обязательство» стало формой необходимой присяги для всех нынешних и будущих членов парламента, должностных лиц, духовенства, преподавателей университетов, получателей государственной пенсии и т. п.
В начале же 1650 года было приказано подписать «Обязательство» всему взрослому мужскому населению страны. И вот тут-то разгорелись споры. Пресвитерианские вожди, среди них в первую очередь Уильям Принн, скрыто выступили в печати против принятия клятвы верности республике. Противниками «Обязательства» оказались и левеллеры, разочарованные в антинародной политике республики; кое-кто из них даже тайно искал соглашения с наследником короны, принцем Уэльским.
има нового, 1650 года выдалась суровой. Но не морозы, не ветры удручали англичан. Республика опять оказалась под угрозой. Пока Кромвель, проливая потоки крови, зверствуя и теряя сотнями своих солдат, подавлял ирландское восстание, на севере зашевелились шотландцы. Они вели переговоры с сыном казненного короля Карлом и обещали ему корону Англии, Шотландии и Ирландии, если он подпишет «Ковенант» и признает пресвитерианство государственной религией во всех трех королевствах. В самой Англии пресвитериане также подняли головы. Кромвель далеко, а главнокомандующий Фэрфакс сам принадлежит к их партии. Начались памфлетные выступления против республики. И прежде всего массовые отказы подписывать «Обязательство».
«Обязательство», или клятва верности республике, было введено парламентом сразу же после казни короля, в феврале 1649 года. Все члены вновь назначенного Государственного совета должны были собственноручно подписать его и тем самым признать себя сторонниками цареубийства и правления без монархии и палаты лордов. Не все даже тогда, в первые дни республики, отважились поставить свое имя под таким документом.
Впоследствии он был переделан: всякое одобрение «цареубийства» убрали. Осенью 1649 года сокращенный вариант «Обязательства» звучал так: «Я заявляю и обещаю, что буду верным и преданным республике Англии в том виде, в каком она установлена ныне, без короля или палаты лордов». Это «Обязательство» стало формой необходимой присяги для всех нынешних и будущих членов парламента, должностных лиц, духовенства, преподавателей университетов, получателей государственной пенсии и т. п.
В начале же 1650 года было приказано подписать «Обязательство» всему взрослому мужскому населению страны. И вот тут-то разгорелись споры. Пресвитерианские вожди, среди них в первую очередь Уильям Принн, скрыто выступили в печати против принятия клятвы верности республике. Противниками «Обязательства» оказались и левеллеры, разочарованные в антинародной политике республики; кое-кто из них даже тайно искал соглашения с наследником короны, принцем Уэльским.
Вопрос о подписании «Обязательства» встал и перед Уинстэнли. Впервые он оказался перед столь ясным политическим выбором. Принять ли республику, уже показавшую себя не с лучшей стороны, посадившую на место изгнанных тиранов новых, которые по-прежнему угнетали бедняков и умножали несправедливости на земле? Принять ли республику, которая ничего не сделала для того, чтобы защитить, оправдать праведный труд диггеров, по наоборот, разрешала и поощряла их преследования? Совсем на днях, 23 февраля, Государственный совет опять сообщил Фэрфаксу о жалобах из Серри на порубки общинных лесов и дал указание принять меры. Ибо такие действия, говорилось в послании, «помимо потерь, ободряют самый низкий и неспокойный отряд людей к более смелым действиям». Но если ее отвергнуть, что предпочесть взамен? Возвращение к трижды проклятому режиму Стюартов? Или к ханжескому пресвитерианскому правлению, которое в конце концов опять-таки приведет в страну Стюартов? Или, может быть, подождать, когда вернется из Ирландии Кромвель, и добровольно подставить шею под ярмо военной диктатуры? Ведь до царства равенства и справедливости, где не будет угнетения и тирании, еще очень далеко — Уинстэнли теперь хорошо это понимал. Так принять ли республику, пойти ли на компромисс с ней, чтобы этим путем отстоять хотя бы то немногое, на что можно сейчас надеяться? Он говорил с людьми, быть может, съездил в Лондон, в другие графства. И увидел, что простой народ, бедняки, в словах которых он привык чувствовать высшую правду, согласны поддержать республику. Не для того, чтобы слепо ей подчиниться, а чтобы вести ее путем правды, строить в ней и с ее помощью новое свободное царство. И Уинстэнли в конце февраля или в начале марта 1650 года пишет новый памфлет. Он называется «Раскрытие духа Англии, или Ободрение принять обязательство. Где показана цель того дела, которая была впервые объявлена в начале войн против короля». Двое друзей, А. и О., беседуют после долгой разлуки. — Где ты был так долго? — спрашивает один. — Я ездил по стране, чтобы понять состояние духа и мнение народа. — Ну и как ты его нашел? — В одних дух угнетен тройным игом, а в других освобождается от оков. Но больше всего сейчас спорят об «Обязательстве». — И как народ к нему относится? — Большинство принимает его, и суть дела вот в чем. Если мы поддержим настоящее правительство, говорят они, без короля и палаты лордов, — мы будем находиться под властью сменяемых парламентов. И тем самым освободимся от продажности постоянных правителей. Ибо если одни и те же люди бессменно будут сидеть в кресле властителей, они покажут себя столь же скверными или еще хуже, чем король и лорды. И во-вторых, ведь настоящее республиканское правительство отменило королевскую тиранию и тем самым дало всем жителям страны право на землю, освободив их от нормандского ига. То есть земля теперь стала общей сокровищницей для всех англичан. — А еще почему народу нравится «Обязательство»? — спрашивал опять первый. — В нем сказано, — следовал ответ, — о сменяемости парламентов и о том, что отныне устанавливается свобода для всех выбирать в парламент своих представителей. Ибо раньше лорды рассылали повсюду своих людей, которые заставляли англичан голосовать за них или их ставленников. Первый собеседник задавал новый, очень коварный вопрос: — Но не может ли нынешний парламент показать себя столь же тиранической властью, как палата лордов или король, и какое средство есть у народа против этого? — Нет, не может, — отвечал мудрый друг, — ибо представители в парламенте не будут находиться у власти вечно, но добровольно сложат с себя обязанности, чтобы дать место другим. А кто попытается утвердиться у власти, подобно королю или палате лордов, тот сам нарушит данное обязательство и объявит себя предателем английской свободы. — И так думает весь народ? — Да, все беспристрастные люди, которые любят английскую свободу; но есть и такие, кто резко протестует против «Обязательства» и отказывается принять его. — Кто они? — Это лорды маноров, живущие на десятину священнослужители, проповедующие в пользу короля и лордов, светские собственники церковных владений, юристы, жадные ростовщики и угнетатели-лендлорды. — Чем же ущемляет их «Обязательство»? — Навязанная народу власть — основа их благосостояния; они хотят сохранить за собой эту власть завоевателей, и потому они враги народной свободы. Если эту власть отнять у них, они станут равными другим англичанам, их братьям, и должны будут позволить им жить на земле в том же достатке, что и они, а этого их алчность и гордыня допустить не могут. — Значит, если будет принято «Обязательство», — продолжал доискиваться любознательный А., — эти люди потеряют что-то в своем положении и правах? — Нет, — отвечал О. — Они будут пользоваться своими прирожденными правами, как и все остальные. Они потеряют только власть завоевателя, которая порождает всяческую тиранию; только эта власть будет отобрана у них. — А будет ли парламент сам выполнять это «Обязательство» и побуждать всех остальных исполнять его? — Без сомнения. Ибо если сам парламент будет действовать вопреки своим клятвам, особенно в делах свободы, народ выступит против него. И каждый город или графство сможет отозвать своих представителей из этого вероломного парламента и избрать новых на их место. И опять первый собеседник задавал искусительные и коварные вопросы. Опасные вопросы, если принять во внимание реальную власть, управляющую Англией: — Разве мы не видим, что сильные мира сего, живущие по власти завоевания, делают волю свою законом, как если бы старое правление еще сохранялось? — Верно, — соглашался второй, — их воля была законом, но теперь они не могут править по своей воле, ибо тот или те, кто попробует сделать это, вернут в Англию королевскую власть и снова установят тиранию; они сами нарушат «Обязательство» и покажут себя предателями республики. Народ же, столь чувствительный теперь к свободе, не помилует таких владык. — Будут ли сторонники побежденной королевской партии иметь какую-либо пользу от «Обязательства»? — Да, если они примут его и станут соблюдать, они получат одинаковые права с другими, ибо они тоже англичане. А. размышлял вслух: — Но право же, люди, которые хотели бы быть тиранами, очень обеспокоены тем обстоятельством, что порабощенный народ отпадет от них и не будет ни сражаться за них, ни работать на них. — Увы, бедняги! — подхватывал О. — Те, кто желает порабощать других, сами рабы — рабы королевской власти в душе своей. Но если они дадут беднякам свободу и снимут с них тяжкое иго нормандской власти, они завоюют его сердца. И если они не поторопятся — то, чего они так боятся, падет на их головы. А. хотел узнать еще о великом созидающем духе, живущем в каждом человеке, о том, что будет с людьми после смерти и что есть воскресение из мертвых, но О. уклонился от ответа. — В следующий раз, — сказал он, — я поведаю тебе все. Но сейчас слишком много дел ожидает меня; простимся же…
Это был первый полностью политический трактат, который написал Уинстэнли. Он представлял собой прямую и ясную защиту Английской республики против всех ее врагов и справа и слева и призыв принять эту республику, твердо соблюдать ее принципы и строить на ее основе свободное общество, которым правит сам народ, избирая и отзывая своих представителей. Уинстэнли определенно заявил, что рассматривает республиканский режим как единственно возможный для дальнейшего совершенствования социального порядка. Здесь он был в большей степени реалистом, чем левеллеры, которые в это время налаживали тайные связи с роялистами: для них возвращение в страну Стюартов было более приемлемым, чем существование разбившей их надежды республики. Памфлет имел приложение, никак, по видимости, не связанное с основным его содержанием. Это было «Слово предостережения», опять посвященное рантерам. Вероятно, кто-то из них еще оставался в округе Кобэма и продолжал будоражить людей. Сначала Уинстэнли обращался с небольшим шестистишием к женщинам, призывая их не бывать в компаниях рантеров и не называть свободой тщету мира сего. «Если вы произведете на свет дитя от такого легкого союза, вы будете несчастны, ибо мужчина уйдет, ища столь же легких и ни к чему не обязывающих связей, и оставит вас без помощи». Он понимал, что верность и целомудрие женщин, целостность семьи — основа основ здорового общественного устройства. В округе все еще упорно поговаривали, что диггеры и рантеры — одно и то же, и это требовало нового опровержения. «Говорят, что действия диггеров приводят к усвоению рантерских взглядов, — сердито написал Уинстэнли. — Но я утверждаю, что если кто-либо из диггеров ударится в рантерство, они предадут свои собственные идеи».
Жизнь была полна забот, неустанных поисков пропитания для голодающих колонистов, волнений и борьбы. Но не только огорчения и беды несла она, выпадали и радости. В начале марта диггеры узнали, что они не одиноки. Не только безымянные друзья, которые давали свои деньги, чтобы поддержать их дело, существовали в Англии; нет, появилась еще одна община копателей — близ городка Уэллингборо, графство Нортгемптон. 12 марта 1650 года его беднейшие жители опубликовали в печатне Джайлса Калверта декларацию, где объясняли, почему они начали вскапывать, обрабатывать и засевать зерном общинную пустошь Бэршенк. Положение жителей этого городка, расположенного к северу от Лондона, было поистине плачевно: 1169 человек в одном только приходе Уэллингборо жили на милостыню — так подсчитали государственные чиновники. Это значило, что жители голодали. Судьи, которым стало известно об их бедствиях, издали приказ, чтобы имущие граждане города собрали фонд для обеспечения бедняков работой, но приказ остался приказом; ничего не было сделано, чтобы помочь нуждающимся. «Мы потратили все. что имели, — писали отчаявшиеся люди, — наши ремесла в упадке, наши жены и дети плачут, не имея хлеба, сами жизни наши стали для нас бременем, ибо некоторые из нас имеют семьи по пять, шесть, семь, восемь или девять душ, а мы не можем заработать даже на прокормление одного из них; сердца богачей ожесточились, они не хотят подавать нам ничего, когда мы стучимся у их дверей; а если мы крадем, закон приговаривает нас к смерти. Некоторые из бедняков уже умерли от голода…» Единственный выход для них — это возделывать пустующие земли: они имеют на это право по закону страны, Разума и Писания. Они уже начали работать. И заявляют, что не собираются вторгаться в права чужой собственности, пока владельцы не отдадут ее добровольно в общее пользование. И удивительно! Некоторые из зажиточных людей, имевшие право на общинные земли, сами отказались от него в пользу бедняков. В декларации даже назывались их имена: мистер Джон Фримен, Томас Ноттингем, Джон Клендон и некоторые другие. А крестьяне дали копателям зерна для посева. «Те же, кто против нас, оказывается, это давние и постоянные враги парламентского дела, от начала и до конца». Копатели Уэллингборо выражали желание, чтобы эта их декларация была показана парламенту и чтобы он поддержал их, да благословен он будет вовеки. Все добрые люди будут на его стороне, а злые да убоятся. Они также приглашали всех желающих прийти к ним и работать вместе с ними в мире и справедливости. Под декларацией стояло девять подписей. Но в заголовке ее значилось, что еще сотни людей дали согласие на это праведное дело. И главное — местные жители как будто не только не собирались разгонять новую общину, как было в Серри, но наоборот, относились к ней доброжелательно, с пониманием и даже поддерживали ее зерном и отказом от прав на общинные земли. Это рождало надежду.
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
 ще темной, холодной зимой, страдая от одиночества, боли в груди и безнадежности, спасаясь от неверия, которое по временам заползало в душу, Уинстэнли начал писать большой труд, в котором хотел изложить основы основ своего учения. Он сидел в своей тесной холодной келье, глядел на сизый туман, вползавший сквозь щели в ставнях и от огня лучины казавшийся красноватым, и вспоминал откровение, посетившее его тогда, почти полтора года назад, еще до казни Стюарта. Он чувствовал необходимость осмыслить его до конца. Он видел и вновь переживал внутри себя кровавые апокалипсические сражения. Блистал латами, и оперенным шлемом, и мечом архистратиг Михаил, глава небесного воинства; перед ним извивался стоглавый дракон, извергая из всех своих пастей серное пламя. Эти битвы шли на небесах — но и в сердце человеческом, и делались все ожесточеннее, все жарче.
Перед мысленным взором вставал и другой образ, другая библейская легенда. Моисей пас овец у Иофора, своего тестя, и завел стадо далеко в пустыню. И у священной горы Хорив увидел он куст терновый, который горел ярким пламенем, но не сгорал. Из него вещал голос бога.
…И сказал господь: «Я увидел страдание народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед… Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне… Итак, пойди и выведи из Египта мой народ. Я буду с тобою…»
Так было написано в священной книге. Уинстэнли вдумывался в текст и по временам чувствовал себя Моисеем, выводящим свой народ из плена порабощения.
Друзья диггеры тогда пали духом. У них не было хлеба. Дети с утра цеплялись за подолы матерей, прося есть. Уинстэнли снова дал указание рубить деревья в общинном лесу на продажу; но жители округи, повинуясь приказу лордов, не хотели торговать с диггерами. Чтобы продать деревья и купить пищу, приходилось ездить далеко к югу, за Гилфорд. Колония не сводила концы с концами.
Революция шла на убыль, это чувствовалось во всем: в подавлении левеллерского движения, в суровых, оберегающих старые устои постановлениях парламента, в самодурстве лендлордов на местах, в зверствах Кромвеля, подавлявшего ирландцев, в алчности новых правителей. И сам революционный дух угасал: левеллеры завели интриги с роялистами, парламент и не думал принимать новую конституцию и расходиться… Все это требовало не только осмысления, но и попытки вновь воспламенить дух народа, побудить его продолжать борьбу, дать ему веру и надежду.
Когда борьба с королевской тиранией только еще начиналась, самым могучим источником энергии масс стали грандиозные образы и пророчества Библии. Книга Бытия, трактующая о сотворении мира и грехопадении человека, туманные и страстные предсказания Иезекииля, Даниила, Малахии, величественные картины Откровения святого Иоанна будили ум и воображение, воодушевляли и звали к новому, неведомому будущему. Уинстэнли решает обратиться к этому неиссякаемому источнику и представить библейскую историю в новом свете, показать ее связь с проблемами сегодняшнего дня.
Он задумывает большой, поистине титанический труд, который должен состоять из тринадцати глав: «Что есть сад Эдемский», «Что есть древо познания добра и зла», «Что есть древо жизни», «Что есть Змий», «Что есть душа человеческая»… Еще главы о проклятии и воскресении, об апокалипсических чудовищах, о временах и исполнении времен, об искушении, о царстве дьявола и царствии небесном… Весь трактат он называет «Неопалимая купина. Дух горящий, не сгорающий, но очищающий род людской. Или Великая битва всемогущего Бога между Михаилом, семенем жизни, и огромным красным драконом, проклятием, сражающимся внутри духа человеческого».
Прежде он изъяснял свое учение лорду Фэрфаксу и военному совету, армии и парламенту, ученым Оксфорда и Кембриджа, всему английскому народу. Теперь он обращается ко всем церквам Англии — англиканской, пресвитерианской, индепендентской, к любым другим исповеданиям. Он будет писать о жизни человеческого духа.
Братья, так начал он, это слово жизни — свободный дар самого Отца, я получил его не от людей. Когда я писал его, мне было указано послать его вам немедля, но я отложил его почти на две недели и не думал о нем. Но однажды ночью я проснулся и услышал голос в сердце моем и на устах: «Иди и пошли это церквам». Душа моя исполнилась такой любовью к вам и жалостью; ведь вы алкаете жизни, а сами лежите под властью смерти, в оковах, и не ведаете того духа, который на словах исповедуете.
Вы говорите о жизни и любви. Но вы не знаете их. Вы словно иностранцы в стране любви. И прежде чем вы начнете жить истинной жизнью, вы должны умереть, а прежде чем объединиться в одно единое тело, все ваши отдельные тела и общества следует разбить вдребезги. Ибо истинный свет грядет, чтобы потрясти не только землю, но и сами небеса. То, что вы называете богослужением и царством внешним, должно пасть, чтобы установилось внутреннее царство, ибо все ваши церкви подобны огораживаниям земли: одних они делают наследниками жизни вечной, а других оставляют за ее пределами. Одни из вас говорят: вот, Христос здесь, с нами, другие возражают: нет, он там; но воистину, братья, Христос — это всеобщая власть любви. Он не может быть в тон партии или в этой.
И я послушался этого голоса, продолжал он, и направляю вам это с любовью. Одни из вас встретят мое послание с кротостью; другие будут оскорблены и пойдут войной на меня или подвергнут осмеянию. Пусть так: доспехи мои испытаны, я уверен, что они выдержат натиск.
Итак, я буду говорить с вами о саде Эдемском, который есть не что иное, как душа человеческая. В саду этом произрастают сорняки и добрые травы. Сорняки — это себялюбие, гордыня, злоба, жадность к богатству, почестям, удовольствиям. Это еще и лицемерие, заставляющее говорить и обещать одно, а делать другое, чтобы достичь эгоистических целей. Ему помогают тщеславие, боязнь разоблачения, угнетение других, жестокосердие. Они растут буйно и забивают прекрасные цветы и травы, идущие от духа истины. Ими движет дух тьмы, или дьявол. Власть его — ночь для человечества, отсутствие Солнца справедливости в его сердцах.
И вы, члены церквей земных, исповедуете этого духа злобы; его вы называете своим богом. Вспомните, с каким гневом вы ополчаетесь на тех, кто думает не так, как вы.
Прекрасные же цветы Эдемского сада — это радость, мир, любовь, скромность, самоотверженность, терпение, искренность, правда и равенство. Это древо жизни внутри вас. Когда они управляют вами, в душе вашей царит день, или Солнце справедливости. Смотрите же сами, как вы живете и кого исповедуете. Если вы действительно веруете во Христа, вы не должны никого порабощать, но отпустить всех на свободу; не разрушать, но спасать.
Сквозь взлеты духовных прозрений он подходил к главной своей мысли, к тому, ради чего он вообще писал и действовал эти последние годы. Пока земля остается в частном владении и охраняется властью меча, в который раз повторял он, творение лежит в оковах и дьявол правит им. Придите же, объедините ваши руки и сердца и освободите землю. Ничто не стоит на пути у вас, англичане, кроме вашей собственной алчности. Не будьте подобны крысам и мышам, которые тащат все сокровища земли в свои дыры, чтобы любоваться их блеском, в то время как их собратья, которым все это также принадлежит по праву творения, голодают и находятся в нужде. Пока вы желаете большего, чем утоление голода и удовлетворение самых насущных потребностей, вы идете по пути зла.
Знайте, предостерегал он, Сын справедливости уже близко; он разрушит все ваши ограды и откроет землю для простого народа; он спрямит дороги и сровняет горы с долинами.
Перед его глазами вставал Эдемский сад, рай, с его легкой, счастливой беззаботностью, с его изобилием, с его любовью, не замутненной вожделением. Природа представлялась ему одеждой бога, который наполнял все собою. А главным созданием природы, венцом творения являлся человек, господин над землей и всеми тварями земными. И ни одна ветвь человечества не была лишена этого владения, но все должны были владеть всем сообща.
Пять рек омывают этот сад жизни: слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. Они связывают все живое с миром природы. А посреди сада возвышаются два древа: древо познания добра и зла и древо жизни. Первое из них имеет в своем облике нечто соблазнительное и злое. Это древо воображения, оно не дает истинного знания. Человечество вкусило от его плодов и потеряло свою честь и силу; слабость и болезнь проникли в его нутро, оно отпало от бога и стало подобно зверям лесным, лишенным понимания окружающего мира. Его наполнили страхи, сомнения, беспокойство, подозрения и зависть; ему захотелось владеть безраздельно каждой вещью, которая сулила ему наслаждение. Оно стало называть доброе дурным, а дурное добрым. Увидело свою наготу и устыдилось. И было исторгнуто из рая, то есть из себя самого, и стало жить без бога. До сих пор человечество во всем мире добровольно вкушает плоды этого древа, им правит власть тьмы.
А древо жизни — могучее и благодетельное, прекрасное древо — источает любовь. Плоды его дают чистое и полное знание мира. Это древо истинного Разума спасет всех, и все станут жить в мире и радости, ибо оно дает скромность, искренность, терпение и терпимость, умеренность, мудрость, истину, справедливость, целомудрие, радость, мир и свободу. Оно принесет истинную общность и уничтожает собственность-убийцу. Оно уравняет всех людей, приведет их к единству сердца и духа.
Уинстэнли писал этот трактат с упоением; восторг и любовь переполняли его сердце. Строгое построение, поначалу созданное разумом, ломалось; мысли обгоняли одна другую, перескакивали с предмета на предмет, возвращались к уже сказанному. Снова дни смешались с ночами, и его естество почти совсем отказалось от пищи. От слабости застилало глаза. Перед умственным взором вставали видения. Свет боролся против тьмы, всеобщая вселенская любовь — против силы себялюбия, жизнь — против смерти, истинное знание против плотского воображения. Мир рушился, наступали последние времена.
И, сам того не замечая, Уинстэнли спускался из блаженного Эдемского сада на грешную, любимую землю, и насущные нужды родной страны заполняли его сознание. Он объяснял своим братьям англичанам: «Стыд и беда нашего века в том, что каждый… ищет Бога и управителя вне себя, как зверь лесной, лишь немногие видят правителя внутри, и потому большинство потеряли власть над собою и господство и живут в проклятии… Они выброшены из райского сада и живут сами собой на земле; они живут богатством, почестями, удовольствиями, проповедниками, юристами, армиями, женой, детьми, указами, внешними обрядами или животным сожительством с женщинами; в наши дни они превозносят вожделения плоти; и полагают хорошим то, что находится вне их. Отберите это у них, и они умрут; ибо не знают, как управлять собой и другими».
Люди недовольны миром, внешние обстоятельства пугают или раздражают их; они стонут от несовершенства миропорядка и не понимают, что главная причина их недовольства — внутри их. Как дать им это понимание? «Те, кто живет внешним, — терпеливо повторял он, — полны внутреннего беспокойства, их пробирают многие горести, рабский страх в душе их заслоняет дорогу к древу жизни; они не осмеливаются жить в свободной общности или всеобщей любви, боясь, как бы другие не стали глумиться, ненавидеть или вредить им или как бы им не впасть в нужду, недостаток пищи или одежды. Ибо воображение говорит им, что если они будут любить и помогать другим, те не ответят им любовью. Но они не знают духа и живут на земле без него — предметами внешними, под властью тьмы, именуемой неверием».
Уинстэнли хорошо понимал опасность, которую несет для власть имущих подъем духовной жизни народа. Они стремятся получить свое — и горе тому, кто мыслит не так, как мыслят они сами! «Человек, живущий плотским воображением, не может жить внутри себя; это для него безумие и чудачество, он должен бежать из дому в поисках удовольствий и услаждает все свои чувства лишь внешними предметами и с жадностью стремится удовлетворить себя. И глумится, смеется, ненавидит и преследует дух, называя его безумием, богохульством и беспорядком, который разрушит всякое правление и порядок».
Он перебирал в уме свою жизнь, и горькие мысли наплывали одна за другой. Примет ли мир его светлую идею, согласится ли с ней? «Да, говорит душа, злое настало время. А мнимый страх твердит, наполняя душу печалью: о, если б это тело никогда не родилось на свет! Как бы хотел я умереть в утробе матери! Если это — удел человека, я хотел бы быть тогда птицей, зверем или другой какой тварью. Когда я не забочусь о том, чтобы поступать по совести, я могу жить, я имею друзей, я наслаждаюсь миром; но как только я начинаю поступать так, как хочу, чтобы поступали со мной, друзья тотчас же удаляются, все начинают ненавидеть меня; я беззащитен перед любым несчастьем. И это все приносит тебе твоя справедливость, о жалкое ничтожество?»
Будущее вдруг начинало рисоваться ему в мрачных тонах. Он забывал о цели и замысле трактата и писал о своей жизни, поверяя бумаге тайные предчувствия и опасения. Что ждет его? «Ты увидишь предательство людей, которые окружают тебя, — говорил ему голос внутри его, — нищета будет грозить тебе, тело ослабеет, а дух потонет в пучине горя и страха и будет спрашивать себя: что же делать? И как жить? Одни будут над тобою смеяться, другие тебя обманут; а те, кто, казалось, исповедовали тот же дух, к которому стремился и ты, станут самыми злейшими твоими врагами; они будут гнаться за внешним, а не жить внутренней жизнью, и кто станет более жадным и жестоким, чем они? И ты останешься один? Да, один, даже среди тех, кто будет признавать тебя или заботиться о тебе».
Он и сейчас уже чувствовал себя страшно одиноким. Его друзья диггеры верили ему и почитали, они трогательно делились с ним последним куском. Но ему иногда казалось, что они не понимают его. Их, простых крестьян, заботили сиюминутные нужды дня, они не в состоянии были прозреть великие тайны грядущей мировой гармонии. То, что для него было предельно ясно и проявлялось в каждом, самом незначительном, случае жизни, для них было скрыто. Лишь одно доходило до них и рождало отклик: когда он говорил о неправде нынешнего устройства Англии.
И он писал для них: «Каждое растение, которое не насадил Отец, будет вырвано с корнем». Четыре вида угнетения порабощают народ. Первое из них — лживые учения, насаждаемые университетами и проповедниками. Второе — королевская власть, которая силою меча правит народом; она должна быть разбита вдребезги не только в Англии, но и во всех других странах. Третье угнетение — власть юристов, стоящих на страже неправедного закона. И наконец, купля и продажа земли и плодов ее. Недаром сказано в книге Левит: «Земля не может быть продаваема никогда, потому что земля моя, а вы все странники».
Эти четыре силы вставали, подобно четырем чудищам, которых пророк Даниил видел выходящими из моря. Первое чудище похоже на льва, а крылья имеет орлиные: это королевская власть, поработившая народ со времен нормандского нашествия. Второе подобно медведю: это власть неправедных законов, отнимающих у бедных их достояние. Третье чудище, барс, означает воровское ремесло купли-продажи земли и ее плодов; у него четыре птичьих крыла — хитрость, лицемерие, себялюбие и жестокосердие. И вот зверь четвертый встает из моря: у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен от всех остальных зверей, десять рогов у него. Это духовенство, Иуда, зверь самый страшный и ужасный. Он воистину отец всем остальным.
Четыре зверя эти попирают и убивают любовь. Но они падут, падут от своей собственной силы. Ибо семя змия рождает василиска, который пожрет все тело. Тот, кто поднимет меч, от меча и погибнет; поэтому когда вы увидите, что армия идет против армии, знайте, что это просто королевская власть, разрывающая сама себя на куски и пожирающая их в своей ненасытности. «Королевская власть опирается на свой закон и на куплю-продажу, а все вместе они опираются на духовенство, чтобы оно одурачило народ и заставило его покориться; их поддерживает военная сила королевской власти, которая добивается подчинения от тех, кого не удается одурачить. Но когда люди поймут, что их учитель и правитель находится внутри их, тогда какая будет нужда в учителях и правителях вовне? Они с легкостью сбросят их иго».
Уинстэнли не думал, когда писал эти слова, о том, какой опасности он себя подвергает. Он не вспомнил, что Лилберн за такие выступления был брошен в Тауэр, что другие до сих пор томились за это в тюрьмах, что левеллеры были рассеяны. Он совершенно забыл об указе Государственного совета от 14 мая 1649 года: «Кто назовет нынешнее правительство тираническим, узурпаторским или незаконным, виновен в государственной измене». А за это полагалась смертная казнь или пожизненное изгнание. Он писал; «Вы, угнетатели, властители мира, вы, кто думает, что Бог благословил вас, потому что вы сидите на троне, с которого изгнали прежних тиранов! Помните ли вы об этом? Вас свергнут, свергнут, свергнут! Близок час ваш, как и для тех, кто нарушил обещание вместе с вами и ушел раньше; вы, кто именует себя спасителями народа и ищетмира для всей нации, и все же услаждает себя на несчастьях других, не слушая стенаний бедняков, — знайте, вас свергнут тоже! Ибо такое правительство, которое оберегает одну часть творения и разрушает другую, — не от Христа, а от Антихриста; правительство, которое дает дворянам свободу распоряжаться всей землей, а бедняков, простых людей, не допускает и к малой ее доле, управляя по тираническому закону порабощения своих братьев, такое правительство — от лживого, себялюбивого Антихриста».
И он не усматривал никакого противоречия в том, что только что призывал англичан подписать «Обязательство» — клятву верности властям республики. Он был уверен, что ни генералам, ни парламенту, ни Государственному совету его трактат не угрожает. Он не звал людей на открытую борьбу с мечом в руке, как это делали левеллеры. Он говорил о другом — о Христовом уравнении всех людей, о мече любви и истины, который не разделяет, а объединяет. Он хотел наставить правителей Англии на праведный путь, а тех, кто поклоняется князю тьмы, кто забывает свои обещания, договоры, клятвы, — всех этих любителей почести, денег, славы, закрывающих свои уши от стонов несчастных, — их ниспровергнет тот, кому одному дана власть карать или миловать. «Если вы вправду хотите найти истинное величие, — убеждал он, — идите к бедным и презираемым на земле, ибо там обитает Христос, и там вы узрите свет и любовь, сияющие в подлинном блеске, вздымающиеся, чтобы сплотить творение в единстве духа и мира; благословение господа — среди бедных, а жадные, глумливые нарушители договора, воры и убийцы, что собираются вместе под именем судей, уйдут с пустыми руками».
Пятая глава трактата была посвящена человеку — его душе, его исканиям. Душа создана чистой и доброй; не имелось в ней порока до тех пор, пока она не восхотела наслаждаться внешним миром и не поддалась духу алчности. Этот дух правит ею до сего дня. «И когда эти наслаждения властвуют, то вся сила тьмы царствует в человеке — злоба, гордыня, жадность, низкая подозрительность, лицемерие, нечистое вожделение плоти, обжорство, пьянство; этот человек потерял невинность и стал дьяволом; он раб собственных вожделений, он в оковах; ничем не наслаждается он в чистой радости. Ибо дозвольте ему иметь то, чего он желает, он все равно будет не удовлетворен, и недовольство будет обитать в каждом закоулке души его; он живет без бота в этом мире и кормится отбросами, как свинья; то есть его удовольствия ограничиваются всего лишь внешними предметами — богатством, почетом, наслаждениями и женщинами; это те отбросы, которыми он питается, которые умрут и сгниют; отнимите их у него, и он потеряет свое царство; и в этом обманном состоянии род человеческий и есть сам дьявол и сам себе приговор, о чем свидетельствует опыт».
Третье же состояние человека — это пробуждение Христа в душе, который приведет мир к царству справедливости и благоденствия. Но каким будет это царство, Уинстэнли пока не пишет.
Он снова возвращается к проклятию, которое осквернило человека. Нынешнее состояние Англии не давало забыть о себе; оно мучило и требовало все новых объяснений. Дьявол правил миром. Себялюбие и жадность сели на королевский трон. Сначала властители начали вмешиваться в дела совести и веры; затем епископы забрали в свои руки всю духовную власть. Вслед за тем различные церкви — пресвитерианская и индепендентская — стали диктовать народу свою волю. Мир разделялся все больше и больше, и разные группы верующих враждовали между собой. И внутри себя человек раздвоен, душа его — поле нескончаемой жестокой брани.
Он писал еще и так: в начале времен люди жили в единстве и простоте душевной, подобно одной семье. Старший брат, чье тело было сильнее, помогал младшему, слабейшему. Вся земля была общей для всех без исключения. Грехопадение началось тогда, когда в сердце родилось вожделение к радостям, плоти — богатству прежде всего. И не только к богатству. «Когда, например, красивая дорогая вещь лежит передо мной, — рассуждал он, — и жадность к ней одолевает меня, — это падение. Или когда красота женская прельщает меня и вожделение влечет меня неодолимо, заставляя гнаться за всем ее разнообразием, это тоже падение». Именно оно, вожделение, заставило более сильного захватить лучшую землю, и окружить ее для себя оградой, и назвать ее своею собственностью, дабы младший, слабейший брат не посягнул на плоды ее. А последний шаг к рабству свершился тогда, когда человек стал продавать и покупать огороженную землю. Так Каин убил Авеля, так человек нарушил Моисеев закон и скатился к рабству и нищете, к убийству и грабежу. Поэтому спасение только в отказе от внешних радостей плоти. Откройте в себе дух истины, жизни и мира, звал он, и вы узнаете счастье.
Некоторые называли состояние вражды и ненависти в человеческом роде «естественным состоянием». Уинстэнли уже слышал об этом, хотя главное сочинение, в котором прямо высказывалась эта точка зрения, — знаменитый «Левиафан» Томаса Гоббса — был опубликован только годом позже, в 1651 году. Но идеи, что называется, носились в воздухе. Впервые Гоббс выразил их еще в 1640 году, а два года спустя в Париже на латинском языке вышло его сочинение «О гражданине».
Уинстэнли почел своим долгом выразить несогласие. Состояние «войны всех против всех» не является в мир вместе с человеком, написал он. Закон тьмы не правит в природе, ибо природа, или живая душа, страдает от его бремени, стонет под ним, и жаждет освобождения, и радуется, когда слышит о Спасителе. Посмотрите на дитя, только что рожденное на свет, или на малолетнего младенца — он невинен, безобиден, терпелив, незлобен, мягок. Так и Адам в раю — символ человечества на заре его дней — был чист. И только когда жадность одолела его, свершилось падение. Жадность — «вот причина того, что многие люди столь сердиты и ожесточенны и нападают на ближнего с бранью и укоризненными словами либо мстят ему, — все это потому, что они рабы своей плоти, они связаны внутри, они не знают свободы; в душе у них — ночь; сын любви, справедливости и мира в них еще не проснулся».
Но спасение близко, Уинстэнли твердо в это верил. И, торопясь высказать самое сокровенное, что еще не оформилось в стройную систему, но уже властно просилось наружу, он писал: «Но есть, есть великое утешение для угнетенных душ, что стенают под тяжестью царства тьмы сих разделяющих времен и что страшно придавлены людьми, которые правят во тьме; вам говорю я: радуйтесь! Ваш избавитель близко, он грядет на облаках и скоро появится, чтобы освободить вас, как он свершил уже с некоторыми из ваших братьев… Они свидетели того, что он восстал и идет уже по земле, побеждая смерть, ад и гнет и даря жизнь, мир и свободу человеку, как и всему творению». И прочь все сомнения: «Но как же, скажут люди, если эта всеобщая любовь наступит, это ведь разрушит всякую собственность, всякую торговлю и все приведет в смятение. Да, правильно, это для того и наступит, чтобы разрушить мудрость, и власть, и мир плоти, чтобы творение больше не ввергали в обман».
ще темной, холодной зимой, страдая от одиночества, боли в груди и безнадежности, спасаясь от неверия, которое по временам заползало в душу, Уинстэнли начал писать большой труд, в котором хотел изложить основы основ своего учения. Он сидел в своей тесной холодной келье, глядел на сизый туман, вползавший сквозь щели в ставнях и от огня лучины казавшийся красноватым, и вспоминал откровение, посетившее его тогда, почти полтора года назад, еще до казни Стюарта. Он чувствовал необходимость осмыслить его до конца. Он видел и вновь переживал внутри себя кровавые апокалипсические сражения. Блистал латами, и оперенным шлемом, и мечом архистратиг Михаил, глава небесного воинства; перед ним извивался стоглавый дракон, извергая из всех своих пастей серное пламя. Эти битвы шли на небесах — но и в сердце человеческом, и делались все ожесточеннее, все жарче.
Перед мысленным взором вставал и другой образ, другая библейская легенда. Моисей пас овец у Иофора, своего тестя, и завел стадо далеко в пустыню. И у священной горы Хорив увидел он куст терновый, который горел ярким пламенем, но не сгорал. Из него вещал голос бога.
…И сказал господь: «Я увидел страдание народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед… Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне… Итак, пойди и выведи из Египта мой народ. Я буду с тобою…»
Так было написано в священной книге. Уинстэнли вдумывался в текст и по временам чувствовал себя Моисеем, выводящим свой народ из плена порабощения.
Друзья диггеры тогда пали духом. У них не было хлеба. Дети с утра цеплялись за подолы матерей, прося есть. Уинстэнли снова дал указание рубить деревья в общинном лесу на продажу; но жители округи, повинуясь приказу лордов, не хотели торговать с диггерами. Чтобы продать деревья и купить пищу, приходилось ездить далеко к югу, за Гилфорд. Колония не сводила концы с концами.
Революция шла на убыль, это чувствовалось во всем: в подавлении левеллерского движения, в суровых, оберегающих старые устои постановлениях парламента, в самодурстве лендлордов на местах, в зверствах Кромвеля, подавлявшего ирландцев, в алчности новых правителей. И сам революционный дух угасал: левеллеры завели интриги с роялистами, парламент и не думал принимать новую конституцию и расходиться… Все это требовало не только осмысления, но и попытки вновь воспламенить дух народа, побудить его продолжать борьбу, дать ему веру и надежду.
Когда борьба с королевской тиранией только еще начиналась, самым могучим источником энергии масс стали грандиозные образы и пророчества Библии. Книга Бытия, трактующая о сотворении мира и грехопадении человека, туманные и страстные предсказания Иезекииля, Даниила, Малахии, величественные картины Откровения святого Иоанна будили ум и воображение, воодушевляли и звали к новому, неведомому будущему. Уинстэнли решает обратиться к этому неиссякаемому источнику и представить библейскую историю в новом свете, показать ее связь с проблемами сегодняшнего дня.
Он задумывает большой, поистине титанический труд, который должен состоять из тринадцати глав: «Что есть сад Эдемский», «Что есть древо познания добра и зла», «Что есть древо жизни», «Что есть Змий», «Что есть душа человеческая»… Еще главы о проклятии и воскресении, об апокалипсических чудовищах, о временах и исполнении времен, об искушении, о царстве дьявола и царствии небесном… Весь трактат он называет «Неопалимая купина. Дух горящий, не сгорающий, но очищающий род людской. Или Великая битва всемогущего Бога между Михаилом, семенем жизни, и огромным красным драконом, проклятием, сражающимся внутри духа человеческого».
Прежде он изъяснял свое учение лорду Фэрфаксу и военному совету, армии и парламенту, ученым Оксфорда и Кембриджа, всему английскому народу. Теперь он обращается ко всем церквам Англии — англиканской, пресвитерианской, индепендентской, к любым другим исповеданиям. Он будет писать о жизни человеческого духа.
Братья, так начал он, это слово жизни — свободный дар самого Отца, я получил его не от людей. Когда я писал его, мне было указано послать его вам немедля, но я отложил его почти на две недели и не думал о нем. Но однажды ночью я проснулся и услышал голос в сердце моем и на устах: «Иди и пошли это церквам». Душа моя исполнилась такой любовью к вам и жалостью; ведь вы алкаете жизни, а сами лежите под властью смерти, в оковах, и не ведаете того духа, который на словах исповедуете.
Вы говорите о жизни и любви. Но вы не знаете их. Вы словно иностранцы в стране любви. И прежде чем вы начнете жить истинной жизнью, вы должны умереть, а прежде чем объединиться в одно единое тело, все ваши отдельные тела и общества следует разбить вдребезги. Ибо истинный свет грядет, чтобы потрясти не только землю, но и сами небеса. То, что вы называете богослужением и царством внешним, должно пасть, чтобы установилось внутреннее царство, ибо все ваши церкви подобны огораживаниям земли: одних они делают наследниками жизни вечной, а других оставляют за ее пределами. Одни из вас говорят: вот, Христос здесь, с нами, другие возражают: нет, он там; но воистину, братья, Христос — это всеобщая власть любви. Он не может быть в тон партии или в этой.
И я послушался этого голоса, продолжал он, и направляю вам это с любовью. Одни из вас встретят мое послание с кротостью; другие будут оскорблены и пойдут войной на меня или подвергнут осмеянию. Пусть так: доспехи мои испытаны, я уверен, что они выдержат натиск.
Итак, я буду говорить с вами о саде Эдемском, который есть не что иное, как душа человеческая. В саду этом произрастают сорняки и добрые травы. Сорняки — это себялюбие, гордыня, злоба, жадность к богатству, почестям, удовольствиям. Это еще и лицемерие, заставляющее говорить и обещать одно, а делать другое, чтобы достичь эгоистических целей. Ему помогают тщеславие, боязнь разоблачения, угнетение других, жестокосердие. Они растут буйно и забивают прекрасные цветы и травы, идущие от духа истины. Ими движет дух тьмы, или дьявол. Власть его — ночь для человечества, отсутствие Солнца справедливости в его сердцах.
И вы, члены церквей земных, исповедуете этого духа злобы; его вы называете своим богом. Вспомните, с каким гневом вы ополчаетесь на тех, кто думает не так, как вы.
Прекрасные же цветы Эдемского сада — это радость, мир, любовь, скромность, самоотверженность, терпение, искренность, правда и равенство. Это древо жизни внутри вас. Когда они управляют вами, в душе вашей царит день, или Солнце справедливости. Смотрите же сами, как вы живете и кого исповедуете. Если вы действительно веруете во Христа, вы не должны никого порабощать, но отпустить всех на свободу; не разрушать, но спасать.
Сквозь взлеты духовных прозрений он подходил к главной своей мысли, к тому, ради чего он вообще писал и действовал эти последние годы. Пока земля остается в частном владении и охраняется властью меча, в который раз повторял он, творение лежит в оковах и дьявол правит им. Придите же, объедините ваши руки и сердца и освободите землю. Ничто не стоит на пути у вас, англичане, кроме вашей собственной алчности. Не будьте подобны крысам и мышам, которые тащат все сокровища земли в свои дыры, чтобы любоваться их блеском, в то время как их собратья, которым все это также принадлежит по праву творения, голодают и находятся в нужде. Пока вы желаете большего, чем утоление голода и удовлетворение самых насущных потребностей, вы идете по пути зла.
Знайте, предостерегал он, Сын справедливости уже близко; он разрушит все ваши ограды и откроет землю для простого народа; он спрямит дороги и сровняет горы с долинами.
Перед его глазами вставал Эдемский сад, рай, с его легкой, счастливой беззаботностью, с его изобилием, с его любовью, не замутненной вожделением. Природа представлялась ему одеждой бога, который наполнял все собою. А главным созданием природы, венцом творения являлся человек, господин над землей и всеми тварями земными. И ни одна ветвь человечества не была лишена этого владения, но все должны были владеть всем сообща.
Пять рек омывают этот сад жизни: слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. Они связывают все живое с миром природы. А посреди сада возвышаются два древа: древо познания добра и зла и древо жизни. Первое из них имеет в своем облике нечто соблазнительное и злое. Это древо воображения, оно не дает истинного знания. Человечество вкусило от его плодов и потеряло свою честь и силу; слабость и болезнь проникли в его нутро, оно отпало от бога и стало подобно зверям лесным, лишенным понимания окружающего мира. Его наполнили страхи, сомнения, беспокойство, подозрения и зависть; ему захотелось владеть безраздельно каждой вещью, которая сулила ему наслаждение. Оно стало называть доброе дурным, а дурное добрым. Увидело свою наготу и устыдилось. И было исторгнуто из рая, то есть из себя самого, и стало жить без бога. До сих пор человечество во всем мире добровольно вкушает плоды этого древа, им правит власть тьмы.
А древо жизни — могучее и благодетельное, прекрасное древо — источает любовь. Плоды его дают чистое и полное знание мира. Это древо истинного Разума спасет всех, и все станут жить в мире и радости, ибо оно дает скромность, искренность, терпение и терпимость, умеренность, мудрость, истину, справедливость, целомудрие, радость, мир и свободу. Оно принесет истинную общность и уничтожает собственность-убийцу. Оно уравняет всех людей, приведет их к единству сердца и духа.
Уинстэнли писал этот трактат с упоением; восторг и любовь переполняли его сердце. Строгое построение, поначалу созданное разумом, ломалось; мысли обгоняли одна другую, перескакивали с предмета на предмет, возвращались к уже сказанному. Снова дни смешались с ночами, и его естество почти совсем отказалось от пищи. От слабости застилало глаза. Перед умственным взором вставали видения. Свет боролся против тьмы, всеобщая вселенская любовь — против силы себялюбия, жизнь — против смерти, истинное знание против плотского воображения. Мир рушился, наступали последние времена.
И, сам того не замечая, Уинстэнли спускался из блаженного Эдемского сада на грешную, любимую землю, и насущные нужды родной страны заполняли его сознание. Он объяснял своим братьям англичанам: «Стыд и беда нашего века в том, что каждый… ищет Бога и управителя вне себя, как зверь лесной, лишь немногие видят правителя внутри, и потому большинство потеряли власть над собою и господство и живут в проклятии… Они выброшены из райского сада и живут сами собой на земле; они живут богатством, почестями, удовольствиями, проповедниками, юристами, армиями, женой, детьми, указами, внешними обрядами или животным сожительством с женщинами; в наши дни они превозносят вожделения плоти; и полагают хорошим то, что находится вне их. Отберите это у них, и они умрут; ибо не знают, как управлять собой и другими».
Люди недовольны миром, внешние обстоятельства пугают или раздражают их; они стонут от несовершенства миропорядка и не понимают, что главная причина их недовольства — внутри их. Как дать им это понимание? «Те, кто живет внешним, — терпеливо повторял он, — полны внутреннего беспокойства, их пробирают многие горести, рабский страх в душе их заслоняет дорогу к древу жизни; они не осмеливаются жить в свободной общности или всеобщей любви, боясь, как бы другие не стали глумиться, ненавидеть или вредить им или как бы им не впасть в нужду, недостаток пищи или одежды. Ибо воображение говорит им, что если они будут любить и помогать другим, те не ответят им любовью. Но они не знают духа и живут на земле без него — предметами внешними, под властью тьмы, именуемой неверием».
Уинстэнли хорошо понимал опасность, которую несет для власть имущих подъем духовной жизни народа. Они стремятся получить свое — и горе тому, кто мыслит не так, как мыслят они сами! «Человек, живущий плотским воображением, не может жить внутри себя; это для него безумие и чудачество, он должен бежать из дому в поисках удовольствий и услаждает все свои чувства лишь внешними предметами и с жадностью стремится удовлетворить себя. И глумится, смеется, ненавидит и преследует дух, называя его безумием, богохульством и беспорядком, который разрушит всякое правление и порядок».
Он перебирал в уме свою жизнь, и горькие мысли наплывали одна за другой. Примет ли мир его светлую идею, согласится ли с ней? «Да, говорит душа, злое настало время. А мнимый страх твердит, наполняя душу печалью: о, если б это тело никогда не родилось на свет! Как бы хотел я умереть в утробе матери! Если это — удел человека, я хотел бы быть тогда птицей, зверем или другой какой тварью. Когда я не забочусь о том, чтобы поступать по совести, я могу жить, я имею друзей, я наслаждаюсь миром; но как только я начинаю поступать так, как хочу, чтобы поступали со мной, друзья тотчас же удаляются, все начинают ненавидеть меня; я беззащитен перед любым несчастьем. И это все приносит тебе твоя справедливость, о жалкое ничтожество?»
Будущее вдруг начинало рисоваться ему в мрачных тонах. Он забывал о цели и замысле трактата и писал о своей жизни, поверяя бумаге тайные предчувствия и опасения. Что ждет его? «Ты увидишь предательство людей, которые окружают тебя, — говорил ему голос внутри его, — нищета будет грозить тебе, тело ослабеет, а дух потонет в пучине горя и страха и будет спрашивать себя: что же делать? И как жить? Одни будут над тобою смеяться, другие тебя обманут; а те, кто, казалось, исповедовали тот же дух, к которому стремился и ты, станут самыми злейшими твоими врагами; они будут гнаться за внешним, а не жить внутренней жизнью, и кто станет более жадным и жестоким, чем они? И ты останешься один? Да, один, даже среди тех, кто будет признавать тебя или заботиться о тебе».
Он и сейчас уже чувствовал себя страшно одиноким. Его друзья диггеры верили ему и почитали, они трогательно делились с ним последним куском. Но ему иногда казалось, что они не понимают его. Их, простых крестьян, заботили сиюминутные нужды дня, они не в состоянии были прозреть великие тайны грядущей мировой гармонии. То, что для него было предельно ясно и проявлялось в каждом, самом незначительном, случае жизни, для них было скрыто. Лишь одно доходило до них и рождало отклик: когда он говорил о неправде нынешнего устройства Англии.
И он писал для них: «Каждое растение, которое не насадил Отец, будет вырвано с корнем». Четыре вида угнетения порабощают народ. Первое из них — лживые учения, насаждаемые университетами и проповедниками. Второе — королевская власть, которая силою меча правит народом; она должна быть разбита вдребезги не только в Англии, но и во всех других странах. Третье угнетение — власть юристов, стоящих на страже неправедного закона. И наконец, купля и продажа земли и плодов ее. Недаром сказано в книге Левит: «Земля не может быть продаваема никогда, потому что земля моя, а вы все странники».
Эти четыре силы вставали, подобно четырем чудищам, которых пророк Даниил видел выходящими из моря. Первое чудище похоже на льва, а крылья имеет орлиные: это королевская власть, поработившая народ со времен нормандского нашествия. Второе подобно медведю: это власть неправедных законов, отнимающих у бедных их достояние. Третье чудище, барс, означает воровское ремесло купли-продажи земли и ее плодов; у него четыре птичьих крыла — хитрость, лицемерие, себялюбие и жестокосердие. И вот зверь четвертый встает из моря: у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен от всех остальных зверей, десять рогов у него. Это духовенство, Иуда, зверь самый страшный и ужасный. Он воистину отец всем остальным.
Четыре зверя эти попирают и убивают любовь. Но они падут, падут от своей собственной силы. Ибо семя змия рождает василиска, который пожрет все тело. Тот, кто поднимет меч, от меча и погибнет; поэтому когда вы увидите, что армия идет против армии, знайте, что это просто королевская власть, разрывающая сама себя на куски и пожирающая их в своей ненасытности. «Королевская власть опирается на свой закон и на куплю-продажу, а все вместе они опираются на духовенство, чтобы оно одурачило народ и заставило его покориться; их поддерживает военная сила королевской власти, которая добивается подчинения от тех, кого не удается одурачить. Но когда люди поймут, что их учитель и правитель находится внутри их, тогда какая будет нужда в учителях и правителях вовне? Они с легкостью сбросят их иго».
Уинстэнли не думал, когда писал эти слова, о том, какой опасности он себя подвергает. Он не вспомнил, что Лилберн за такие выступления был брошен в Тауэр, что другие до сих пор томились за это в тюрьмах, что левеллеры были рассеяны. Он совершенно забыл об указе Государственного совета от 14 мая 1649 года: «Кто назовет нынешнее правительство тираническим, узурпаторским или незаконным, виновен в государственной измене». А за это полагалась смертная казнь или пожизненное изгнание. Он писал; «Вы, угнетатели, властители мира, вы, кто думает, что Бог благословил вас, потому что вы сидите на троне, с которого изгнали прежних тиранов! Помните ли вы об этом? Вас свергнут, свергнут, свергнут! Близок час ваш, как и для тех, кто нарушил обещание вместе с вами и ушел раньше; вы, кто именует себя спасителями народа и ищетмира для всей нации, и все же услаждает себя на несчастьях других, не слушая стенаний бедняков, — знайте, вас свергнут тоже! Ибо такое правительство, которое оберегает одну часть творения и разрушает другую, — не от Христа, а от Антихриста; правительство, которое дает дворянам свободу распоряжаться всей землей, а бедняков, простых людей, не допускает и к малой ее доле, управляя по тираническому закону порабощения своих братьев, такое правительство — от лживого, себялюбивого Антихриста».
И он не усматривал никакого противоречия в том, что только что призывал англичан подписать «Обязательство» — клятву верности властям республики. Он был уверен, что ни генералам, ни парламенту, ни Государственному совету его трактат не угрожает. Он не звал людей на открытую борьбу с мечом в руке, как это делали левеллеры. Он говорил о другом — о Христовом уравнении всех людей, о мече любви и истины, который не разделяет, а объединяет. Он хотел наставить правителей Англии на праведный путь, а тех, кто поклоняется князю тьмы, кто забывает свои обещания, договоры, клятвы, — всех этих любителей почести, денег, славы, закрывающих свои уши от стонов несчастных, — их ниспровергнет тот, кому одному дана власть карать или миловать. «Если вы вправду хотите найти истинное величие, — убеждал он, — идите к бедным и презираемым на земле, ибо там обитает Христос, и там вы узрите свет и любовь, сияющие в подлинном блеске, вздымающиеся, чтобы сплотить творение в единстве духа и мира; благословение господа — среди бедных, а жадные, глумливые нарушители договора, воры и убийцы, что собираются вместе под именем судей, уйдут с пустыми руками».
Пятая глава трактата была посвящена человеку — его душе, его исканиям. Душа создана чистой и доброй; не имелось в ней порока до тех пор, пока она не восхотела наслаждаться внешним миром и не поддалась духу алчности. Этот дух правит ею до сего дня. «И когда эти наслаждения властвуют, то вся сила тьмы царствует в человеке — злоба, гордыня, жадность, низкая подозрительность, лицемерие, нечистое вожделение плоти, обжорство, пьянство; этот человек потерял невинность и стал дьяволом; он раб собственных вожделений, он в оковах; ничем не наслаждается он в чистой радости. Ибо дозвольте ему иметь то, чего он желает, он все равно будет не удовлетворен, и недовольство будет обитать в каждом закоулке души его; он живет без бота в этом мире и кормится отбросами, как свинья; то есть его удовольствия ограничиваются всего лишь внешними предметами — богатством, почетом, наслаждениями и женщинами; это те отбросы, которыми он питается, которые умрут и сгниют; отнимите их у него, и он потеряет свое царство; и в этом обманном состоянии род человеческий и есть сам дьявол и сам себе приговор, о чем свидетельствует опыт».
Третье же состояние человека — это пробуждение Христа в душе, который приведет мир к царству справедливости и благоденствия. Но каким будет это царство, Уинстэнли пока не пишет.
Он снова возвращается к проклятию, которое осквернило человека. Нынешнее состояние Англии не давало забыть о себе; оно мучило и требовало все новых объяснений. Дьявол правил миром. Себялюбие и жадность сели на королевский трон. Сначала властители начали вмешиваться в дела совести и веры; затем епископы забрали в свои руки всю духовную власть. Вслед за тем различные церкви — пресвитерианская и индепендентская — стали диктовать народу свою волю. Мир разделялся все больше и больше, и разные группы верующих враждовали между собой. И внутри себя человек раздвоен, душа его — поле нескончаемой жестокой брани.
Он писал еще и так: в начале времен люди жили в единстве и простоте душевной, подобно одной семье. Старший брат, чье тело было сильнее, помогал младшему, слабейшему. Вся земля была общей для всех без исключения. Грехопадение началось тогда, когда в сердце родилось вожделение к радостям, плоти — богатству прежде всего. И не только к богатству. «Когда, например, красивая дорогая вещь лежит передо мной, — рассуждал он, — и жадность к ней одолевает меня, — это падение. Или когда красота женская прельщает меня и вожделение влечет меня неодолимо, заставляя гнаться за всем ее разнообразием, это тоже падение». Именно оно, вожделение, заставило более сильного захватить лучшую землю, и окружить ее для себя оградой, и назвать ее своею собственностью, дабы младший, слабейший брат не посягнул на плоды ее. А последний шаг к рабству свершился тогда, когда человек стал продавать и покупать огороженную землю. Так Каин убил Авеля, так человек нарушил Моисеев закон и скатился к рабству и нищете, к убийству и грабежу. Поэтому спасение только в отказе от внешних радостей плоти. Откройте в себе дух истины, жизни и мира, звал он, и вы узнаете счастье.
Некоторые называли состояние вражды и ненависти в человеческом роде «естественным состоянием». Уинстэнли уже слышал об этом, хотя главное сочинение, в котором прямо высказывалась эта точка зрения, — знаменитый «Левиафан» Томаса Гоббса — был опубликован только годом позже, в 1651 году. Но идеи, что называется, носились в воздухе. Впервые Гоббс выразил их еще в 1640 году, а два года спустя в Париже на латинском языке вышло его сочинение «О гражданине».
Уинстэнли почел своим долгом выразить несогласие. Состояние «войны всех против всех» не является в мир вместе с человеком, написал он. Закон тьмы не правит в природе, ибо природа, или живая душа, страдает от его бремени, стонет под ним, и жаждет освобождения, и радуется, когда слышит о Спасителе. Посмотрите на дитя, только что рожденное на свет, или на малолетнего младенца — он невинен, безобиден, терпелив, незлобен, мягок. Так и Адам в раю — символ человечества на заре его дней — был чист. И только когда жадность одолела его, свершилось падение. Жадность — «вот причина того, что многие люди столь сердиты и ожесточенны и нападают на ближнего с бранью и укоризненными словами либо мстят ему, — все это потому, что они рабы своей плоти, они связаны внутри, они не знают свободы; в душе у них — ночь; сын любви, справедливости и мира в них еще не проснулся».
Но спасение близко, Уинстэнли твердо в это верил. И, торопясь высказать самое сокровенное, что еще не оформилось в стройную систему, но уже властно просилось наружу, он писал: «Но есть, есть великое утешение для угнетенных душ, что стенают под тяжестью царства тьмы сих разделяющих времен и что страшно придавлены людьми, которые правят во тьме; вам говорю я: радуйтесь! Ваш избавитель близко, он грядет на облаках и скоро появится, чтобы освободить вас, как он свершил уже с некоторыми из ваших братьев… Они свидетели того, что он восстал и идет уже по земле, побеждая смерть, ад и гнет и даря жизнь, мир и свободу человеку, как и всему творению». И прочь все сомнения: «Но как же, скажут люди, если эта всеобщая любовь наступит, это ведь разрушит всякую собственность, всякую торговлю и все приведет в смятение. Да, правильно, это для того и наступит, чтобы разрушить мудрость, и власть, и мир плоти, чтобы творение больше не ввергали в обман».
Трактат «Неопалимая купина» остался неоконченным. Главы о четырех чудовищах, об исполнении времен и разделении, через которое суждено пройти роду человеческому перед тем, как он достигнет истинного мира, об искушениях и царстве дьявола и о том, что есть истинное царство небесное, — так и не были написаны Уинстэнли. Он закончил трактат горькими словами Иезекииля: «И сказал он мне: сын человеческий! Ты видишь, что они делают? Ты узришь еще худшие мерзости». И опубликовал 19 марта 1650 года те семь глав, которые успел завершить. И так уж получилось много — 77 страниц. Солнце припекало, весна вступала в свои права и звала к действию. Отвлеченные искания, образы далекого будущего, приходилось отложить для того, чтобы снова начать пахать, и вскапывать, и сеять. Теплые дни рождали новые надежды. Торопили и сами диггеры: они теперь были не одни в этом мире. Кроме известия из Уэллингборо, они получили еще одно свидетельство. В графстве Кент, в местечке Коксхолл, тоже появилась община копателей. Предчувствия прошлой весны сбывались; по всей Англии шло широкое подспудное движе-пне народных низов, «истинные левеллеры» заявляли о себе повсюду. И он вместе с диггерами решает написать еще одно воззвание к англичанам. И неделю спустя после выхода тяжеловесной, туманной, полной мистических видений «Купины» появляется совсем иной документ — листовка-воззвание. Она посылается от тех, «кто начал вскапывать на холме Святого Георгия в Серри, но теперь продолжает эту общественную работу на маленьком вереске в приходе Кобэм, у подножия Георгиева холма». Цель ее — доказать, что вскапывание общинных земель оправдывается не только Писанием, но и законами Английской республики. Это было первым действием их в эту новую весну, ибо, как говорилось на широких полях листовки, бог справедливости — не бог слов только, но бог действий. Лицемер тот, кто говорит и не делает. Это было поздравление и ободрение всем, кто начал благородный труд на общинной земле. «Слушайте, слушайте, англичане! — писал Уинстэнли. — Земля Англии отныне — ваше свободное достояние. Все притязания короля и лордов отвергнуты нашей армией и парламентом… Власть завоевателей, которой угнетали вас шестьсот лет короли и лорды, теперь низвергнута мечами армии и постановлениями парламента. Так пусть же тупая алчность джентри не отказывает беднякам, или меньшим братьям, в праве сеять зерно на пустующих землях… Придите, сыны свободы, перекуйте ваши мечи на орала и копья па лопаты! Придите и вспахайте общую землю, постройте дома, посейте зерно и владейте своей землей, которую вы отвоевали у нормандского тирана!.. Что вам мешает? Зачем вам быть рабами и нищими, когда вы можете стать свободными? Зачем вам жить в нужде и умирать в нищете, когда вы можете жить в довольстве?.. Придите же, возьмите плуг и лопату, стройте и сейте и превращайте бесплодную землю в плодоносный сад, чтобы не было среди вас нищих или бездельников! Ибо если пустующая земля в Англии будет возделана руками ее сыновей, она в несколько лет станет самой богатой, самой сильной и цветущей страной в мире!» Тон этой листовки разительно отличается от тона неделей раньше выпущенного трактата. Она дышит верой в будущее, призывает к действию. Довольно молчать и смиряться, говорит Уинстэнли. Служители церкви утверждают, что каждый труд должен быть вознагражден. Но они не желают получать за свой труд такую же плату, как бедные рабочие — по 12 пенсов в день; они требуют 100 фунтов в год[4] или больше. Но главное — они утверждают, что для бедняков царство небесное наступит лишь после их смерти, и призывают их ждать и смиряться, а сами желают жить на небесах уже в этом мире и требуют солидного содержания. Но почему и нам не обрести небеса здесь, на земле, то есть жизнь в достатке? Значит, поскольку мы имеем тела, которые следует питать, одевать и укрывать от непогоды, дайте нам возможность возделывать землю, чтобы нашим трудом создать пропитание и все необходимое для жизни. А церковнослужители пусть откажутся от своих 100 или 200 фунтов в год и попросят содержания у тех, кто их слушает, уповая на царствие небесное за гробом. Арендаторы земли у лордов и зависимые держатели теперь свободны от повиновения господам. Их освободила армия своими победами и парламент, который отменил королевскую власть и палату лордов, сделал Англию свободной республикой и подписал клятву верности ей. Уинстэнли понимал половинчатость республиканского законодательства. Еще в 1646 году Долгий парламент отменил феодальную зависимость дворян от короля, но оставил в неприкосновенности все крестьянские повинности. И вождь диггеров выступает с призывом отменить феодальную зависимость снизу — не подчиняться веками существовавшим обветшавшим обычаям. «Лорды маноров, — пишет он, — не должны принуждать своих держателей копигольда судиться в их баронском суде, быть их присяжными, клясться им в верности, платить штрафы, подушные и поземельные поборы, как прежде, когда король и лорды стояли у власти». Тем самым он выступает за решительную отмену всех остатков феодализма в Англии. Он пытается объединить беднейшие слои общества с теми, кто так жестоко преследовал диггеров и его самого. — с арендаторами, зависимыми от лорда держателями. «Англичане, — убеждает он, — арендаторы или работники, не поддавайтесь новому порабощению; вы теперь можете стать свободными, если будете стоять за свободу». От вас не требуется ничего, кроме смелости и верности друг другу. Владейте своей землей, которую нормандские завоеватели отняли у вас 600 лет назад. Союзу арендаторов и беднейших крестьян, коттеров и батраков Уинстэнли противопоставляет союз землевладельцев-джентри и духовенства. Они подлинные враги простого народа. А лордов он предостерегает. Если бедняки, пишет он, начинают где-либо вскапывать общинные пустоши, — лорды не должны приказывать своим держателям бить их и изгонять. В этом случае арендаторы, рабы лорда, нарушат клятву республике и закон страны и явятся предателями вместе с их господами. После выпуска актов, отменяющих королевскую власть и объявляющих Англию республикой, и после «Обязательства», подписанного всей страной, древние угнетательские законы аннулированы. Листовка заканчивалась призывом ко всем беднякам Англии выйти с плугами и лопатами на общинные земли и возделывать их своим трудом. Тогда в Англии наступит изобилие, цены на хлеб упадут; это объединит сердца англичан, так что если внешний враг нападет на них, они единодушно дадут ему отпор. Не будет больше разбойников, воров и убийц; тюрьмы опустеют, а сердца добрых и совестливых людей не содрогнутся при виде того, как вешают преступников. В новой республике никого не следует вешать или казнить, ибо можно найти другие способы наказания. Те, кто вешает и казнит, — тоже предатели английской свободы. Как и манифесты прошлой весны, листовка была трудом коллективным. Писал ее Уинстэнли, но под ней поставили свои подписи еще 24 человека, «и еще иные, кто не присутствовал, когда документ сдавался в печать». Дело диггеров, подобно пламенеющему библейскому кусту, горело и не сгорало.
ПАСХА
 ело диггеров расширялось и крепло. Приближался апрель. Новая пустошь — маленький участок вереска у подножия холма Святого Георгия — была уже вскопана. Скоро должны зазеленеть первые всходы. Они обработали бы и больше, но земли для посева отчаянно не хватало. В конце марта, выпустив «Воззвание ко всем англичанам», диггеры отправили гонцов в разные графства, чтобы и устным словом, и личным примером побудить народ к благородному труду по возделыванию общинных земель. А заодно и собрать пожертвования в пользу кобэмских копателей. Двое диггеров с холма Святого Георгия — Томас Хейдоп и Адам Найт — бродили по селам. Они исколесили Бекингемшир, Серри, Миддлсекс, Хартфордшир, Бедфордшир, Беркшир, Хентингдоншир, Нортгемптон; описание их путешествия содержит названия более тридцати городов и местечек, среди них — Бедфорд, Ньюпорт, Виндзор, Лондон, Петни, Годманчестер, Уэллингборо…
Хейдон и Найт несли с собой письмо, составленное Уинстэнли и подписанное еще двадцатью одним именем. В кратком этом послании объявлялось, что диггеры и нынешней весной намереваются обрабатывать и засевать общинные пустоши. Свою деятельность они считали первым камнем, заложенным в фундамент английской свободы. Они сообщали, что засеяли несколько акров земли и возвели четыре дома, но из-за недостатка средств их труд может пропасть даром. «Поэтому если чье-либо сердце будет подвигнуто бросить лепту в нашу казну, дабы нам купить припасы, необходимые для поддержания жизни, и приобрести зерно для посева, то это поддержит наше дело общественной свободы по всей стране… Пусть разум ваш взвесит все значение этой работы по вскапыванию пустошей, и я уверен, вы бросите туда что-нибудь».
ело диггеров расширялось и крепло. Приближался апрель. Новая пустошь — маленький участок вереска у подножия холма Святого Георгия — была уже вскопана. Скоро должны зазеленеть первые всходы. Они обработали бы и больше, но земли для посева отчаянно не хватало. В конце марта, выпустив «Воззвание ко всем англичанам», диггеры отправили гонцов в разные графства, чтобы и устным словом, и личным примером побудить народ к благородному труду по возделыванию общинных земель. А заодно и собрать пожертвования в пользу кобэмских копателей. Двое диггеров с холма Святого Георгия — Томас Хейдоп и Адам Найт — бродили по селам. Они исколесили Бекингемшир, Серри, Миддлсекс, Хартфордшир, Бедфордшир, Беркшир, Хентингдоншир, Нортгемптон; описание их путешествия содержит названия более тридцати городов и местечек, среди них — Бедфорд, Ньюпорт, Виндзор, Лондон, Петни, Годманчестер, Уэллингборо…
Хейдон и Найт несли с собой письмо, составленное Уинстэнли и подписанное еще двадцатью одним именем. В кратком этом послании объявлялось, что диггеры и нынешней весной намереваются обрабатывать и засевать общинные пустоши. Свою деятельность они считали первым камнем, заложенным в фундамент английской свободы. Они сообщали, что засеяли несколько акров земли и возвели четыре дома, но из-за недостатка средств их труд может пропасть даром. «Поэтому если чье-либо сердце будет подвигнуто бросить лепту в нашу казну, дабы нам купить припасы, необходимые для поддержания жизни, и приобрести зерно для посева, то это поддержит наше дело общественной свободы по всей стране… Пусть разум ваш взвесит все значение этой работы по вскапыванию пустошей, и я уверен, вы бросите туда что-нибудь».
Тем временем работа в Кобэме шла своим чередом. Приближалась пасха — ранняя в этом году. Страстная неделя приходилась на конец марта. На поле, залитом ясным весенним солнцем, с утра виднелись согбенные фигуры людей, взрыхляющих неподатливую, слежавшуюся за зиму почву. Жаворонки снова безмятежно заливались в небе, сладостно пахла проснувшаяся к новой жизни земля. Ничто не предвещало беды. Но злые силы алчных собственников не могли оставить диггеров в покое. За неделю до пасхи пастор Плэтт самолично явился на пустошь вместе с Томасом Саттоном, владельцем бывших церковных земель. За ними шла толпа наемников. Пастор приказал им разрушить дом бедняка, возведенный на поле. Жителей домика выгнали на улицу, а когда они попробовали протестовать, начали избивать. Беременная жена крестьянина оказалась особенно непокорной, она пробовала образумить карателей, и на ее долю досталось несколько жестоких ударов. От этого она слегла, ребенок погиб, всю неделю женщина находилась между жизнью и смертью. Можно ли видеть это и остаться равнодушным! Избитая женщина, погибший в ее утробе ребенок, разрушенный дом — и чьими руками? Пастора, проповедника учения Христова!.. Уинстэнли сам пошел в пасторский дом. Его впустили. Хозяин казался даже радушным. Он выслушал посетителя терпеливо, не прерывал его, пока тот излагал причины и основания, почему диггеры решили вскапывать общинную пустошь в его маноре. Его поведение казалось разумным, мягким, умеренным. Он совсем не походил на то разгневанное, брызжущее слюной и изрыгающее ругательства чудовище, которое накануне требовало от своих людей рушить дом, избивать его жителей… Он выслушал Уинстэнли и в любезных выражениях ответил ему, что если тот докажет на текстах Библии законность своего начинания, то он, пастор Плэтт, никогда больше не станет досаждать диггерам. Он позволит им спокойно обрабатывать и застраивать общинные земли в его маноре. Он даже усмехнулся и пообещал: ей-ей, он сам тогда отдаст диггерам все свое состояние и будет копать вместе с ними. Только пусть докажут все по Библии. Уж он-то, пастор Плэтт, воспитанник Оксфорда, с дипломом магистра, знает священную книгу как свои пять пальцев. И сумеет опровергнуть любые доводы, приведенные этим нищим, — опровергнуть на тех же самых текстах.
Всю страстную неделю, до самой пасхи Джерард Уинстэнли писал доказательства для пастора. Он почти не выходил из своей хижины и все перелистывал, все ворочал старинный тяжелый фолиант. Он обращал свою «смиренную просьбу» не только к пастору Плэтту, но и ко всем подобным ему ученым служителям обоих университетов и юристам в каждом судебном подворье. Джентльмены, братья, англичане! — писал он. Все вы слышали о разногласиях между лордами маноров и бедным людом. Бедняки утверждают, что общинная земля принадлежит им по праву творения и по законам республики. И потому возделывают эти земли и строят на них дома, стремясь поддержать свое существование, чтобы жить как и подобает людям. А лорды маноров считают, что земля не принадлежит им, беднякам, по праву. И потому избивают их, разрушают их дома и всячески их обижают, поступая с ними как с неразумными животными. И разногласия эти растут и кажутся неразрешимыми. Но, джентльмены, есть же среди вас люди, не ослепленные страстями, жадностью и себялюбием; рискните выступить за справедливость и возьмите дело бедняков в свои руки. Ведь это разногласие между бедняками и лордами — самый главный раскол, раздирающий Англию уже в течение шестисот лет. Если разум и справедливость, лежащие в основании Библии, и законы страны дают нам это право, — позвольте нам свободно им пользоваться. Если нет — мы умолкнем и никогда вас больше не обеспокоим. Как и пастор Плэтт, Уинстэнли был уверен, что Священное писание содержит ясное и недвусмысленное подтверждение его мыслям. Он снова и снова вчитывался в знакомые с детства слова — и находил в них истину, разум и силу. Сказано было ясно: бог создал человека (то есть род человеческий) и поставил его владыкой над рыбами морскими, над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею — но не над себе подобными. И сказал он людям: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею! А что значит обладайте? Пашите, вскапывайте, засевайте. Это вовсе не проклятие — трудиться на земле и возделывать ее руками своими. Проклятие — когда один, праздный и сытый, заставляет другого в поте лица на него работать. Ибо сказал псалмопевец: земля — господня, а это значит, принадлежит она всему роду людскому. И тот же завет повторил господь Ною и семени его: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную, даю вам все; только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте. И Аврааму сказал: дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное. Так что мы видим, заключал Уинстэнли из этих примеров и из множества других, собранных им в Писании, что всемогущий дал землю всем людям в общее пользование, никому не отказывая в этом праве, и только когда люди начали ссориться из-за земли, одни захотели иметь нее и лишить братьев права творения, сделав их своими рабами, — тогда и свершилось грехопадение, и проклятие пало на человечество, принеся раздоры, войны, грабежи, насилия, убийства (вспомним убийство Авеля, а также стих 5 сорок пятой главы Иеремии, — помечал он в доказательство). Затем он стал писать о грядущем возрождении людей к жизни праведной и счастливой; тут листы его сочинения еще больше запестрели ссылками, названиями глав и цифрами стихов. Он находил в Писании все новые и новые свидетельства. Сначала было пророчество: семя женщины разобьет голову змию. Семя Авраамово станет радостью и благословением для всех народов. Светлое появление Спасителя низвергнет власть Антихриста, или ту тьму, которая правит в человеке и порабощает его. И в последние дни все воспримут дух истины, который поведет их к счастью. Вопреки скудному земному рассудку, вопреки опыту колонии, — да что колонии! — всей жизни своей, Джерард Уинстэнли снова и снова повторял, что возвратится человек к справедливости и станут жить все, как одна семья, — единым сердцем, единым духом. Каждому будет дозволено пользоваться всем, что сотворил господь, сполна. И возрадуются все дети земли, ибо мечи будут перекованы на орала, а копья на лопаты; войны прекратятся; лев и агнец возлягут рядом, словно дети одной матери; пустующие земли расцветут и застроются трудом рук человеческих — Исайя, Иезекииль, Захария, и Даниил-пророк, и Давид-псалмопевец достаточно ясно предсказали все это. Сам человек преобразится, говорит священная книга. Дух свободы воскреснет в нем; он избавится от алчности, гордыни, злобы, нечистоты, себялюбия, власти тьмы и пороков. Пример тому — жизнь апостолов. Их ненавидели, избивали, преследовали, а они сносили все терпеливо, чтобы прославить творение; это говорит о том, что ими правил дух любви. Кто имеет в себе этот дух, никогда не согласится быть лордом манора или собственником земли; он мирно позволит каждому пользоваться благами творения. Христос посоветовал молодому богачу продать все, что он имеет, и деньги раздать нищим. Или забыли об этом пасторы и проповедники, ученые профессоры и хранители законов? Вы, члены парламента, офицеры армии, священнослужители, юристы, люди Англии, кто исповедует Христа! Если вы продолжаете быть господами над братьями своими, не дозволяя им мирно пользоваться землею, достоянием божьим, вы обманываете себя и других, вы лицемеры! Главный закон рода человеческого — свобода распоряжения землею; разве не ясно это из действий лордов маноров и джентри, которые не могут успокоиться, а раздражаются, сердятся, видя, что бедняки узрели наконец свое прирожденное право и начали возделывать общинные земли. И даже люди, которые в других обстоятельствах кажутся мягкими и добрыми, писал он, вспоминая пастора Плэтта, превращаются во львов, в дьяволов, готовых убить и уничтожить бедных копателей; причем не только джентри, но и духовные лица доходят до безумства: власть тьмы одолевает их души. Итак, Библия полностью доказывает право бедняков на владение землей наравне со всеми, заключал Уинстэнли. Но это была только первая часть его доказательств. Ему казалось этого недостаточно. Он должен был еще показать пастору и всем, кто будет читать его сочинение, — потому что он непременно его напечатает, — что та власть над землею, которую присвоили себе лорды маноров, есть не что иное, как воля королей, которые были завоевателями и правили один за другим силою меча, покоряя себе простых людей Англии. Он в который раз разъяснял, что король Карл правил не по закону творения, а по праву сильного, одним разрешая пользоваться землею, других же сгоняя с нее. Но благодаря победам армии и решениям парламента королевская власть уничтожена. А лорды хотят сохранить за собой эту власть и угнетать бедняков по-прежнему. Но наша победа не должна оставаться только записанной в книгах, убеждал Уинстэнли, она должна реально быть предоставлена всему народу. И она дана ему на деле — ведь король мертв, Англия стала республикой. Значит, народ может пользоваться общинной землей, ибо самое древнее и основное законодательное установление — это «благо народа — высший закон». Завоевывая это право, простой народ Англии жертвовал своим достоянием наравне с джентри: он отдавал свои деньги парламенту в виде налогов, пускал на постои солдат, терпел лишения военного времени. И потому по праву и справедливости он может строить дома и растить хлеб на пустошах. Пусть стражи закона поймут это и окажут ему поддержку. Некоторые судьи говорят, продолжал он, не замечая, что совсем уж отвлекся от главной темы трактата, что те бедняки, которые работают на пустошах, попадают под действие законов о бродягах, бездельниках и грабителях. Но на это я тоже отвечу. Какие же мы грабители и бродяги, какие же мы бездельники, если мы работаем в поте лица, не просим милостыню, а сами выращиваем хлеб свой насущный? Наоборот, мы делаем это, чтобы не нищенствовать, не красть и не бродяжничать, а питаться трудами рук своих. Вы не можете обвинить нас и в мятеже, как делали некоторые, ибо мы не воюем с оружием в руках и не чиним никакого насилия. И наше сообщество не является незаконным или мятежным, ибо мы мирно трудимся и никому не желаем зла. А ордонансы против мятежников или «незаконных сборищ», как они их называют, были приняты трусливым королем-завоевателем, который боялся собраний простого народа. Он боялся, как бы бедняки, сойдясь вместе, не осознали свои права, не объединились, чтобы сбросить бремя угнетения. Заметим, что лорды маноров, слуги королевской власти, много раз собирались в отряды, били и обижали диггеров, рушили их дома. И все же никто не слыхал о том, чтобы духовенство, юристов или судей, нарушавших справедливость и мир в стране, осуждали как мятежников и врагов порядка. О, судьи и стражи закона! Вы видите все эти несправедливости и муки бедных людей. Неужели вы не вступитесь за них, а молчаливо будете стоять в стороне? Уинстэнли верил в справедливость. Несмотря ни на что уверенность в торжестве добра и правды жила в нем, новое чтение старинных книг и размышления над ними усиливали его убежденность. Он успел напечатать свой ответ пастору у Калверта и в понедельник на пасхальной неделе, когда христианский мир еще продолжал радоваться торжеству света над тьмою, снова стучался в двери дома Плэтта. И снова пастор был благостен и миролюбив. Он даже, казалось, соглашался с тем, что говорил ему Уинстэнли, излагая свои доводы. Но читать написанного не стал, сказал, что ему недосуг. Он обязательно прочтет все внимательно и даст ответ. Более того, он обещал Уинстэнли, что если диггеры перестанут рубить деревья в общинном лесу, то он не будет больше разрушать их домов. Уинстэнли вернулся к друзьям обнадеженный. Они посовещались, и решили ради сохранения мира прекратить свои порубки — пока люди не поймут, наконец, дело всеобщей свободы. А они поймут его, в этом не могло быть сомнений. Но настала пятница — черная пятница на светлой пасхальной неделе. «Он пришел к нам, — рассказывал впоследствии Уинстэнли, — и принес свой ответ, который состоял в следующем. Он пришел в сопровождении примерно 50 человек и приказал четырем или пяти из них поджечь диггерские дома». Диггеры стояли тут же. Когда подкладывали солому под стены, некоторые из них отважились попросить пастора не жечь их, а просто разрушить: ведь дерево может пригодиться. — Нет! — завопил он. — Нет, нет! Спалите их до основания, чтобы эти язычники, не знающие бога, снова их не отстроили! Если вы оставите древесину, они снова понастроят! И вот огонь побежал по соломе, затрещали доски, тусклые в солнечном свете языки пламени стали лизать стены. Скоро шесть новых домов пылали. Жестокость карателей не знала предела: они не позволили диггерам вынести и спасти нужные в каждодневном обиходе домашние вещи. Только людей выгнали наружу. II вместе с домами пылало нехитрое имущество бедняков: одежда и обувь, кровати, трехногие табуреты, столы, коробы для продуктов… А что диггеры успели вынести с собой, враги разбрасывали со смехом по полю. Дети кричали и плакали, матери метались между ними и остатками своего жалкого скарба, пытаясь спасти хоть что-нибудь. Ведь все они — уроженцы этого прихода, не чужаки какие-нибудь, и могли ожидать лучшего обращения… Мучители же их были наняты пастором со стороны, из других местностей. Вряд ли свои и согласились бы на такое варварское деяние даже под страхом впасть в немилость лорда. Когда спустился вечер, все было кончено. Диггеры с женами и маленькими детьми остались под открытым небом без крова, без имущества, без помощи. Они собрали кое-как уцелевшие пожитки — доски, соломенные тюфяки, одеяла — и устроились на ночлег под открытым небом. Женщины уложили детей, сами пристроились рядом, грея их своими телами. Мужчины сидели у костра. Вдруг грубый окрик нарушил молчание. — Убирайтесь отсюда! Пастор Плэтт и тут не мог оставить диггеров в покое. Его наемники явились в ночи и пригрозили немедля поджечь лагерь, если бедняки сейчас же не уйдут прочь. Особенно бесчинствовал один человек, слуга сэра Энтони Винсента; все авали его Дэви. Этот Дэви ударил одного диггера, сломал чудом уцелевший табурет, на котором сидел другой, и стал крушить чужое добро направо и налево. Дети закричали в испуге, вслед за ними заголосили женщины. — Всех убью! Все сожгу! — рычал страшный Дэви, пинками раскидывая головешки костра. Кто-то попробовал спросить, почему он так жесток. Они никому не причинили вреда… — Вы бога не знаете! — был ответ. — Ив церковь не ходите. О, если бог научил этих людей и тех, кто их послал, громить и избивать бедных тружеников, — поистине, не надо такого бога! Ни церквей их не надо, ни богослужений, ни проповедей! Пастор Плэтт вещал с кафедры: «Живите в мире со всеми и любите врагов ваших». Так если диггеры — враги, возлюбите их! Но вы, лицемеры, говорите одно, а делаете другое. Все это Уинстэнли описал уже потом, спеша рассказать миру о последней жестокости своих ближних. Он составил и опубликовал 9 апреля «Смиренную просьбу к служителям- обоих университетов и ко всем юристам в каждом судебном подворье». Пусть читатели рассудят, кто воистину служит богу, — такие, как этот пастор, или диггеры. Ведь мистер Плэтт и джентльмены, пришедшие с ним, пылали гневом, они скрежетали зубами от злобы. А диггеры сохраняли терпение и мужество. И с любовью смотрели на тех, кто жег их дома. Они поистине достойны мученического венца. В Кобэм диггерам больше не было возврата. Плэтт и Томас Саттон наняли людей, которые должны были день и ночь сторожить на пустоши. Им было приказано бить диггеров и разрушать их палатки и хижины, если они еще осмелятся возвести их. А коли они вздумают выкопать землянки и поселиться там — засыпать их и уничтожить, словно кротов или лис в их норах. Отныне ни на земле, ни под землею не осталось диггерам пристанища. Если они пойдут по дорогам просить хлеба детям своим — их арестуют и будут сечь кнутами, как бродяг. Если они украдут — их повесят. Арендаторам по всей округе было велено не давать им приюта и не продавать пищи. В противном случае и их выгонят из дома. На диггерские посевы — одиннадцать акров — был пущен скот, и от всходов хлеба, в такое тяжелое для Англии время, ничего не осталось. В суде лежала новая бумага с иском против Уинстэнли и его друзей за нарушение чужой собственности. Круг сомкнулся. Кто-то из карателей сказал, что делает божье дело, избивая и прогоняя диггеров. Итак, Писание сбывается: «И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Дело дьявольское торжествовало. Когда диггеры были изгнаны из Кобэма, мучители их поздравляли друг друга и звонили в колокола от радости. Их закон — закон меча, своеволия, закон дубинки. «Когда книжники и фарисеи старых времен (эти предки лордов маноров), — писал Уинстэнли, — предали смерти Христа, они тоже радовались, и посылали дары друг другу, и веселились, с радостью повторяя, что уничтожили его. И так же теперь эти английские фарисеи, исполняя веление зверя, кажутся стоящими на вершине славы, говоря, что они уничтожили диггеров». Но они ошибаются. Им не удалось победить диггеров — ни в суде, ибо они не позволили им защищать свое дело в открытом процессе, ни в споре, так как они не давали диггерам говорить разумно, а рычали на них, как лютые звери, ни доводами Писания. И по духу бедняки оказались куда выше и достойнее своих гонителей. Диггеры и сейчас спокойны, их дух крепок и бодр, они полны любви даже к врагам своим. «Вот наше свидетельство, и пусть свобода и рабство борются за право владеть человечеством; оружие сынов рабства — это оружие плоти: огонь, дубина, меч. Оружие сынов свободы духовно. Это любовь, терпение и справедливость». Так закончил Уинстэнли скорбный отчет о последнем разгоне колонии. Надежды на возрождение не было — ни на холме Святого Георгия, ни где бы то ни было еще. Диггерам стало известно, что посланные ими гонцы арестованы в Уэллингборо. Вместе с ними захвачено письмо-призыв; оно даже попало в газеты и в дневник мемуариста Бальстрода Уайтлока, хранителя Большой печати республики. Центральные власти снова обратили внимание на деятельность копателей: 15 апреля Государственный совет направил реляцию мистеру Пентлоу, мировому судье графства Нортгемптон. «Мы одобряем, — говорилось в ней, — ваши действия в отношении левеллеров и не сомневаемся, что вы понимаете, какой вред могут нанести их преступные замыслы и сколь необходимо принять против них эффективные меры». Безусловно, здесь имелись в виду не разбитые прошлой весной последователи Лилберна, а «истинные левеллеры», объявившиеся в Уэллингборо, потому что дальше в приказе следовало: «Если существующие законы против тех, кто вторгается в права чужой собственности, запрещающие подобные действия и назначающие наказания за все мятежные сборища и подстрекательские и бунтарские митинги, будут приведены в исполнение, не будет недостатка в средствах оградить общественное спокойствие от попыток этого рода людей. Пусть против них будет возбуждено судебное разбирательство на следующей сессии, и если кто-либо, кому положено принять меры по их наказанию, станет уклоняться от своих обязанностей, дайте нам знать, чтобы мы могли потребовать их к ответу за такое небрежение». В этой реляции есть намек на то, что кто-то, даже в судебных органах, сочувствовал диггерам, но основной пафос ее недвусмыслен: власть имущие и на местах, и в центральном правительстве не на шутку напуганы действиями копателей и намерены окончательно с ними расправиться. И недаром: помимо Серри, Нортгемптона, Бекингемшира и Кента, прошли слухи о мятежах сельских бедняков в местечках Слимбридж и Фрэмптон, графство Глостершир; толпы доведенных до отчаяния жителей разрушали ограды и покушались на чужую собственность. Плебейская Англия, разбуженная революцией, не могла успокоиться и смириться с господством новых тиранов. И кто знает, может, сбудется когда-нибудь пророчество последнего трактата Уинстэнли, обращенного к угнетателям: «Имена ваши исчезнут с лица земли, и собственная ваша власть истребит вас».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
К СТРАНЕ ОБЕТОВАННОЙ
(1650–1652)

Вот праведный закон. Скажи, о человек, Поддержишь ты его — или убьешь навек? Являет правда свет, но ложь имеет власть. Как, видя это все, в отчаянье не впасть?Уинстэнли
У ЛЕДИ ДУГЛАС
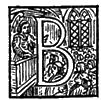 начале июня в Лондоне гремели пушки. Столица ликовала, встречая вернувшегося из Ирландии Кромвеля. Непокорный Зеленый остров, очаг всегдашнего недовольства Англией, был залит кровью, опустошен, покорен. Армия «железнобоких», в свое время главная боевая сила революции, попав в Ирландию, превратилась в наглую разбойничью орду, готовую грабить и убивать во имя высоких платежей, земель, подачек. А ирландские земли, щедро розданные новым хозяевам Англии — джентри, офицерам, членам парламента, дельцам Сити, — стали базой крупного землевладения и в конечном итоге базой возвращения Стюартов на английский престол.
Но пока в Лондоне гремели салюты и устраивались пиры в честь победоносного завоевателя, а сам Кромвель готовился к новому тяжелому походу. Ему предстояло теперь покорить Шотландию, которая провозгласила принца Чарлза королем Карлом II Стюартом пятого февраля прошлого года. Принц подписал в голландском городе Бреда соглашение с шотландским парламентом. Он обязывался установить государственную пресвитерианскую церковь в Англии, Шотландии и Ирландии, давал Шотландии относительное самоуправление и отказывался от всяких сношений со своими бывшими ирландскими союзниками. Десятого июня он отплыл в Шотландию. Англии теперь угрожало вторжение с севера.
Однако и другие не менее важные соображения заставляли английский парламент спешить с покорением северного соседа. Развращенные легкой ирландской добычей, променявшие революционные идеалы на алчное. стремление к наживе, разбогатевшие на революции дельцы мечтали захватить шотландские земли с полными рыбой озерами и залежами руд в горах и обогатиться еще более за счет шотландского народа.
Вот почему Кромвеля отозвали из Ирландии. Его назначили заместителем главнокомандующего — им по-прежнему оставался Фэрфакс — и спешно принялись за организацию похода. Но тут парламент, и армию, и Государственный совет подстерегала неожиданность. Лорд-генерал Фэрфакс решительно отказался возглавить новый поход.
Он давно уже находился в тяжелом разладе с самим собой. Генерал Фэрфакс был прежде всего воином, воспитанным в борьбе с внешним врагом на полях сражений Европы. Проливать кровь соотечественников ему претило. Казнь божьего помазанника, с такой смелостью осуществленная Кромвелем, вызвала его возмущение: он и на суд не пошел, чтобы не запятнать свою совесть участием в этом деле. Симпатии его — и религиозные, и политические — всегда были на стороне пресвитериан, а значит, он склонялся к союзу с монархией ценой умеренных уступок с обеих сторон. Шотландцы провозгласили королем Стюарта, представителя династии, которая с незапамятных времен занимала их трон, — зачем же идти и подавлять их силой? Тем более что открытого вторжения в Англию они не предпринимали.
И Фэрфакс наотрез отказывается возглавить северный поход против единомышленников — шотландских пресвитериан. Ни уговоры самого Кромвеля, ни скрытые угрозы не могут поколебать его решения.
— Мы связаны с шотландцами договором — Национальной лигой и Ковенантом, — говорит он. — Вопреки ему и без всякой причины с их стороны вторгнуться к ним с войсками и навязать войну? Я не могу найти этому оправданий ни перед богом, ни перед людьми.
Фэрфакс уходит в отставку и уезжает домой, в Йоркшир. Главнокомандующим всеми вооруженными силами Английской республики назначается Кромвель. В конце июня он отправляется со своей армией на север.
начале июня в Лондоне гремели пушки. Столица ликовала, встречая вернувшегося из Ирландии Кромвеля. Непокорный Зеленый остров, очаг всегдашнего недовольства Англией, был залит кровью, опустошен, покорен. Армия «железнобоких», в свое время главная боевая сила революции, попав в Ирландию, превратилась в наглую разбойничью орду, готовую грабить и убивать во имя высоких платежей, земель, подачек. А ирландские земли, щедро розданные новым хозяевам Англии — джентри, офицерам, членам парламента, дельцам Сити, — стали базой крупного землевладения и в конечном итоге базой возвращения Стюартов на английский престол.
Но пока в Лондоне гремели салюты и устраивались пиры в честь победоносного завоевателя, а сам Кромвель готовился к новому тяжелому походу. Ему предстояло теперь покорить Шотландию, которая провозгласила принца Чарлза королем Карлом II Стюартом пятого февраля прошлого года. Принц подписал в голландском городе Бреда соглашение с шотландским парламентом. Он обязывался установить государственную пресвитерианскую церковь в Англии, Шотландии и Ирландии, давал Шотландии относительное самоуправление и отказывался от всяких сношений со своими бывшими ирландскими союзниками. Десятого июня он отплыл в Шотландию. Англии теперь угрожало вторжение с севера.
Однако и другие не менее важные соображения заставляли английский парламент спешить с покорением северного соседа. Развращенные легкой ирландской добычей, променявшие революционные идеалы на алчное. стремление к наживе, разбогатевшие на революции дельцы мечтали захватить шотландские земли с полными рыбой озерами и залежами руд в горах и обогатиться еще более за счет шотландского народа.
Вот почему Кромвеля отозвали из Ирландии. Его назначили заместителем главнокомандующего — им по-прежнему оставался Фэрфакс — и спешно принялись за организацию похода. Но тут парламент, и армию, и Государственный совет подстерегала неожиданность. Лорд-генерал Фэрфакс решительно отказался возглавить новый поход.
Он давно уже находился в тяжелом разладе с самим собой. Генерал Фэрфакс был прежде всего воином, воспитанным в борьбе с внешним врагом на полях сражений Европы. Проливать кровь соотечественников ему претило. Казнь божьего помазанника, с такой смелостью осуществленная Кромвелем, вызвала его возмущение: он и на суд не пошел, чтобы не запятнать свою совесть участием в этом деле. Симпатии его — и религиозные, и политические — всегда были на стороне пресвитериан, а значит, он склонялся к союзу с монархией ценой умеренных уступок с обеих сторон. Шотландцы провозгласили королем Стюарта, представителя династии, которая с незапамятных времен занимала их трон, — зачем же идти и подавлять их силой? Тем более что открытого вторжения в Англию они не предпринимали.
И Фэрфакс наотрез отказывается возглавить северный поход против единомышленников — шотландских пресвитериан. Ни уговоры самого Кромвеля, ни скрытые угрозы не могут поколебать его решения.
— Мы связаны с шотландцами договором — Национальной лигой и Ковенантом, — говорит он. — Вопреки ему и без всякой причины с их стороны вторгнуться к ним с войсками и навязать войну? Я не могу найти этому оправданий ни перед богом, ни перед людьми.
Фэрфакс уходит в отставку и уезжает домой, в Йоркшир. Главнокомандующим всеми вооруженными силами Английской республики назначается Кромвель. В конце июня он отправляется со своей армией на север.
А сельская Англия бедствовала по-прежнему. Лето сорок девятого года выдалось неурожайным, как, впрочем, и сорок восьмого. Голод и болезни свирепствовали в графствах. Дневник мемуариста Уайтлока пестрит сообщениями о несчастьях, преследовавших сельских жителей. В мае 1649 года он записывает: «Из Ньюкасла сообщают, что в Камберленде и Уэстморленде множество людей умирают прямо на дорогах от голода, целые семьи покидают свои жилища и идут с женами и детьми в другие графства, ища пропитания, но ничего не могут найти. Мировые судьи Камберленда подсчитали, что тридцать тысяч семей не имеют ни хлеба, ни зерна для посевов, ни денег, чтобы купить его; объявили сбор пожертвований…» Из Ланкашира, с родины Уинстэнли, приходили еще более устрашающие сведения: «Голод свирепствует в графстве, а вслед за ним разразилась чума, которая косит целые семьи; если уж начнется в одном доме, то вся деревня не избежит пагубной заразы…» Крестьяне жаловались на бремя налогов, на поборы чиновников, на злоупотребления лордов. Граф Даун, например, владения которого были конфискованы республикой, а потом, после уплаты солидной компенсации, возвращены ему, беспощадно сгонял своих держателей с земли, лишал их крова. Общинные угодья, которыми они пользовались с незапамятных времен, он отдавал новым владельцам, а бейлиф, подкупленный графом, требовал у крестьян уплаты ренты, несмотря на конфискацию. Крестьяне протестовали. Кое-где они отказывались платить ренту, кое-где разрушали изгороди. А некоторые, бросив насиженные места, оставив тяжелый крестьянский труд, присоединялись к разгульным ватагам рантеров, которые бродили по дорогам и добывали себе пропитание куда более легкими, хотя и не всегда честными путями. Увеличение рантерских толп не на шутку испугало правительство. В июне 1650 года парламент назначил специальный комитет для изучения и пресечения «деятельности рантеров и других еретических групп». 21 июня комитет доложил парламенту «о различных гнусных деяниях секты, называемой рантерами». Они пьют и богохульничают, развращают женщин, отрицают религию и нравственность, крадут и замышляют все вещи сделать общими. Иисуса Христа они называют «главным левеллером», который уравняет горы с долинами, людей высокогоранга — с плебеями, богатых — с бедными. Парламент в ответ постановил публично сжечь некоторые из рантерских сочинений и приготовил соответствующий билль, утвержденный на заседании 9 августа. Билль назывался «Акт против всякого рода безбожных, богохульных и возмутительных мнений, оскорбляющих богопочитание и разрушающих человеческое общество». В нем подвергались осуждению взгляды, согласно которым «неправедность или разврат, богохульство, пьянство и тому подобные пороки и непристойное поведение не являются деяниями нечестивыми… или что такого рода поведение разрешено богом». Лица, утверждающие, что пьянство, воровство, мошенничество, обман, убийство, кровосмешение, внебрачное сожительство, разврат, содомия, безнравственные и непристойные слова «не являются сами по себе деяниями постыдными, вредными, грешными, нечестивыми, мерзкими, гнусными» или «представляются по своему существу такими же святыми и правыми, как молитва, проповедь, принесение благодарения Богу», «что вера и благоденствие заключаются в совершении описанных выше поступков», подлежали при первом уличении шестимесячному тюремному заключению, при втором — изгнанию за пределы Англии; самовольное возвращение преступника каралось смертной казнью. Текст этого акта со всей очевидностью показывал, что взгляды и действия рантеров и прочих «еретических групп» представлялись правительству весьма опасными; они побудили его к немедленным действиям. Сверху был санкционирован ряд разоблачительных памфлетов против рантерства, немедленно же последовали и политические акции.
Нет, надежды на возрождение диггерской колонии в Кобэме или где бы то ни было еще больше не существовало. Колонисты рассеялись кто куда. Одни вымолили прощение у лорда и остались на своих наделах — тянуть старую лямку. Другие уехали к родственникам на юг, запад, север, надеясь в глуши прокормиться. Кто подался в Лондон в поисках заработка, кто пополнил несметные толпы бродяг, бороздивших пыльные дороги Англии. А Джерард Уинстэнли вел нескольких своих друзей в манор Пиртон, графство Хартфордшир, к его хозяйке аристократке леди Дуглас. Он прослышал об этой женщине удивительные вещи и, кто знает, может быть, надеялся на ее помощь. Может, она дозволит диггерам основать новую колонию на своей земле? Или одолжит им денег? Не исключено, что она примет их веру и сама возглавит и воодушевит новое начинание диггеров. Или просто даст им на время хлеб, приют и какую-нибудь работу, чтобы им, бездомным, прокормиться. Леди Дуглас, по первому мужу Дэвис, урожденная Элеонора Туше, слыла и впрямь замечательной женщиной. Она родилась около 1590 года и была пятой дочерью лорда Одли, графа Кэслхавена. Отец, скряга и нелюдим, дал ей тем не менее хорошее воспитание и ввел в высшие круги общества. В 1609 году она вышла замуж за честолюбивого и энергичного сэра Джона Дэвиса, человека на двадцать лет старше ее; он служил тогда главным прокурором Ирландии. Сэр Джон был хорошо образованным человеком и имел живой ум. Он писал философские поэмы. От этого брака у Элеоноры родилось двое детей: мальчик, неполноценный умственно, умер, не достигнув совершеннолетия; дочь Люси впоследствии стала женой лорда Гастингса. Враги говорили о леди Дэвис, что она зла, неистова, уродлива и ослеплена своим высоким происхождением. Но не «отказ от доброты и скромности» прославил эту даму. Она обнаружила в себе некоторые сверхъестественные способности, которые впоследствии принесли ей широкую известность. Как многие в ее время, она забавлялась анаграммами: переставляла буквы чьего-либо имени, складывала из них новые слова и таким способом пыталась угадать будущее интересующего ее человека. И однажды, поиграв со своим девичьим именем, она обнаружила, что имя это — Элеонора Одли — содержит в себе слова «откровение Даниила». И вообразила себя пророком. В 1625 году, 28 июля, лежа в постели в своем имении Ингфилд в Хартфордшире, она внезапно была разбужена странным неземным голосом. Она открыла глаза, села и оглянулась. В спальне — никого. И тем не менее она явственно слышала голос, который сказал ей: «Девятнадцать с половиной лет до суда, знай это ты, смиренная дева». Она могла предположить только одно: это голос «выше, голос самого господа бога говорит с нею; она избрана как пророчица воли божьей и должна возвещать ее миру. С тех пор она начала письменно и устно предсказывать разные события. Она заявила, что чума, в этот год терзавшая Англию, спадет, и хотя ей не поверили, чума вскоре действительно пошла на убыль. Архиепископ Кентерберийский, которому она преподнесла свою рукопись, пожал плечами и вернул ее обратно. А ее энергичный муж бросил предсказание в огонь. Она отплатила тем, что предрекла ему смерть в течение ближайших трех лет, и тут же надела траурную одежду. Через год с небольшим, 7 декабря 1626 года сэр Джон был найден в постели мертвым; он скончался от апоплексического удара. Спустя три месяца после его смерти леди Элеонора вышла замуж вторично: ее мужем стал сэр Арчибальд Дуглас. Он тоже мало верил ее пророчествам и, подобно сэру Джону, однажды бросил их в огонь. Кара небесная не замедлила последовать: во время причастия в церкви сэр Арчибальд лишился чувств, а когда пришел в себя, окружающие обнаружили, что он потерял дар речи и лишился рассудка. Эти два трагических случая еще больше уверили ее в своем даре. И двор, при котором она появлялась, стал смотреть на нее с почтением. Однажды в 1627 году сама королева Генриетта-Мария, молоденькая француженка. подошла к ней и спросила: когда она сможет ожидать ребенка? «Надобно выждать время», — ответила на латыни прорицательница. Королева захотела узнать, будет ли успешной кампания герцога Бекингема, который готовился идти на помощь французским гугенотам, осажденным в Ларошели. «Он не привезет домой много, — был ответ. — Но вскоре вернется домой невредимым». В самом деле, экспедиция Бекингема была вынуждена отступить под ударами французских правительственных войск и вернуться к родным берегам. Леди Элеонора уверила королеву, что в течение шестнадцати лет она будет жить счастливо. Генриетта-Мария пришла в такое волнение от ответов пророчицы, что король Карл почел своей обязанностью выразить леди Дуглас неудовольствие. В ответ она неясно пригрозила ему, что может, со своей стороны, «принять против него меры». Слава ее росла, в придворных кругах к ее словам прислушивались с трепетом. Она предсказала Карлу благополучное рождение наследника, а в 1628 году заявила, что герцог Бекингем, всесильный королевский фаворит, ненавидимый всей Англией, не переживет августа. И точно: 28 августа офицер-пуританин Джон Фелтон вонзил в грудь временщика кинжал, герцог был убит наповал. И сама леди Дуглас теперь более чем когда-либо уверилась в полученном ею необычайном даре. В 1633 году она решила напечатать свои пророчества. И поехала для этого в Амстердам, чтобы не навлекать на себя еще большее неудовольствие английского короля. Она опубликовала там стихи, где предрекала гибель самому Карлу I. Тема была взята из знаменитого рассказа Даниила о Валтасаровом пире:
К этой женщине — необыкновенной и странной, претерпевшей много гонений и познавшей откровения, вел своих друзей Уинстэнли жарким летом 1650 года. Быть может, судьба сталкивала его с ней и раньше? На что он надеялся? Склонить ее сердце к бедным копателям, чтобы она дала им работу на матери-земле и позволила кормиться трудами рук своих? По просьбе леди Дуглас он стал работать управляющим в ее имении Пиртон. Он ни о чем не просил ее. Но она сама обещала ему и его друзьям за работу 20 фунтов стерлингов. На эти деньги они смогли бы прокормиться до будущей весны или — кто знает? — основать еще одну колонию. Стоял конец августа — время жатвы. Хлеб надо было сжать, обмолотить и свезти в амбары. Работы было много: на одних участках пшеница уродилась густая, стебли гнулись от тяжести колосьев; на плохих же почвах всходы были редкими, низкорослыми; там тоже предстояло немало работы. После бедствий последнего года трудиться было приятно: никакой угрозы ждать не приходилось. Правда, трудились они не на своей и не на общей земле, а на чужой… Впрочем, леди Дуглас не была обычным собственником; Уинстэнли, не раз говорив-тему с ней, порой казалось даже, что между ними устанавливается особое взаимное понимание, душевная связь, согревавшая сердце. Возможно, они давали друг другу читать свои трактаты. Он знакомился с ее неясными и удивительными пророчествами, сострадал ее судьбе. И старался раскрыть ей свой замысел — счастливый и свободный труд бедняков на общих землях… Он стремился обратить ее в свою веру. Но ее эксцентричность порой ставила его в тупик. Они вместе осматривали амбар, куда следовало ссыпать обмолоченное зерно, и вдруг посреди вполне деловых, будничных разговоров леди заявила, что она — пророк Мельхиседек, тот самый, который благословил самого Авраама. Образ этот был в ходу среди английских пуритан. В послании к евреям апостол Павел упоминает, что Мельхиседек, царь Иерусалима, был прообразом Христа. В свое время он привлекал внимание неоплатоников, Филона Александрийского, отцов церкви, а позднее — Лютера и Кальвина. То, что леди Дуглас назвала себя этим именем, показалось Уинстэнли смешным высокомерием, причудой. В октябре она объявила, что уезжает в Данингтон, другой свой манор. Уинстэнли с друзьями остался в Пиртоне домолачивать зерно. Еще надо было подготовить к зиме сад, привезти на грядки навоз, вскопать посадки, съездить в лес нарубить дров, сделать кое-какие работы по дому. В самом конце октября леди Дуглас явилась снова и потребовала выделить работников для починки кареты и приведения в порядок лошадей, ибо скоро собиралась отбыть в Лондон. Пришлось снять с молотилки всех четырех работников для помощи каретному мастеру. Время шло. Она снова уехала — на этот раз в Лондон, и оттуда потребовала от Уинстэнли доложить о работе. Он послал ей свою тетрадку с расчетами, но этого оказалось недостаточно, пришлось поехать в столицу самому, чтобы объяснить ей то, что было упущено в записях. Она разговаривала с ним хмуро, голос был сердитым. Ей все казалось, что он что-то от нее скрывает, утаивает бумаги, неаккуратно ведет счета… Он вернулся в Пиртон, собрал все и на следующий же день выслал ей: пусть убедится, что в его действиях нет обмана. Третьего декабря, когда работы на молотилке уже подходили к концу, она внезапно явилась в Пиртон подобно разгневанной Мегере. И потребовала у Уинстэнли нового отчета о количестве обмолоченного зерна. Все это выглядело так, будто она желает застать его врасплох и уличить в каком-то преднамеренном обмане. Но он был чист перед нею. Он попытался объяснить ей все терпеливо и показать счета. Но она гневалась, не хотела слушать и на другой день отбыла столь же внезапно, как и появилась. Он снова засел за счета, все проверил, подвел итог и сел писать ей письмо — в Лондон, на Чаринг Кросс у Марии Иветты, где находился ее дом. «Мадам, — писал он, — когда вы уехали, я просмотрел счета; там я увидел один недосмотр, и не могу быть спокоен, не послав вам весточки». По его подсчетам, всего они работали в Пиртоне 14 недель; но две из них ушли на уход за домом и садом и обслуживание ее лошадей и кареты. Поэтому работники трудились на молотилке всего 12 недель. В среднем они обмолачивали по пять возов хлеба в неделю — всего 60 возов. Защищая своих друзей от упреков в праздности, он указывал, что они трудились не покладая рук — и на плохих землях, и па хороших, а позднее на молотилке, и трудились на совесть. И прибавлял с горечью, что явилась она в Пиртон 3 декабря, «словно тать в нощи», чтобы призвать их к ответу и найти пятно на его совести; но тщетно, ибо он ни в чем переднею не виновен. Он рекомендовал ей еще раз проверить все счета и амбарные книги, которые прилагал к своему письму, и просил отныне предупреждать его, когда они ей понадобятся. И опять повторял, что безвинен перед нею, словно еще не родившееся дитя; он и не предполагал нанести ей хоть малейший ущерб. «Это умерит вашу подозрительность, — заключал он, — и даст вам терпение подождать, пока все зерно будет обмолочено. А гасим я остаюсь тем, кто любил вас истинной дружеской любовью, Джерард Уинстэнли». Но именно дружеское расположение к этой взбалмошной и необычной женщине не позволило ему ограничить свой ответ официальным отчетом о работе. Досада и обида на нее жили в его сердце, лишали покоя. Он вспомнил, как она называла себя Мельхиседеком, первосвященником, который благословил самого Авраама. И еще похвалялась, что обладает духом мужчины в женском теле. А денег, обещанных беднякам, которые работали на нее в поте лица, так и не заплатила. Нет, надо высказаться до конца. И уже подписавшись и поставив точку, он продолжал — не мог не продолжать дальше. «А теперь, мадам, позвольте мне сказать вам о безрассудстве вашей опрометчивой ошибки, я действительно должен вам это сказать, будете вы меня слушать или нет, ибо вы для меня не более чем одна из ветвей рода человеческого. Если бы вы послали за мной, я привез бы вам все счета и спокойно вам все разъяснил, потратив 10 шиллингов на себя и на коня, тогда как теперь вы своей опрометчивостью ввергли себя в лишний расход, ибо ваше путешествие стоило вам не менее пяти фунтов, а также в подозрительность и гнев, то есть ад, состояние слишком скверное и низкое для истинного пророка». Он упрекнул ее в том, что она называет себя Мельхиседеком, — это ведь непростительное высокомерие. Все равно что назвать себя Иисусом Христом. Мельхиседек был царем справедливости и князем мира, а вы? Люди просят заплатить им деньги, которые они заработали у вас честным трудом, а вы все откладываете уплату. Может быть, вы вообще не склонны платить им или хотите, чтобы они начали судебную тяжбу? Ваше состояние вполне достаточно для того, чтобы вы заплатили всем (это будет справедливо) и отпустили бы их с миром — вот в чем дух Мельхиседека. «И потому не позволяйте больше тайной гордыне и своеволию, которыми вы полны, ослеплять ваше сердце. Посмотрите Писание, и вы найдете там, что истинные пророки и пророчицы не откладывали выполнение своих договоров и обещаний. Они не были сборщиками налогов со своих братьев. Они трудились собственными руками, добывая хлеб насущный, и хотели, чтобы другие работали вместе с ними. Они не стали бы есть плоды чужого труда, а сами жить в праздности, ибо гордый, надменный дух, возвышающий себя над другими, — это сатана или дьявол, который в самом деле очень хотел бы, чтобы его называли пророком; но этого не будет, его личину с легкостью сдернет и ребенок. А гордый, своевольный дух, который не подчиняется разуму, — это самый низкий, подлый и неблагородный дух на земле, в нем нет чести, кроме пустого бряцания титулом…» Он вспомнил ее гневные слова, ее стремление уличить его в каком-то обмане. Нет, надо высказаться прямо, не льстя, не выбирая слов, коли уж она считает себя столь высоко поднявшейся над миром. «Мадам, я пришел под ваш кров, — написал он дальше, — не для того, чтобы заработать денег, как раб. Меня интересовала не тяжесть вашего кошелька — я стремился обратить ваш дут к истинному благородству, которое сейчас столь низко пало на земле. Вы знаете, я ни о чем вас не просил, я пришел и занялся вашими делами, потому что вы сами попросили меня помочь вам этим летом. И вы обещали мне заплатить 20 фунтов. Согласно вашим законам собственности я действительно заработал их и ожидаю исполнения вашего обещания, ибо должен поделиться с моими бедными братьями». Его кроткие друзья, ничего не требуя для себя, трудились все это время в поте лица, молчаливо и преданно, веря, что труд их не пропадет даром, что он принесет плоды. Но о каких плодах думала она. леди Дуглас? Странная мысль пришла ему в голову. Она мнит себя первосвященником, но разум свой потеряла, ибо дала овладеть собой гневу и бешенству. Обманчивые покровы великой прорицательницы спали, и истинная, алчная и плотская сущность этой женщины предстала перед ним. Кто теряет власть над собой, теряет разум и силу, — написал он». «И хотя вы можете умериватъ свои слова перед другими людьми, вы сами чувствуете, что внутреннее кипение и раздражение правит вами, и эта внутренняя власть ввергнет вас во тьму, пока разум, который вы растоптали ногами, не придет и не освободит вас». Кажется, теперь он высказал все, что думал. В конце он добавил, остывая: «Я прощаюсь, мадам; пока работа ваша не закончена, я сделаю для вас все, что могу, в деле вашей собственности, и дам вам точный отчет».
Леди Дуглас получила письмо Уинстэнли, прочла, пожала плечами и надписала сверху: «Он ошибается, т. к. с 20 августа по 3 декабря прошло пятнадцать недель, и по его отчетам он должен мне 75 возов пшеницы, это если считать по пять возов в неделю; но надо было молотить по шесть возов, значит, с него причитается по крайней мере еще за 15 возов». Чувство собственницы в ней было сильнее всех прочих устремлений; плоть побеждала дух и торжествовала. Она приписала еще, чтобы окончательно оправдать себя: «Честным диггерам. Матфей, 25.19: По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета». И ответ нерадивого раба: «Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал»… Чем кончилась эта история и получили ли наконец Уинстэнли и его друзья то, что причиталось им за работу, — неизвестно. Вряд ли они задержались в Пиртоне надолго. Разочарование, так ясно выраженное в письме Уинстэнли, было слишком сильным. Помощи от землевладелицы, супруги лорда, собственницы ждать не приходилось. Дальнейшая судьба леди Дуглас печальна. В 1651 году она успела выпустить еще несколько памфлетов, где описывала свои видения, мытарства по тюрьмам, гонения. На 1656 год она предсказала всемирный потоп. Но не дожила до исполнения этого срока: в июле 1652 года она умерла шестидесяти с небольшим лет и была похоронена в фамильном склепе своего первого мужа в церкви святого Мартина в Лондоне. Об Уинстэнли же и его друзьях ничего не было известно до начала того же, 1652 года.
ВОПРОС О КОНСТИТУЦИИ
 1652 год Англия вступала победоносной европейской державой. Последние оплоты роялистов в Ирландии и Шотландии были разбиты. Претензии принца Карла на английский престол уже не представляли серьезной угрозы. Это поняли и государи континентальных стран. Давние враги и соперники Англии — испанский король, германские князья, правители Венецианской республики, Генуи, Швейцарии, короли датский и португальский, королева Швеции Христина — все вынуждены были официально признать существование Английской республики и направить ко двору Кромвеля, еще простоватому и по-солдатски непритязательному, свои посольства. Покорились всесильной метрополии и заокеанские владения — Новая Англия, Ньюфаундленд, Вирджиния, Мэриленд.
Внутри страны всякое сопротивление республиканским властям было сломлено. Не только роялисты — и мятежники-левеллеры, критики слева, не смели поднять головы. И рантеры-буяны приутихли, напуганные проведением в жизнь акта 1650 года: судами, арестами, тюрьмами.
Слава и величие Кромвеля возросли необычайно. Его солдаты, развращенные легкой добычей в Ирландии, опьяненные кровью и победами, были послушны каждому его слову. Иностранные послы заискивали и льстили. Юристы и проповедники наперебой предлагали свои услуги. Многим казалось, что это он один совершил все: и казнь короля, и установление республики, и великие победы, и слава в Европе — дело его рук. И именно от него зависит дальнейшая судьба Англии: как он захочет, так и будет. К нему обращались сотни петиций, жалоб, проектов государственного устройства и разнообразных улучшений существующего. И сам он чувствовал на себе бремя великой ответственности: он действительно должен был заботиться о новом, счастливом «устроении нации».
Перед ним, перед всей страной стояли три задачи. Первая из них — реформа права, которой требовали самые разные слои населения еще с начала гражданских войн. Запутанные, доставшиеся в наследство от феодальных времен законы нуждались в упрощении и прояснении. Это отлично понимал сам Кромвель. «Право в том виде, — признавался он, — как оно существует, служит только интересам юристов и поощряет богатых притеснять бедных».
В самом деле, отношения между лендлордом и держателем земли, кредитором и должником, хозяином и работником требовали упорядочения. Страна была разорена войнами, тысячи людей лишились средств пропитания. Получившие полную свободу после отмены феодальных повинностей землевладельцы беззастенчиво грабили крестьян. Новые господа, разбогатевшие во время революции, огораживали поля, сгоняли бедных копигольдеров с насиженных мест, и те присоединялись к толпам бродяг, колесивших по дорогам Англии в поисках заработка. Налоги достигли огромных цифр — разбухшая в войнах армия требовала содержания. Измученные, изголодавшиеся жители графств писали Кромвелю: «Мы не имеем возможности предоставить нашим детям и семействам надлежащее пропитание, передавая их как рабов во власть клириков и владельцев десятины, которые жестоко мучат нас…»
Вопрос о реформе права оказывался тесно связанным с вопросами социального переустройства. Но попробуй тронь социальные порядки! Как только в парламенте заходила речь о реформе права, юристы тут же начинали кричать, что не позволят отменить собственность!
Второй задачей — не менее важной — было урегулирование политического устройства страны. Давно пора уже было распустить пресловутое «охвостье» Долгого парламента, на заседаниях которого насчитывалось не более 60 членов, и назначить выборы в новый представительный орган. Некогда совершившие революцию парламентские индепенденты с каждым днем все больше теряли свой авторитет. Эти 60 человек теперь заботились более всего не о благе государства, а об увеличении своих собственных прибылей. Они раздавали друг другу земли, конфискованные у роялистов, леса, угольные копи, монополии, доходные должности. Алчность и безудержная страсть к обогащению владели ими.
Главной же политической задачей этого выродившегося организма было сохранить власть, никому не передавать своих полномочий, не допустить новых выборов. Лишь подчиняясь авторитету Кромвеля, они согласились назначить дату самороспуска — 3 ноября 1654 года.
Третьей насущной задачей было устроение церковных дел. Здесь царил полный хаос: англиканская церковь была разрушена, храмы пустовали или использовались под казармы для солдат, под склады и тюрьмы. Пресвитерианская церковная система, установленная парламентским декретом в марте 1646 года как обязательная для всей Англии, привлекала лишь немногих богатых купцов, финансистов Сити, тайных сторонников короля. Народ же был весь во власти самых разных сект, контролировать которые не было никакой возможности. По дорогам из села в село, из города в город по-прежнему брели странствующие проповедники, собирая вокруг себя толпы народа. Они призывали к отмене официальной церкви, обрядов, таинств и главное — отказывались платить десятину. А тем самым нарушали благополучие не только служителей клира, но и многочисленных светских владельцев церковных земель — тех же членов «охвостья», юристов, офицеров, джентри.
Страна, казалось, шла к новым потрясениям. Слухи, предвестия, неясные угрозы будоражили умы. В марте 1652 года ожидалось затмение Солнца, и, внимая предсказаниям астрологов, кто трясся от страха, кто ожидал второго пришествия Мессии, кто заблаговременно припрятывал денежки и драгоценности, опасаясь беспорядков, а кто покидал столицу, дабы избегнуть ужасов космического бедствия. Государственный совет вынужден был издать прокламацию, в которой разъяснял естественные причины затмений и убеждал, что бояться таких явлений не следует.
Неминуемой представлялась и война с Голландией. Выпущенный «охвостьем» 9 октября 1651 года «Навигационный акт», который разрешал ввоз товаров в Англию только на английских кораблях или на кораблях тех стран, где они произведены, серьезно подорвал торговое могущество этой страны — главного соперника Англии на морских просторах. И хотя голландцы были для англичан «братьями по вере» — протестантами, заправилы Вестминстера по соображениям корысти вели дело к войне с этой державой и, наоборот, заигрывали с католической Испанией. Уинстэнли был прав — поистине алчность являлась основой всякого греха, порока, предательства.
Наконец, армия, любимое детище Кромвеля, главная ого опора и оплот сил Республики, нуждалась в содержании. Солдатам и офицерам задолжали выплату жалованья за много месяцев, постои в частных домах повсюду вызывали ропот и возмущение. Члены «охвостья» ненавидели армию, боялись и норовили расформировать. И неустанно следовало заботиться о поддержании в ней дисциплины, дабы не допустить снова движения агитаторов, беспорядков, бунта.
Все эти дела требовали срочного и кардинального решения. И Кромвель, едва отдохнув от военных походов и осмотревшись, начинает исподволь готовить реформы. Десятого декабря он собирает на совещание в доме спикера Ленталла членов палаты, видных юристов, офицеров. Он призывает их заняться приведением государственных дел в должный порядок. На повестку дня ставится вопрос о новой конституции.
И сразу становится ясной линия размежевания: юристы считают, что Англия должна сохранить в своем государственном устройстве некоторые черты монархического правления. Они осторожно предлагают Кромвелю отдать английский трон младшему сыну казненного короля герцогу Глостеру. А они, юристы, и офицеры, и сам Кромвель станут регентами при несовершеннолетнем монархе. Но армия стоит за Республику. Солдаты не зря проливали кровь, говорит соратник Кромвеля генерал Десборо. Почему Англия не может иметь республиканского правления?
Вопрос о форме правления, о конституционном устройстве Англии становится к началу 1652 года самым главным вопросом.
1652 год Англия вступала победоносной европейской державой. Последние оплоты роялистов в Ирландии и Шотландии были разбиты. Претензии принца Карла на английский престол уже не представляли серьезной угрозы. Это поняли и государи континентальных стран. Давние враги и соперники Англии — испанский король, германские князья, правители Венецианской республики, Генуи, Швейцарии, короли датский и португальский, королева Швеции Христина — все вынуждены были официально признать существование Английской республики и направить ко двору Кромвеля, еще простоватому и по-солдатски непритязательному, свои посольства. Покорились всесильной метрополии и заокеанские владения — Новая Англия, Ньюфаундленд, Вирджиния, Мэриленд.
Внутри страны всякое сопротивление республиканским властям было сломлено. Не только роялисты — и мятежники-левеллеры, критики слева, не смели поднять головы. И рантеры-буяны приутихли, напуганные проведением в жизнь акта 1650 года: судами, арестами, тюрьмами.
Слава и величие Кромвеля возросли необычайно. Его солдаты, развращенные легкой добычей в Ирландии, опьяненные кровью и победами, были послушны каждому его слову. Иностранные послы заискивали и льстили. Юристы и проповедники наперебой предлагали свои услуги. Многим казалось, что это он один совершил все: и казнь короля, и установление республики, и великие победы, и слава в Европе — дело его рук. И именно от него зависит дальнейшая судьба Англии: как он захочет, так и будет. К нему обращались сотни петиций, жалоб, проектов государственного устройства и разнообразных улучшений существующего. И сам он чувствовал на себе бремя великой ответственности: он действительно должен был заботиться о новом, счастливом «устроении нации».
Перед ним, перед всей страной стояли три задачи. Первая из них — реформа права, которой требовали самые разные слои населения еще с начала гражданских войн. Запутанные, доставшиеся в наследство от феодальных времен законы нуждались в упрощении и прояснении. Это отлично понимал сам Кромвель. «Право в том виде, — признавался он, — как оно существует, служит только интересам юристов и поощряет богатых притеснять бедных».
В самом деле, отношения между лендлордом и держателем земли, кредитором и должником, хозяином и работником требовали упорядочения. Страна была разорена войнами, тысячи людей лишились средств пропитания. Получившие полную свободу после отмены феодальных повинностей землевладельцы беззастенчиво грабили крестьян. Новые господа, разбогатевшие во время революции, огораживали поля, сгоняли бедных копигольдеров с насиженных мест, и те присоединялись к толпам бродяг, колесивших по дорогам Англии в поисках заработка. Налоги достигли огромных цифр — разбухшая в войнах армия требовала содержания. Измученные, изголодавшиеся жители графств писали Кромвелю: «Мы не имеем возможности предоставить нашим детям и семействам надлежащее пропитание, передавая их как рабов во власть клириков и владельцев десятины, которые жестоко мучат нас…»
Вопрос о реформе права оказывался тесно связанным с вопросами социального переустройства. Но попробуй тронь социальные порядки! Как только в парламенте заходила речь о реформе права, юристы тут же начинали кричать, что не позволят отменить собственность!
Второй задачей — не менее важной — было урегулирование политического устройства страны. Давно пора уже было распустить пресловутое «охвостье» Долгого парламента, на заседаниях которого насчитывалось не более 60 членов, и назначить выборы в новый представительный орган. Некогда совершившие революцию парламентские индепенденты с каждым днем все больше теряли свой авторитет. Эти 60 человек теперь заботились более всего не о благе государства, а об увеличении своих собственных прибылей. Они раздавали друг другу земли, конфискованные у роялистов, леса, угольные копи, монополии, доходные должности. Алчность и безудержная страсть к обогащению владели ими.
Главной же политической задачей этого выродившегося организма было сохранить власть, никому не передавать своих полномочий, не допустить новых выборов. Лишь подчиняясь авторитету Кромвеля, они согласились назначить дату самороспуска — 3 ноября 1654 года.
Третьей насущной задачей было устроение церковных дел. Здесь царил полный хаос: англиканская церковь была разрушена, храмы пустовали или использовались под казармы для солдат, под склады и тюрьмы. Пресвитерианская церковная система, установленная парламентским декретом в марте 1646 года как обязательная для всей Англии, привлекала лишь немногих богатых купцов, финансистов Сити, тайных сторонников короля. Народ же был весь во власти самых разных сект, контролировать которые не было никакой возможности. По дорогам из села в село, из города в город по-прежнему брели странствующие проповедники, собирая вокруг себя толпы народа. Они призывали к отмене официальной церкви, обрядов, таинств и главное — отказывались платить десятину. А тем самым нарушали благополучие не только служителей клира, но и многочисленных светских владельцев церковных земель — тех же членов «охвостья», юристов, офицеров, джентри.
Страна, казалось, шла к новым потрясениям. Слухи, предвестия, неясные угрозы будоражили умы. В марте 1652 года ожидалось затмение Солнца, и, внимая предсказаниям астрологов, кто трясся от страха, кто ожидал второго пришествия Мессии, кто заблаговременно припрятывал денежки и драгоценности, опасаясь беспорядков, а кто покидал столицу, дабы избегнуть ужасов космического бедствия. Государственный совет вынужден был издать прокламацию, в которой разъяснял естественные причины затмений и убеждал, что бояться таких явлений не следует.
Неминуемой представлялась и война с Голландией. Выпущенный «охвостьем» 9 октября 1651 года «Навигационный акт», который разрешал ввоз товаров в Англию только на английских кораблях или на кораблях тех стран, где они произведены, серьезно подорвал торговое могущество этой страны — главного соперника Англии на морских просторах. И хотя голландцы были для англичан «братьями по вере» — протестантами, заправилы Вестминстера по соображениям корысти вели дело к войне с этой державой и, наоборот, заигрывали с католической Испанией. Уинстэнли был прав — поистине алчность являлась основой всякого греха, порока, предательства.
Наконец, армия, любимое детище Кромвеля, главная ого опора и оплот сил Республики, нуждалась в содержании. Солдатам и офицерам задолжали выплату жалованья за много месяцев, постои в частных домах повсюду вызывали ропот и возмущение. Члены «охвостья» ненавидели армию, боялись и норовили расформировать. И неустанно следовало заботиться о поддержании в ней дисциплины, дабы не допустить снова движения агитаторов, беспорядков, бунта.
Все эти дела требовали срочного и кардинального решения. И Кромвель, едва отдохнув от военных походов и осмотревшись, начинает исподволь готовить реформы. Десятого декабря он собирает на совещание в доме спикера Ленталла членов палаты, видных юристов, офицеров. Он призывает их заняться приведением государственных дел в должный порядок. На повестку дня ставится вопрос о новой конституции.
И сразу становится ясной линия размежевания: юристы считают, что Англия должна сохранить в своем государственном устройстве некоторые черты монархического правления. Они осторожно предлагают Кромвелю отдать английский трон младшему сыну казненного короля герцогу Глостеру. А они, юристы, и офицеры, и сам Кромвель станут регентами при несовершеннолетнем монархе. Но армия стоит за Республику. Солдаты не зря проливали кровь, говорит соратник Кромвеля генерал Десборо. Почему Англия не может иметь республиканского правления?
Вопрос о форме правления, о конституционном устройстве Англии становится к началу 1652 года самым главным вопросом.
ПОСВЯЩЕНИЕ
 а, вопрос, о конституции стал теперь главным вопросом. И среди многих и многих ответов на этот вопрос был и проект, предложенный Джерардом Уинстэнли.
В декабре 1650 года он распростился с манором Пиртон и его владелицей леди Дуглас. Скупые, как всегда, слова о себе позволяют думать, что жилось ему в последующие годы несладко. «И вот мое здоровье и имущество потеряны, я старею. Я должен либо просить милостыню, либо работать за поденную плату на другого…» Тяжкий неблагодарный труд на случайных хозяев, одиночество, недоедание, болезни. В сорок два года он чувствует себя стариком. Единственное, что еще давало силы жить и бороться в этом мире, была его книга.
Он задумал ее еще давно, живя среди диггеров на холме Святого Георгия. Колония, которая строила новую жизнь, требовала своего устава. Он решил дать ей закон — определить права и обязанности каждого члена, порядок работы, способ распределения полученных или купленных на общие деньги продуктов… Из этой частной задачи вырастала другая: вся Англия нуждалась в новом законе — законе свободы. И он начал писать конституцию, предназначая ее для рассмотрения всем англичанам.
В той древней книге, из которой он и его современники черпали мудрость и идеал, тоже говорилось о законе. «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». И еще: «Так говорите и так поступайте, как имеющие' быть судимы по закону свободы». И думая о названии книги, он выбрал слова «закон свободы». Ими он мог подчеркнуть истинность и близость того, что собирался изложить, к чистому источнику первоначального христианства.
Горестные события, жестокие избиения и разгоны, каждодневная изнурительная борьба за сохранение колонии, а также другие письма, жалобы, протесты и трактаты, которые он вынужден был писать, отодвинули эту главную работу его жизни. В какой-то момент он подумал даже: «Кто поймет, кто поддержит этот проект?» И отказался от мысли когда-либо его обнародовать.
Теперь же, когда не только колонии, но и надежд на ее скорое возрождение более не существовало, когда он остался один в нищете и отчаянии, — что еще оставалось делать? Только рассказать миру о своих начинаниях, предложить ясную и простую схему нового общественного устройства. Все вокруг издавали проекты реформ. Вот и Хью Питерс, знаменитый армейский проповедник, выпустил трактат «Доброе дело для добрых властей», где призывал обратиться к слову божию и в нем искать образ правления, исцеляющего все зло. И как огонь, тот белый незабвенный огонь откровения, вспыхнули в душе Уинстэнли слова: «Ты не должен зарывать свой талант в землю». Тогда он вновь обратился к старым разбросанным записям, пересмотрел их, дополнил, организовал. «Я был подвигнут к тому, чтобы возродить их и собрать воедино все мои разрозненные листки, которые я только мог разыскать, и изложить их таким способом, который я здесь предлагаю, и тем успокоить мой дух».
Он снова взялся за перо, использовал старые пожелтевшие заметки, дописал новые главы. От этого работа получилась несколько сумбурной, неровной; композиция ее четкостью не отличалась. Она включала и перечисление тягот и нужд народа, и критику утвердившихся после казни короля порядков, и рассуждения о начале и природе власти и закона, и подробную программу экономической, политической, административной организации общества; а также свод законов, соображения о воспитании молодежи, философские размышления.
Важной особенностью трактата было то, что Уинстэнли мыслил себе новый совершенный общественный строй не как нечто отдаленное в будущем или вовсе не осуществимое на земле. В отличие от Томаса Мора или Френсиса Бэкона он представлял свою утопию не фантастическим островом, затерянным в просторах океана, а сегодняшней Англией, которую возможно перестроить так, чтобы все в ней жили справедливо и счастливо. Он предлагал конкретный план перестройки английских государственных и общественных порядков, охватывающий все стороны жизни. В этом смысле его трактат ближе к левеллерскому «Народному соглашению», к вышедшей четырьмя годами позже «Океании» Гаррингтона или к проекту Милтона «Скорый и легкий путь к установлению республики» (1660).
Уинстэнли поспешил опубликовать его в начале 1652 года, когда Англия особенно остро нуждалась в новой конституции. Его и не заботили поэтому ни стройность изложения, ни логика структуры, ни красоты стиля. Важно было высказать то, что созрело в уме и сердце, как можно скорее.
Он не считал свой проект совершенным или раз навсегда данным. Это скорее призыв осуществить определенные возможности преобразований, гибкая и открытая схема, поддающаяся исправлениям и переработке. Четверостишие, поставленное на титульном листе, говорило:
а, вопрос, о конституции стал теперь главным вопросом. И среди многих и многих ответов на этот вопрос был и проект, предложенный Джерардом Уинстэнли.
В декабре 1650 года он распростился с манором Пиртон и его владелицей леди Дуглас. Скупые, как всегда, слова о себе позволяют думать, что жилось ему в последующие годы несладко. «И вот мое здоровье и имущество потеряны, я старею. Я должен либо просить милостыню, либо работать за поденную плату на другого…» Тяжкий неблагодарный труд на случайных хозяев, одиночество, недоедание, болезни. В сорок два года он чувствует себя стариком. Единственное, что еще давало силы жить и бороться в этом мире, была его книга.
Он задумал ее еще давно, живя среди диггеров на холме Святого Георгия. Колония, которая строила новую жизнь, требовала своего устава. Он решил дать ей закон — определить права и обязанности каждого члена, порядок работы, способ распределения полученных или купленных на общие деньги продуктов… Из этой частной задачи вырастала другая: вся Англия нуждалась в новом законе — законе свободы. И он начал писать конституцию, предназначая ее для рассмотрения всем англичанам.
В той древней книге, из которой он и его современники черпали мудрость и идеал, тоже говорилось о законе. «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». И еще: «Так говорите и так поступайте, как имеющие' быть судимы по закону свободы». И думая о названии книги, он выбрал слова «закон свободы». Ими он мог подчеркнуть истинность и близость того, что собирался изложить, к чистому источнику первоначального христианства.
Горестные события, жестокие избиения и разгоны, каждодневная изнурительная борьба за сохранение колонии, а также другие письма, жалобы, протесты и трактаты, которые он вынужден был писать, отодвинули эту главную работу его жизни. В какой-то момент он подумал даже: «Кто поймет, кто поддержит этот проект?» И отказался от мысли когда-либо его обнародовать.
Теперь же, когда не только колонии, но и надежд на ее скорое возрождение более не существовало, когда он остался один в нищете и отчаянии, — что еще оставалось делать? Только рассказать миру о своих начинаниях, предложить ясную и простую схему нового общественного устройства. Все вокруг издавали проекты реформ. Вот и Хью Питерс, знаменитый армейский проповедник, выпустил трактат «Доброе дело для добрых властей», где призывал обратиться к слову божию и в нем искать образ правления, исцеляющего все зло. И как огонь, тот белый незабвенный огонь откровения, вспыхнули в душе Уинстэнли слова: «Ты не должен зарывать свой талант в землю». Тогда он вновь обратился к старым разбросанным записям, пересмотрел их, дополнил, организовал. «Я был подвигнут к тому, чтобы возродить их и собрать воедино все мои разрозненные листки, которые я только мог разыскать, и изложить их таким способом, который я здесь предлагаю, и тем успокоить мой дух».
Он снова взялся за перо, использовал старые пожелтевшие заметки, дописал новые главы. От этого работа получилась несколько сумбурной, неровной; композиция ее четкостью не отличалась. Она включала и перечисление тягот и нужд народа, и критику утвердившихся после казни короля порядков, и рассуждения о начале и природе власти и закона, и подробную программу экономической, политической, административной организации общества; а также свод законов, соображения о воспитании молодежи, философские размышления.
Важной особенностью трактата было то, что Уинстэнли мыслил себе новый совершенный общественный строй не как нечто отдаленное в будущем или вовсе не осуществимое на земле. В отличие от Томаса Мора или Френсиса Бэкона он представлял свою утопию не фантастическим островом, затерянным в просторах океана, а сегодняшней Англией, которую возможно перестроить так, чтобы все в ней жили справедливо и счастливо. Он предлагал конкретный план перестройки английских государственных и общественных порядков, охватывающий все стороны жизни. В этом смысле его трактат ближе к левеллерскому «Народному соглашению», к вышедшей четырьмя годами позже «Океании» Гаррингтона или к проекту Милтона «Скорый и легкий путь к установлению республики» (1660).
Уинстэнли поспешил опубликовать его в начале 1652 года, когда Англия особенно остро нуждалась в новой конституции. Его и не заботили поэтому ни стройность изложения, ни логика структуры, ни красоты стиля. Важно было высказать то, что созрело в уме и сердце, как можно скорее.
Он не считал свой проект совершенным или раз навсегда данным. Это скорее призыв осуществить определенные возможности преобразований, гибкая и открытая схема, поддающаяся исправлениям и переработке. Четверостишие, поставленное на титульном листе, говорило:
Далее шло обращение к читателю. Уинстэнли предлагал ему систему правления, которая станет царством первозданной справедливости и мира на земле; она наполнит сердце каждого тихим покоем. Он предвидел возможные возражения. Он помнил, как диггеров обвиняли в посягательстве на чужую собственность, в обобществлении жен, в кровосмешении и разврате, в отрицании всяческих моральных устоев. И спешил предупредить подобные кривотолки. Страна не будет ввергнута в анархию: чтобы избежать безрассудства и невежества, в ней вводится закон, единый и обязательный для всех граждан. Специальные должностные лица будут следить за его исполнением. При этом непременным условием явится республиканская форма правления. Ибо «правление царей есть правление книжников и фарисеев, которые не считаются со свободой, только бы им быть владыками над землей и над своими братьями». Подлинное республиканское правление явится правлением справедливости и мира.
ЧТО ЕСТЬ ИСТИННАЯ СВОБОДА?
 сновой основ общественной и политической жизни и борьбы всегда был вопрос о свободе. За нее сражались и умирали люди многих поколений в разных странах, в разные времена, начиная с глубокой древности. Гонясь за этим неуловимым призраком, убивали властителей, поднимали мятежи, сталкивали целые армии, устраивали заговоры, тайные союзы, шли на виселицу и костер. И ведь война с королем Карлом I началась как война за «древние свободы и вольности Англии». За свободу от королевского произвола шли на битву Кромвель и иидепенденты. Свободы добивались левеллеры, и сидели за нее в тюрьмах, и поднимались с оружием в руках, выставив на своих знаменах заманчивый лозунг свободы. «Свобода, — писал Лилберн, — единственное сокровище, заслуживающее, чтобы люди подвергали себя любым опасностям для сохранения и защиты его против всякой тирании и гнета, откуда бы они ни исходили». Левеллеры клялись не складывать оружия до тех пор, пока в Англии не будут утверждены и законодательно закреплены права и свободы граждан. Обильной жатвы свобод требовали многочисленные народные секты, свободу провозглашали своим богом рантеры — свободу от всего, полную свободу тела и духа…
Но вот беда — каждый понимал свободу по-своему. И Уинстэнли пытается внести ясность в этот кардинальный вопрос человеческой жизни. «Великое устремление сердец в наши дни, — пишет он, — это найти, в чем заключается истинная свобода… Одни говорят, что она заключается в свободе торговли и в том, чтобы все патенты, лицензии и ограничения были уничтожены; но это свобода по воле завоевателя. Другие говорят, что истинная свобода заключается в свободе проповеди для священников, а для народа — в праве слушать кого ему угодно, без ограничения или принуждения к какой-либо форме богослужения; но это неустойчивая свобода. Иные говорят, что истинная свобода — в возможности иметь общение со всеми женщинами и в беспрепятственном удовлетворении их вожделений и жадных аппетитов, но это свобода необузданных, безрассудных животных, и ведет она к разрушению. Иные говорят, что истинная свобода в том, чтобы старший брат был лендлордом земли, а младший брат — слугою. Но это только половина свободы, порождающая возмущение, войны и распри».
Все эти и подобные им свободы, заключает Уинстэнли, ведут к рабству и «не являются истинной, основополагающей свободой, которая устанавливает республику в мире».
В чем же заключается истинная свобода? Для Уинстэнли она состоит в свободном пользовании землей. В его время земля была главным средством пропитания и источником жизни для человека. И потому он написал: «Истинная республиканская свобода заключается в свободном пользовании землею». То есть «истинная свобода — там, где человек получает пищу и средства для поддержания жизни». Подлинная справедливость — в свободе от нужды, голода, угнетения. Подлинная свобода — в наличии у каждого гражданина независимых от чьего бы то ни было произвола источников существования. Ибо «лучше не иметь тела, чем не иметь пищи для него; а посему это отстранение от земли братьев братьями есть угнетение и рабство».
И в самом деле, развивал он свою мысль, ведь все труды человеческие направлены к тому, чтобы иметь свободное пользование землей и ее плодами. Разве священники не проповедуют ради присвоения земли? И не ведут ли тяжбы юристы, чтобы завладеть землею? Разве солдаты не сражаются за землю? И разве лендлорд не требует ренты, чтобы иметь возможность жить от изобилия земли благодаря труду своих держателей? Все — от вора на большой дороге и до короля, восседающего на троне, стремятся к тому, чтобы силой оружия либо тайными кознями отнять землю один у другого, ибо они видят, что их свобода заключается в изобилии, а их рабство — в нищете.
Некогда Уинстэнли думал, что первопричина зла на земле — человеческие пороки: алчность, себялюбие, гордыня, зависть, презрение к ближнему. Грехопадением он считал тот миг, когда человек позволил этим силам зла в себе победить стремление к единению, самоотречению и братству. Теперь же он понимал другое. Сама жизнь, горький опыт разгромленной бедняцкой колонии показали ему, что внутреннее, духовное рабство — «алчность, гордыня, лицемерие, зависть, уныние, страх, отчаяние и безумие — все это вызывается внешним рабством, которое одни люди налагают на других». Он теперь стал реалистом. Неправедные, несправедливые, угнетательские установления — вот причины духовного и морального несовершенства человека.
Уинстэнли вспоминал историю. Древний Израиль, покорив народы и захватив во владение неприятельские земли, поделил их по жребию менаду всеми коленами, ибо пользование землею считалось высшей свободой. Весь фонд земель был превращен в общую сокровищницу средств существования для республики; землю получили каждое колено и каждый род в колене; все имели достаточно, никто не нуждался, и не было нищенства между ними. Так свидетельствует Писание.
И нормандский герцог Вильгельм, который завоевал Англию, тоже использовал владение землей для своей свободы; он роздал наделы своим дружинникам и превратил завоеванных англичан в слуг, которые обрабатывали для них землю. «И все короли от его времени до короля Карла были наследниками этого завоевания; и все законы были выпущены для закрепления этого завоевания». Для того же были созданы и два паразитических сословия: юристов, чтобы толковать, и отстаивать, и проводить в жизнь законы завоевателя; и духовенство, которое лжет народу, что если он будет повиноваться королям и правителям, то после смерти попадет в рай, а на земле будет жить в мире; если же не подчинится им, то будет ввергнут в ад и пребывать в состоянии скорби плоти, нищеты, плетей и смерти, а его дома и богатства будут отняты у него.
Лживые проповеди духовенства всегда вызывали у Уинстэнли возмущение. И сейчас он с беспощадной трезвостью понимания срывает с них маску: «Они проповедовали о земном аде с тюрьмами, плетьми и виселицами для того, чтобы держать народ в повиновении королю; а об этом предполагаемом аде после смерти они вещают, чтобы держать и короля и народ в страхе перед собою, чтобы сохранить свой доход от десятины и недавно введенных пособий». Так они обманывают и короля и народ, чтобы самим стать правителями. Они хотят, чтобы народ смотрел на все их глазами. Но если очи народа начнут прозревать и он подвергнет сомнению их лжеучение, они пойдут на него войной. Ибо в сердце своем они говорят: «Если народ не станет работать на нас и платить нам десятину, то мы должны будем сами работать на себя, как они, и наша свобода будет потеряна». Это крик египетского надсмотрщика, который смотрит на свободу других людей как на рабство для себя.
Уинстэнли предвидел возражения, которые будут идти от непонимания той простой истины, что земля должна стать общей сокровищницей для всех. Одни скажут, что все плоды земли необходимо сделать общими независимо от того, работает человек или живет в праздности. Другие, пребывающие в скотском невежестве, станут полагать, что в новой республике будет установлена общность всех мужей и жен. Иные подумают, что закона не будет вовсе и все придет в полное смятение. И он разъяснял, что понимает под истинной общностью.
Это — освобождение земли от всяческого угнетения со стороны лендлордов. Ни земля, ни плоды ее не будут продаваться и покупаться. Каждая семья станет работать, а произведенное будет свозиться на общие склады. Каждый человек будет воспитываться в труде, изучая ремесла и виды сельскохозяйственных работ. Каждый ремесленник будет получать для обработки материалы — кожу, шерсть, лен, злаки и тому подобное из общественных складов, ничего не покупая. А готовая продукция — хлеб, мясо и другая еда, а также одежда, обувь, шапки, перчатки, скобяные изделия — будет доставляться в специальные магазины. И каждая семья, поскольку она нуждается в таких вещах, которые не производит сама, пойдет в эти магазины и получит без денег все, что ей нужно. Если, например, понадобится верховая лошадь, то летом можно будет пойти в поле, а зимой в общественные конюшни и получить лошадь от смотрителя; по завершении поездки лошадь возвращается туда, откуда она была получена, без уплаты денег. Подобным же образом стада скота на полях и отары овец «являются общим достоянием, так что из стада и отары каждая семья может получить то, в чем она нуждается».
Это не означает, что все вещи, до мелочей, будут считаться общими. Уинстэнли не был сторонником полного нивелирования одежды, быта, домов, хозяйственной утвари, как это мыслил себе великий создатель «Утопии» Томас Мор. Там, на прекрасном острове, каждые десять лет люди менялись домами — чтобы не привыкать к вещам и ничего не считать своим. В республике Уинстэнли «дом каждого человека принадлежит ему, как и вся обстановка внутри его, и провизия, которую он получает со складов, принадлежит ему».
Подобным же образом «жена каждого мужчины и муж каждой женщины будут принадлежать только друг другу, а также их дети будут находиться в их распоряжении, покуда не вырастут». Каждая семья, если пожелает, может иметь возле своего дома коров для собственного пользования, хотя существуют и общественные сыроварни, и склады масла и сыра.
Если же кто-либо попытается отнять у человека его дом, обстановку, продовольствие, жену и детей, говоря, что все — общее и принадлежит всем, то такой человек будет объявлен нарушителем и понесет наказание согласно закону. «Ибо хотя общественные склады и служат общей сокровищницей, все же частное жилище каждого человека не является общественной собственностью иначе как по его согласию, и законы республики должны ограждать личное спокойствие каждого и его жилище против грубости и невежества, которые могут проявиться в человеческом роде».
А если кто-либо в безумии своем допустит насилие или грубость в обращении с женщиной, то соответствующие законы покарают подобное невежественное и безумное поведение. Ибо законы республики — это законы умеренности, трудолюбия и чистоты нравов.
Так закончил Уинстэнли первую, излагающую основные принципы его проекта, главу.
сновой основ общественной и политической жизни и борьбы всегда был вопрос о свободе. За нее сражались и умирали люди многих поколений в разных странах, в разные времена, начиная с глубокой древности. Гонясь за этим неуловимым призраком, убивали властителей, поднимали мятежи, сталкивали целые армии, устраивали заговоры, тайные союзы, шли на виселицу и костер. И ведь война с королем Карлом I началась как война за «древние свободы и вольности Англии». За свободу от королевского произвола шли на битву Кромвель и иидепенденты. Свободы добивались левеллеры, и сидели за нее в тюрьмах, и поднимались с оружием в руках, выставив на своих знаменах заманчивый лозунг свободы. «Свобода, — писал Лилберн, — единственное сокровище, заслуживающее, чтобы люди подвергали себя любым опасностям для сохранения и защиты его против всякой тирании и гнета, откуда бы они ни исходили». Левеллеры клялись не складывать оружия до тех пор, пока в Англии не будут утверждены и законодательно закреплены права и свободы граждан. Обильной жатвы свобод требовали многочисленные народные секты, свободу провозглашали своим богом рантеры — свободу от всего, полную свободу тела и духа…
Но вот беда — каждый понимал свободу по-своему. И Уинстэнли пытается внести ясность в этот кардинальный вопрос человеческой жизни. «Великое устремление сердец в наши дни, — пишет он, — это найти, в чем заключается истинная свобода… Одни говорят, что она заключается в свободе торговли и в том, чтобы все патенты, лицензии и ограничения были уничтожены; но это свобода по воле завоевателя. Другие говорят, что истинная свобода заключается в свободе проповеди для священников, а для народа — в праве слушать кого ему угодно, без ограничения или принуждения к какой-либо форме богослужения; но это неустойчивая свобода. Иные говорят, что истинная свобода — в возможности иметь общение со всеми женщинами и в беспрепятственном удовлетворении их вожделений и жадных аппетитов, но это свобода необузданных, безрассудных животных, и ведет она к разрушению. Иные говорят, что истинная свобода в том, чтобы старший брат был лендлордом земли, а младший брат — слугою. Но это только половина свободы, порождающая возмущение, войны и распри».
Все эти и подобные им свободы, заключает Уинстэнли, ведут к рабству и «не являются истинной, основополагающей свободой, которая устанавливает республику в мире».
В чем же заключается истинная свобода? Для Уинстэнли она состоит в свободном пользовании землей. В его время земля была главным средством пропитания и источником жизни для человека. И потому он написал: «Истинная республиканская свобода заключается в свободном пользовании землею». То есть «истинная свобода — там, где человек получает пищу и средства для поддержания жизни». Подлинная справедливость — в свободе от нужды, голода, угнетения. Подлинная свобода — в наличии у каждого гражданина независимых от чьего бы то ни было произвола источников существования. Ибо «лучше не иметь тела, чем не иметь пищи для него; а посему это отстранение от земли братьев братьями есть угнетение и рабство».
И в самом деле, развивал он свою мысль, ведь все труды человеческие направлены к тому, чтобы иметь свободное пользование землей и ее плодами. Разве священники не проповедуют ради присвоения земли? И не ведут ли тяжбы юристы, чтобы завладеть землею? Разве солдаты не сражаются за землю? И разве лендлорд не требует ренты, чтобы иметь возможность жить от изобилия земли благодаря труду своих держателей? Все — от вора на большой дороге и до короля, восседающего на троне, стремятся к тому, чтобы силой оружия либо тайными кознями отнять землю один у другого, ибо они видят, что их свобода заключается в изобилии, а их рабство — в нищете.
Некогда Уинстэнли думал, что первопричина зла на земле — человеческие пороки: алчность, себялюбие, гордыня, зависть, презрение к ближнему. Грехопадением он считал тот миг, когда человек позволил этим силам зла в себе победить стремление к единению, самоотречению и братству. Теперь же он понимал другое. Сама жизнь, горький опыт разгромленной бедняцкой колонии показали ему, что внутреннее, духовное рабство — «алчность, гордыня, лицемерие, зависть, уныние, страх, отчаяние и безумие — все это вызывается внешним рабством, которое одни люди налагают на других». Он теперь стал реалистом. Неправедные, несправедливые, угнетательские установления — вот причины духовного и морального несовершенства человека.
Уинстэнли вспоминал историю. Древний Израиль, покорив народы и захватив во владение неприятельские земли, поделил их по жребию менаду всеми коленами, ибо пользование землею считалось высшей свободой. Весь фонд земель был превращен в общую сокровищницу средств существования для республики; землю получили каждое колено и каждый род в колене; все имели достаточно, никто не нуждался, и не было нищенства между ними. Так свидетельствует Писание.
И нормандский герцог Вильгельм, который завоевал Англию, тоже использовал владение землей для своей свободы; он роздал наделы своим дружинникам и превратил завоеванных англичан в слуг, которые обрабатывали для них землю. «И все короли от его времени до короля Карла были наследниками этого завоевания; и все законы были выпущены для закрепления этого завоевания». Для того же были созданы и два паразитических сословия: юристов, чтобы толковать, и отстаивать, и проводить в жизнь законы завоевателя; и духовенство, которое лжет народу, что если он будет повиноваться королям и правителям, то после смерти попадет в рай, а на земле будет жить в мире; если же не подчинится им, то будет ввергнут в ад и пребывать в состоянии скорби плоти, нищеты, плетей и смерти, а его дома и богатства будут отняты у него.
Лживые проповеди духовенства всегда вызывали у Уинстэнли возмущение. И сейчас он с беспощадной трезвостью понимания срывает с них маску: «Они проповедовали о земном аде с тюрьмами, плетьми и виселицами для того, чтобы держать народ в повиновении королю; а об этом предполагаемом аде после смерти они вещают, чтобы держать и короля и народ в страхе перед собою, чтобы сохранить свой доход от десятины и недавно введенных пособий». Так они обманывают и короля и народ, чтобы самим стать правителями. Они хотят, чтобы народ смотрел на все их глазами. Но если очи народа начнут прозревать и он подвергнет сомнению их лжеучение, они пойдут на него войной. Ибо в сердце своем они говорят: «Если народ не станет работать на нас и платить нам десятину, то мы должны будем сами работать на себя, как они, и наша свобода будет потеряна». Это крик египетского надсмотрщика, который смотрит на свободу других людей как на рабство для себя.
Уинстэнли предвидел возражения, которые будут идти от непонимания той простой истины, что земля должна стать общей сокровищницей для всех. Одни скажут, что все плоды земли необходимо сделать общими независимо от того, работает человек или живет в праздности. Другие, пребывающие в скотском невежестве, станут полагать, что в новой республике будет установлена общность всех мужей и жен. Иные подумают, что закона не будет вовсе и все придет в полное смятение. И он разъяснял, что понимает под истинной общностью.
Это — освобождение земли от всяческого угнетения со стороны лендлордов. Ни земля, ни плоды ее не будут продаваться и покупаться. Каждая семья станет работать, а произведенное будет свозиться на общие склады. Каждый человек будет воспитываться в труде, изучая ремесла и виды сельскохозяйственных работ. Каждый ремесленник будет получать для обработки материалы — кожу, шерсть, лен, злаки и тому подобное из общественных складов, ничего не покупая. А готовая продукция — хлеб, мясо и другая еда, а также одежда, обувь, шапки, перчатки, скобяные изделия — будет доставляться в специальные магазины. И каждая семья, поскольку она нуждается в таких вещах, которые не производит сама, пойдет в эти магазины и получит без денег все, что ей нужно. Если, например, понадобится верховая лошадь, то летом можно будет пойти в поле, а зимой в общественные конюшни и получить лошадь от смотрителя; по завершении поездки лошадь возвращается туда, откуда она была получена, без уплаты денег. Подобным же образом стада скота на полях и отары овец «являются общим достоянием, так что из стада и отары каждая семья может получить то, в чем она нуждается».
Это не означает, что все вещи, до мелочей, будут считаться общими. Уинстэнли не был сторонником полного нивелирования одежды, быта, домов, хозяйственной утвари, как это мыслил себе великий создатель «Утопии» Томас Мор. Там, на прекрасном острове, каждые десять лет люди менялись домами — чтобы не привыкать к вещам и ничего не считать своим. В республике Уинстэнли «дом каждого человека принадлежит ему, как и вся обстановка внутри его, и провизия, которую он получает со складов, принадлежит ему».
Подобным же образом «жена каждого мужчины и муж каждой женщины будут принадлежать только друг другу, а также их дети будут находиться в их распоряжении, покуда не вырастут». Каждая семья, если пожелает, может иметь возле своего дома коров для собственного пользования, хотя существуют и общественные сыроварни, и склады масла и сыра.
Если же кто-либо попытается отнять у человека его дом, обстановку, продовольствие, жену и детей, говоря, что все — общее и принадлежит всем, то такой человек будет объявлен нарушителем и понесет наказание согласно закону. «Ибо хотя общественные склады и служат общей сокровищницей, все же частное жилище каждого человека не является общественной собственностью иначе как по его согласию, и законы республики должны ограждать личное спокойствие каждого и его жилище против грубости и невежества, которые могут проявиться в человеческом роде».
А если кто-либо в безумии своем допустит насилие или грубость в обращении с женщиной, то соответствующие законы покарают подобное невежественное и безумное поведение. Ибо законы республики — это законы умеренности, трудолюбия и чистоты нравов.
Так закончил Уинстэнли первую, излагающую основные принципы его проекта, главу.
СПРАВЕДЛИВОЕ ПРАВЛЕНИЕ
 ля Уинстэнли давно уже, с того самого памятного дня 30 января 1649 года, когда скатилась голова монарха к ногам палача, а может быть, еще и раньше не было сомнения в том, что Англия должна стать республикой. Чего доброго можно ожидать от монархического правления? Ведь каждый, кто захватывает власть в свои руки, — писал он еще в «Новом законе справедливости», — становится тираном над другими.
Монархическое правительство, пишет он теперь в «Законе свободы», — «вполне может быть названо правительством разбойников с большой дороги, ибо оно отняло силой землю у младших своих братьев и продолжает удерживать ее силой. Оно проливает кровь не для освобождения народа от угнетения, но для того, чтобы быть самому царем и быть правителем над угнетенным народом». Основа монархического правления — воля королей, посадивших на землю лордов маноров, угнетающих народ, священников, взимающих десятину, и алчных юристов со всем обслуживающим их крапивным семенем чиновников и надсмотрщиков, призванных следить, чтобы народ не набрал силу, не сверг короля с трона и не заставил его поделиться своею землей.
О, он отлично понимал все коварство монархического правления — довольно он видел, как народ страдает под бременем этой тирании. Он подробно разбирал причины и способ захвата власти единоличными правителями. Короли утвердились «сначала политикой отвлечения народа от общего пользования землею и вовлечения в лукавое искусство купли и продажи. А затем — возвышаясь силой меча, когда искусство купли и продажи привело их к раздорам между собою».
Закон монархии — это закон алчности, заставляющий одного брата искать возвышения над другим. Он наполняет сердца человеческие враждой и невежеством, высокомерием и тщеславием, потому что сильный разоряет слабого. Недаром Библия называет царя язвой и проклятием для народа. «Он отнимет у вас сыновей и дочерей ваших и обратит их в своих слуг, чтобы бежали они перед колесницею его, распахивали пашню его и жали жатву его; и самые лучшие поля ваши, и виноградники ваши, и масличные рощи ваши возьмет и раздаст слугам своим, как будет угодно ему. И из посевов ваших, и из виноградных садов ваших будет брать десятую часть и отдавать царедворцам своим и слугам своим».
Республиканское же правление отменит всякое рабство и угнетение, принесенное на землю королями, лордами, юристами и духовенством, — если, конечно, это будет истинное и справедливое республиканское правление. «Ибо где угнетение тяготеет над братьями от братьев их, там нет республиканского правления, а до сих пор царит королевское правление».
В чем же состоит подлинное республиканское правление? Для Уинстэнли этот вопрос решен: основа его лежит в законах общей свободы, которые обеспечивают средство существования на земле для всех. А поскольку истинная республиканская свобода заключается в свободном пользовании землей, то «всякий закон или обычай, который лишает братьев их свободы по отношению к земле, должен быть выброшен, как соль, потерявшая силу».
В том народе, где это справедливое правление будет установлено, настанут изобилие, мир и довольство. «Не будет ни королей-тиранов, ни лордов маноров, ни собирающих десятину священнослужителей, ни угнетающих юристов, ни вымогателей лендлордов, никого подобного колючим репьям на всей святой горе господа Бога нашей справедливости и мира, ибо справедливый закон будет правилом для каждого и судьей всех человеческих поступков».
Справедливая республика отнюдь не означает для Уинстэнли анархию, что-либо подобное проповедуемой рантерами вседозволенности. Люди не похожи один на другого — одни мудры, другие глупы, одни ленивы, другие трудолюбивы, одни опрометчивы, другие вялы, одни доброжелательны и щедры, другие завистливы и жадны… Для того чтобы в республике действительно царила справедливость, надо создать закон, который стал бы правилом и судьей всех человеческих поступков.
Самый древний и простой закон человеческого рода — закон общего самосохранения: закон единства, здоровья и упорядоченности целостного общественного организма. Исходя из этого общего закона, Уинстэнли и разрабатывал принципы справедливого республиканского правления.
Прежде всего все должностные лица в республике должны быть выборными. Сам народ избирает тех правителей, кого считает пригодными для наилучшего исполнения законов. А на себя берет обязательства помогать им и защищать их, то есть выступить с оружием в руках в случае иноземного вторжения, бунта или для подавления смуты, поднятой нарушителями общего мира.
Все должностные лица республики должны переизбираться ежегодно; этот основополагающий принцип роднит проект Уинстэнли с левеллерским «Народным соглашением». Если вода застаивается долго, она портится, а проточная всегда остается свежей; «если общественные должностные лица будут долгое время оставаться на ответственных постах, они выродятся и утратят смирение, честность и внимательную заботу о братьях, так как сердце человеческое склонно предаваться соблазнам алчности, гордыни и тщеславия; и хотя при первом вступлении на правительственную должность они и были проникнуты общественным духом, стремясь к свободе других так же, как и к собственной, однако, оставаясь долго на таком месте, с которым связаны почести и величие, они становятся эгоистичными, добивающимися собственного блага, а не общей свободы».
В подобных рассуждениях заключено не только отрицание королевской тирании; они содержат явный намек и на членов «охвостья» Долгого парламента, которые бессменно находились у власти почти двенадцать лет. Уинстэнли явно имел их в виду, когда спрашивал: «И разве мы не испытали в наши дни, что некоторые республиканские служащие так пустили корни вследствие несменяемости, что они едва удостаивают слова своего старого знакомого, если он стоит ниже их?»…
Избирательное право является всеобщим и равным. Избраны на правительственные должности могут быть все граждане, за исключением «антиобщественных лиц», то есть пьяниц, склочников, невежд, лжецов, болтунов, тех, кто «всецело отдается удовольствиям и развлечениям». Лишаются права избирать и быть избранными люди, заинтересованные в монархическом правлении: те, кто помогал роялистам в войне или сражался в королевской армии. Они, однако, не лишаются свободы и не обращаются в слуг; к ним следует относиться, пишет Уинстэнли, как к братьям, заблуждающимся или пребывающим в невежестве.
В праве избирать и быть избранными отказано также земельным спекулянтам, которые покупали и продавали земли республики и тем самым опутали ее паутиной торгашества, «ибо своими поступками они показали себя или сторонниками королевских интересов, или совершенно невежественными людьми в вопросах республиканской свободы, или и теми и другими». Горьким упреком инде-пендентскому правительству Англии звучат слова: «Можно ли вообразить большую несправедливость по отношению к простому люду Англии, чем столь поспешная распродажа их земли, произведенная прежде, чем народ отдал себе отчет в положении дел и понял, какую свободу он приобрел ценою стольких жертв и крови!» Единственное возможное средство исправить нанесенный вред — это в самое короткое время произвести восстановление «этой искупленной земли».
Избирать на республиканские должности следует тех, кто действиями своими проявил себя как поборник общей свободы. Уинстэнли рекомендует: «Выбирайте людей мирного духа и мирного поведения. Выбирайте тех, кто страдал от королевского гнета, ибо они будут сочувствовать другим угнетенным. Выбирайте тех, кто рисковал утратить свои имущества и жизнь, дабы освободить землю от рабства… Выбирайте мужественных людей, не боящихся говорить правду, ибо позор для многих в Англии наших дней, что они погрязли в вязкой тине рабского страха…»
Кого же считал он наилучшими правителями? Самых бедных и угнетенных — тех, кто боролся за свободу и проливал кровь в парламентской армии. Именно они должны занять руководящие посты в республике. «Ибо в паше время власть завоевателя превратила многих справедливых людей в бедняков». Поначалу, пока общество еще не достигло изобилия, этим беднякам следует назначить годовое содержание из общих запасов.
Избраны на государственные должности могут быть только лица старше 40 лет. И неудивительно: они обладают уже достаточным жизненным опытом, в большей мере наделены мужеством и ответственностью, ненавидят алчность. Все граждане начиная с двадцатилетнего возраста имеют право избирать должностных лиц — кроме тех, кто осужден по закону. Однако гражданами считаются только мужчины; время требовать женского равноправия еще не пришло. Женщина в республике Уинстэнли — прежде всего жена, хозяйка дома, мать, иногда — работница; но не равный с мужчинами член общества.
ля Уинстэнли давно уже, с того самого памятного дня 30 января 1649 года, когда скатилась голова монарха к ногам палача, а может быть, еще и раньше не было сомнения в том, что Англия должна стать республикой. Чего доброго можно ожидать от монархического правления? Ведь каждый, кто захватывает власть в свои руки, — писал он еще в «Новом законе справедливости», — становится тираном над другими.
Монархическое правительство, пишет он теперь в «Законе свободы», — «вполне может быть названо правительством разбойников с большой дороги, ибо оно отняло силой землю у младших своих братьев и продолжает удерживать ее силой. Оно проливает кровь не для освобождения народа от угнетения, но для того, чтобы быть самому царем и быть правителем над угнетенным народом». Основа монархического правления — воля королей, посадивших на землю лордов маноров, угнетающих народ, священников, взимающих десятину, и алчных юристов со всем обслуживающим их крапивным семенем чиновников и надсмотрщиков, призванных следить, чтобы народ не набрал силу, не сверг короля с трона и не заставил его поделиться своею землей.
О, он отлично понимал все коварство монархического правления — довольно он видел, как народ страдает под бременем этой тирании. Он подробно разбирал причины и способ захвата власти единоличными правителями. Короли утвердились «сначала политикой отвлечения народа от общего пользования землею и вовлечения в лукавое искусство купли и продажи. А затем — возвышаясь силой меча, когда искусство купли и продажи привело их к раздорам между собою».
Закон монархии — это закон алчности, заставляющий одного брата искать возвышения над другим. Он наполняет сердца человеческие враждой и невежеством, высокомерием и тщеславием, потому что сильный разоряет слабого. Недаром Библия называет царя язвой и проклятием для народа. «Он отнимет у вас сыновей и дочерей ваших и обратит их в своих слуг, чтобы бежали они перед колесницею его, распахивали пашню его и жали жатву его; и самые лучшие поля ваши, и виноградники ваши, и масличные рощи ваши возьмет и раздаст слугам своим, как будет угодно ему. И из посевов ваших, и из виноградных садов ваших будет брать десятую часть и отдавать царедворцам своим и слугам своим».
Республиканское же правление отменит всякое рабство и угнетение, принесенное на землю королями, лордами, юристами и духовенством, — если, конечно, это будет истинное и справедливое республиканское правление. «Ибо где угнетение тяготеет над братьями от братьев их, там нет республиканского правления, а до сих пор царит королевское правление».
В чем же состоит подлинное республиканское правление? Для Уинстэнли этот вопрос решен: основа его лежит в законах общей свободы, которые обеспечивают средство существования на земле для всех. А поскольку истинная республиканская свобода заключается в свободном пользовании землей, то «всякий закон или обычай, который лишает братьев их свободы по отношению к земле, должен быть выброшен, как соль, потерявшая силу».
В том народе, где это справедливое правление будет установлено, настанут изобилие, мир и довольство. «Не будет ни королей-тиранов, ни лордов маноров, ни собирающих десятину священнослужителей, ни угнетающих юристов, ни вымогателей лендлордов, никого подобного колючим репьям на всей святой горе господа Бога нашей справедливости и мира, ибо справедливый закон будет правилом для каждого и судьей всех человеческих поступков».
Справедливая республика отнюдь не означает для Уинстэнли анархию, что-либо подобное проповедуемой рантерами вседозволенности. Люди не похожи один на другого — одни мудры, другие глупы, одни ленивы, другие трудолюбивы, одни опрометчивы, другие вялы, одни доброжелательны и щедры, другие завистливы и жадны… Для того чтобы в республике действительно царила справедливость, надо создать закон, который стал бы правилом и судьей всех человеческих поступков.
Самый древний и простой закон человеческого рода — закон общего самосохранения: закон единства, здоровья и упорядоченности целостного общественного организма. Исходя из этого общего закона, Уинстэнли и разрабатывал принципы справедливого республиканского правления.
Прежде всего все должностные лица в республике должны быть выборными. Сам народ избирает тех правителей, кого считает пригодными для наилучшего исполнения законов. А на себя берет обязательства помогать им и защищать их, то есть выступить с оружием в руках в случае иноземного вторжения, бунта или для подавления смуты, поднятой нарушителями общего мира.
Все должностные лица республики должны переизбираться ежегодно; этот основополагающий принцип роднит проект Уинстэнли с левеллерским «Народным соглашением». Если вода застаивается долго, она портится, а проточная всегда остается свежей; «если общественные должностные лица будут долгое время оставаться на ответственных постах, они выродятся и утратят смирение, честность и внимательную заботу о братьях, так как сердце человеческое склонно предаваться соблазнам алчности, гордыни и тщеславия; и хотя при первом вступлении на правительственную должность они и были проникнуты общественным духом, стремясь к свободе других так же, как и к собственной, однако, оставаясь долго на таком месте, с которым связаны почести и величие, они становятся эгоистичными, добивающимися собственного блага, а не общей свободы».
В подобных рассуждениях заключено не только отрицание королевской тирании; они содержат явный намек и на членов «охвостья» Долгого парламента, которые бессменно находились у власти почти двенадцать лет. Уинстэнли явно имел их в виду, когда спрашивал: «И разве мы не испытали в наши дни, что некоторые республиканские служащие так пустили корни вследствие несменяемости, что они едва удостаивают слова своего старого знакомого, если он стоит ниже их?»…
Избирательное право является всеобщим и равным. Избраны на правительственные должности могут быть все граждане, за исключением «антиобщественных лиц», то есть пьяниц, склочников, невежд, лжецов, болтунов, тех, кто «всецело отдается удовольствиям и развлечениям». Лишаются права избирать и быть избранными люди, заинтересованные в монархическом правлении: те, кто помогал роялистам в войне или сражался в королевской армии. Они, однако, не лишаются свободы и не обращаются в слуг; к ним следует относиться, пишет Уинстэнли, как к братьям, заблуждающимся или пребывающим в невежестве.
В праве избирать и быть избранными отказано также земельным спекулянтам, которые покупали и продавали земли республики и тем самым опутали ее паутиной торгашества, «ибо своими поступками они показали себя или сторонниками королевских интересов, или совершенно невежественными людьми в вопросах республиканской свободы, или и теми и другими». Горьким упреком инде-пендентскому правительству Англии звучат слова: «Можно ли вообразить большую несправедливость по отношению к простому люду Англии, чем столь поспешная распродажа их земли, произведенная прежде, чем народ отдал себе отчет в положении дел и понял, какую свободу он приобрел ценою стольких жертв и крови!» Единственное возможное средство исправить нанесенный вред — это в самое короткое время произвести восстановление «этой искупленной земли».
Избирать на республиканские должности следует тех, кто действиями своими проявил себя как поборник общей свободы. Уинстэнли рекомендует: «Выбирайте людей мирного духа и мирного поведения. Выбирайте тех, кто страдал от королевского гнета, ибо они будут сочувствовать другим угнетенным. Выбирайте тех, кто рисковал утратить свои имущества и жизнь, дабы освободить землю от рабства… Выбирайте мужественных людей, не боящихся говорить правду, ибо позор для многих в Англии наших дней, что они погрязли в вязкой тине рабского страха…»
Кого же считал он наилучшими правителями? Самых бедных и угнетенных — тех, кто боролся за свободу и проливал кровь в парламентской армии. Именно они должны занять руководящие посты в республике. «Ибо в паше время власть завоевателя превратила многих справедливых людей в бедняков». Поначалу, пока общество еще не достигло изобилия, этим беднякам следует назначить годовое содержание из общих запасов.
Избраны на государственные должности могут быть только лица старше 40 лет. И неудивительно: они обладают уже достаточным жизненным опытом, в большей мере наделены мужеством и ответственностью, ненавидят алчность. Все граждане начиная с двадцатилетнего возраста имеют право избирать должностных лиц — кроме тех, кто осужден по закону. Однако гражданами считаются только мужчины; время требовать женского равноправия еще не пришло. Женщина в республике Уинстэнли — прежде всего жена, хозяйка дома, мать, иногда — работница; но не равный с мужчинами член общества.
В следующей, четвертой главе своего проекта Уинстэнли подробно рассматривает административную организацию свободной республики. Каждый город, селение или приход избирают нескольких миротворцев, которые призваны руководить внутренними делами, предотвращать волнения, охранять общий мир. Они исполняют также обязанности мировых судей: если возникнет какая-нибудь ссора или несогласие, миротворец выслушивает дело, пытается примирить обе стороны и водворить мир. Если это не удастся, он отдает нарушителям приказ предстать перед палатой судей и подвергнуться законному суду. Миротворцы также решают на своем совете общественные дела, связанные с обеспечением мира и безопасности в городе, селе или приходе. Они предупреждают других должностных лиц, если те относятся к своим обязанностям с небрежением, или, в случае серьезных нарушений; сообщают об этим в областной сенат или национальный парламент, дабы нарушитель понес заслуженное наказание. «И это все для того, — пояснял Уинстэнли, — чтобы повиновались законам, ибо неуклонное исполнение законов — жизнь правительства». Каждый город или приход ежегодно избирает, кроме того, наблюдателей. Одни из них — блюстители мира — следят за неприкосновенностью личной собственности граждан. В случае нарушения этого принципа наблюдатель обязан отправиться на место происшествия, выслушать дело и попытаться убедить обидчика прекратить враждебные действия. В случае неудачи он отдает приказ солдату доставить обидчика в совет миротворцев, а те, в свою очередь, или разбирают дело на месте, или отправляют его в палату судей, и тогда ему выносится приговор по всей строгости закона. Другая категория наблюдателей следит за тем, чтобы молодых людей обучали какой-нибудь сельскохозяйственной работе, ремеслу, науке — дабы никто не воспитывался в праздности. Они помогают советами при обучении делу — всякий наблюдатель в своей профессии. Обязанность этих наблюдателей — ходить из дома в дом, осматривать работу людей и давать советы. Такого рода наблюдателей ежегодно избирают все работники, принадлежащие к данному ремеслу, или в деревне — к данной отрасли сельского хозяйства. Так, есть наблюдатели по хлебопашеству, овцеводству, коневодству, молочному животноводству и т. п. В обязанности их входит также следить за тем, чтобы каждая семья участвовала в пахоте, посевных работах и уборке урожая. Наблюдатели должны смотреть за тем, чтобы все амбары и склады были отремонтированы, чтобы у каждой семьи было достаточное количество рабочих орудий для общего пользования, как-то: плугов, повозок, мотыг, лопат, серпов и т. п. Обязательный срок ученичества для каждого ремесленника, который желает стать мастером, — семь лет. Уинстэнли полагал, что не должен человек становиться мастером и хозяином дома, пока не изучит хорошенько своего дела. «Эта служба наблюдателей сохраняет в народе мирную гармонию ремесел, наук или труда, чтобы в республике не было ни нищих, ни тунеядцев». Задачей третьей категории наблюдателей является контроль за складами. Все работники обязаны доставлять туда произведенную ими продукцию. Так, например, обработанная кожа сдается в кожевенные склады, и оттуда ее по мере надобности получают сапожники, шорники и др. Подобным же образом поступают ткачи полотна, суконщики, прядильщицы, кузнецы, шапочники, перчаточники и т. п. Наблюдатели должны заботиться о том, чтобы магазины и склады в их округе были всегда снабжены всем необходимым, дабы каждый гражданин мог получить в них все, в чем он нуждается. А также о том, чтобы хранители магазинов и складов в назначенные часы были на месте, принимали и выдавали в соответствии с законом все товары, находящиеся на их попечении. Особым звеном наблюдателей являются все люди старше шестидесяти лет. «Куда бы они ни пошли и где бы ни увидели упущение дел… они должны призвать должностное лицо или других и сообщить им о нарушении долга по отношению к республиканскому миру». Эти люди называются старейшинами, и каждый обязан оказывать им почтение, помогать и охранять. Они будут общими помощниками наблюдателей, миротворцев и других должностных лиц; «основание же всему этому то, что если много глаз зорко следят, то законам будут повиноваться ради сохранения мира». Уинстэнли, однако, и тут предвидел возможность несправедливости и злоупотреблений. Параграф о наблюдателях он заканчивает следующим образом: «Но если кто-нибудь из этих старейшин станет изливать свой гнев, или выражать зависть к кому-либо, или ставить свою волю выше закона и поступать вопреки закону, то по жалобе на него это дело будет рассмотрено сенаторами в палате судей; если он окажется виновным, то на первый раз судья вынесет ему порицание; во второй же раз судья провозгласит, что он лишается авторитета и более никогда не будет ни должностным лицом, ни наблюдателем до конца жизни; ему будут оказывать почтение только как престарелому человеку». Каждый год в приходе или городе избирается солдат, имеющий в своем подчинении еще несколько вооруженных человек для исполнения функций милиции. Его обязанности — доставлять нарушителей к магистратам или в палаты и служить защитой для должностных лиц во время возможных беспорядков. Он также разыскивает и доставляет в суд беглых преступников. Солдат подчиняется властям округа и выполняет их приказы. Помимо наблюдателей, в республике существуют смотрители за работами, призванные назначать задание и брать под свое наблюдение тех, кто приговорен судьей к лишению свободы. Если такой осужденный работник выполняет свои нормы, то он получает достаточное пропитание и одежду. Если же он проявляет отчаяние, легкомыслие или леность, смотритель назначает ему скудное питание и даже телесные наказания — бичевание кнутом. При серьезном нарушении закона человек приговаривается к бичеванию, заключению в тюрьму или смертной казни. Для того чтобы отрубать головы, вешать, расстреливать или бичевать нарушителей в соответствии с законом, в республике учреждается должность палача. В графстве или области ежегодно выбирается судья, призванный решать дела в согласии с законом республики. Судья, миротворец, наблюдатели и солдаты все вместе образуют палату судей, или сенат графства. Он заседает четыре раза в год в разных областях графства и осуществляет контроль над деятельностью каждого должностного лица, разбирает жалобы, улаживает споры и беспорядки, выносит приговоры. Верховной властью в стране является переизбираемый ежегодно однопалатный парламент. «Эта палата должна следить за всеми другими палатами, должностными лицами, частными людьми и их поступками; ей принадлежит полнота власти, ибо она является представительницей всей страны и должна удовлетворить все жалобы и облегчить участь тех людей, кто угнетен». Парламент воплощает в себе все формы власти: законодательную, исполнительную и судебную. Левеллеры в «Народном соглашении» требовали разделения властей; впоследствии это требование станет обязательным для всех демократических конституций. Уинстэнли, верный патриархальным: традициям средневековья, особенно сильным среди милого его сердцу крестьянства, считает парламент «отцом страны»; власть его неделима. Он распределяет обязанности между должностными лицами и отдает приказы о свободном возделывании земли и снятии урожая. При этом «он должен быть покровителем тех, кто обрабатывает землю, и карателем тех, кто живет в праздности». Он обязан позаботиться о том, чтобы республиканская земля — владения монастырей, епископов, короны, а также все общинные угодья и пустоши — были предоставлены: в пользование народа. Парламенту следует также отменить все старые законы и обычаи и: разработать новое законодательство. Оно выдвигается на всенародное рассмотрение: если в течение месяца возражений не поступит, закон утверждается. Ибо «если народ должен быть весь подчинен закону под угрозой наказаний, следовательно, есть полное основание к тому, чтобы он узнал этот закон прежде, чем он будет введен в силу, для того, чтобы, если в нем окажется нечто от совета угнетения, можно было бы обнаружить это и исправить». Важная задача парламента — следить за тем, чтобы все тяготы, которые мешали или мешают угнетенному народу пользоваться его прирожденными правами, были действительно уничтожены. Это значит: общинная земля должна быть предоставлена беднякам; проданные коронные и епископские земли возвращены народу; купля и продажа земли раз и навсегда запрещается. Только выполняя эту задачу, парламент покажет себя действительно любящим и заботливым отцом народу. В случае необходимости парламент набирает армию для отражения нападения внешнего врага или для подавления враждебных республике сил. Он назначает «разумных, способных и общественно настроенных людей» на командные должности в армии, объявляет войну и заключает мир. Он ведает внешними отношениями республики с иностранными державами, принимает и отправляет посольства. Как Кромвель, как многие другие деятели революции, Уинстэнли верил в особую миссию Англии в мире. Она первой отпадет от царства зверя и покажет всему свету пример справедливого государственного и общественного устройства. Он писал свои трактаты не только для англичан, но и для бедного угнетенного люда всех стран. Настанет время, предсказывал он, когда «враждебность между народами исчезнет и никто не осмелится искать господства над другими». Тогда мир и братство станут основой отношений между государствами. Своеобразным должностным лицом в каждом приходе является избираемый на год священник. Его обязанности, однако, решительно отличаются от функций старого духовенства. В седьмой день недели, который, как и везде, предназначен для отдыха от работ и для дружеских встреч, он докладывает народу о состоянии всей страны. Он служит как бы устной газетой, сообщающей прихожанам новости. Священник, кроме того, зачитывает перед народом законы республики «не только для того, чтобы освежить их в памяти старейшин, но чтобы и молодежь, которая еще не доросла до зрелого опыта, могла бы разбираться, когда она поступает хорошо и когда плохо». Законы эти, однако, не подлежат толкованию, чтобы не искажался их смысл; они только зачитываются. Вслед за тем священник может рассказывать и пояснять деяния и события древних времен, особенности правления, тиранического и республиканского; говорить об искусствах и науках: один день — о физике, другой — о хирургии или астрономии, навигации, хлебопашестве и тому подобном. Он знакомит слушателей с природой неподвижных и блуждающих звезд, с особенностями трав и растений, с тайнами творения. Его речи могут иметь темой и природу человека, ее темные и светлые стороны, слабость и силу, любовь и зависть, скорби и радости, внутреннее и внешнее рабство, внутреннюю и внешнюю свободу… Всякий, кто захочет, сможет тоже говорить на эти темы и сообщать народу о том, что он знает; таким образом, науки не будут исключительной монополией духовенства. От того, кто рассказывает о какой-нибудь траве, растении, искусстве или природе человека, требуется одно: чтобы он не лгал, не сообщал вымыслов и поведал лишь то, что знает из собственного наблюдения и опыта. Познание этих вещей и есть путь к познанию бога, ибо бог проявляется во всем, в каждой форме и твари, а особенно в человеке. «Познать тайны природы — это значит познать дела божии, а познать дела божии через творение — это познать самого Бога, ибо Бог пребывает в каждом видимом деле или теле». Пытаться же, как это делает нынешнее духовенство, познать бога вне творения или представлять себе, что будет с человеком после смерти (помимо разложения его тела на составные элементы), — «это уже познание за пределами черты или способности человеческих достижений». Уинстэнли выражал уверенность в том, что когда земля освободится от рабства и каждый будет обеспечен средствами к жизни, то многие тайны природы раскроются перед человеком и знания покроют землю, подобно воде в морях, ибо королевское рабство является причиной распространения невежества. Так называемое духовное учение, распространяемое нынешним духовенством, есть обман. «Ибо в то время, как люди взирают на небо и мечтают о блаженстве или опасаются ада после своей смерти, им выкалывают глаза, чтобы они не видели, в чем состоит их прирожденное право и что они должны делать здесь, на земле, при жизни. Это — обольщение сна и облако без дождя». В самом деле, хитрое духовенство знает, что если оно сможет околдовать народ своим учением и заставить его стремиться к богатствам на небесах и славе после смерти, то оно легко наследует землю и превратит обманутый народ в своих слуг. Важное место он отводил почтовому ведомству. В каждом приходе раз в год избираются два начальника почты. Каждый месяц они должны доставлять или посылать по реке в столицу сообщения обо всех происшествиях и событиях в округе. Там эти сообщения обрабатываются и печатаются на их основании сводные листы наподобие газет; они выдаются посланцам из приходов, дабы все они могли иметь сведения о событиях в разных частях республики; так обеспечивается всеобщая гласность. Если в одной части страны возникнут чума или голод, произойдет вторжение врага, восстание или другое бедствие, остальные части смогут быстро послать туда помощь. Либо если будет открыто какое-то новое явление природы, сделано изобретение в ремесле или сельском хозяйстве, создано прекрасное произведение искусства, — вся республика быстро узнает об этом и каждая область сможет применить новые знания для процветания и блага всего государства. Весь народ является защитником и охранителем избранных им должностных лиц. Это означает, что народ может выступить с оружием в руках в защиту своих законов и властей от иноземного вторжения и внутренней смуты. Таким образом, весь народ является рядовым составом армии. Это — гарантия сохранения справедливости. Интересно рассуждение Уинстэнли о войне законной и незаконной. Иноземное вторжение или попытку уничтожить республику и насадить в ней прежние, тиранические порядки он называет войной несправедливой, угнетательской, захватнической. «Это совсем как у зверей, борющихся за господство и удерживающих его, не освобождая никого, но господствуя и властвуя над слабыми… Такой солдат-убийца и его военная деятельность беззаконны». Войну же простых людей за свое освобождение, подобную гражданской войне против короля в Англии, он считает справедливым и законным отвоеванием народных прав и вольностей. «Республиканская армия подобна Иоанну Крестителю, который сравнивает горы с долинами, свергает тирана и возвышает угнетенных и тем самым пролагает путь для духа мира и свободы, дабы он пришел править и наследовать землю». Так заканчивает Уинстэнли главы, посвященные политической и административной организации республики. Кромвелю, которому он посвятил свою книгу, места в ней не осталось. Уинстэнли отдавал предпочтение полному самоуправлению народа. Кромвель же меж тем широкими шагами шел к установлению единоличной диктатуры.
О ВОСПИТАНИИ
 се утопии отводили важное место проблемам воспитания и образования. Это формирование жителя нового общества не менее важно, чем создание законов или системы управления. Республика Уинстэнли не явилась в данном случае исключением. Специальная глава в ней посвящена воспитанию детей в школах и обучению ремеслам. «Пренебрежительное отношение к этому вопросу, — пишет автор, — так же как и недостаток мудрости в его разрешении, были и остаются причиной серьезной вражды и волнений в мире».
Ему представляется, что главная задача воспитания — это борьба с ленью и праздностью, обучение трудолюбию. Оно начинается с самого раннего возраста. Дети воспитываются сначала в семье. Матери сами вскармливают их и дают первые уроки «вежливого и почтительного поведения по отношению ко всем людям». Отец приучает детей помогать по дому и знакомит с начатками чтения и письма.
Уинстэнли подчеркивает необходимость с самого начала привить ребенку простейшие трудовые навыки: он должен помогать отцу в обработке земли или в ремесле. При этом отец обязан следить, чтобы дети работали, а не бездельничали. Отец отвечает также за то, чтобы дети в семье «не ссорились, как звери, а жили в мире, как разумные люди, привыкшие повиноваться законам и должностным лицам республики».
Затем ребенка отправляют в школу, где он знакомится с основами наук и ремесел, изучает языки и искусство. Школы общеобязательны и одинаковы для всех. Главная их задача — научить детей «читать законы республики», то есть воспитать их в духе нового, лишенного частной собственности и эксплуатации общества. Школа призвана, кроме того, развить их ум и продолжить обучение, начатое дома,познакомить «со всеми искусствами и языками». Эта часть воспитательной программы имеет три аспекта: этический («с помощью этого традиционного знания они приобретут способность лучше управлять собою, как подобает разумным людям»), гражданский («они станут добрыми республиканцами и будут поддерживать правление республики, ибо познакомятся с природой правления») и международный («если Англии случится посылать послов в какую-нибудь другую страну, мы будем иметь людей, знакомых с ее языком; или если приедет какой-нибудь посол из другой страны, у нас будут люди, понимающие его речь»),
В Англии XVII века еще всецело господствовали схоластические методы обучения. В школах детей учили читать и писать, в том числе по-латыни, и уделяли большое внимание зубрежке «Священной истории» и толкованию Писания. В университетах преподавались средневековые «тривиум» и «квадривиум». Передовые, всемирно известные тогда мыслители — Я. А. Коменский, Т. Кампанелла — выдвигали новые принципы опытного, практического постижения истины. Подобно им, Уинстэнли настаивает на том, что обучение в школе должно вызывать в учениках активность, побуждать их к трудовой и экспериментаторской деятельности.
Он всегда был врагом отвлеченной книжной учености. Еще в ранних своих трактатах он выступал против ортодоксального пуританского богословия, называя утверждения университетских профессоров «шаблонной болтовней попугая», закрывающей путь к тайнам творения. В его республике не будет детей, растимых только для книжной мудрости, не будет отдельного клана ученых, изощряющих свой ум в острословии и проводящих время «в поисках способов выдвижения самих себя в качестве лордов и господ над своими трудящимися братьями».
Каждого ребенка он предлагает обучать какому-либо ремеслу. Это обучение начинается уже дома, если отец семейства хочет, чтобы его сын приобрел его профессию, продолжается в школе и окончательно завершается после школы, когда молодой человек обязан пройти срок ученичества и далее работать в избранной области до сорока лет. Таким образом удовлетворяются потребности общества в физическом труде на полях, в ремесленных мастерских и на складах. И только после сорока лет члены общества освобождаются от всех видов физического труда (если только не пожелают продолжать его по своей воле) и переходят к умственной деятельности — участвуют в управлении государством, занимаются науками и т. п.
Воспитание трудолюбия ставит весь строй республики на прочную социальную основу, ибо все граждане ее оказываются в одинаковом положении, что необходимо для справедливой организации жизни. Праздность порочна не только сама по себе, но и потому, что делает одних хозяевами и лордами, а других бедняками и рабами, отчего «происходит всякое угнетение, войны и беспорядки в мире». Чтобы покончить с ложью и неравенством, республика должна воспитывать своих детей в трудолюбии — обучать ремеслам и какому-нибудь физическому труду наравне с изучением языков или истории прошлого. Специальное должностное лицо — наблюдатель — следит за тем, чтобы все подростки, юноши и девушки, проходили у мастеров обучение какой-нибудь сельскохозяйственной работе, ремеслу или служили бы па складах.
При этом выбор вида трудовой деятельности отнюдь не носит принудительного характера. Если ребенок проявляет склонность к иной профессии, чем его отец, тот отдает его в обучение соответствующему мастеру. Если наблюдатель над каким-либо видом работ находит у подростка способности к иному ремеслу, он с согласия отца «переводит его в обучение к другому мастеру».
Профессиональное обучение Уинстэнли представлял себе по средневековому образцу. Подросток после окончания общеобязательной школы (срок обучения в ней не является, по-видимому, долгим) поступает в ученичество к мастеру и живет в его семье семь лет, постигая тайны профессии. Наблюдатель указывает юноше, склонному к иному делу, чем его отец, «в какой семье ему жить». Если отец слаб, болен или умрет раньше, чем поставит на ноги детей, наблюдатели «должны разместить детей по таким семьям, где они могли бы получить обучение в соответствии с законом республики».
По окончании обучения ремеслу молодой человек может жениться, завести свое хозяйство и стать самостоятельным мастером. Каждый ремесленник работает в своей мастерской и производит товары силами членов семьи, учеников и общественных слуг. Такие условия труда диктовала неразвитость мануфактурного производства в Англии.
Существует, считает Уинстэнли, пять отраслей трудовой и познавательной деятельности, по которым должно идти обучение. Первая из них — сельское хозяйство, обработка почвы, засевание, выращивание и сбор зерна. К этой отрасли примыкают ремесленные профессии: мукомолы, солодовщики, пекари, шорники, изготовители плугов и телег, канатные мастера, прядильщики и ткачи холста. Сюда же относится садоводство, искусство сажать, прививать и взращивать всякого рода плодовые деревья, подготавливать землю для посадки цветов, трав и овощей. Здесь трудятся врачи, хирурги, дистилляторы, составители лекарств, виноделы и маслоделы, лица, занимающиеся консервированием плодов и т. п.
Вторая отрасль знаний — это минералогия, изучение земных недр с целью добычи золота, серебра, меди, железа, олова, свинца, каменного угля, селитры, квасцов и других полезных ископаемых. В этой отрасли работают рудокопы, химики, изготовители пороха, каменщики, кузнецы.
Третья отрасль — скотоводство. Здесь можно научиться, как выращивать и кормить дойных коров, волов и лошадей, как управлять ими и как выделывать соответствующую продукцию. Сюда примыкают ремесла кожевников, шапочников, сапожников, перчаточников, прядильщиков шерсти, суконщиков, портных, красильщиков.
Особую, четвертую отрасль хозяйства составляет лесоводство — посадка и выращивание леса, в том числе строевого, сведение его, распилка и подготовка для строительства домов и кораблей. Здесь изучают тайны природы и ремесла плотники, столяры, изготовители рабочих орудий. музыкальных инструментов.
Пятый источник познания — «это наблюдение над восходом и закатом солнца, луны и небесных явлений, движениями прилива, изучение моря и его различных влияний, сил и воздействий на физическую природу человека и животных». Здесь можно изучать астрологию, астрономию, навигацию, движение ветров, изменения погоды и т. п.
Таковы взгляды Уинстэнли па практические источники знаний. Они имеют одну особенность: ремесло он ставит в положение, подчиненное сельскому хозяйству. Как общественная собственность на землю для него — основа свободного и справедливого строя, так и сельское хозяйство, работа на земле — основа всякого общественного производства, всяких полезных навыков и знаний.
К традиционному книжному обучению, которое приобретается чтением или зазубриванием слов учителя, Уинстэнли относится отрицательно. Такое обучение, пишет он, «ведет к праздной жизни, в нем нет ничего доброго». Это оно создало бездельников лордов, и духовенство, и юристов, живущих за счет работы других людей.
Мальчики и девочки воспитываются раздельно. Верный средневековым традициям, Уинстэнли отводит мальчикам производительный активный труд, девочек же обучают шитью, вязанью, прядению льна и шерсти, музыке и другим более легким занятиям.
Особое поощрение получают молодые люди, сделавшие какое-либо изобретение или усовершенствование; наблюдатели должны заботиться о том, «чтобы дух познания получил полное развитие в человеке для изучения тайн во всяком искусстве». Уинстэнли убежден, что когда люди будут обеспечены всем необходимым, «ум их созреет и будет готов углубиться в тайны творения… ибо страх перед нуждой и забота об уплате ренты помешали появиться на свет многим редким изобретениям».
Так будет достигнута важнейшая задача воспитания и вместе с нею — истинная республиканская справедливость и свобода, которая «заключается в том, чтобы поступать по отношению к другому так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». И будет исполнен христианский закон: любить не только ближних, но и врагов своих, и довольствоваться тем, что имеешь пищу и одежду. Когда говорят об удовлетворении человеческих потребностей при совершенном строе, часто забывают о мере. Но чувство меры также надо воспитывать в человеке с самого начала его жизни. Удовлетворение человеческих потребностей не имеет ничего общего с алчным стремлением к стяжательству. Уинстэнли понимал это и выразил с предельной ясностью: «Имея же пищу и одежду, жилище и приятное общество себе подобных, чего еще может желать человек в дни своего пути земного? В действительности алчные, высокомерные и скотоподобные люди желают большего либо чтобы любоваться своим достоянием, либо чтобы расточить и расхитить его по своей прихоти, тогда как другие братья будут жить в нужде… Но законы и верные должностные лица свободной республики станут регулировать неразумные действия подобных лиц».
И в самом деле, ниже, в своде законов, есть пункт, согласно которому тот, кто берет в магазинах больше товаров, чем нужно для прокормления его семьи, и в чьем доме происходит порча продуктов, подлежит наказанию. После третьего замечания его обращают в слугу на двенадцать месяцев, «дабы он знал, что значит добывать питание».
Принципы воспитания, которые предлагает Уинстэнли, поразительно современны. Образование в его республике — всеобщее, равное, обязательное; вместе с тем каждый свободен в выборе профессии. В учениках поощряется активность, трудолюбие, стремление к опытному постижению знаний. Обучение ведется непосредственно на поле или в ремесленной мастерской: подлинным источником полезных знаний и прогресса науки он считает производительный труд.
се утопии отводили важное место проблемам воспитания и образования. Это формирование жителя нового общества не менее важно, чем создание законов или системы управления. Республика Уинстэнли не явилась в данном случае исключением. Специальная глава в ней посвящена воспитанию детей в школах и обучению ремеслам. «Пренебрежительное отношение к этому вопросу, — пишет автор, — так же как и недостаток мудрости в его разрешении, были и остаются причиной серьезной вражды и волнений в мире».
Ему представляется, что главная задача воспитания — это борьба с ленью и праздностью, обучение трудолюбию. Оно начинается с самого раннего возраста. Дети воспитываются сначала в семье. Матери сами вскармливают их и дают первые уроки «вежливого и почтительного поведения по отношению ко всем людям». Отец приучает детей помогать по дому и знакомит с начатками чтения и письма.
Уинстэнли подчеркивает необходимость с самого начала привить ребенку простейшие трудовые навыки: он должен помогать отцу в обработке земли или в ремесле. При этом отец обязан следить, чтобы дети работали, а не бездельничали. Отец отвечает также за то, чтобы дети в семье «не ссорились, как звери, а жили в мире, как разумные люди, привыкшие повиноваться законам и должностным лицам республики».
Затем ребенка отправляют в школу, где он знакомится с основами наук и ремесел, изучает языки и искусство. Школы общеобязательны и одинаковы для всех. Главная их задача — научить детей «читать законы республики», то есть воспитать их в духе нового, лишенного частной собственности и эксплуатации общества. Школа призвана, кроме того, развить их ум и продолжить обучение, начатое дома,познакомить «со всеми искусствами и языками». Эта часть воспитательной программы имеет три аспекта: этический («с помощью этого традиционного знания они приобретут способность лучше управлять собою, как подобает разумным людям»), гражданский («они станут добрыми республиканцами и будут поддерживать правление республики, ибо познакомятся с природой правления») и международный («если Англии случится посылать послов в какую-нибудь другую страну, мы будем иметь людей, знакомых с ее языком; или если приедет какой-нибудь посол из другой страны, у нас будут люди, понимающие его речь»),
В Англии XVII века еще всецело господствовали схоластические методы обучения. В школах детей учили читать и писать, в том числе по-латыни, и уделяли большое внимание зубрежке «Священной истории» и толкованию Писания. В университетах преподавались средневековые «тривиум» и «квадривиум». Передовые, всемирно известные тогда мыслители — Я. А. Коменский, Т. Кампанелла — выдвигали новые принципы опытного, практического постижения истины. Подобно им, Уинстэнли настаивает на том, что обучение в школе должно вызывать в учениках активность, побуждать их к трудовой и экспериментаторской деятельности.
Он всегда был врагом отвлеченной книжной учености. Еще в ранних своих трактатах он выступал против ортодоксального пуританского богословия, называя утверждения университетских профессоров «шаблонной болтовней попугая», закрывающей путь к тайнам творения. В его республике не будет детей, растимых только для книжной мудрости, не будет отдельного клана ученых, изощряющих свой ум в острословии и проводящих время «в поисках способов выдвижения самих себя в качестве лордов и господ над своими трудящимися братьями».
Каждого ребенка он предлагает обучать какому-либо ремеслу. Это обучение начинается уже дома, если отец семейства хочет, чтобы его сын приобрел его профессию, продолжается в школе и окончательно завершается после школы, когда молодой человек обязан пройти срок ученичества и далее работать в избранной области до сорока лет. Таким образом удовлетворяются потребности общества в физическом труде на полях, в ремесленных мастерских и на складах. И только после сорока лет члены общества освобождаются от всех видов физического труда (если только не пожелают продолжать его по своей воле) и переходят к умственной деятельности — участвуют в управлении государством, занимаются науками и т. п.
Воспитание трудолюбия ставит весь строй республики на прочную социальную основу, ибо все граждане ее оказываются в одинаковом положении, что необходимо для справедливой организации жизни. Праздность порочна не только сама по себе, но и потому, что делает одних хозяевами и лордами, а других бедняками и рабами, отчего «происходит всякое угнетение, войны и беспорядки в мире». Чтобы покончить с ложью и неравенством, республика должна воспитывать своих детей в трудолюбии — обучать ремеслам и какому-нибудь физическому труду наравне с изучением языков или истории прошлого. Специальное должностное лицо — наблюдатель — следит за тем, чтобы все подростки, юноши и девушки, проходили у мастеров обучение какой-нибудь сельскохозяйственной работе, ремеслу или служили бы па складах.
При этом выбор вида трудовой деятельности отнюдь не носит принудительного характера. Если ребенок проявляет склонность к иной профессии, чем его отец, тот отдает его в обучение соответствующему мастеру. Если наблюдатель над каким-либо видом работ находит у подростка способности к иному ремеслу, он с согласия отца «переводит его в обучение к другому мастеру».
Профессиональное обучение Уинстэнли представлял себе по средневековому образцу. Подросток после окончания общеобязательной школы (срок обучения в ней не является, по-видимому, долгим) поступает в ученичество к мастеру и живет в его семье семь лет, постигая тайны профессии. Наблюдатель указывает юноше, склонному к иному делу, чем его отец, «в какой семье ему жить». Если отец слаб, болен или умрет раньше, чем поставит на ноги детей, наблюдатели «должны разместить детей по таким семьям, где они могли бы получить обучение в соответствии с законом республики».
По окончании обучения ремеслу молодой человек может жениться, завести свое хозяйство и стать самостоятельным мастером. Каждый ремесленник работает в своей мастерской и производит товары силами членов семьи, учеников и общественных слуг. Такие условия труда диктовала неразвитость мануфактурного производства в Англии.
Существует, считает Уинстэнли, пять отраслей трудовой и познавательной деятельности, по которым должно идти обучение. Первая из них — сельское хозяйство, обработка почвы, засевание, выращивание и сбор зерна. К этой отрасли примыкают ремесленные профессии: мукомолы, солодовщики, пекари, шорники, изготовители плугов и телег, канатные мастера, прядильщики и ткачи холста. Сюда же относится садоводство, искусство сажать, прививать и взращивать всякого рода плодовые деревья, подготавливать землю для посадки цветов, трав и овощей. Здесь трудятся врачи, хирурги, дистилляторы, составители лекарств, виноделы и маслоделы, лица, занимающиеся консервированием плодов и т. п.
Вторая отрасль знаний — это минералогия, изучение земных недр с целью добычи золота, серебра, меди, железа, олова, свинца, каменного угля, селитры, квасцов и других полезных ископаемых. В этой отрасли работают рудокопы, химики, изготовители пороха, каменщики, кузнецы.
Третья отрасль — скотоводство. Здесь можно научиться, как выращивать и кормить дойных коров, волов и лошадей, как управлять ими и как выделывать соответствующую продукцию. Сюда примыкают ремесла кожевников, шапочников, сапожников, перчаточников, прядильщиков шерсти, суконщиков, портных, красильщиков.
Особую, четвертую отрасль хозяйства составляет лесоводство — посадка и выращивание леса, в том числе строевого, сведение его, распилка и подготовка для строительства домов и кораблей. Здесь изучают тайны природы и ремесла плотники, столяры, изготовители рабочих орудий. музыкальных инструментов.
Пятый источник познания — «это наблюдение над восходом и закатом солнца, луны и небесных явлений, движениями прилива, изучение моря и его различных влияний, сил и воздействий на физическую природу человека и животных». Здесь можно изучать астрологию, астрономию, навигацию, движение ветров, изменения погоды и т. п.
Таковы взгляды Уинстэнли па практические источники знаний. Они имеют одну особенность: ремесло он ставит в положение, подчиненное сельскому хозяйству. Как общественная собственность на землю для него — основа свободного и справедливого строя, так и сельское хозяйство, работа на земле — основа всякого общественного производства, всяких полезных навыков и знаний.
К традиционному книжному обучению, которое приобретается чтением или зазубриванием слов учителя, Уинстэнли относится отрицательно. Такое обучение, пишет он, «ведет к праздной жизни, в нем нет ничего доброго». Это оно создало бездельников лордов, и духовенство, и юристов, живущих за счет работы других людей.
Мальчики и девочки воспитываются раздельно. Верный средневековым традициям, Уинстэнли отводит мальчикам производительный активный труд, девочек же обучают шитью, вязанью, прядению льна и шерсти, музыке и другим более легким занятиям.
Особое поощрение получают молодые люди, сделавшие какое-либо изобретение или усовершенствование; наблюдатели должны заботиться о том, «чтобы дух познания получил полное развитие в человеке для изучения тайн во всяком искусстве». Уинстэнли убежден, что когда люди будут обеспечены всем необходимым, «ум их созреет и будет готов углубиться в тайны творения… ибо страх перед нуждой и забота об уплате ренты помешали появиться на свет многим редким изобретениям».
Так будет достигнута важнейшая задача воспитания и вместе с нею — истинная республиканская справедливость и свобода, которая «заключается в том, чтобы поступать по отношению к другому так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». И будет исполнен христианский закон: любить не только ближних, но и врагов своих, и довольствоваться тем, что имеешь пищу и одежду. Когда говорят об удовлетворении человеческих потребностей при совершенном строе, часто забывают о мере. Но чувство меры также надо воспитывать в человеке с самого начала его жизни. Удовлетворение человеческих потребностей не имеет ничего общего с алчным стремлением к стяжательству. Уинстэнли понимал это и выразил с предельной ясностью: «Имея же пищу и одежду, жилище и приятное общество себе подобных, чего еще может желать человек в дни своего пути земного? В действительности алчные, высокомерные и скотоподобные люди желают большего либо чтобы любоваться своим достоянием, либо чтобы расточить и расхитить его по своей прихоти, тогда как другие братья будут жить в нужде… Но законы и верные должностные лица свободной республики станут регулировать неразумные действия подобных лиц».
И в самом деле, ниже, в своде законов, есть пункт, согласно которому тот, кто берет в магазинах больше товаров, чем нужно для прокормления его семьи, и в чьем доме происходит порча продуктов, подлежит наказанию. После третьего замечания его обращают в слугу на двенадцать месяцев, «дабы он знал, что значит добывать питание».
Принципы воспитания, которые предлагает Уинстэнли, поразительно современны. Образование в его республике — всеобщее, равное, обязательное; вместе с тем каждый свободен в выборе профессии. В учениках поощряется активность, трудолюбие, стремление к опытному постижению знаний. Обучение ведется непосредственно на поле или в ремесленной мастерской: подлинным источником полезных знаний и прогресса науки он считает производительный труд.
СВОД ЗАКОНОВ
 оследняя, шестая глава трактата посвящена законодательству. Краткие, известные и понятные всем законы — вот чего требовали тысячи граждан в многочисленных петициях, ремонстрациях и проектах. Уинстэнли намечает ряд общих принципов права свободной республики.
Закон в его понимании носит двоякий характер. Один, «божеский» закон, — это завет мира и разума; он пребывает внутри человека, взвешивает и предвидит результаты его поступков, предостерегает его от излишеств и пороков. Этот закон называется «светом в человеке», «разумной силой» или «законом рассудка». Его победа — это победа высшего начала над низменным, плотским. Но не этот этический закон составляет основное содержание последней главы. Уинстэнли занят здесь рассмотрением «внешнего закона» — закона справедливости в социальных и политических отношениях между людьми.
Подчиненность, иерархия и дисциплина в обществе необходимы. Если их уничтожить, писал великий Шекспир, —
оследняя, шестая глава трактата посвящена законодательству. Краткие, известные и понятные всем законы — вот чего требовали тысячи граждан в многочисленных петициях, ремонстрациях и проектах. Уинстэнли намечает ряд общих принципов права свободной республики.
Закон в его понимании носит двоякий характер. Один, «божеский» закон, — это завет мира и разума; он пребывает внутри человека, взвешивает и предвидит результаты его поступков, предостерегает его от излишеств и пороков. Этот закон называется «светом в человеке», «разумной силой» или «законом рассудка». Его победа — это победа высшего начала над низменным, плотским. Но не этот этический закон составляет основное содержание последней главы. Уинстэнли занят здесь рассмотрением «внешнего закона» — закона справедливости в социальных и политических отношениях между людьми.
Подчиненность, иерархия и дисциплина в обществе необходимы. Если их уничтожить, писал великий Шекспир, —
Уинстэнли был человеком своего времени, и потому естественно, что его утопический проект отмечен чертами средневековой патриархальности, крестьянского взгляда на мир. Литературно «Закон свободы» слабее, чем другие его произведения: в нем недостает четкости построения, образности и эмоциональности языка, присущих более ранним трактатам. Текст его полон противоречий и оставляет читателю ряд недоуменных вопросов. Земля в республике составляет общественную собственность, но как пользуются ею: каждая семья в отдельности или все сообща? Иногда из текста как будто следует, что каждая семья получает в пользование достаточный надел и обрабатывает его своими силами; иногда же явствует, что все, включая ремесленников, сообща трудятся на общих полях без межей и наделов. Носит ли труд на земле массовый общественный характер или остается семейным? Кому принадлежат ремесленные орудия: самим работникам или, подобно орудиям сельскохозяйственным, — всему обществу? Иногда понятия настоящего положения дел и картины будущей, идеальной жизни республики в представлении автора смещаются. Так, он вдруг начинает требовать возвращения беднякам коронных, епископских и роялистских земель, забывая о том, что в описанной им республике вся земля станет общей. В другом месте звучит мысль о необходимости содержания для неимущих членов парламента. Создается впечатление, что «Закон свободы» печатался второпях, куски его текста недостаточно скомпонованы, встречаются повторы. Но в целом утопия Уинстэнли явилась самым ярким и самым убедительным с точки зрения угнетенных классов проектом переустройства общества на началах справедливости. Она отразила туманные мечты этих классов о совершенном политическом и социальном строе, уничтожившем частную собственность, угнетение человека человеком, неравенство, политический и духовный гнет. В ней высказана гениальная и в то же время удивительно простая мысль о том, что подлинная свобода несовместима с существованием частной собственности на землю и продукты труда. Четырьмя годами позже, в 1656 году, в Англии был опубликован другой, сразу ставший знаменитым, проект общественного переустройства: утопия Джеймса Гаррингтона «Республика Океания». В этом блестяще написанном и умело аргументированном произведении Гаррингтон тоже доказывал, что формы государства и его учреждения находятся в прямой зависимости от характера распределения земельной собственности: если в XIV или XV веке земля была сосредоточена главным образом в руках королей и приближенной к ним духовной и светской аристократии, и потому монархический строй был оправдан, то теперь, с конца XVI века, после ликвидации монастырей и распродажи церковных владений, основная масса земли перешла в руки нового дворянства и преуспевающих йоменов, и потому способ правления в стране должен быть республиканским, а не монархическим. Гаррингтон намечал пути, как сделать, чтобы республикой управляли те, кто владел в ней большей частью земель: парламент должен состоять из избранных имущими гражданами депутатов и каждый год обновляться на одну треть. Так лучше всего можно будет защитить собственность и власть буржуазии и джентри от посягательств монархии и феодалов-аристократов с одной стороны и народных масс — с другой. Гаррингтон правильно уловил взаимозависимость формы власти и распределения собственности, но его проект намного консервативнее того, что предлагал Уинстэнли. Проект Гаррингтона, однако, не был принят к исполнению: победители во главе с Кромвелем, чтобы удержать бразды правления в своих руках, нуждались в военной диктатуре, а не в республике с часто сменяющимися парламентами. «Этот господин хочет лишить меня власти», — сказал Кромвель о Гаррингтоне. Республика же Уинстэнли ставила главной своей целью справедливость по отношению к беднейшим труженикам, наделение их землей и средствами к жизни, обеспечение им равного со всеми участия в управлении страной. Она звала к немедленным и коренным переменам всей организации общества. Проект Уинстэнли намного человечнее Гаррингтоновой конституции, а взгляды его глубже и прозорливее. Он мечтал об уничтожении частной собственности вообще — и здесь шел по стопам своего знаменитого предшественника Томаса Мора. Но от «Утопии» Мора его проект отличался конкретным, революционным характером. «Закон свободы» был не романтическим повествованием о далеком, затерянном в просторах океана «счастливом острове», а программой борьбы за насущные интересы бедняков. И неудивительно, что правители республики во главе с Кромвелем и те, кто стоял за ними, не приняли эту программу, как прежде отвергли и растоптали общину диггеров на холме Святого Георгия.
Жизнь Уинстэнли в годы создания утопии была полна трудностей, неустройства, лишений. О спокойном обдумывании, трезвой компоновке и тщательном редактировании рукописи мечтать не приходилось. Он старел. Болезни и нужда одолевали измученное трудом и лишениями тело. Он перебивался поденным заработком, и его жгло сознание, что земля, которая самим творцом определена в свободное пользование таким, как он, беднякам, служит аппетитам хищных лордов, а на тех, кто пытается своим трудом обработать ее, смотрят как на воров и грабителей. Нота отчаяния звучит иногда со страниц трактата. «О, сколь велико заблуждение и глубок мрак, объявший наших братьев! Я не имею сил рассеять его, но оплакиваю его в глубине моего сердца…» Та же нота пронизывает и прекрасную заключительную элегию:
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЖИТЬ В ЭТОМ МИРЕ
(1652–1676)

Тела наши бренные в землю сойдут, И дети, сменившие нас, Увидят: стояли за правду и мир, И вольность мы в свой час.Уинстэнли
КРОМВЕЛЬ У ВЛАСТИ
 о до конца было еще далеко. Жизнь шла своим чередом, и хочешь не хочешь — надо жить дальше. Колония разгромлена, надежды на создание новой не осталось. «Закон свободы» был написан и размножен; он продавался всем желающим в печатне Джайлса Калверта под черным распростертым орлом к западу от собора святого Павла. Оставалось ждать результата и следить за событиями.
Трактат о законе свободной республики не прошел незамеченным. Он был издан дважды. В феврале 1652 года, еще до полной публикации, большие отрывки из него были перепечатаны газетой «Верный слуга». Еще три трактата включили в свой текст те или иные главы из утопии Уинстэнли. Лондонский издатель Джордж Хортон опубликовал обширные выдержки из трактата не менее чем в четырех своих публикациях, скопировав их с выпущенного Калвертом текста.
Несколько отрывков были помещены в лондонской газете «Французский осведомитель» среди сообщений о новостях со всего света.
Явились и плагиаторы. Они издавали различные части «Закона свободы» анонимно и под другими названиями, например: «Статьи о государственной измене», «Декларация свободы», «Левеллерская ремонстрация».
Был и прямой ответ. Он исходил от Лилберна, знаменитого «свободнорожденного Джона», главы левеллерской партии. Когда-то он вел за собой всех сторонников политической демократии в Англии. Надо сказать, что теперь это был уже не тот Лилберн. Сломленный поражением левеллерского движения, измученный преследованиями и многомесячными тюремными заключениями, он два года жил на севере, занимаясь мыловаренным производством. Принципиальность и жажда справедливости заставили его оспорить имущественные права влиятельного члена парламента и Государственного совета Артура Гезльрига, который путем нечестных махинаций приобрел богатейшие угольные копи в северных графствах. Новые вельможи Английской республики жестоко мстили всем, кто осмеливался выступать с критикой их действий. Палатой общин «свободнорожденный» был приговорен к огромному штрафу в семь тысяч фунтов стерлингов и изгнан за пределы Англии.
Теперь он жил в Голландии; отчаяние и растерянность свели его с представителями роялистской эмиграции.
Он пишет ряд яростных памфлетов, пронизанных личной ненавистью к Кромвелю. В них он пытается осмыслить то, что произошло с ним и его движением.
В одном из таких памфлетов — вышедшем в апреле 1652 года «Защитительном повествовании» — Лилберн как будто прямо полемизирует с Уинстэнли. «По моему мнению и суждению, — пишет он, — эта жалкая тщеславная попытка уравнять собственность и власть настолько смешна и глупа, что нельзя себе представить какого-либо человека со здравыми мозгами и искренним сердцем, который был бы настолько опьянен, чтобы поддержать этот принцип, ибо если он будет воплощен в жизнь, он разрушит не только всякое производство в мире, но и сметет самые основы воспроизводства и средств существования или бытия одного человека с помощью другого. Ибо что касается трудолюбия и усердия, посредством которых человеческие сообщества поддерживаются и сохраняются, кто возьмет на себя эти тяготы, если полученный результат не будет принадлежать ему, а должен быть поровну разделен между всякими ленивыми, невежественными, расточительными пьянчугами? Или кто будет бороться за то, в чем он не имеет иного интереса, кроме того, который должен быть подчинен воле и желанию любого другого, даже трусливого и подлого, испорченного и низменного типа, который на своем месте должен разделять с доблестным человеком все его смелые и благородные достижения?»
Реакция Лилберна на предложение сделать землю и плоды ее общими для всех людей была типична для собственнической Англии. Здесь с ним могли согласиться и сидевшие в парламенте землевладельцы, и финансовые тузы Сити, и мелкопоместные джентри в графствах, и многочисленная братия ремесленников, торговцев, фригольдеров, священнослужителей… А бедняки, неимущие, чаяния и многовековые мечты которых были выражены в «Законе свободы», читать не умели и потому не могли поддержать его. Вот почему трактат Уинстэнли «Закон свободы» не вызвал больше откликов. О нем вскоре предпочли забыть.
А между тем устроение республики, разработка и введение новой конституции оставались насущнейшими задачами. Дело это беспокоило и офицеров армии, и юристов, и самого Кромвеля. Многочисленные петиции и предложения из графств ежедневно поступали в Лондон, печатались десятки памфлетов. И только члены «охвостья», казалось, ничуть не были обеспокоены вопросами государственного устройства; создавалось впечатление, что они намереваются сидеть на своих теплых местах до скончания века. Более всего они были озабочены тем, чтобы конфисковать у бывших роялистов как можно больше владений — разумеется, не без выгоды для себя. Конфискации шли полным ходом; людей, как заметил однажды Кромвель, лишали имущества, словно стадо баранов, по сорок человек в день, не заботясь даже об указании причин конфискаций.
Война с Голландией требовала новых налогов, строительства судов, поддержания дисциплины. Летом 1652 года усилилось недовольство в армии: снова начали собираться митинги, офицеры и солдаты обсуждали проекты реформ. Тринадцатого августа «охвостье» получило армейскую петицию. Ее составители требовали отмены церковной десятины, реформы права, удаления с государственных постов «негодных, скомпрометировавших себя и распущенных лиц», упорядочения налогов, уплаты государственных долгов.
Петиционеры писали: «Должны быть представлены отчеты в израсходовании государственных средств и выплачены недоимки солдатам… Государственные доходы должны поступать в одно казначейство; управляющие казначейством должны назначаться парламентом, а поступления и расходы публиковаться каждые полгода. Необходимо назначение комитета из числа членов палаты для рассмотрения вопроса о ненужных должностях и окладах».
Однако ни эта петиция, ни попытки Кромвеля и верхушки офицеров договориться с «охвостьем» и склонить его к реформам и назначению выборов в новый парламент ни к чему не привели. По словам республиканца Ледло, члены парламента «были заинтересованы в том, чтобы держать в своих руках жизнь, свободу и имущество всей нации». Весной 1653 года они, правда, под давлением офицеров начали обсуждать порядок выборов в новый парламент. Но при этом сразу заявили, что все члены «охвостья» переизбранию не подлежат: они автоматически включаются в состав нового и всех последующих парламентов. Это означало, что они не намереваются выпустить власть из своих рук.
И тогда Кромвель 20 апреля 1653 года во главе отряда мушкетеров является в парламент. С полчаса он молча слушает дебаты. Но когда спикер ставит вопрос на голосование, он встает с места и произносит громовую обличительную речь. Он клеймит членов «охвостья» как бессовестных, алчных, продажных наживал, он обвиняет их в предательстве интересов общего дела, глумится над их тайными пороками. По его знаку в зал входят мушкетеры. Спикера стаскивают с кресла, остальных членов палаты теснят к выходу.
«Охвостье» разогнано, Вечером Кромвель объявляет Государственному совету, что полномочия его членов прекращаются тоже. Предчувствия Уинстэнли сбылись: Кромвель становится полновластным хозяином Англии.
Страна ликует. Угнетенные и униженные вновь с надеждой поднимают на него взоры: может быть, он и вправду установит, наконец, в Англии справедливое правление?
И похоже, что Кромвель собирается оправдать их надежды. Он склоняется на уговоры своего приближенного полковника Гаррисона, вождя сектантов, и решает создать новый парламент из «святых», благочестивых людей, преданных богу и «Доброму старому делу» — революции. По его требованию независимые религиозные конгрегации в каждом графстве составляют списки наиболее подходящих лиц, «известных своим страхом божиим, верностью и честностью», уважаемых и почтенных. Кромвель вместе с офицерским советом отобрал из этих списков 139 человек и разослал им приглашения явиться в Уайтхолл, дабы исполнить великие задачи устроения Англии.
Четвертого июля 1653 года при открытии нового представительного органа, который войдет потом в историю под названием Малого, или Назначенного парламента, Кромвель призвал его членов быть «мудрыми, чистыми, мирными, добрыми, отзывчивыми, плодоносными, беспристрастными, нелицеприятными».
— Мы должны быть сострадательными, — сказал он. — Терпимыми ко всем. Любить всех, прощать, заботиться и поддерживать всех… И если самый беднейший, самый грешный христианин захочет мирно и спокойно жить под властью вашей, — я говорю, если кто-нибудь захочет вести жизнь благочестивую и мирную — пусть ему будет оказано покровительство.
Уинстэнли мог, казалось бы, ликовать: Кромвель как будто собирался сделать шаги к выполнению его программы. Но горький опыт разочарований и поражений заставляет его молчать. Посмотрим, что выйдет из этого необычного начинания.
Между тем члены религиозных общин из Лондона и графств, собравшиеся в Малом парламенте, — в большинстве своем лавочники, небогатые сквайры, торговцы начинают действовать. Наиболее активным оказывается кожевник Прейзгод Бэрбон, проповедник из анабаптистов. Некоторые потом так и будут называть Малый парламент Бэрбоновым. Покоряясь агитации Бэрбона и подобных ему «фанатиков» из левого крыла, невиданный парламент с наивным усердием неискушенных людей берется за решение самых трудных задач. Они принимаются за реформу запутанного, изобилующего отступлениями, поправками, разъяснениями, крючкотворством английского права. Назначенный комитет должен свести всю массу английских законов в один небольшой кодекс. Они решают отменить суд канцлера и церковный брак; предлагают впервые попавшихся мелких воришек не судить, а отпускать с миром; запрещают сожжение женщин за колдовство.
Выдвигались смелые проекты перераспределения налогов в соответствии с доходами, отмены жалованья (на год) для офицерства, возмещения бедным общинникам убытков, нанесенных огораживаниями, уничтожения акцизов… Вот они ликвидировали систему откупов при сборе податей и взялись за церковную реформу. Феодальное право патроната, то есть право лендлордов выставлять кандидатов на церковные должности, было зачеркнуто единым взмахом мужицкой руки.
Но дальше — больше. Они принялись обсуждать вопрос о десятине — самом тяжелом для беднейшего населения налоге. «Пусть священнослужителей содержат те, кто в них нуждается», — заявили «святые». Повторявшееся еще со времен восстания Уота Тайлера крестьянское требование, кажется, вот-вот будет исполнено.
о до конца было еще далеко. Жизнь шла своим чередом, и хочешь не хочешь — надо жить дальше. Колония разгромлена, надежды на создание новой не осталось. «Закон свободы» был написан и размножен; он продавался всем желающим в печатне Джайлса Калверта под черным распростертым орлом к западу от собора святого Павла. Оставалось ждать результата и следить за событиями.
Трактат о законе свободной республики не прошел незамеченным. Он был издан дважды. В феврале 1652 года, еще до полной публикации, большие отрывки из него были перепечатаны газетой «Верный слуга». Еще три трактата включили в свой текст те или иные главы из утопии Уинстэнли. Лондонский издатель Джордж Хортон опубликовал обширные выдержки из трактата не менее чем в четырех своих публикациях, скопировав их с выпущенного Калвертом текста.
Несколько отрывков были помещены в лондонской газете «Французский осведомитель» среди сообщений о новостях со всего света.
Явились и плагиаторы. Они издавали различные части «Закона свободы» анонимно и под другими названиями, например: «Статьи о государственной измене», «Декларация свободы», «Левеллерская ремонстрация».
Был и прямой ответ. Он исходил от Лилберна, знаменитого «свободнорожденного Джона», главы левеллерской партии. Когда-то он вел за собой всех сторонников политической демократии в Англии. Надо сказать, что теперь это был уже не тот Лилберн. Сломленный поражением левеллерского движения, измученный преследованиями и многомесячными тюремными заключениями, он два года жил на севере, занимаясь мыловаренным производством. Принципиальность и жажда справедливости заставили его оспорить имущественные права влиятельного члена парламента и Государственного совета Артура Гезльрига, который путем нечестных махинаций приобрел богатейшие угольные копи в северных графствах. Новые вельможи Английской республики жестоко мстили всем, кто осмеливался выступать с критикой их действий. Палатой общин «свободнорожденный» был приговорен к огромному штрафу в семь тысяч фунтов стерлингов и изгнан за пределы Англии.
Теперь он жил в Голландии; отчаяние и растерянность свели его с представителями роялистской эмиграции.
Он пишет ряд яростных памфлетов, пронизанных личной ненавистью к Кромвелю. В них он пытается осмыслить то, что произошло с ним и его движением.
В одном из таких памфлетов — вышедшем в апреле 1652 года «Защитительном повествовании» — Лилберн как будто прямо полемизирует с Уинстэнли. «По моему мнению и суждению, — пишет он, — эта жалкая тщеславная попытка уравнять собственность и власть настолько смешна и глупа, что нельзя себе представить какого-либо человека со здравыми мозгами и искренним сердцем, который был бы настолько опьянен, чтобы поддержать этот принцип, ибо если он будет воплощен в жизнь, он разрушит не только всякое производство в мире, но и сметет самые основы воспроизводства и средств существования или бытия одного человека с помощью другого. Ибо что касается трудолюбия и усердия, посредством которых человеческие сообщества поддерживаются и сохраняются, кто возьмет на себя эти тяготы, если полученный результат не будет принадлежать ему, а должен быть поровну разделен между всякими ленивыми, невежественными, расточительными пьянчугами? Или кто будет бороться за то, в чем он не имеет иного интереса, кроме того, который должен быть подчинен воле и желанию любого другого, даже трусливого и подлого, испорченного и низменного типа, который на своем месте должен разделять с доблестным человеком все его смелые и благородные достижения?»
Реакция Лилберна на предложение сделать землю и плоды ее общими для всех людей была типична для собственнической Англии. Здесь с ним могли согласиться и сидевшие в парламенте землевладельцы, и финансовые тузы Сити, и мелкопоместные джентри в графствах, и многочисленная братия ремесленников, торговцев, фригольдеров, священнослужителей… А бедняки, неимущие, чаяния и многовековые мечты которых были выражены в «Законе свободы», читать не умели и потому не могли поддержать его. Вот почему трактат Уинстэнли «Закон свободы» не вызвал больше откликов. О нем вскоре предпочли забыть.
А между тем устроение республики, разработка и введение новой конституции оставались насущнейшими задачами. Дело это беспокоило и офицеров армии, и юристов, и самого Кромвеля. Многочисленные петиции и предложения из графств ежедневно поступали в Лондон, печатались десятки памфлетов. И только члены «охвостья», казалось, ничуть не были обеспокоены вопросами государственного устройства; создавалось впечатление, что они намереваются сидеть на своих теплых местах до скончания века. Более всего они были озабочены тем, чтобы конфисковать у бывших роялистов как можно больше владений — разумеется, не без выгоды для себя. Конфискации шли полным ходом; людей, как заметил однажды Кромвель, лишали имущества, словно стадо баранов, по сорок человек в день, не заботясь даже об указании причин конфискаций.
Война с Голландией требовала новых налогов, строительства судов, поддержания дисциплины. Летом 1652 года усилилось недовольство в армии: снова начали собираться митинги, офицеры и солдаты обсуждали проекты реформ. Тринадцатого августа «охвостье» получило армейскую петицию. Ее составители требовали отмены церковной десятины, реформы права, удаления с государственных постов «негодных, скомпрометировавших себя и распущенных лиц», упорядочения налогов, уплаты государственных долгов.
Петиционеры писали: «Должны быть представлены отчеты в израсходовании государственных средств и выплачены недоимки солдатам… Государственные доходы должны поступать в одно казначейство; управляющие казначейством должны назначаться парламентом, а поступления и расходы публиковаться каждые полгода. Необходимо назначение комитета из числа членов палаты для рассмотрения вопроса о ненужных должностях и окладах».
Однако ни эта петиция, ни попытки Кромвеля и верхушки офицеров договориться с «охвостьем» и склонить его к реформам и назначению выборов в новый парламент ни к чему не привели. По словам республиканца Ледло, члены парламента «были заинтересованы в том, чтобы держать в своих руках жизнь, свободу и имущество всей нации». Весной 1653 года они, правда, под давлением офицеров начали обсуждать порядок выборов в новый парламент. Но при этом сразу заявили, что все члены «охвостья» переизбранию не подлежат: они автоматически включаются в состав нового и всех последующих парламентов. Это означало, что они не намереваются выпустить власть из своих рук.
И тогда Кромвель 20 апреля 1653 года во главе отряда мушкетеров является в парламент. С полчаса он молча слушает дебаты. Но когда спикер ставит вопрос на голосование, он встает с места и произносит громовую обличительную речь. Он клеймит членов «охвостья» как бессовестных, алчных, продажных наживал, он обвиняет их в предательстве интересов общего дела, глумится над их тайными пороками. По его знаку в зал входят мушкетеры. Спикера стаскивают с кресла, остальных членов палаты теснят к выходу.
«Охвостье» разогнано, Вечером Кромвель объявляет Государственному совету, что полномочия его членов прекращаются тоже. Предчувствия Уинстэнли сбылись: Кромвель становится полновластным хозяином Англии.
Страна ликует. Угнетенные и униженные вновь с надеждой поднимают на него взоры: может быть, он и вправду установит, наконец, в Англии справедливое правление?
И похоже, что Кромвель собирается оправдать их надежды. Он склоняется на уговоры своего приближенного полковника Гаррисона, вождя сектантов, и решает создать новый парламент из «святых», благочестивых людей, преданных богу и «Доброму старому делу» — революции. По его требованию независимые религиозные конгрегации в каждом графстве составляют списки наиболее подходящих лиц, «известных своим страхом божиим, верностью и честностью», уважаемых и почтенных. Кромвель вместе с офицерским советом отобрал из этих списков 139 человек и разослал им приглашения явиться в Уайтхолл, дабы исполнить великие задачи устроения Англии.
Четвертого июля 1653 года при открытии нового представительного органа, который войдет потом в историю под названием Малого, или Назначенного парламента, Кромвель призвал его членов быть «мудрыми, чистыми, мирными, добрыми, отзывчивыми, плодоносными, беспристрастными, нелицеприятными».
— Мы должны быть сострадательными, — сказал он. — Терпимыми ко всем. Любить всех, прощать, заботиться и поддерживать всех… И если самый беднейший, самый грешный христианин захочет мирно и спокойно жить под властью вашей, — я говорю, если кто-нибудь захочет вести жизнь благочестивую и мирную — пусть ему будет оказано покровительство.
Уинстэнли мог, казалось бы, ликовать: Кромвель как будто собирался сделать шаги к выполнению его программы. Но горький опыт разочарований и поражений заставляет его молчать. Посмотрим, что выйдет из этого необычного начинания.
Между тем члены религиозных общин из Лондона и графств, собравшиеся в Малом парламенте, — в большинстве своем лавочники, небогатые сквайры, торговцы начинают действовать. Наиболее активным оказывается кожевник Прейзгод Бэрбон, проповедник из анабаптистов. Некоторые потом так и будут называть Малый парламент Бэрбоновым. Покоряясь агитации Бэрбона и подобных ему «фанатиков» из левого крыла, невиданный парламент с наивным усердием неискушенных людей берется за решение самых трудных задач. Они принимаются за реформу запутанного, изобилующего отступлениями, поправками, разъяснениями, крючкотворством английского права. Назначенный комитет должен свести всю массу английских законов в один небольшой кодекс. Они решают отменить суд канцлера и церковный брак; предлагают впервые попавшихся мелких воришек не судить, а отпускать с миром; запрещают сожжение женщин за колдовство.
Выдвигались смелые проекты перераспределения налогов в соответствии с доходами, отмены жалованья (на год) для офицерства, возмещения бедным общинникам убытков, нанесенных огораживаниями, уничтожения акцизов… Вот они ликвидировали систему откупов при сборе податей и взялись за церковную реформу. Феодальное право патроната, то есть право лендлордов выставлять кандидатов на церковные должности, было зачеркнуто единым взмахом мужицкой руки.
Но дальше — больше. Они принялись обсуждать вопрос о десятине — самом тяжелом для беднейшего населения налоге. «Пусть священнослужителей содержат те, кто в них нуждается», — заявили «святые». Повторявшееся еще со времен восстания Уота Тайлера крестьянское требование, кажется, вот-вот будет исполнено.
Кто знает, какой отклик вызвали эти волнующие перемены в душе Уинстэнли? Сведений о его жизни в 1653 году не сохранилось. Продолжал ли он странствовать по Англии в поисках заработка? Пытался ли устроить колонию бедняков на общинной пустоши в каком-нибудь из графств? Смешался ли с лондонской толпой, ищущей пропитания? Вернулся ли в Кобэм, чтобы снова пасти скот и мечтать о справедливой республике? Мы не сможем ответить на эти вопросы. С уверенностью скажем лишь одно: действия «святых», столь близкие к некоторым из его собственных требований, не могли оставить его равнодушным. Быть может, он в этот год составляет новый проект реформ, собирается что-то советовать парламенту, предпринимать, убеждать?.. Но если это и так, осуществить свои замыслы Уинстэнли не успел. Политика сектантов всколыхнула и возмутила всю собственническую Англию. «Святые» посягают на десятину, которая давно уже в большей своей части перешла в руки частных лиц! Они покушаются на собственность! И пресвитериане, и индепенденты, и офицеры, которых собрались лишить жалованья, не намерены больше терпеть «дураков», как позже назовет их Кромвель, раскаиваясь в своей собственной недальновидности. А народ снова поднимает голову. Вот Лилберн, самовольно вернувшийся из изгнания после разгона «охвостья», оправдан судом под громкие радостные крики толпы и солдат, охраняющих судебную залу. Ходят слухи, что отменят не только десятину — и ренту лендлордам тоже не надо будет платить!.. Правящая верхушка понимает, что надо действовать решительно. Офицеры, используя уговоры и прямое давление, заставляют правое крыло парламента согласиться на самороспуск. Двенадцатого декабря они все вместе собираются до света, до прихода наиболее левых, активных «фанатиков», и скоренько решают, что «дальнейшие заседания настоящего парламента в данном его составе не послужат для блага республики, и потому необходимо передать в руки лорда-генерала Кромвеля те полномочия, которые члены парламента от него получили». Когда радикалы-сектанты явились на заседания, парламента больше не существовало. Он проработал всего пять месяцев. А четыре дня спустя, 16 декабря, в Вестминстере состоялась торжественная церемония принятия Кромвелем пожизненной должности лорда-цротектора. Согласно новой конституции, «Орудию управления», протектор должен был править страной совместно с парламентом из четырехсот человек, который избирался лицами, обладающими значительным имущественным цензом. Палату лордов заменял также пожизненный Государственный совет, назначенный высшими офицерами. Протектор имел обширную власть — он назначал и смещал должностных лиц, командовал милицией и флотом, ведал международными отношениями. Ни новые законы, ни новые налоги не могли вводиться без его согласия. Церемония провозглашения протектората закончилась в Банкетном зале Уайтхолла — том самом, откуда морозным днем 30 января 1649 года Карл I шагнул на эшафот. Троекратный пушечный салют прогремел в четыре часа пополудни. Герольды в Сити, на Йалас-ярд и других площадях Лондона громко выкрикивали слова новой конституции. Если их слышал в этот день Джерард Уинстэнли, то он не мог не понять, что со свободой в Англии покончено. Открытая военная диктатура во главе с единоличным правителем — Кромвелем — увенчала буржуазную революцию. Отныне смешно мечтать о демократических реформах. Кромвель, как он сам говорил, стал теперь констэблем — полицейским, стражем порядка. И кто дерзнет, кто отважится на безумный и бесполезный шаг — обращаться к нему с проектами реформ или предложениями улучшить положение тех беднейших и презираемых, которых было большинство?
«ДЕТИ СВЕТА»
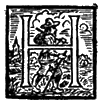 о и в тяжелых условиях протектората Уинстэнли продолжает искать. От следующего, 1654 года сохранилось два любопытных свидетельства.
Четвертого апреля Государственный совет получил от некоего «мистера Уинстэнли» петицию с просьбой разрешить ему ввозить хлопковую пряжу с целью «помочь беднякам Ланкашира». Автор петиции сообщал, что он уже занимался торговлей. Был ли это Джерард? Или один из его ланкаширских родственников? Это неизвестно. Однако желание «помочь беднякам» родного графства напоминает нам о вожде диггеров, душа которого всегда радела об униженных и несчастных. Это позволяет думать, что и после издания «Закона свободы» он напряженно ищет своего пути в мире.
В августе того же года Эдвард Бэрроу, один из вождей квакерского движения, сообщил в письме к Маргарет Фелл, его активной участнице, известной квакерам всей Англии, что в Лондоне он встретил Уинстэнли. И вождь диггеров сказал ему:
— Я верю, что вы, квакеры, посланы, чтобы завершить то дело, которое выпало нам на долю.
«Он был с нами», — заключает Бэрроу. Он не забыл, не отказался от своего дела, он все еще верил в возможность его осуществления — на этот раз усилиями квакеров.
То, что Уинстэнли в пятидесятые годы потянулся к квакерам, неудивительно. После разгрома левых сил революции — левеллеров и диггеров, после падения Малого парламента квакеры одни сохранили в себе способность выразить чаяния угнетенных и в той или иной форме продолжить борьбу.
«Квакерами», что значит «дрожащими», их в насмешку называли противники. Сами же они именовали себя «детьми света», «друзьями в истине» или просто «друзьями». Они появились в конце 40-х годов. Один из их предводителей, сын ткача и ученик сапожника Джордж Фокс в 1647 году, в возрасте 24 лет пережил внутреннее озарение, подобное тому, которое испытал двумя годами позже и Уинстэнли. В результате Фокс утвердился в мысли, что бог обитает не в небесах за облаками и не в рукотворных храмах, а в душе каждого человека и проявляет себя как внутренний свет добра и любви ко всему живому. Те, кто почувствуют в себе этот свет, освободятся от власти первородного греха и проклятия, обретут мир и чистую совесть.
Испытав это духовное потрясение, Фокс бросил свои занятия и отправился проповедовать по селам и городкам северной Англии. За ним стали ходить толпы народа,некоторые тоже оставляли дом и привычное дело и присоединялись к его странствованиям. Иногда Фокс находил в городке целую группу людей, взгляды и верования которых до удивления совпадали с его собственными. Это были «сикеры», «уэйтеры», «беменисты», «милленарии» и другие народные секты, которых так много развелось в Англии в годы революции. Они узнавали друг друга и, радуясь, объединялись в новое могучее движение — «друзей внутреннего света». Оно оформилось в начале пятидесятых годов. Его вдохновителями были Джордж Фокс, Джеймс Нейлор, Ричард Фарнуорс, Эдвард Бэрроу, Ричард Хабберторн.
Проповедь квакеров находила отклик у всех тех, кто ожидал от революции большего, чем она дала народу. Это были прежде всего бедные крестьяне, арендаторы, наемные работники, ремесленники, иногда мелкие лавочники и торговцы, кое-кто из джентри, представители интеллигенции. К ним присоединились и многие левеллеры, в частности, армейцы. Квакеры составили самое успешное и самое радикальное из народных течений революции.
Их идеи во многом испытали влияние силезского мистика Якоба Беме, сочинения которого были переведены на английский язык и распространились в Англии в сороковых и пятидесятых годах. В учении Беме главное внимание уделялось внутреннему миру человека, его индивидуальному общению с богом, который обитает в душе каждого. Общение с богом «в духе» Беме ставил выше авторитета Священного писания. Оно освобождало человека от всякой подчиненности земным властям и авторитетам — как государственным, так и церковным.
Произведения Беме были очень популярны среди английских квакеров. Они уверяли, что бог находится внутри человека и милостив к каждому. Откровение, которое пережил Фокс, и явилось открытием этой бесконечной любви творца к человеку. «Господь открыв мне, — рассказывал Фокс, — что сущность тех вещей, которые пагубны во внешнем мире, находится внутри, в сердцах и душах злых людей. Я увидел также, что существует океан тьмы и смерти, но бесконечный океан света и любви затопляет океан тьмы. В этом также я увидел бесконечную божью любовь».
Мысль эта шла вразрез с господствующей кальвинистской догмой. Для протестантов-кальвинистов, подобных Кромвелю, бог был страшным и непознаваемым карающим владыкой, который определил большинство людей к вечному проклятию и огненной геенне, и лишь немногих приблизил к себе, независимо от их заслуг и стараний. Если такой бог и рождал откровения, то они были полны мистического ужаса, они заставляли Кромвеля ночами кричать и вскакивать с постели. Мироощущение квакеров противопоставляло темным образам гнева, огня, страдания, проклятья образы света и любви. Бог для них был бесконечным океаном любви и жизни, который неизмеримо обширнее и могущественнее моря человеческого греха, ничтожества и отчаяния. Бог, писал один из квакеров, это «море жизни, море любви, море непорочности и справедливости, море всемогущества и мудрости».
Для беднейших слоев населения особенно привлекательной была широта и человечность квакерских взглядов. Бог не желает гибели людям, говорили «друзья», он хочет спасти всех. Внутренний свет Христа — свет любви, истины и справедливости — может открыться каждому, и не только христианину, но и язычнику, иудею, турку, китайцу. При этом божественный свет носит мистический характер и в корне отличается от естественного разума — способности человека логически мыслить и постигать науки. Свет божественный подобен солнцу, земной разум — луне; свет ведет человека в делах духовных, разум — в земных. И, как луна светит от солнца, разум берет свою силу от духовного света.
Новое рождение человека происходит не от книжного знания, не от чтения Писания, изучения священной истории и догматов христианского вероучения, а от внутренней работы, которую совершает свет в душе человека. Сам Христос может проснуться в душе каждого, стоит только открыть его свету свое сердце. Не история, происшедшая с земным человеком 1650 лет назад в Иерусалиме, имела для квакеров главное значение, а внутренний импульс добра и правды, который они называли Христом.
Не о том же ли писал и Уинстэнли в своих ранних трактатах?
И квакеры, будто прочтя их, уверяли: все люди равны перед богом, каждый способен понять и принять внутренний свет Христа, каждый волен полностью освободиться от греха и уподобиться «Адаму до грехопадения». При этом из религиозных своих верований они делали весьма радикальные социальные выводы.
Раз все равны перед богом, значит, равны и друг перед другом. Отсюда шло отрицание титулов, званий, сословий. Квакеры ко всем обращались на «ты» и по имени, отказывались кланяться, снимать шляпы перед власть имущими и лордами. Бог полон любви ко всем — значит, каждое выступление против человека, любое ущемление достоинства, свободы и прав личности трактовалось как грех против бога. Христос, говорили квакеры, пришел не разрушить человеческие жизни, но спасти их, и потому те, кто, будучи представителем власти, судьей или священнослужителем, угрожают жизни человека, тем самым «ниспровергают дело господне» и «недостойны называться ни властями, ни учителями».
Квакеры, как и многие их современники, были хилиастами: они ожидали скорого второго пришествия Христа на землю и установления тысячелетнего царства добра и справедливости. Но их ожидание не было пассивным. Наоборот, они призывали переделать существующий мир и людей соответственно «духу Христа», дабы воля бога стала волей человека и общество здесь, на земле, могло уподобиться царствию небесному. Они горели желанием добиться справедливости, победить общественные зло и неправду. «Наша религия, — писал Фокс, — заставляет посещать бедняков, и сирот, и вдов, и удерживает от опасностей этого мира». Мы отрицаем религию тех людей, которые заботятся о своем телесном благополучии, в то время как «вдовы и сироты бродят, прося подаяния, по улицам и провинциям».
Опираясь на известное апостольское указание, что вера без дел мертва, «друзья» делали упор на необходимость поступать в этом мире по совести, помогать ближнему, заботиться о слабых, угнетенных, то есть «делать добро», а не «говорить о добре». Не то же ли подчеркивал и Уинстэнли?
И, подобно Уинстэнли, квакеры выступали против разнузданного поведения рантеров, против утверждения их, что между злом и добром нет различий, что «в боге дозволено все» и греха как такового не существует.
Что же касается государственной церкви, то не было, кажется у нее более стойкого и сознательного противника, чем «друзья внутреннего света». Они были уверены, что с апостольских времен христианская церковь претерпела множество необратимых изменений; она извратила свою духовную сущность и пошла по ложному пути, стала «суетной, мирской, честолюбивой, алчной, жестокой». Бог обитает не в храме, а в душе людской. Значит, и сам «дом с колокольней», и специально назначенные служители, и все эти крещения, причащения, отпевания, церемонии бракосочетания, иконы, облачения, алтари — не нужны. Более того, они вредны, так как обманывают народ и вытягивают из него деньги.
«О, сколь огромные суммы денег, — писал Фокс, — доставляет их торговля Священным писанием и их проповеди, от высочайшего епископа до ничтожного пастора! Какая другая торговля в мире может сравниться с нею!»
Бывали случаи, когда группы квакеров, явившись в церковь, кричали проповеднику, вещавшему с кафедры: «Сойди вниз, лжепророк, обманщик, слепой поводырь слепых, наемник!» Благонамеренные прихожане в ответ бросались на квакеров с кулаками, их изгоняли из храма, побивали камнями, тащили в тюрьму, отдавали под суд.
Не то же ли самое возмущение «лживыми и продажными проповедниками» высказывал в своих трактатах и Уинстэнли? В «Истине, поднимающей голову над скандалами», он говорит почти теми же словами, что и Джордж Фокс.
Практическим выводом из антицерковных взглядов квакеров стал их отказ платить церковную десятину. Фокс, Бэрроу и другие квакеры требовали решительной отмены этого «великого бедствия» для многих тысяч английских бедняков. Десятина была не только самым тяжелым из английских налогов. Она не только глубоко оскорбляла чувства всех нонконформистов, так как заставляла их содержать на свои деньги тех, кого они считали заведомыми лжецами и негодяями. Она особенно возмущала тем, что правом на ее сбор и присвоение обладали со времен Генриха VIII многочисленные светские собственники, частью сторонники короля, частью джентри и знать, а частью члены столь дискредитировавшего себя «охвостья» Долгого парламента. Между прочим, одним из таких «светских собственников» десятины был и сам Оливер Кромвель. Отказываясь платить десятину, «друзья» тем самым посягали на святая святых — на право частной собственности.
Они предлагали создать из поступлений от десятины общественный фонд и предназначить его на помощь нуждающимся. «Десятины этой нации, — писали Фокс и Бэрроу, — дали бы и чужестранцам, и сиротам, и вдовам, и пастырям вполне достаточно, и если бы создать общественные склады, чтобы содержать там эти поступления, в стране не было бы нищих». Проповедники же слова божия не должны требовать себе содержания: «Пусть они идут сначала сеять, и пахать, и молотить, и пасти стада и лишь тогда пусть пожинают плоды и едят, ибо таков завет апостолов».
Не об этом ли писал и Уинстэнли? Не он ли мечтал об общественных складах, из которых каждый труженик может взять все, что ему нужно?
Квакеры после 1653 года действительно выступили как продолжатели радикальных движений сороковых годов; они стали совестью «Доброго старого дела». В политической области они требовали реформы законодательства, отмены смертной казни, демократических свобод слова, совести, собраний и передвижений по стране. «Пусть все законы будут собраны в одном кратком томе, — писали они, — чтобы все могли знать их и чтобы все в них было понятно и просто… и пусть все заключенные, которые находятся в тюрьмах или исправительных домах четыре или пять лет, предстанут на суде перед их обвинителями и увидят, кто их обвиняет». «Пусть никто не будет приговорен к смерти за кражу скота или денег или подобные вещи, как приговорены многие; но пусть они останутся жить и возвратят четырехкратную стоимость похищенного или будут проданы за их воровство и трудятся своими руками, что есть благо согласно доктрине апостолов и указанию божьему».
Здесь квакеры являли себя наследниками политических левеллеров. Они считали казнь короля справедливым судом божьим, одобряли «Прайдову чистку» и установление республики. Верховным главой и авторитетом в государстве они признавали Иисуса Христа, что потенциально могло обернуться гражданским неповиновением любому правительству.
Они выдвигали и смелую социальную программу: решительно выступали против богатства и бедности, против всякого угнетения и неравенства. «Горе тем, — взывает Фокс, — кто алчно присоединяет дом к дому и так приближает поле к полю, что бедняк остается без всякой земли… Горе тому, кто алчно тащит к себе в дом неправдой добытые товары!..»
Как и Уинстэнли, квакеры решительно осуждали корыстолюбие, подчеркивали его несовместимость с принципами христианства. «Если ты исповедуешь Христа, — писал Фокс, — и следуешь алчности, жадности и земным устремлениям, ты отрицаешь его в своей жизни и обманываешь себя самого и других». Но и Уинстэнли считал главным моментом в грехопадении человека, по сути самим грехопадением, проявление алчности и себялюбия.
Квакеры видели свою задачу в борьбе против несправедливости и угнетения в мире сем. «И кто от Бога, — писал Нейлор в 1653 году, — и носит его меч, обращает его острие против всякого греха и злобы, несправедливости и угнетения и устанавливает у ворот правый суд и справедливость, чтобы бедняк мог быть освобожден от того, кто слишком могуществен для него, и чтобы дело сироты, вдовы и странника не могло пропасть; он прислушивается к воплям бедных и беспомощных, у кого мало денег и немного друзей, так, чтобы бедный человек мог не бояться выступать за правое дело, против величайшего угнетения в этой нации».
Можно подумать, что Нейлор читал Уинстэнли. На эту мысль наводит повторение высказанной вождем диггеров мысли, что королевская власть, власть несправедливости и деспотизма, сохранилась и после казни Карла I. Нейлор в 1659 году писал: «Невинный народ божий страдает не просто от натуры короля или епископа, а от господского, угнетательского, жестокого духа». Он вторит Уинстэнли и во многих других своих произведениях. Подобные же мысли встречаются в трактатах другого видного квакерского лидера — Эдварда Бэрроу. «Бедняки стонут повсюду под тяжкой рукой бесправия, — пишет он. — Нуждающиеся попираются ногами и угнетенные взывают об избавлении».
Это не значит, что квакеры во всем придерживались тех же убеждений, что и Уинстэнли. Они не так сокрушительно, как он, критиковали существующие порядки. Они не были сторонниками полного обобществления имуществ, совместного труда, коренного переустройства всей общественной организации. Они не пытались создать на пустующих землях коммуны. Основу мирового зла они видели не в существовании частной собственности, а в греховности людей, не желающих слушаться «слова божия внутри себя». И тем не менее они предлагали ряд радикальных мер борьбы с социальной несправедливостью, с пережитками феодального строя. Они требовали отмены штрафов и феодальных платежей лордам, предлагали использовать церковные земли, дворцы и поступления от десятины для обеспечения бедняков.
Их деятельность была проникнута духом взаимопомощи. Они делились друг с другом имуществом, едой и питьем. Фокс постоянно помогал бедным деньгами и предметами первой необходимости. Его заступничество за бедняков и стремление помочь им были безграничны. Стоит ли удивляться тому, что Джон Лилберн с его жаждой справедливости, честностью, заботой о правах народа присоединяется к движению квакеров? В 1656 году, незадолго до смерти, он пишет свой последний памфлет: «Воскресение Джона Лилберна, ныне узника в Дуврском замке»; там он рассказывает о своем «обретении света» — обращении в квакерство.
Движение квакеров, как раньше движения левеллеров и диггеров, вызывало страх и ненависть у господствующих классов. В изображении противников они выступают как «ниспровергатели», «сеятели мятежа», желающие «перевернуть мир вверх тормашками», «ядовитые» и «вредные типы», стремящиеся «вырвать с корнем и низвергнуть всякую власть». Один из изощрявшихся обвинителей уверял даже, что квакеры — «самые худшие подданные в мире, вынуждаемые самими своими принципами к тому, чтобы быть плохими подданными». И это несмотря на то, что «друзья», как и диггеры, постоянно заявляли о своем миролюбии и невмешательстве в дела «мира сего», отказывались носить оружие, сопротивляться избиениям и участвовать в вооруженной борьбе.
Власть имущие ненавидели квакеров за их свободолюбие, за смелые выступления против церкви, за радикальные политические взгляды. Главным авторитетом для «детей света» были не земные власти, а сам Христос, засиявший внутри; а это значит, что они в принципе отрицали и земные власти, и земные установления, в том числе и священное право частной собственности. Возмущали благонамеренных граждан и формы поведения квакеров, дерзкое выражение их протеста.
Ярость властей вызывал отказ квакеров от всяческих клятв и присяг, чрезвычайно распространенных в то время. Ни одна судебная процедура не обходилась без присяги на Библии. Но квакеры, памятуя известный евангельский призыв «не клянись вовсе», решительно не желали давать присяги по какому бы то ни было поводу. Очень многие попадали за это в тюрьму; на судебных разбирательствах велись бесконечные прения о том, следует ли класть руки на священную книгу; квакеры издавали специальные трактаты, где доказывали свою правоту. Они не посещали богослужений и собирались в частных домах, что давало повод подозревать их в заговорах и подготовке мятежей; они часто проповедовали на улицах и базарных площадях; не платили налогов; подобно диггерам, работали по воскресным дням.
Против квакеров принимались суровые репрессивные меры. Они особенно усилились начиная с 1655 года, после того как Кромвель ввел в Англии военно-полицейский режим майор-генералов. Англия была разделена на одиннадцать административных округов, во главе каждого был поставлен военный чин, являвшийся полноправным хозяином и владыкой над жителями.
Джеймс Нейлор в 1656 году был схвачен, подвергнут бичеванию, выставлен у позорного столба. На глазах у собравшейся толпы ему проткнули язык каленым железом и выжгли клеймо на лбу, а затем провезли по городу задом наперед на лошади. После этого Нейлор был отправлен в тюрьму, на каторжные работы. Члены парламента и «благонамеренные жители графств» требовали покончить с религиозной терпимостью и принять суровые меры ко всем сектантам и инакомыслящим.
В мае 1657 года Кромвель подписал новую конституцию — «Смиренную петицию в совет». От предложенной ему короны он не без колебаний отказался, но остальные предложения принял. Его титул отныне становился наследственным — он сам мог передать его, кому пожелает. Ему предоставлялось право назначить палату лордов из своих приближенных. Управление Англией приближалось к старому, веками испытанному образцу: единоличный глава, лорды и общины. Имущие классы добились своего: правительственный режим ужесточался.
И сразу же за подписанием новой конституции, в июне 1657 года, последовал указ парламента о возобновлении старого, еще во времена Елизаветы принятого статута о бродяжничестве. Лорды и общины постановляли, что местные мировые судьи и должностные лица могут поступать по своему усмотрению «со всеми праздными, распущенными и непокорными лицами, которых найдут бродягами, покинувшими свое место жительства… и не имеющими… определенных занятий». То есть местные власти получали возможность по произволу сажать квакеров в тюрьму и подвергать жестоким экзекуциям.
В том же июне 1657 года парламент принял «Акт о лучшем соблюдении дня господня», то есть воскресенья. Он устанавливал наказание в виде штрафа в пять фунтов стерлингов или полугода каторжных работ за нарушение богослужения в храме. Квакеров теперь могли законно преследовать за непосещение церкви, работу или передвижение с места на место в воскресный день. Преследования «друзей», получив законодательное подкрепление, усилились.
о и в тяжелых условиях протектората Уинстэнли продолжает искать. От следующего, 1654 года сохранилось два любопытных свидетельства.
Четвертого апреля Государственный совет получил от некоего «мистера Уинстэнли» петицию с просьбой разрешить ему ввозить хлопковую пряжу с целью «помочь беднякам Ланкашира». Автор петиции сообщал, что он уже занимался торговлей. Был ли это Джерард? Или один из его ланкаширских родственников? Это неизвестно. Однако желание «помочь беднякам» родного графства напоминает нам о вожде диггеров, душа которого всегда радела об униженных и несчастных. Это позволяет думать, что и после издания «Закона свободы» он напряженно ищет своего пути в мире.
В августе того же года Эдвард Бэрроу, один из вождей квакерского движения, сообщил в письме к Маргарет Фелл, его активной участнице, известной квакерам всей Англии, что в Лондоне он встретил Уинстэнли. И вождь диггеров сказал ему:
— Я верю, что вы, квакеры, посланы, чтобы завершить то дело, которое выпало нам на долю.
«Он был с нами», — заключает Бэрроу. Он не забыл, не отказался от своего дела, он все еще верил в возможность его осуществления — на этот раз усилиями квакеров.
То, что Уинстэнли в пятидесятые годы потянулся к квакерам, неудивительно. После разгрома левых сил революции — левеллеров и диггеров, после падения Малого парламента квакеры одни сохранили в себе способность выразить чаяния угнетенных и в той или иной форме продолжить борьбу.
«Квакерами», что значит «дрожащими», их в насмешку называли противники. Сами же они именовали себя «детьми света», «друзьями в истине» или просто «друзьями». Они появились в конце 40-х годов. Один из их предводителей, сын ткача и ученик сапожника Джордж Фокс в 1647 году, в возрасте 24 лет пережил внутреннее озарение, подобное тому, которое испытал двумя годами позже и Уинстэнли. В результате Фокс утвердился в мысли, что бог обитает не в небесах за облаками и не в рукотворных храмах, а в душе каждого человека и проявляет себя как внутренний свет добра и любви ко всему живому. Те, кто почувствуют в себе этот свет, освободятся от власти первородного греха и проклятия, обретут мир и чистую совесть.
Испытав это духовное потрясение, Фокс бросил свои занятия и отправился проповедовать по селам и городкам северной Англии. За ним стали ходить толпы народа,некоторые тоже оставляли дом и привычное дело и присоединялись к его странствованиям. Иногда Фокс находил в городке целую группу людей, взгляды и верования которых до удивления совпадали с его собственными. Это были «сикеры», «уэйтеры», «беменисты», «милленарии» и другие народные секты, которых так много развелось в Англии в годы революции. Они узнавали друг друга и, радуясь, объединялись в новое могучее движение — «друзей внутреннего света». Оно оформилось в начале пятидесятых годов. Его вдохновителями были Джордж Фокс, Джеймс Нейлор, Ричард Фарнуорс, Эдвард Бэрроу, Ричард Хабберторн.
Проповедь квакеров находила отклик у всех тех, кто ожидал от революции большего, чем она дала народу. Это были прежде всего бедные крестьяне, арендаторы, наемные работники, ремесленники, иногда мелкие лавочники и торговцы, кое-кто из джентри, представители интеллигенции. К ним присоединились и многие левеллеры, в частности, армейцы. Квакеры составили самое успешное и самое радикальное из народных течений революции.
Их идеи во многом испытали влияние силезского мистика Якоба Беме, сочинения которого были переведены на английский язык и распространились в Англии в сороковых и пятидесятых годах. В учении Беме главное внимание уделялось внутреннему миру человека, его индивидуальному общению с богом, который обитает в душе каждого. Общение с богом «в духе» Беме ставил выше авторитета Священного писания. Оно освобождало человека от всякой подчиненности земным властям и авторитетам — как государственным, так и церковным.
Произведения Беме были очень популярны среди английских квакеров. Они уверяли, что бог находится внутри человека и милостив к каждому. Откровение, которое пережил Фокс, и явилось открытием этой бесконечной любви творца к человеку. «Господь открыв мне, — рассказывал Фокс, — что сущность тех вещей, которые пагубны во внешнем мире, находится внутри, в сердцах и душах злых людей. Я увидел также, что существует океан тьмы и смерти, но бесконечный океан света и любви затопляет океан тьмы. В этом также я увидел бесконечную божью любовь».
Мысль эта шла вразрез с господствующей кальвинистской догмой. Для протестантов-кальвинистов, подобных Кромвелю, бог был страшным и непознаваемым карающим владыкой, который определил большинство людей к вечному проклятию и огненной геенне, и лишь немногих приблизил к себе, независимо от их заслуг и стараний. Если такой бог и рождал откровения, то они были полны мистического ужаса, они заставляли Кромвеля ночами кричать и вскакивать с постели. Мироощущение квакеров противопоставляло темным образам гнева, огня, страдания, проклятья образы света и любви. Бог для них был бесконечным океаном любви и жизни, который неизмеримо обширнее и могущественнее моря человеческого греха, ничтожества и отчаяния. Бог, писал один из квакеров, это «море жизни, море любви, море непорочности и справедливости, море всемогущества и мудрости».
Для беднейших слоев населения особенно привлекательной была широта и человечность квакерских взглядов. Бог не желает гибели людям, говорили «друзья», он хочет спасти всех. Внутренний свет Христа — свет любви, истины и справедливости — может открыться каждому, и не только христианину, но и язычнику, иудею, турку, китайцу. При этом божественный свет носит мистический характер и в корне отличается от естественного разума — способности человека логически мыслить и постигать науки. Свет божественный подобен солнцу, земной разум — луне; свет ведет человека в делах духовных, разум — в земных. И, как луна светит от солнца, разум берет свою силу от духовного света.
Новое рождение человека происходит не от книжного знания, не от чтения Писания, изучения священной истории и догматов христианского вероучения, а от внутренней работы, которую совершает свет в душе человека. Сам Христос может проснуться в душе каждого, стоит только открыть его свету свое сердце. Не история, происшедшая с земным человеком 1650 лет назад в Иерусалиме, имела для квакеров главное значение, а внутренний импульс добра и правды, который они называли Христом.
Не о том же ли писал и Уинстэнли в своих ранних трактатах?
И квакеры, будто прочтя их, уверяли: все люди равны перед богом, каждый способен понять и принять внутренний свет Христа, каждый волен полностью освободиться от греха и уподобиться «Адаму до грехопадения». При этом из религиозных своих верований они делали весьма радикальные социальные выводы.
Раз все равны перед богом, значит, равны и друг перед другом. Отсюда шло отрицание титулов, званий, сословий. Квакеры ко всем обращались на «ты» и по имени, отказывались кланяться, снимать шляпы перед власть имущими и лордами. Бог полон любви ко всем — значит, каждое выступление против человека, любое ущемление достоинства, свободы и прав личности трактовалось как грех против бога. Христос, говорили квакеры, пришел не разрушить человеческие жизни, но спасти их, и потому те, кто, будучи представителем власти, судьей или священнослужителем, угрожают жизни человека, тем самым «ниспровергают дело господне» и «недостойны называться ни властями, ни учителями».
Квакеры, как и многие их современники, были хилиастами: они ожидали скорого второго пришествия Христа на землю и установления тысячелетнего царства добра и справедливости. Но их ожидание не было пассивным. Наоборот, они призывали переделать существующий мир и людей соответственно «духу Христа», дабы воля бога стала волей человека и общество здесь, на земле, могло уподобиться царствию небесному. Они горели желанием добиться справедливости, победить общественные зло и неправду. «Наша религия, — писал Фокс, — заставляет посещать бедняков, и сирот, и вдов, и удерживает от опасностей этого мира». Мы отрицаем религию тех людей, которые заботятся о своем телесном благополучии, в то время как «вдовы и сироты бродят, прося подаяния, по улицам и провинциям».
Опираясь на известное апостольское указание, что вера без дел мертва, «друзья» делали упор на необходимость поступать в этом мире по совести, помогать ближнему, заботиться о слабых, угнетенных, то есть «делать добро», а не «говорить о добре». Не то же ли подчеркивал и Уинстэнли?
И, подобно Уинстэнли, квакеры выступали против разнузданного поведения рантеров, против утверждения их, что между злом и добром нет различий, что «в боге дозволено все» и греха как такового не существует.
Что же касается государственной церкви, то не было, кажется у нее более стойкого и сознательного противника, чем «друзья внутреннего света». Они были уверены, что с апостольских времен христианская церковь претерпела множество необратимых изменений; она извратила свою духовную сущность и пошла по ложному пути, стала «суетной, мирской, честолюбивой, алчной, жестокой». Бог обитает не в храме, а в душе людской. Значит, и сам «дом с колокольней», и специально назначенные служители, и все эти крещения, причащения, отпевания, церемонии бракосочетания, иконы, облачения, алтари — не нужны. Более того, они вредны, так как обманывают народ и вытягивают из него деньги.
«О, сколь огромные суммы денег, — писал Фокс, — доставляет их торговля Священным писанием и их проповеди, от высочайшего епископа до ничтожного пастора! Какая другая торговля в мире может сравниться с нею!»
Бывали случаи, когда группы квакеров, явившись в церковь, кричали проповеднику, вещавшему с кафедры: «Сойди вниз, лжепророк, обманщик, слепой поводырь слепых, наемник!» Благонамеренные прихожане в ответ бросались на квакеров с кулаками, их изгоняли из храма, побивали камнями, тащили в тюрьму, отдавали под суд.
Не то же ли самое возмущение «лживыми и продажными проповедниками» высказывал в своих трактатах и Уинстэнли? В «Истине, поднимающей голову над скандалами», он говорит почти теми же словами, что и Джордж Фокс.
Практическим выводом из антицерковных взглядов квакеров стал их отказ платить церковную десятину. Фокс, Бэрроу и другие квакеры требовали решительной отмены этого «великого бедствия» для многих тысяч английских бедняков. Десятина была не только самым тяжелым из английских налогов. Она не только глубоко оскорбляла чувства всех нонконформистов, так как заставляла их содержать на свои деньги тех, кого они считали заведомыми лжецами и негодяями. Она особенно возмущала тем, что правом на ее сбор и присвоение обладали со времен Генриха VIII многочисленные светские собственники, частью сторонники короля, частью джентри и знать, а частью члены столь дискредитировавшего себя «охвостья» Долгого парламента. Между прочим, одним из таких «светских собственников» десятины был и сам Оливер Кромвель. Отказываясь платить десятину, «друзья» тем самым посягали на святая святых — на право частной собственности.
Они предлагали создать из поступлений от десятины общественный фонд и предназначить его на помощь нуждающимся. «Десятины этой нации, — писали Фокс и Бэрроу, — дали бы и чужестранцам, и сиротам, и вдовам, и пастырям вполне достаточно, и если бы создать общественные склады, чтобы содержать там эти поступления, в стране не было бы нищих». Проповедники же слова божия не должны требовать себе содержания: «Пусть они идут сначала сеять, и пахать, и молотить, и пасти стада и лишь тогда пусть пожинают плоды и едят, ибо таков завет апостолов».
Не об этом ли писал и Уинстэнли? Не он ли мечтал об общественных складах, из которых каждый труженик может взять все, что ему нужно?
Квакеры после 1653 года действительно выступили как продолжатели радикальных движений сороковых годов; они стали совестью «Доброго старого дела». В политической области они требовали реформы законодательства, отмены смертной казни, демократических свобод слова, совести, собраний и передвижений по стране. «Пусть все законы будут собраны в одном кратком томе, — писали они, — чтобы все могли знать их и чтобы все в них было понятно и просто… и пусть все заключенные, которые находятся в тюрьмах или исправительных домах четыре или пять лет, предстанут на суде перед их обвинителями и увидят, кто их обвиняет». «Пусть никто не будет приговорен к смерти за кражу скота или денег или подобные вещи, как приговорены многие; но пусть они останутся жить и возвратят четырехкратную стоимость похищенного или будут проданы за их воровство и трудятся своими руками, что есть благо согласно доктрине апостолов и указанию божьему».
Здесь квакеры являли себя наследниками политических левеллеров. Они считали казнь короля справедливым судом божьим, одобряли «Прайдову чистку» и установление республики. Верховным главой и авторитетом в государстве они признавали Иисуса Христа, что потенциально могло обернуться гражданским неповиновением любому правительству.
Они выдвигали и смелую социальную программу: решительно выступали против богатства и бедности, против всякого угнетения и неравенства. «Горе тем, — взывает Фокс, — кто алчно присоединяет дом к дому и так приближает поле к полю, что бедняк остается без всякой земли… Горе тому, кто алчно тащит к себе в дом неправдой добытые товары!..»
Как и Уинстэнли, квакеры решительно осуждали корыстолюбие, подчеркивали его несовместимость с принципами христианства. «Если ты исповедуешь Христа, — писал Фокс, — и следуешь алчности, жадности и земным устремлениям, ты отрицаешь его в своей жизни и обманываешь себя самого и других». Но и Уинстэнли считал главным моментом в грехопадении человека, по сути самим грехопадением, проявление алчности и себялюбия.
Квакеры видели свою задачу в борьбе против несправедливости и угнетения в мире сем. «И кто от Бога, — писал Нейлор в 1653 году, — и носит его меч, обращает его острие против всякого греха и злобы, несправедливости и угнетения и устанавливает у ворот правый суд и справедливость, чтобы бедняк мог быть освобожден от того, кто слишком могуществен для него, и чтобы дело сироты, вдовы и странника не могло пропасть; он прислушивается к воплям бедных и беспомощных, у кого мало денег и немного друзей, так, чтобы бедный человек мог не бояться выступать за правое дело, против величайшего угнетения в этой нации».
Можно подумать, что Нейлор читал Уинстэнли. На эту мысль наводит повторение высказанной вождем диггеров мысли, что королевская власть, власть несправедливости и деспотизма, сохранилась и после казни Карла I. Нейлор в 1659 году писал: «Невинный народ божий страдает не просто от натуры короля или епископа, а от господского, угнетательского, жестокого духа». Он вторит Уинстэнли и во многих других своих произведениях. Подобные же мысли встречаются в трактатах другого видного квакерского лидера — Эдварда Бэрроу. «Бедняки стонут повсюду под тяжкой рукой бесправия, — пишет он. — Нуждающиеся попираются ногами и угнетенные взывают об избавлении».
Это не значит, что квакеры во всем придерживались тех же убеждений, что и Уинстэнли. Они не так сокрушительно, как он, критиковали существующие порядки. Они не были сторонниками полного обобществления имуществ, совместного труда, коренного переустройства всей общественной организации. Они не пытались создать на пустующих землях коммуны. Основу мирового зла они видели не в существовании частной собственности, а в греховности людей, не желающих слушаться «слова божия внутри себя». И тем не менее они предлагали ряд радикальных мер борьбы с социальной несправедливостью, с пережитками феодального строя. Они требовали отмены штрафов и феодальных платежей лордам, предлагали использовать церковные земли, дворцы и поступления от десятины для обеспечения бедняков.
Их деятельность была проникнута духом взаимопомощи. Они делились друг с другом имуществом, едой и питьем. Фокс постоянно помогал бедным деньгами и предметами первой необходимости. Его заступничество за бедняков и стремление помочь им были безграничны. Стоит ли удивляться тому, что Джон Лилберн с его жаждой справедливости, честностью, заботой о правах народа присоединяется к движению квакеров? В 1656 году, незадолго до смерти, он пишет свой последний памфлет: «Воскресение Джона Лилберна, ныне узника в Дуврском замке»; там он рассказывает о своем «обретении света» — обращении в квакерство.
Движение квакеров, как раньше движения левеллеров и диггеров, вызывало страх и ненависть у господствующих классов. В изображении противников они выступают как «ниспровергатели», «сеятели мятежа», желающие «перевернуть мир вверх тормашками», «ядовитые» и «вредные типы», стремящиеся «вырвать с корнем и низвергнуть всякую власть». Один из изощрявшихся обвинителей уверял даже, что квакеры — «самые худшие подданные в мире, вынуждаемые самими своими принципами к тому, чтобы быть плохими подданными». И это несмотря на то, что «друзья», как и диггеры, постоянно заявляли о своем миролюбии и невмешательстве в дела «мира сего», отказывались носить оружие, сопротивляться избиениям и участвовать в вооруженной борьбе.
Власть имущие ненавидели квакеров за их свободолюбие, за смелые выступления против церкви, за радикальные политические взгляды. Главным авторитетом для «детей света» были не земные власти, а сам Христос, засиявший внутри; а это значит, что они в принципе отрицали и земные власти, и земные установления, в том числе и священное право частной собственности. Возмущали благонамеренных граждан и формы поведения квакеров, дерзкое выражение их протеста.
Ярость властей вызывал отказ квакеров от всяческих клятв и присяг, чрезвычайно распространенных в то время. Ни одна судебная процедура не обходилась без присяги на Библии. Но квакеры, памятуя известный евангельский призыв «не клянись вовсе», решительно не желали давать присяги по какому бы то ни было поводу. Очень многие попадали за это в тюрьму; на судебных разбирательствах велись бесконечные прения о том, следует ли класть руки на священную книгу; квакеры издавали специальные трактаты, где доказывали свою правоту. Они не посещали богослужений и собирались в частных домах, что давало повод подозревать их в заговорах и подготовке мятежей; они часто проповедовали на улицах и базарных площадях; не платили налогов; подобно диггерам, работали по воскресным дням.
Против квакеров принимались суровые репрессивные меры. Они особенно усилились начиная с 1655 года, после того как Кромвель ввел в Англии военно-полицейский режим майор-генералов. Англия была разделена на одиннадцать административных округов, во главе каждого был поставлен военный чин, являвшийся полноправным хозяином и владыкой над жителями.
Джеймс Нейлор в 1656 году был схвачен, подвергнут бичеванию, выставлен у позорного столба. На глазах у собравшейся толпы ему проткнули язык каленым железом и выжгли клеймо на лбу, а затем провезли по городу задом наперед на лошади. После этого Нейлор был отправлен в тюрьму, на каторжные работы. Члены парламента и «благонамеренные жители графств» требовали покончить с религиозной терпимостью и принять суровые меры ко всем сектантам и инакомыслящим.
В мае 1657 года Кромвель подписал новую конституцию — «Смиренную петицию в совет». От предложенной ему короны он не без колебаний отказался, но остальные предложения принял. Его титул отныне становился наследственным — он сам мог передать его, кому пожелает. Ему предоставлялось право назначить палату лордов из своих приближенных. Управление Англией приближалось к старому, веками испытанному образцу: единоличный глава, лорды и общины. Имущие классы добились своего: правительственный режим ужесточался.
И сразу же за подписанием новой конституции, в июне 1657 года, последовал указ парламента о возобновлении старого, еще во времена Елизаветы принятого статута о бродяжничестве. Лорды и общины постановляли, что местные мировые судьи и должностные лица могут поступать по своему усмотрению «со всеми праздными, распущенными и непокорными лицами, которых найдут бродягами, покинувшими свое место жительства… и не имеющими… определенных занятий». То есть местные власти получали возможность по произволу сажать квакеров в тюрьму и подвергать жестоким экзекуциям.
В том же июне 1657 года парламент принял «Акт о лучшем соблюдении дня господня», то есть воскресенья. Он устанавливал наказание в виде штрафа в пять фунтов стерлингов или полугода каторжных работ за нарушение богослужения в храме. Квакеров теперь могли законно преследовать за непосещение церкви, работу или передвижение с места на место в воскресный день. Преследования «друзей», получив законодательное подкрепление, усилились.
ПОВОРОТ
 реследования усилились, но вряд ли это могло каким-то образом испугать или обескуражить Уинстэнли. Он терпел в свое время куда более жестокие гонения. И тем не менее оставался верным своим идеям, вновь и вновь возрождал колонию, засевал вытоптанную скудную землю, отстраивал хижины, писал жалобы и петиции… Возможно, он, несмотря на враждебность властей, часто бывал в эти годы вместе е квакерами и участвовал в их делах. Их взгляды были близки ему, их активность и несгибаемая стойкость привлекали. И, быть может, вскоре он стал бы активным членом «общества друзей», если бы в судьбе его вдруг не произошел значительный и, видимо, неожиданный поворот.
Сузан Уинстэнли, его жена, о которой он не сказал ни слова ни в одном из своих сочинений на протяжении многих лет, вдруг снова вошла в его жизнь.
Можно предположить, что она с ведома и согласия (а может быть, и поддавшись уговорам) своего отца Уильяма Кинга решила вновь соединить свою судьбу с мужем. Как бы то ни было, в 1657 году Уильям Кинг передает свою небольшую земельную собственность — манор Хэм в приходе Кобэм в Серри — Джерарду и Сузан Уинстэнли. Они должны были пользоваться этой землей, а всю прибыль от нее отдавать Кингу и его жене. После смерти Кингов земля эта должна была полностью перейти во владение четы Уинстэнли и их потомства, буде оно появится на свет. Так значилось в завещании Кинга.
Это было значительной переменой в судьбе Уинстэнли. Из полунищего-полубродяги, некогда пасшего чужих коров поблизости от того же Кобэма, он превращался в хозяина небольшого манора, почти землевладельца. Правда, доход с земли шел не ему, а тестю — но только до поры до времени. Теперь Уинстэнли мог жить в господском доме, возделывать по закону доставшуюся ему землю, иметь пусть скромное, но свое хозяйство.
И резко меняется отношение к нему местного общества — землевладельцев, купцов, хозяев, чиновников. Те, кто раньше избивал его и его диггеров, тащил в суд, всячески вредил ему, не продавал хлеба, писал доносы, травил посевы, — теперь признают Уинстэнли за «своего». Он теперь для них «джентльмен», такой же, как и они, законный хозяин. Его назначают смотрителем дорог, наблюдателем, и даже церковным старостой кобэмского прихода. Он, видимо, рад послужить обществу. Эти мелкие должности поддерживают в нем уважение к себе и сознание своей полезности обществу. Он старается служить хорошо, быть справедливым и, конечно же, помогать беднякам — своим друзьям, кого он знал и любил.
Он жил на земле, работал собственными руками, выращивал хлеб и скот и мог бы быть совсем доволен своим положением, если бы все это не было только «для себя». Заветная мечта — вместе трудиться на общей, никому не принадлежащей земле, так и осталась мечтою. Но что поделаешь?
Он жил в том обществе, в котором суждено было жить; неравенство, угнетение, богатство и процветание одних в ущерб другим, влачившим полуголодное существование, несправедливость — все это продолжалось. Он не мог изменить законов сего мира, хотя в свое время сделал для этого все. Оставалось жить согласно данным законам, не позволяя им, однако, поработить дух и волю. И на том месте, куда поставила судьба, стараться жить так, как велит совесть.
Он в который раз начал новую жизнь — а начало всегда связано с некоторыми иллюзиями. Возможно, такой способ служения обществу какое-то время приносил ему удовлетворение, пока и эти иллюзии не были сожжены огнем реальной жизни.
По всей вероятности, он более всего был активен в 1659 году, когда для таких, как он, снова на краткий миг забрезжила впереди надежда.
реследования усилились, но вряд ли это могло каким-то образом испугать или обескуражить Уинстэнли. Он терпел в свое время куда более жестокие гонения. И тем не менее оставался верным своим идеям, вновь и вновь возрождал колонию, засевал вытоптанную скудную землю, отстраивал хижины, писал жалобы и петиции… Возможно, он, несмотря на враждебность властей, часто бывал в эти годы вместе е квакерами и участвовал в их делах. Их взгляды были близки ему, их активность и несгибаемая стойкость привлекали. И, быть может, вскоре он стал бы активным членом «общества друзей», если бы в судьбе его вдруг не произошел значительный и, видимо, неожиданный поворот.
Сузан Уинстэнли, его жена, о которой он не сказал ни слова ни в одном из своих сочинений на протяжении многих лет, вдруг снова вошла в его жизнь.
Можно предположить, что она с ведома и согласия (а может быть, и поддавшись уговорам) своего отца Уильяма Кинга решила вновь соединить свою судьбу с мужем. Как бы то ни было, в 1657 году Уильям Кинг передает свою небольшую земельную собственность — манор Хэм в приходе Кобэм в Серри — Джерарду и Сузан Уинстэнли. Они должны были пользоваться этой землей, а всю прибыль от нее отдавать Кингу и его жене. После смерти Кингов земля эта должна была полностью перейти во владение четы Уинстэнли и их потомства, буде оно появится на свет. Так значилось в завещании Кинга.
Это было значительной переменой в судьбе Уинстэнли. Из полунищего-полубродяги, некогда пасшего чужих коров поблизости от того же Кобэма, он превращался в хозяина небольшого манора, почти землевладельца. Правда, доход с земли шел не ему, а тестю — но только до поры до времени. Теперь Уинстэнли мог жить в господском доме, возделывать по закону доставшуюся ему землю, иметь пусть скромное, но свое хозяйство.
И резко меняется отношение к нему местного общества — землевладельцев, купцов, хозяев, чиновников. Те, кто раньше избивал его и его диггеров, тащил в суд, всячески вредил ему, не продавал хлеба, писал доносы, травил посевы, — теперь признают Уинстэнли за «своего». Он теперь для них «джентльмен», такой же, как и они, законный хозяин. Его назначают смотрителем дорог, наблюдателем, и даже церковным старостой кобэмского прихода. Он, видимо, рад послужить обществу. Эти мелкие должности поддерживают в нем уважение к себе и сознание своей полезности обществу. Он старается служить хорошо, быть справедливым и, конечно же, помогать беднякам — своим друзьям, кого он знал и любил.
Он жил на земле, работал собственными руками, выращивал хлеб и скот и мог бы быть совсем доволен своим положением, если бы все это не было только «для себя». Заветная мечта — вместе трудиться на общей, никому не принадлежащей земле, так и осталась мечтою. Но что поделаешь?
Он жил в том обществе, в котором суждено было жить; неравенство, угнетение, богатство и процветание одних в ущерб другим, влачившим полуголодное существование, несправедливость — все это продолжалось. Он не мог изменить законов сего мира, хотя в свое время сделал для этого все. Оставалось жить согласно данным законам, не позволяя им, однако, поработить дух и волю. И на том месте, куда поставила судьба, стараться жить так, как велит совесть.
Он в который раз начал новую жизнь — а начало всегда связано с некоторыми иллюзиями. Возможно, такой способ служения обществу какое-то время приносил ему удовлетворение, пока и эти иллюзии не были сожжены огнем реальной жизни.
По всей вероятности, он более всего был активен в 1659 году, когда для таких, как он, снова на краткий миг забрезжила впереди надежда.
Летом 1658 года, через год после принятия «Смиренной петиции», Кромвель тяжело заболел. Сказались месяцы, проведенные в седле среди болот Ирландии и суровых шотландских гор, сказалось тяжкое бремя власти и ответственности. Сказались и удары, постигшие его семью: в июне у Кромвеля умер внук, сын любимой дочери Элизабет Клейпол, а в начале августа в возрасте двадцати девяти лет скончалась и сама Элизабет от опухоли в мозгу. В середине августа он слег в лихорадке. Через неделю будто оправился, встал, даже участвовал в заседании Государственного совета. На следующий день выехал на небольшую прогулку и встретил квакера Джорджа Фокса. Они поговорили немного: Фокс и раньше имел доступ к лорду-протектору. И квакеру показалось, что дуновение смерти исходит от этого могучего человека. Он выглядел как мертвец. И точно, на следующий день протектор слег снова, а через две недели, третьего сентября, между тремя и четырьмя часами пополудни стало известно, что Кромвель скончался. В реляциях, разосланных по всем графствам, сообщалось, что сразу же после смерти «собрался совет и вскрыл письмо, скрепленное печатью лорда-протектора, в котором объявлялось, что лорд Ричард должен наследовать ему как протектор». Письма, правда, никакого найдено не было, и дело о назначении Ричарда, старшего из оставшихся в живых сына Оливера Кромвеля, скрыто под покровом тайны. Некоторые свидетели уверяли, что протектор в последние дни жизни своей был так плох, что никого не мог определенно назначить своим преемником. А письмо, написанное им для этой цели несколько месяцев назад, бесследно исчезло. Но как бы то ни было, утром четвертого сентября лорд Ричард под звуки труб был провозглашен «полноправным протектором республики Англии, Шотландии и Ирландии, владений и территорий, ей принадлежащих». Вечером на Тауэр-хилле над Темзой загремели пушки, салютуя новому властелину. Тридцатидвухлетний Ричард Кромвель — человек мягкий, сдержанный, приятный в обращении. У сильных отцов бывают такие сыновья: уступчивые, скрытные, безвольные. Ни умом, ни честолюбием, ни характером он не отличался. Интереса к политике или наукам не выказывал. Больше всего любил охоту. И этот сельский джентльмен явился самым подходящим кандидатом в протекторы для стремящихся к власти клик: верхушки офицеров, республиканцев, бывших членов «охвостья», новых кромвелевских лордов. Не умея противостоять борьбе этих клик, не чувствуя склонности к управлению государством, Ричард всего лишь через восемь месяцев после своего назначения под давлением ведущих офицеров армии распустил парламент и отрекся от власти. И тут Англия забурлила. Поднялось движение за проведение тех реформ, которых не удалось добиться в сороковые годы. Многочисленные петиции идут в совет офицеров. Опять печатаются сотни памфлетов с предложениями «наилучшего устройства Англии». В разных слоях общества разрастается движение за созыв некогда революционного индепендентского Долгого парламента. Младшие офицеры армии, тысячи солдат, сектанты разного толка требуют отменить «Петицию и Совет» и созвать Долгий парламент. Надежды на возможность демократических реформ вспыхивают снова. В ряде полков, как в 1647 году, появляются агитаторы, подняли голову и левеллеры. Но больше всего оживляется деятельность народных сект, самых угнетенных, беднейших слоев населения. Кто требовал созыва Малого парламента, чтобы он продолжил свою радикальную реформистскую деятельность. Кто призывал прекратить огораживания, отменить десятины, цензуру, установить религиозную терпимость. Верные себе квакеры еще в апреле 1659 года подают властям петицию, где предлагают выпустить из тюрем «друзей», томящихся там и терпящих несправедливые гонения, а взамен посадить в тюрьмы их, нижеподписавшихся, дабы они могли разделить участь своих братьев и, пожертвовав собой, освободить тех, кого «жестоко преследуют и избивают». Они уточняли, за что их единомышленников бросили в тюрьму: «за высказывание правды… за неуплату десятин и за совместные митинги с целью общения с Богом, за отказ от клятв, за ношение шляп, за посещение друзей, что навлекло на них обвинение в бродяжничестве, и за прочие подобные вещи». Под петицией стояло 164 подписи. 164 человека предлагали добровольно заключить себя в казематы, дабы освободить ближних. И трактаты Уинстэнли в эти годы снова вызывают интерес. Некто Уильям Лондон в каталоге книг, «самых годных для прочтения», перечисляет «Тайну Бога», «Наступление дня божьего», «Рай для святых», «Новый закон справедливости». А каталог этот отнюдь не являлся исчерпывающим — в него вошли только наиболее читаемые произведения. Под давлением такого действительно массового демократического движения офицерам ничего другого не оставалось делать, как пригласить к власти разогнанное Кромвелем «охвостье» Долгого парламента. Исполнить другое, единственно справедливое и радикальное требование левых сил — созвать «свободный парламент» на основе демократического избирательного права они не могли: это значило для них навсегда лишиться власти и передать кормило правления своим классовым врагам. И вот седьмого мая 1659 года сорок два члена палаты общин Долгого парламента, предводительствуемые спикером Джоном Ленталлом, торжественно проследовали в Вестминстер и заняли свои места. Началось бурное время Второй английской республики — время высоких взлетов надежд и тяжких разочарований, время смут, переворотов, мятежей и борьбы. Снова повеяло ветром. Казалось, революционные республиканские традиции 1649 года возрождаются. И вновь в парламент сыплются петиции с требованием радикальных реформ: установления краткосрочных часто переизбираемых парламентов, радикального пересмотра законодательства, судебной процедуры, порядка назначения местных органов власти. Авторы этих посланий настаивают на гарантии полной свободы совести, свободы печати и слова, на отмене церковной десятины и других обременительных налогов, в частности акциза. Они решительно возражают против огораживаний и пережитков феодального права в деревне. Они предлагают различные способы дать пропитание беднякам, обеспечить их работой, запретить арест за долги и ревизовать огромные состояния, нажитые различными лицами за годы революции. Некоторые проекты говорят о том, что идеи, высказанные Уинстэнли, продолжают волновать умы. Из Бекингемшира, известного центра демократического левеллерского движения, откуда в декабре 1648 года засиял свет новых идей, пришла «Почтительная репрезентация и петиция». Она содержала предложения демократических реформ и заканчивалась требованием «уничтожить все виды тирании в делах религии и собственности, а также устранить великое бремя десятины и копигольда», то есть феодального крестьянского держания. Из местечка Инфилд Чейз, к северу от Лондона, где в 1650 году краткое время существовала колония диггеров и где не раз возникали мятежи против огораживаний, вышел памфлет некоего Уильяма Ковелла. Он предлагал вернуться «к добрым древним законам и обычаям, что существовали до нормандского ига»; образовать публичный фонд из земель и состояний роялистов, придворных, университетов. Но главное — он почти дословно повторял требование Уинстэнли навечно передать в пользование беднякам все общинные и пустующие земли. Что же касается прав лордов, то «патенты и пожалованья королей лордам маноров необходимо тщательно расследовать, ибо они являются узурпацией прав народа: лорды пустошей известны своей жестокостью по отношению к бедным, в некоторых местах они не разрешают беднякам собрать даже вязанку хвороста». О, как должно бы отозваться это сетование в душе Уинстэнли, слишком хорошо помнившего преследования лорда Плэтта! Ковелл предлагал создать на пустующих землях кооперативные общины на основе добровольного совместного труда бедняков. Потребление в этих коммунах коллективное. Все произведенное в общине хранится на складах. Каждый может бесплатно получить в них все, что ему необходимо; излишки продаются или обмениваются за пределами общины. Внутри ее купля-продажа отсутствует, деньги и другие ценности уничтожены; если же возникает необходимость обмена товарами внутри одной общины или между разными общинами, «пусть кусочек дерна величиною примерно с орех дается в качестве символа и для обмена товаров». И хотя Ковелл наивно полагал, что такие общины могут быть созданы в Англии с соизволения и при помощи неких богатых филантропов, которые добровольно соберут средства от щедрот своих на такую организацию, все же многое в его памфлете говорит о том, что он сознательно или неосознанно продолжал традиции диггеров. Такие кооперативные общины — лишь начало, писал он. Пройдет время, люди убедятся в их целесообразности и «придут в эти общества со своими землями и имуществом, и постепенно вся земля станет раем». Организацию кооперативных товариществ, внутри которых собственность обобществлена, труд и потребление носят коллективный характер, а купля-продажа отсутствует, предлагало сочинение другого сектанта — Питера Корнелиуса. Идеи, высказанные Уинстэнли, продолжали жить в народе и так или иначе проявлять себя. В 1659 году квакеры Эдвард Бэрроу, Эдвард Бил-линдж, Джордж Бишоп, Джордж Фокс и другие ведут серьезные переговоры о сотрудничестве с лидерами «охвостья» и армейскими офицерами. Похоже, что они собираются оказывать решительное влияние на государственную политику. Они пытаются, иногда успешно, вернуться на офицерские посты в армию и флот, в милицию; они становятся мировыми судьями и магистратами. Их речи, их требования снова заставляют вспомнить учение Уинстэнли. Бэрроу обрушивается на «всякое земное господство, и тиранию, и угнетение… посредством которых люди возвеличиваются и становятся господами один над другим, попирая ногами и презирая бедняков». Хотя в этой нации, пишет он, произошли в недавние времена различные перевороты, одни правители были низвергнуты и другие заняли их место, «все же, увы, как это повлияло на сегодняшний день? Какие это принесло права и истинные свободы подданным?.. Какие виды угнетения оказались снятыми с народа? Что нового установлено в правительстве? Увы, ни одно из этих дел не завершено, и мы не видим, чтобы хоть одно из выдвинутых на обсуждение справедливых дел было должным образом выполнено какой бы то ни было из появлявшихся у власти партий». Фокс в программу реформ, предложенную парламенту, включает требование передачи монастырских и церковных земель, а также всех штрафов, причитающихся лордам, в руки бедняков. Ему, как и Уинстэнли, система угнетения представлялась гигантским разветвленным деревом, и, как Уинстэнли, он предлагал обрубить все ветви и корни этого дерева. А на вопрос «как же будут жить бедные, если мы не будем носить произведенные ими кружева, и золото, и серебро, и ленты на нашей одежде?» — он отвечал: «Отдайте им те деньги, которые вы тратите на все эти пышные украшения и бесполезные вещи, чтобы прокормить их, и тогда они смогут жить без того, чтобы создавать предметы суеты… и благодаря этому и вы будете жить, и они также будут жить». В июне квакеры представляют в парламент петицию с требованием отменить церковную десятину. Под петицией стоит 15 тысяч подписей. В июле под петицией с таким же требованием подписываются 7 тысяч квакерских женщин. В августе квакеры активно сражаются в войсках против роялистского восстания Джорджа Буса. Их революционная активность нарастает. И именно это движение заставляет господствующие классы резко повернуть вправо. Официальные церковнослужители обрушивают на квакеров с церковных кафедр поток обвинений: они-де ниспровергают власть и собственность, подрывают устои, не уважают нравственные нормы!.. Паника перед квакерами растет; ходят слухи один нелепее другого: квакеры будут убивать всех священников; они превратят Англию в Мюнстер, где в XVI веке анабаптисты создали мятежную коммуну и обобществят собственность и приведут все в беспорядок. «Друзей» обвиняли в поджогах, колдовстве, предосудительном поведении, инцесте, блудодействах. Мировые судьи, шерифы и другие представители власти распаляли ненавистью толпы жителей, и те разгоняли квакерские митинги, часто жестоко избивали «друзей», бросали в них камни. Страх перед возможным вооружением «квакеров и анабаптистов», перед блоком всех левых сил и новой их попыткой «перевернуть мир вверх тормашками» приводит сначала к военному перевороту. В октябре 1659 года верхушка офицеров разгоняет «охвостье»; у власти встает «комитет безопасности». Он провозглашает религиозную терпимость по отношению ко всем, кроме «квакеров и им подобных, ведущих к разрушению гражданского общества». В январе 1660 года расквартированная на севере армия пресветерианина генерала Монка, предварительно очищенная от сектантов, снимается с места и движется к Лондону. На всем пути «благонамеренные жители» встречают ее как избавительницу. На Монка смотрят как на спасителя от сектантского разгула. В Йоркшире отставной генерал Фэрфакс собирает силы местного ополчения из добровольцев-пресвитериан, сторонников «порядка», и присоединяется к Монку. Видимо, личная диктатура Кромвеля и последовавшие за ней беспорядки склонили бывшего главнокомандующего парламентской армией к мысли о том, что реставрация законного монарха — самый лучший выход из того опасного положения, в котором давно уже находилась Англия. Вскоре после входа армии Монка в Лондон под прикрытием его авторитета в парламент, вновь занявший свои места в Вестминстере, возвращаются изгнанные в 1648 году пресвитериане. Это делает реставрацию монархии неизбежной. Монк еще раз производит чистку армии, освобождаясь от неблагонадежных элементов, и разоружает всех анабаптистов, квакеров и других многочисленных сектантов, обнаруженных в Лондоне. Происходят массовые аресты и заключения в тюрьмы левых сил. 29 мая 1660 года в Лондон, приветствуемый толпой верноподданных, возвращается сын казненного короля — Карл II Стюарт. Круг завершен. Революция окончена. Движение за свободу подавлено окончательно.
Что делает в эти бурные годы Джерард Уинстэнли? Почему он молчит? Почему не принимает участия в волнующих и тревожных событиях? Он живет в Кобэме, хозяйничает на земле тестя. Радеет об общественном благе, занимая должность смотрителя дорог. Верит ли он в возможность преобразований? Пытается ли и дальше защищать свои идеи? Находит ли общий язык с радикалами-квакерами? Или события последних лет погрузили его во мрак неверия, в бескрылую, унылую убежденность в том, что в этой стране ничего уже невозможно исправить, что этот рабский народ не годится для того, чтобы построить честное, разумное, справедливое общество? Пусть бьется и требует молодой друг Бэрроу, пусть добивается Фокс — Уинстэнли уже не хочет, не может участвовать в борьбе… Может быть, было и так. Мы не знаем. Он — мыслитель, и решения созревают у него не сразу. Ему уже 50 лет; возраст располагает к неспешному раздумью, осторожности, основательности. А события чередуются с лихорадочной быстротой, один переворот сменяет другой, попытки действовать пресекаются, за свободой следуют репрессии… Даже если он и замышляет новый труд о справедливой республике — написать и опубликовать его нет возможности: с мая 1660 года в Англии устанавливается такая свирепая цензура, что ни о каком высказывании радикальных идей не приходится и думать. Жизнь снова железной рукой берет за горло.
В МОЛЧАНИИ
 а, жизнь снова брала за горло, и надо было как-то существовать теперь в этих новых тягостных условиях. И опять вставал вопрос: как жить? Как жить в этом мире, не только далеком от идеала, но прямо губительном для всякой надежды, для всякой вольной мысли?
29 мая торжествующий принц Чарлз, ставший королем Карлом II, проезжая среди неистовых в выражении ликования нарядных толп по улицам Лондона, сказал полушутя одному из приближенных:
— Я, видимо, сам виноват, что так долго отсутствовал в этой стране. Все уверяют меня, что всегда желали моего возвращения…
И сразу же, несмотря на изданный парламентом акт об амнистии за все политические преступления, совершенные в период «междуцарствия», начался жестокий террор. 29 человек из тех, кто подписал смертный приговор Карлу I, были за годы реставрации разысканы, схвачены и казнены. Шестеро — в 1660 году, среди них армейский проповедник Хью Питерс и вождь секты «людей Пятой монархии» Томас Гаррисон, который мужественно перенес зверские пытки и не отказался от своих убеждений. Двумя годами позже как «особо опасный преступник» был обезглавлен республиканец Генри Вэн, в прошлом — один из виднейших лидеров индепендентов, член парламента, помощник, а затем противник Кромвеля, близкий к сектантам. Вэн не подписывал смертного приговора королю, более того, выступал против этой «крайней меры»: он, как и Уинстэнли, не признавал революционного насилия. И тем не менее его кипучая энергия в годы республики, неколебимость его убеждений, а главное — тесная связь с народом и преданность идее народоправства привели его на эшафот. 17 мая было решено закрыть все порты Англии, чтобы ни один из 73 «преступников», поименованных в специальном списке не подлежащих амнистии, не мог бежать за пределы страны.
Агенты Государственного совета в Лондоне и графствах пристально следили за настроением народа, вмешиваясь в толпы на улицах, базарных площадях, в лавках и тавернах. Особое внимание они уделяли проповедям и религиозным собраниям. По первому доносу человека, сказавшего «опасные слова» против короля, сажали в тюрьму. Что кромвелевские майор-генералы! Монархический террор был куда страшнее. Мемуарист Уайтлок записывал в дни реставрации: «Где кто-либо был заподозрен в том, что он колеблется (!) или недоволен настоящими намерениями парламента, его тотчас же брали под стражу, и назначенные митинги и восстания усердно раскрывались, и посылались войска, чтобы им воспрепятствовать».
Журналы обеих палат пестрят приказами об арестах подозрительных лиц. Выпускаются специальные акты, имеющие целью задушить всякие проявления свободомыслия или недовольства ходом событий. Всем шерифам, мировым судьям, констэблям и другим должностным лицам предписывается занять свои места и бдительно следить за тем, чтобы «подавлять и предупреждать всякие мятежи, беспорядки, незаконные собрания и преступления против закона и мира в королевстве и все предательские и оскорбительные слова, мнения и слухи против персоны и авторитета его величества».
Солдат и офицеров кромвелевской армии массами увольняют, многих арестовывают. Сектантов также, по сообщению венецианского посла, хватали и заключали в тюрьмы ежедневно. Религиозные собрания нонконформистов грубо разгонялись. Репрессии и казни особенно усилились в 1661 году, после попытки «людей Пятой монархии» провозгласить в Англии «царство Иисуса». Шестого января этого года они подняли в Лондоне восстание, захватили собор святого Павла и отбили атаку правительственных войск. Девятого января они попытались освободить из тюрем своих единомышленников, нс неудачно. Восстание было потоплено в крови, почти все члены секты затем подверглись зверскому истреблению.
В том же году трупы Кромвеля, Айртона и Брэдшоу были извлечены из могил и повешены вверх ногами для всеобщего обозрения в Тайберне, на месте позорных казней для ординарных преступников. Затем головы «цареубийц» были отделены от туловищ и выставлены на шестах у Вестминстерского дворца.
С возвращением короля вновь была установлена жесточайшая цензура на все печатные издания. Для того чтобы выпустить книгу по истории или политике, следовало получить разрешение у государственного секретаря; произведения по богословию, философии и науке — у архиепископа Кентерберийского, епископа Лондонского, вице-канцлеров Оксфордского или Кембриджского университетов. Число печатен, дозволенных правительством, было сокращено до двадцати. В списке издателей, кому запрещено было выпускать книги, стояло имя Джайлса Калверта. Из газет оставили только одну — официальный правительственный листок.
В 1664 году некий печатник был повешен, затем вынут из петли и четвертован за то, что отказался выдать имя автора книги, которая была сочтена мятежной. Сразу же послереставрации запылали костры: жгли памфлеты революционной поры. Еще в июне 1660 года палата общин вынесла решение о сожжении двух самых блистательных публицистических произведений Милтона: «Иконоборец» и «Защита английского народа». Против великого поэта и революционера было возбуждено судебное преследование.
Когда-то, в самом начале гражданской войны, Милтон, защищая свободу печати, писал: «Убить книгу — почти то же, что убить человека. Тот, кто уничтожает книгу, убивает самый разум… Многие люди живут на земле, лишь обременяя ее, но хорошая книга есть живая кровь высокого разума».
27 августа на одной из лондонских площадей запылал костер. Книги Милтона были сожжены рукой палача.
Были закрыты кофейни, где люди собирались поговорить и поспорить. Прекратил свое существование гаррингтоновский Рота-клуб, объединение политических республиканцев…
Многие стали бояться писать и хранить у себя дома рукописи, которые власти могли счесть мятежными. Мемуарист Пипс свой дневник писал шифром. Боялись высказывать мысли в частной переписке — стали известны случаи перлюстрации писем и последующих репрессий. Боялись высказывать мысли вслух — доносчиков развелось предостаточно. Ученые Локк и Ньютон, поэты Батлер и Трэерн оставили значительную часть написанного неопубликованным вплоть до «славной революции» — 1689 года.
И этот крутой поворот, это насильственное уничтожение прежних идеалов, эта сила реакции, которой невозможно стало сопротивляться, рождали цинизм, неверие ни во что, горькую иронию. «С реставрацией короля, — пишет в дневнике Джилберт Бернет, — дух необычайной радости распространился по всей нации и принес с собой избавление от всяких признаков добродетели и благочестия. Все окончилось увеселениями и пьянством, которые переполнили королевство до такой степени, что мораль подверглась сильному разложению. Под предлогом тостов за здоровье короля возникали большие беспорядки и множество всяких нарушений повсюду; и требования религии давали большие преимущества как лицемерам, так и более честным, но не менее вредным энтузиастам и в то же время давали много пищи невежественным насмешникам, которые издевались над истинным благочестием. Те, кто был замешан в прежних делах, думали, что они не смогут избавить себя от осуждения и подозрительности, которые они навлекли на себя… и предпочитали смеяться над религией, рассказывая или сочиняя истории, чтобы изобразить и себя, и свою партию как нечестивую и достойную осмеяния».
И религия теперь уже не представлялась спасительной; идеалы рухнули, над тем, чему прежде поклонялись, теперь издевались. Поистине тяжкое было время.
а, жизнь снова брала за горло, и надо было как-то существовать теперь в этих новых тягостных условиях. И опять вставал вопрос: как жить? Как жить в этом мире, не только далеком от идеала, но прямо губительном для всякой надежды, для всякой вольной мысли?
29 мая торжествующий принц Чарлз, ставший королем Карлом II, проезжая среди неистовых в выражении ликования нарядных толп по улицам Лондона, сказал полушутя одному из приближенных:
— Я, видимо, сам виноват, что так долго отсутствовал в этой стране. Все уверяют меня, что всегда желали моего возвращения…
И сразу же, несмотря на изданный парламентом акт об амнистии за все политические преступления, совершенные в период «междуцарствия», начался жестокий террор. 29 человек из тех, кто подписал смертный приговор Карлу I, были за годы реставрации разысканы, схвачены и казнены. Шестеро — в 1660 году, среди них армейский проповедник Хью Питерс и вождь секты «людей Пятой монархии» Томас Гаррисон, который мужественно перенес зверские пытки и не отказался от своих убеждений. Двумя годами позже как «особо опасный преступник» был обезглавлен республиканец Генри Вэн, в прошлом — один из виднейших лидеров индепендентов, член парламента, помощник, а затем противник Кромвеля, близкий к сектантам. Вэн не подписывал смертного приговора королю, более того, выступал против этой «крайней меры»: он, как и Уинстэнли, не признавал революционного насилия. И тем не менее его кипучая энергия в годы республики, неколебимость его убеждений, а главное — тесная связь с народом и преданность идее народоправства привели его на эшафот. 17 мая было решено закрыть все порты Англии, чтобы ни один из 73 «преступников», поименованных в специальном списке не подлежащих амнистии, не мог бежать за пределы страны.
Агенты Государственного совета в Лондоне и графствах пристально следили за настроением народа, вмешиваясь в толпы на улицах, базарных площадях, в лавках и тавернах. Особое внимание они уделяли проповедям и религиозным собраниям. По первому доносу человека, сказавшего «опасные слова» против короля, сажали в тюрьму. Что кромвелевские майор-генералы! Монархический террор был куда страшнее. Мемуарист Уайтлок записывал в дни реставрации: «Где кто-либо был заподозрен в том, что он колеблется (!) или недоволен настоящими намерениями парламента, его тотчас же брали под стражу, и назначенные митинги и восстания усердно раскрывались, и посылались войска, чтобы им воспрепятствовать».
Журналы обеих палат пестрят приказами об арестах подозрительных лиц. Выпускаются специальные акты, имеющие целью задушить всякие проявления свободомыслия или недовольства ходом событий. Всем шерифам, мировым судьям, констэблям и другим должностным лицам предписывается занять свои места и бдительно следить за тем, чтобы «подавлять и предупреждать всякие мятежи, беспорядки, незаконные собрания и преступления против закона и мира в королевстве и все предательские и оскорбительные слова, мнения и слухи против персоны и авторитета его величества».
Солдат и офицеров кромвелевской армии массами увольняют, многих арестовывают. Сектантов также, по сообщению венецианского посла, хватали и заключали в тюрьмы ежедневно. Религиозные собрания нонконформистов грубо разгонялись. Репрессии и казни особенно усилились в 1661 году, после попытки «людей Пятой монархии» провозгласить в Англии «царство Иисуса». Шестого января этого года они подняли в Лондоне восстание, захватили собор святого Павла и отбили атаку правительственных войск. Девятого января они попытались освободить из тюрем своих единомышленников, нс неудачно. Восстание было потоплено в крови, почти все члены секты затем подверглись зверскому истреблению.
В том же году трупы Кромвеля, Айртона и Брэдшоу были извлечены из могил и повешены вверх ногами для всеобщего обозрения в Тайберне, на месте позорных казней для ординарных преступников. Затем головы «цареубийц» были отделены от туловищ и выставлены на шестах у Вестминстерского дворца.
С возвращением короля вновь была установлена жесточайшая цензура на все печатные издания. Для того чтобы выпустить книгу по истории или политике, следовало получить разрешение у государственного секретаря; произведения по богословию, философии и науке — у архиепископа Кентерберийского, епископа Лондонского, вице-канцлеров Оксфордского или Кембриджского университетов. Число печатен, дозволенных правительством, было сокращено до двадцати. В списке издателей, кому запрещено было выпускать книги, стояло имя Джайлса Калверта. Из газет оставили только одну — официальный правительственный листок.
В 1664 году некий печатник был повешен, затем вынут из петли и четвертован за то, что отказался выдать имя автора книги, которая была сочтена мятежной. Сразу же послереставрации запылали костры: жгли памфлеты революционной поры. Еще в июне 1660 года палата общин вынесла решение о сожжении двух самых блистательных публицистических произведений Милтона: «Иконоборец» и «Защита английского народа». Против великого поэта и революционера было возбуждено судебное преследование.
Когда-то, в самом начале гражданской войны, Милтон, защищая свободу печати, писал: «Убить книгу — почти то же, что убить человека. Тот, кто уничтожает книгу, убивает самый разум… Многие люди живут на земле, лишь обременяя ее, но хорошая книга есть живая кровь высокого разума».
27 августа на одной из лондонских площадей запылал костер. Книги Милтона были сожжены рукой палача.
Были закрыты кофейни, где люди собирались поговорить и поспорить. Прекратил свое существование гаррингтоновский Рота-клуб, объединение политических республиканцев…
Многие стали бояться писать и хранить у себя дома рукописи, которые власти могли счесть мятежными. Мемуарист Пипс свой дневник писал шифром. Боялись высказывать мысли в частной переписке — стали известны случаи перлюстрации писем и последующих репрессий. Боялись высказывать мысли вслух — доносчиков развелось предостаточно. Ученые Локк и Ньютон, поэты Батлер и Трэерн оставили значительную часть написанного неопубликованным вплоть до «славной революции» — 1689 года.
И этот крутой поворот, это насильственное уничтожение прежних идеалов, эта сила реакции, которой невозможно стало сопротивляться, рождали цинизм, неверие ни во что, горькую иронию. «С реставрацией короля, — пишет в дневнике Джилберт Бернет, — дух необычайной радости распространился по всей нации и принес с собой избавление от всяких признаков добродетели и благочестия. Все окончилось увеселениями и пьянством, которые переполнили королевство до такой степени, что мораль подверглась сильному разложению. Под предлогом тостов за здоровье короля возникали большие беспорядки и множество всяких нарушений повсюду; и требования религии давали большие преимущества как лицемерам, так и более честным, но не менее вредным энтузиастам и в то же время давали много пищи невежественным насмешникам, которые издевались над истинным благочестием. Те, кто был замешан в прежних делах, думали, что они не смогут избавить себя от осуждения и подозрительности, которые они навлекли на себя… и предпочитали смеяться над религией, рассказывая или сочиняя истории, чтобы изобразить и себя, и свою партию как нечестивую и достойную осмеяния».
И религия теперь уже не представлялась спасительной; идеалы рухнули, над тем, чему прежде поклонялись, теперь издевались. Поистине тяжкое было время.
Реставрация, конечно, была для Уинстэнли страшным ударом. Республика представлялась ему единственно справедливой формой правления. Здесь он решительно отличался от квакеров, которые склонили головы перед монархическим строем и сразу же обещали королю не сопротивляться и не воевать против него, подчиниться всем его установлениям. Уинстэнли много раз повторял в своих трактатах, что именно казнь короля и уничтожение монархии сделали возможным избавление народа из-под власти лордов, официальной церкви, неправедных законов. Он призывал поддерживать Английскую республику, служить ей, он верил, что она или, позднее, глава ее — Кромвель смогут снять наконец бремя угнетения с беднейших тружеников и дать им право вместе работать на общей земле и питаться плодами рук своих… Теперь все надежды рушились окончательно. А год реставрации принес ему еще и тяжелые жизненные осложнения. Первое касалось его денежных дел. Видимо, сразу же после восстановления монархического строя, ободренные возвращением старых порядков, объявились его враги еще с давних, почти забытых, дореволюционных времен. Тогда, в самом начале сороковых годов, Уинстэнли был торговцем готовым платьем. Дом в Лондоне, лавка, молодая жена… И эта другая, казалось, давно и прочно забытая жизнь вдруг снова возродилась, заявила о себе, потребовала к ответу. У него был компаньон, Ричард Олсворт, — печальной памяти компаньон, сделка с которым разорила Уинстэнли, заставила продать имущество и уехать в Кобэм. Сотого, собственно, и начались его злоключения и поиски. И вот теперь, после реставрации, объявились невесть откуда душеприказчики этого Ричарда Олсворта. Сам Ричард, видимо, находился уже в мире ином, а наследники потребовали от Уинстэнли уплаты крупной суммы по давно прекращенному делу — около 500 фунтов стерлингов. Иск этот явился тяжелым испытанием для человека, начавшего заново устраивать свою жизнь. Уинстэнли теперь сводил концы с концами, это правда; ему не приходилось пасти чужой скот. Но вся собственность семьи вместе взятая не составляла и десятой части требуемой суммы. Да и земля, на которой Уинстэнли жил и хозяйствовал, ему не принадлежала, и доход с нее приходилось отдавать тестю. Откуда взять столько денег? И как появилась эта невероятная сумма? У него в обороте никогда столько не было. За поставку «бумазейных тканей, льняной одежды и подобных товаров» он остался должен Олсворту 114 фунтов, которые возвратил, продав дом и имущество. Он очень хорошо помнил, что расплатился с Олсвортом сполна. Но вот как доказать это… В его многочисленных бедствиях и скитаниях думал ли он о сбережении расписок, документов об уплате, конторских книг? Нет, конечно. Он жил своими мыслями, поисками, потом — делами колонии; он писал трактаты, которые конечно, были для него неизмеримо более важны, чем какие-то долговые бумаги… Он их не сохранил. И теперь поплатился. С него требовали немедленной уплаты огромной суммы. Уинстэнли решается протестовать. Он теперь не бесправный копатель, которого можно без суда тащить в тюрьму и лишать коров, ему не принадлежащих. Он почти что «джентльмен», уважаемый человек, живущий в господском манориальном доме. И, возможно, по совету тестя, Уинстэнли обращается за защитой в самый высокий королевский суд — суд канцлера. Во время революции этот суд пытались отменить как послушное орудие монархии. Левеллеры и представители левых народных сект суд канцлера бойкотировали и настоятельно требовали его ликвидации. Теперь это высшее судилище обладало всей силой полномочий опять. Двадцатого октября 1660 года Уинстэнли подает в суд канцлера прошение. В начале апреля 1641 года, пишет он, будучи гражданином Лондона, он имел торговые отношения с Ричардом Олсвортом, тогда тоже гражданином Лондона, каковые продолжались в течение двух или трех лет. В 1643 году, во время гражданской войны, он, Уинстэнли, оставил торговлю и расплатился со всеми своими кредиторами. В частности, Олсворту он уплатил 434 фунта стерлингов за поставку товаров, а затем еще отдал ему 42 фунта и кусок синего сукна стоимостью в 9 фунтов в возмещение долгового обязательства на 50 фунтов. Он не может доказать этого — его документы не сохранились. Уинстэнли просил суд канцлера потребовать у истцов, чтобы последние представили конторские книги Ричарда Олсворта, где все сделки должны быть зафиксированы. Видимо, истцам сделать это не удалось, и судебное преследование было прекращено. Но в том же году Уинстэнли подстерегала еще одна неприятность. Его бывший знакомец и противник, рантер Лоуренс Кларксон, с которым они столько спорили в начало 1650 года, выпустил теперь покаянный памфлет. Он назывался «Заблудшая овца найдена, или Блудный сын возвратился в дом отца своего, после многих печальных и утомительных странствий по многим религиям». Цинично и бесстыдно Кларксон повествовал о своих похождениях. Он признавался, что считал бога бесконечным ничто и полагал, что нет никакого дьявола и воистину никакого бога, а только природа. В Писании он нашел столько противоречий, что совсем ни во что не верил. «Таверны я называл домом божьим, — вспоминал он, — буфетчиков ангелами, а бурдюк — божеством…» Далее шли полные хвастовства и самолюбования пространные описания скитаний и речей, многочисленных связей с женщинами, успеха среди толп народа, пьяных с>ргий, объедения, воровства и обмана, разгула и порока… Как он ходил из графства в графство, проповедуя на папертях и базарных площадях, окруженный бродягами и сомнительного поведения женщинами, и собирал со слушателей деньги за свои проповеди. Как пировал в тавернах на эти деньги и предавался разврату. Как крестил людей, погружая их в ручьи и речки, и как обманывал солдат и судей, привлекавших его к ответу. Как затем увлекся «искусством магии», вызывал духов, лечил болезни, зарабатывал колдовством… Трудно сказать, чего здесь было больше — показного самобичевания или желания обнажить самые темные, самые постыдные стороны своей души и жизни, дабы читатели с изумлением и восхищением качали головами. Кто бы еще осмелился так нагло демонстрировать грязную наготу? И было тут еще желание мелко отомстить тому, кто когда-то задел его за живое. Тогда, десять лет назад, Уинстэнли резко и прямо заявил, что решительно не согласен с практикой рантеров и не желает иметь с ними ничего общего. Он заявил во всеуслышание, что царство рантеров — это царство, полагающее всю прелесть и весь смысл жизни во внешних объектах — в наслаждении пищей, питьем, женскими ласками… Это «царство тьмы, полное неразумия, сумасшествия и беспорядка», разрушительно для тела, ибо приносит болезни, бессилие, слабость и гнилость, и пагубно для духа; оно разваливает семьи и губит потомство. Кларксон не забыл вождя бедных копателей и в своем покаянном памфлете припомнил ему выступление против рантеров. Но ответом на принципиальную критику Уинстэнли был мелкий, сомнительного свойства личный выпад. «Тогда основой моих суждений, — писал Кларксон, — было то, что Бог сделал все вещи добрыми и нет ничего злого, кроме того, что человек рассудит как злое; и я полагал, что нет таких вещей, как воровство, обман или ложь, но человек делает их таковыми. Ибо если человек рожден в этот мир без всякой собственности, без моего и твоего, то нет таких понятий, как воровство, обман или ложь, для предотвращения чего Эверард и Джерард Уинстэнли вскапывали общинные земли, чтобы посредством этого все могли жить своим трудом и чтобы не было нужды в обмане, но в единстве друг с другом; они не знали тогда, что это было царство дьявола, и разум был его владыкой, и что разум естественно предпочитает любить себя превыше всех других и собирать себе все богатства и почести, какие только может, и тем самым захватить власть над своими собратьями по творению». Итак, Разум, который Уинстэнли считал высшим добром и справедливостью, богом, совестью внутри человека, для Кларксона, наоборот, — себялюбивая сила, которая заставляет присваивать чужое добро и власть над себе подобными. «Так что я дал понять Джерарду Уинстэнли, что в сердце его взлелеяны себялюбие и тщеславие и с помощью вскапывания он хочет, если возможно, привлечь на свою сторону народ, посредством чего имя его сможет возвеличиться среди бедных обитателей страны, как позднее и подтвердилось постыднейшим его отступлением о холма Святого Георгия и от духа претенциозной всеобщности, чтобы стать в действительности собирателем десятины с собственности; видя это и в других, и по опыту моего собственного сердца я понял: все, что говорили или делали эти люди, было ложью». Так вот оно что! Оказывается, целью всех исканий, усилий и мук Уинстэнли было всего лишь стремление «возвеличить себя среди бедных обитателей страны»! Как склонны мы приписывать другим свои пороки! Болезненно тщеславный Кларксон думал, что и Уинстэнли движим той же страстью. Привыкший к собственной лжи, он подозревал в нечестности других. И, не замечая того, сам разоблачил свое ничтожество и корыстолюбие в заключительной фразе: «И я поэтому сделал вывод, что прекрасно могу обмануть их и жить среди них, процветая и не попадая под плеть закона». Все эти обвинения не могли пройти мимо внимания Уинстэнли. И, конечно, низость Кларксона горечью отозвалась в его душе. Особенно прямой намек на то, что он стал сборщиком десятины. Как мог вождь диггеров, столь резко выступавший против официальной церкви, против назначенных сверху проповедников, живших за счет бедняков, против самого этого налога, тяжким бременем лежавшего на плечах народа, — как мог он, Уинстэнли, стать сборщиком десятины? Он называл этот налог «величайшим грехом угнетения». Не кто иной как дьявол жадности, писал он в «Законе свободы», назначает людей для сбора десятины духовенству. Он симпатизировал квакерам и считал их продолжателями своего дела; а квакеры были самыми решительными противниками десятины и повсеместно отказывались ее платить. И после этого самому собирать этот налог? Быть может, Кларксон имел в виду его службу у леди Дуглас. Но Уинстэнли был у нее всего лишь управляющим, ответственным за обмолот зерна; он выполнял свои обязанности добросовестно, надеясь заработать для себя и своих братьев на жизнь. Возможно, часть доходов его хозяйки и составляли поступления от десятины — но он-то какое к этому имеет отношение? И как можно было назвать «царством дьявола» их светлую общину? Уинстэнли, однако, не ответил на бессовестную клевету Кларксона. Никто теперь не взялся бы опубликовать его защитительный трактат. Да и какой смысл писать? Реставрация задушила всякую надежду.
Проходят еще три года. И умирает Сузан — жена, которая не оставила ни одного упоминания в произведениях мужа, как не оставила ему потомства. Брак оказался бесплодным. И в 1664 году Уильям Кинг изменяет свою волю. Он пишет новое завещание, согласно которому манор Хэм в приходе Кобэм, графство Серри, прежде бывший в пользовании четы Уинстэнли, переходит к его старшей незамужней дочери Саре Кинг. Остальные дети получают по пяти фунтов. Что касается его зятя, то поскольку Сузан умерла и детей у нее так и не появилось, Кинг счел возможным лишить его обещанного наследства. Но за отобранную землю он выплатил ему компенсацию — 50 фунтов стерлингов. С этими деньгами можно было начать самостоятельное дело. И Уинстэнли переселяется в Лондон. Вскоре после смерти Сузан он женился вторично — на Элизабет, дочери Габриеля Стэнли, которая в 1665 году подарила ему сына. Это был, по всей видимости, брак по любви, потому что первенца своего супруги назвали Джерардом, а когда родилась дочь — ей было наречено имя Элизабет. Они повторили дорогие им имена в детях. В пятьдесят шесть лет Уинстэнли стал отцом. Через пять лет после рождения Джерарда появился второй сын — Клемент. Все трое были окрещены в старой кобэмской церкви святого Андрея. Можно думать, что эта новая семья осветила его жизнь тихим счастьем, чего он никогда не испытывал в прошлом. Он живет в Лондоне и занимается торговлей хлебом и фуражом. В год своей женитьбы он становится свидетелем «черной смерти» — чумы, которая охватила Лондон и скосила сотни жизней. В следующем, 1666 году (само число это наводило ужас на суеверных) в столице бушует страшный пожар. Выгорает три четверти домов, множество людей остаются без крова. Пострадала ли семья Уинстэнли от этих бедствий — неизвестно. Может быть, их опять на какое-то время приютил Кобэм. Очевидно другое: бывший вождь диггеров больше не публикует трактатов, не обращается с письмами и проектами к властям. Он живет в молчании и покое.
Три века спустя такая жизнь его на склоне лет породит одну любопытную версию. Ученые-историки двадцатого века, соотечественники Уинстэнли, раскопав в архивах и прочтя старинные документы, с торжеством воскликнут: он пришел к тому, с чего начал! Он был обучен как торговец — и умер торговцем! Значит, все его искания революционных лет, все эти требования общего труда на общей земле, попытки создать и возглавить колонию нищих копателей — это всего лишь заскок неудачника, попытка отомстить тому обществу, в котором он не сумел завоевать свое место! Версия эта под пером ряда западных историков обрела стройность и наполнилась обличительным смыслом. Вождь и идейный вдохновитель диггеров, который защищал принцип общественной собственности на землю и решительно возражал против работы по найму, сам нанимается в услужение к аристократке. Яростный антиклерикал, клеймивший духовенство за паразитизм и вымогательство десятины, становится сборщиком этого налога. Принципиальный враг купли и продажи, считавший торговлю злом и позором для человечества и настаивавший на полной ее отмене, кончает свои дни как торговец. Естественно, что попытка создания коммунистической общины на холме Святого Георгия выглядит на этом фоне как случайный и малозначительный эпизод. Мало того, и общий взгляд на Уинстэнли искажается. В некоторых исторических трудах на Западе он выглядит сторонником компромисса, а его проект справедливой республики объявляется «ограниченным», «половинчатым», не затрагивающим основ эксплуататорского строя и даже «не планировавшим вторжения в права частной собственности». А последние годы жизни Уинстэнли, его возвращение к торговле рассматриваются как ренегатство, отход от прежних принципов. Его карьера, так пишут историки, совершила полный круг. Он пришел к тому, с чего начал. И отверг свои радикальные взгляды как в религии, так и в экономике. Мы видим, что рантер Лоуренс Кларксон имеет ныне своих последователей. И они пытаются доказать, что диггерская коммуна порождение «тщеславия и себялюбия» ее вождя, попытка «возвеличить себя среди бедных обитателей страны». Они пытаются всячески умалить социальную значимость и яркий радикализм учения Уинстэнли. Но не об этом говорит нам все, что писал и делал вождь диггеров. Логика его личности убеждает совсем в обратном. Когда можно было протестовать — он протестовал, не боясь ни штрафов, ни тюрем, ни сурового осуждения церкви. Когда можно было действовать и когда верил он, что действия его принесут плоды, что бедняки совместным трудом одолеют царство алчности и несправедливости, — он действовал, не щадя себя. Когда Кромвель шел к власти и оставалась еще надежда на то, что он, великий победитель, повернет Англию к справедливому правлению, — Уинстэнли убеждал его принять «Закон свободы». Но теперь? Было ясно, что жестокий монархический режим задушит любую попытку к действию.
Это были нелегкие для Англии годы. Реставрация заставила замолчать всех сторонников радикальных преобразований. По-прежнему свирепствовала цензура, усиливались репрессии. Казалось, все вернулось к дореволюционным порядкам. Двор поражал роскошью и распутством, чиновники брали взятки, буржуа правдами и неправдами наживали денежки, епископальное духовенство процветало, с народа драли три шкуры. Тюрьмы были переполнены, казни продолжались. Дух отчаяния и цинизма овладел многими думающими людьми. Поэты иронизировали над идеалами прошлого или уходили в область отвлеченных умозрений. Печатали мало, а если печатали, то обязательно восхваляли короля Карла II и его режим. Так было принято. Но и в эти тяжелые годы существовали люди, которые не сломились и продолжали жить в надежде. Гениальный Милтон, уже слепой, выпущенный из тюрьмы и живший на покое в окружении близких, вновь и вновь осмысливал и пересматривал взлеты и падения, праведность и вину революции, диктуя поэмы «Потерянный рай», «Возвращенный рай» и трагедию «Самсон-борец». Он не примирился с победителями, не осмеивал прежние идеалы. Он пытался оправдать суд провидения и объяснить поражение революции. Богоборец Сатана в «Потерянном рае» восстает против авторитета Творца. Он призывает сбросить тиранию небес и, терпя поражение, все же остается непокоренным. В трагедии «Самсон-борец» (1671) звучит страстный призыв к борьбе. Милтон все еще продолжал надеяться, что поверженный народ сможет снова воспрянуть, дайте только ему собрать свою могучую силу. Он верил, как и Уинстэнли, что рай и ад — это состояния души человеческой. И только в аду нет места надежде. Так не надо позволять аду завладеть душой! Великий поэт оставался великим революционером. «В злые дни, жертва злых языков, в бедности, в гонении и слепоте он сохранил непреклонность души…» — скажет о нем впоследствии Пушкин. И еще были люди, которые не позволяли духу отчаяния и неверия овладеть собою. «Общество друзей внутреннего света» продолжало существовать и после реставрации. Власти и все те, кто приветствовал возвращение короля, относились к ним суровее, чем ко всем другим сектам. Страх имущих классов перед квакерами был настолько велик, что современные историки отчасти объясняют этим страхом сам факт реставрации монархии. На них смотрели как на врагов установившегося режима, как на потенциальных мятежников и смутьянов. Их преследовали, разгоняли, заточали в тюрьмы. В январе 1661 года, после восстания «людей Пятой монархии», квакеров стали выгонять с работ, из домов, из приходов. К марту этого года около пяти тысяч «друзей» были арестованы. В 1662 году против квакеров выпускается специальный указ парламента; в 1664 году — акт о тайных молельнях, где предписывается подвергать квакеров штрафу, тюремному заключению и изгнанию в случае, если они будут застигнуты во время религиозных собраний. Само существование «друзей» было поставлено под угрозу. Они могли разделить участь «людей Пятой монархии». Но движение их оказалось более многочисленным, стойким и монолитным. После Реставрации их главной целью стало выжить, не дать сломить, расточить себя. Для этого квакеры в 1661 году выпускают декларацию мира. Они заявляют: «Мы решительно отвергаем все внешние войны, и ссоры, и битвы с помощью внешнего оружия, для какой бы цели и под какими бы предлогами они ни велись. И свидетельствуем об этом всему миру… Дух Христа, который ведет нас к истине, никогда не подвигнет нас на то, чтобы сражаться и воевать против любого человека с помощью внешнего оружия, ни ради царства Христова, ни ради царств мира сего». Это было их первой декларацией миролюбия. Потом они станут многократно повторять свой настойчивый отказ от всяких видов войны, отвергать службу в армии и на флоте, ношение оружия. Они заявят о своей лояльности правительству Карла и любому другому земному правительству. Казалось бы, они согласились с происшедшей переменой, смиренно подчинились всему. Но и смирение их и подчинение были особого рода. В том же 1661 году Эдвард Бэрроу заявил, что квакеры по велению божьему подчиняются (активно или пассивно) любой власти и во всех случаях, и уточнял: «Это значит, всем справедливым и хорошим приказаниям короля и хорошим законам страны… Но если настоящая власть прикажет нам что-либо, что не согласуется с честностью, справедливостью и чистой совестью по отношению к Богу… мы в таких случаях должны повиноваться только Богу, и отказываться от активного повиновения по соображениям совести, и терпеливо сносить все, что навлечет на нас такое наше неповиновение людям». Высшим авторитетом для себя они признавали только бога и брали обязательство подчиняться властям лишь тогда, когда их веления соответствуют «духу Христа». В противном случае они готовы были пострадать за свою веру и идеалы. С Реставрацией для квакеров начинается долгий, изнурительный период борьбы за сохранение себя в тяжелейших условиях гонений. И здесь они проявили стойкость и самоотверженность. Им запретили собираться, дабы во время молений не произносились «мятежные речи», — они стали проводить свои религиозные митинги в полном молчании. Сидели вместе и не произносили ни слова. И бог, верили они, был в эти минуты с ними. Их бросали в тюрьмы — они слали петиции и смиренно просили выпустить страдающих братьев, а их самих, нижеподписавшихся, посадить взамен. Их подозревали в «заговорах» и «мятежах» они выпускали декларации миролюбия. Бэрроу заверял Карла II, что квакеры будут по-прежнему сопротивляться угнетению и стремиться к реформации, но «не путем внешних войн и борьбы плотским оружием и мечами». В декларации 1661 года объявлялось, что квакеры будут и впредь строго следовать заповеди «не убий». «Мы отвергаем, — добавляли они, — всякие заговоры, восстания и мятежные сборища». Их лишали работы и разоряли штрафами и поборами — они наладили стройную и разветвленную систему взаимопомощи, так, чтобы ни одна вдова, ни один сирота или калека не остались без средств. Очень скоро после Реставрации квакеры создают денежный фонд, из которого помогают нуждающимся. В 70-х годах уже существует система местных, региональных и общенациональных собраний, на которых выясняются нужды «друзей» по всей Англии, собираются денежные взносы, делаются отчеты о положении квакеров в тюрьмах, о преследованиях и т. п. Месячные собрания на местах изыскивают способы, как выделить продукты питания, одежду, домашнюю утварь, лекарства для нуждающихся. «Друзья» одалживают беднякам необходимые суммы денег из общественного фонда. Выдаются вспомоществования и на конкретные нужды — на покупку, например, ткацкого станка или мельницы. Создаются и первые кооперативные товарищества, появляются квакерские магазины. Они пытаются принять посильное участие и в политической жизни. Многие квакеры, спасаясь от преследований, бежали на Американский континент и там становились правителями, судьями, чиновниками. В Англии они не упускали случая выступить за религиозную терпимость и поддерживали либералов-вигов. Некоторые, вроде Уильяма Пенна, даже пытались распространить свое влияние при дворе. Поражение революции и крушение надежд привело их к сознанию, что только упорный, незаметный для стороннего глаза труд поможет им выжить и приблизить новое, более совершенное царство на земле. Труд, взаимопомощь, терпимость, скромная, мирная жизнь и забота о воспитании детей. Своих детей квакеры учили честности, самодисциплине, умеренности, трудолюбию. И вере в то, что внутренний свет доступен каждому; он в конце концов приведет людей к счастью. Квакеры не утратили конечную цель, а лишь отодвинули ее в неопределенное будущее. В этом была их сила.
И удивительно ли, что Джерард Уинстэнли в тяжкие годы Реставрации стал членом «Общества друзей внутреннего света»? Еще в «Законе свободы» он писал: «Бог и Христос дали нам вечный закон — закон любви. Любить друг друга не только единомышленникам, но любить также и врагов своих, то есть тех, кто мыслит иначе, чем вы; и довольствоваться тем, что имеешь пищу и одежду». То же самое говорили квакеры. И Джерард Уинстэнли стал квакером. Среди «друзей» он нашел то, что искал: любовь, взаимопомощь, терпимость, скромность в потребностях. И веру — неколебимую веру в то, что царство справедливости когда-нибудь воссияет роду человеческому. И продолжение борьбы — в новых условиях, в новых формах. Это было не падением, не отказом от прежних идеалов, не ренегатством. Это был единственный способ жить по совести и бороться дальше. Это был единственно возможный тогда путь протеста против строя угнетения и бесправия. Да, он снова стал торговцем. Но продавал он не шелка и бархат, не предметы роскоши. Не землю, ведь именно землю он считал главным источником существования в этом мире, той «общей сокровищницей», которая должна принадлежать всем людям сообща. И потому торговля землей всегда представлялась ему самым страшным преступлением против совести, творца и человечества. От торговал хлебом и кормом для скота — самым необходимым для жизни. Он был квакером — значит, торговал честно. Квакеры с самого начала заявили себя решительными противниками надувательства или обмана в торговле. Квакерские лавки всегда славились добротностью продуктов, умеренностью цен, доброжелательством и честностью продавцов. Нет сомнения в том, что Уинстэнли вел свое дело порядочно; он работал и содержал близких — жену и троих детей. Совесть его могла быть спокойной. Прошло двадцать с лишним лет после его попытки создать коммуну бедняков на холме Святого Георгия. Тогда их было несколько десятков — диггерские списки по Серри включали 72 имени. Квакеры теперь считались тысячами. Диггеры ютились в убогих хижинах, питались кореньями, не имели самого необходимого. Может быть, жизнь человека должна быть все-таки иной — не такой примитивной, не такой нищенской. Квакеры не требовали передела собственности и обобществления имуществ — каждый трудился на том месте, куда его поставила судьба, и активно помогал другим, чем мог. Сама вера у них тоже была иной. Диггеры наивно полагали, что раз господь благословил их, то и на камнях взрастет прекрасный урожай, и тысячи придут к ним разделить их радость. Квакеры же говорили: трудись и веруй. Люби людей и не требуй ничего для себя. Тогда ты будешь счастлив внутри, а внутреннее счастье — главное. Быть может, основы для такого примирения с требованиями мира сего были заложены и в самом мировоззрении Уинстэнли. Он всегда был сторонником непротивления: зло порождает только зло, с насилием нельзя бороться насилием, писал он. И хотя, тяжело пережив поражение диггерской колонии, он какое-то время полагал, что сильная государственная власть, железная рука Кромвеля способны установить в стране справедливость и порядок, — но отвращение к кровопролитию и жестокости оставалось в нем всегда. И суровость Кромвеля к сектантам, и смерть республики, и разгул реакции при Карле II убедили его окончательно в том, что ломать жизнь тысяч людей не следует, рано… Надо жить в этом мире, принимая его законы, но сохраняя честность, трудолюбие и достоинство. Тогда неважно, кто ты — торговец ли, землевладелец, крестьянин… Важно верить в конечное торжество правды. После 1672 года Уинстэнли безвыездно живет в Лондоне. Последний известный факт из его жизни — это участие в судебном иске 23 июня 1675 года. Он, его жена, две сестры и их мужья возбудили дело против неких Фердинандо Горгеса и Джона Холланда об уплате им по контракту от 10 апреля 1666 года 1850 фунтов стерлингов. Истцы заявляли также, что Фердинандо обещал каждой из трех сестер ежегодную ренту в 200 фунтов. Возможно, товары, о которых шла речь в сделке, погибли во время великого лондонского пожара. Огромная сумма иска отнюдь не говорит о процветании семьи. Если бы Уинстэнли выиграл дело, ему, за вычетом судебных издержек, досталось бы в лучшем случае 30 фунтов и столько же жене Элизабет. Но иск не увенчался успехом — Уинстэнли и вправду, видимо, не создан был для бизнеса. Он умер в следующем, 1676 году, 10 сентября, о чем поведали записи лондонского «Общества друзей внутреннего света». Полная страданий, нищеты, борьбы, поисков и деятельности жизнь завершилась спокойно. Но жизнь духа, жизнь его идей продолжалась.
ДО НАШИХ ДНЕЙ
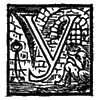 инстэнли оставил миру книжки — дешевые издания на грубой бумаге с неровно обрезанными краями, с опечатками, с прыгающим кое-где шрифтом. И эти книжки не были забыты. Продолжали жить в народе и передаваться из уст в уста его идеи. Они обрастали легендами.
Так, некоторые стали считать Уинстэнли основателем квакерского движения. В 1678 году — в период относительного ослабления цензуры — преподобный Томас Кумбер, декан из Дарема, выпустил памфлет против квакеров. «Что касается их происхождения, — писал он, — его трудно выяснить… Но самые основы и даже главные идеи квакеризма следует искать в некоторых работах Джерарда Уинстэнли, усердного левеллера, где он говорит о наступлении новых времен и избавлении…»
Кумбер пространно цитирует ранние памфлеты Уинстэнли, затем заключает: «То, что это — квакерские принципы, достаточно хорошо известно, может быть, с некоторыми небольшими исправлениями… Теперь, рассмотрев эти идеи и приняв во внимание год, графство («Тайна Бога» посвящена «его возлюбленным братьям из Ланкашира»), печатника Джайлса Калверта и что некоторые левеллеры обратились в квакерство, мы понимаем, что они, квакеры, являются учениками Уинстэнли и ветвью левеллеров. И то, о чем пишет этот человек, — уравнение состояний, захват общинных земель, что никто не должен иметь больше земли, чем может сам возделать и обработать своим трудом, — осуществить невозможно по причине существования столь многих твердых старых законов, которые защищают собственность; и все же это проповедуется квакерами, насколько это им под силу, — называя каждого на «ты», отрицая титулы, гражданское почтение, знаки различий между людьми, — ведь вначале они стояли за общность».
Через два года после смерти Уинстэнли его, таким образом, сочли основателем все еще опасного для власть имущих движения квакеров. Кстати, его печатник, многолетний помощник и, может быть, друг Джайлс Калверт тоже стал квакером. Хотя в 1661 году его лишили права издавать книги, жена его продолжала выпускать в мастерской под черным распростертым орлом квакерские трактаты. Они продолжали бороться с несправедливостью этого мира — как умели.
В 1683 году мысль, что Уинстэнли был основателем квакерского движения, высказал в памфлете «Аргумент в пользу единения» Томас Тенисон.
И в XVIII веке враги квакеров обвиняли их в том, что они являются учениками «левеллера Уинстэнли». Преподобный Томас Беннет в 1711 году, сетуя на умножение «диссентеров», указывал, что начало их восходит к тому времени, «когда Уинстэнли обнародовал принципы квакеризма и впал в энтузиазм».
Те, кто так думали, конечно, ошибались. Правда, в учении Уинстэнли многое напоминает об идеях квакеров. Но он присоединился к «друзьям» только в последние годы жизни, когда движение их уже претерпело существенные изменения. Подлинными основателями квакерства были Фокс, Нейлор, Бэрроу.
Уинстэнли не только обвиняли, его и читали. Трактаты его хранились в библиотеке квакера Бенджамина Ферли (1636–1714), друга (Элджернона Сиднея и Джона Локка. В середине XVIII века радикальный деятель вигской партии Томас Холлис передал для прочтения экземпляр «Закона свободы» писателю Генри Филдингу. В 1790-х годах в далеком Уэльсе, в глуши, в сельском приходе близ городка Суонзи духовные лица читали и обсуждали сочинения вождя диггеров. Французская «История Кромвеля», вышедшая в 1819 году, содержала параграф, посвященный истории копателей.
Идеи Уинстэнли в трансформированном виде нашли отражение в трудах видных социальных мыслителей. В конце XVII века квакером Джоном Беллерсом был опубликован проект создания «производственных содружеств» — кооперативных товариществ для обеспечения бедняков работой и пропитанием. Этот проект соединял в себе черты буржуазного предпринимательства с одной стороны и крестьянско-плебейских утопий эпохи революции — с другой. Читал ли Беллере Уинстэнли — неизвестно, но идеи, близкие тем, которые высказывал автор «Закона свободы», оказали на него несомненное влияние. Среди этих идей — отрицание неправедливостей существующего строя, антиклерикализм, призыв вернуться к традициям раннего христианства, к разумной простоте жизни, лишенной роскоши и «порочного потребления», к упрощению и оздоровлению нравов. И, наконец, сама организация производственных общин, в которых собственность, труд и потребление обобществлены, деньги и купля-продажа отсутствуют, продукты распределяются из общественных складов.
От Беллерса связующая нить тянется к великому социалисту-утописту XIX века Роберту Оуэну. Когда друг его Френсис Плейс нашел в своем архиве сочинение Беллерса и принес его Оуэну, тот был поражен удивительным сходством его содержания с теми мыслями, которые он высказал в своем эссе «Новый взгляд на общество». В восторге от «производственных содружеств», Оуэн издал их отдельной брошюрой тиражом в 1000 экземпляров и широко распространил. Затем в 1818 году он включил его в сборник трактатов, тоже вышедший под заглавием «Новый взгляд на общество».
Оуэн после этого не считал себя первооткрывателем своей системы. «Я даже не претендую, — писал он, — на право первенства в отношении теоретического сочетания этих принципов. Насколько мне известно, это право принадлежит Джону Беллерсу, который опубликовал их в 1696 году и с блеском доказал возможность применить их на практике. Не опираясь ни на какой реальный опыт, он ясно показал, как они могут служить делу совершенствования общества в соответствии с существовавшими тогда условиями; это доказывает, что он был в состоянии предвосхитить будущую точку зрения, идя впереди своих современников на 120 лет… Джону Беллерсу одному принадлежит заслуга изобретения плана, который должен обеспечить великое и неизменное благополучие всего человечества, притом в большей степени, чем все когда-либо созданные человеком проекты».
Настоящий, широкий успех творения Уинстэнли обрели только в двадцатом веке, который дал им поистине второе рождение.
В 1906 году квакер Льюис Беренс издал книгу «Диггерское движение в дни республики, как оно показано в произведениях Джерарда Уинстэнли, диггера, мистика и рационалиста, коммуниста и социального реформатора». В этой книге рассказывалась история диггерского и квакерского движений, приводилась биография Уинстэнли и давалось изложение его трактатов, снабженное обширными выдержками.
Возможно, что именно это издание стало известно Льву Николаевичу Толстому. Во всяком случае, в последней большой своей работе, «Круге чтения», великий русский мыслитель и борец за справедливость дважды приводит цитаты из сочинений Уинстэнли.
Под 23 марта Толстой записывает выстраданную всей жизнью своею мысль: «Земля, как воздух и солнце — достояние всех и не может быть предметом собственности». Он подкрепляет эту мысль свидетельствами Генри Джорджа, Ламеннэ, Томаса Пейна, других замечательных борцов за общность. И среди других высказываний читаем: «Разве это не рабство, что хотя в Англии довольно земли, чтобы содержать в десять раз больше людей, чем теперь, все-таки многие должны просить милостыню у своих братьев, или тяжело работать за поденную плату, или умирать с голода, воровать, или быть повешенным, как люди, недостойные жить на земле». И подпись: «Джерард Винстэнлей».
Этой же теме посвящена подборка мыслей на 12 ноября. Здесь встречаем высказывания Эмерсона, Карлейля, Канта, Ламеннэ, Томаса Спенса, выдержки из Ветхого завета и подписанные тем же именем — «Джерард Вин-стэнлеп» — слова: «Услышь меня, справедливый дух творения, и рассуди, кто вор: тот ли, кто отнимает у меня свободу пользоваться землею, которая дана мне с моим рождением, или я, когда пользуюсь частью земли для того, чтобы жить на ней и кормиться ею».
Толстой работал над «Кругом чтения» в последние годы своей жизни — 1904–1908. В 1910 году, уже после смерти гениального писателя, второе издание книги было арестовано Московским комитетом по делам печати; руководитель издательства «Посредник», в котором она вышла, И. И. Горбунов-Посадов был предан суду за печатание изречений «заведомо возбуждающих к ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя, к неповиновению закону и законным распоряжениям власти…» В обвинении как одна из вреднейших называлась мысль о том, что «земля есть общее и равное достояние всех людей и потому не может быть предметом собственности отдельных лиц, а должна находиться в пользовании тех, кто ее обрабатывает».
И. И. Горбунов-Посадов был признан виновным и приговорен к заключению в крепости сроком на один год. Мысли Уинстэнли и через 250 лет после их появления продолжали таить для власть имущих, хотя бы и в далекой России, огромную опасность. Они наказывались неправым судом не менее сурово, чем в XVII веке.
С тех пор его трактаты были не раз переизданы в Англии и США и переведены на европейские языки, в том числе и на русский. Были найдены и опубликованы ранее неизвестные материалы — памфлет «Раскрытие духа Англии», письмо к леди Дуглас, диггерские листовки. В 1961 году в Лондоне вышел роман «Товарищ Иаков», посвященный Уинстэнли, несколько лет спустя снят фильм о нем и диггерах. Публикуются научные статьи, монографии, диссертации, анализирующие творчество вождя кобэмских копателей. Его проза объявлена классикой; литературному разбору его сочинений посвящаются специальные труды.
Одни историки пытаются очернить его память и исказить личные черты, другие, наоборот, подчеркивают значительность его творчества, его исканий и практической работы на холме Святого Георгия. Кто объявляет его неудачником и лицемером, кто считает чуть ли не предтечей марксизма, коммунистом, материалистом.
Но всякому, кто прочтет дышащие искренностью, убежденностью и силой страницы его трактатов, станет ясно: этот человек боролся за справедливость и счастье для самых бедных, обездоленных, бесправных тружеников на земле. Он верил, что разум и правда когда-нибудь обязательно восторжествуют. Он первый открыл ту простую истину, что «не может быть всеобщей свободы, пока не будет установлена полная общность». Он показал, что распределение благ столь же важно, как и их производство, а справедливость и равенство важнее богатства. Он выдвинул конкретную программу справедливой организации общества и предложил свой проект английскому правительству.
инстэнли оставил миру книжки — дешевые издания на грубой бумаге с неровно обрезанными краями, с опечатками, с прыгающим кое-где шрифтом. И эти книжки не были забыты. Продолжали жить в народе и передаваться из уст в уста его идеи. Они обрастали легендами.
Так, некоторые стали считать Уинстэнли основателем квакерского движения. В 1678 году — в период относительного ослабления цензуры — преподобный Томас Кумбер, декан из Дарема, выпустил памфлет против квакеров. «Что касается их происхождения, — писал он, — его трудно выяснить… Но самые основы и даже главные идеи квакеризма следует искать в некоторых работах Джерарда Уинстэнли, усердного левеллера, где он говорит о наступлении новых времен и избавлении…»
Кумбер пространно цитирует ранние памфлеты Уинстэнли, затем заключает: «То, что это — квакерские принципы, достаточно хорошо известно, может быть, с некоторыми небольшими исправлениями… Теперь, рассмотрев эти идеи и приняв во внимание год, графство («Тайна Бога» посвящена «его возлюбленным братьям из Ланкашира»), печатника Джайлса Калверта и что некоторые левеллеры обратились в квакерство, мы понимаем, что они, квакеры, являются учениками Уинстэнли и ветвью левеллеров. И то, о чем пишет этот человек, — уравнение состояний, захват общинных земель, что никто не должен иметь больше земли, чем может сам возделать и обработать своим трудом, — осуществить невозможно по причине существования столь многих твердых старых законов, которые защищают собственность; и все же это проповедуется квакерами, насколько это им под силу, — называя каждого на «ты», отрицая титулы, гражданское почтение, знаки различий между людьми, — ведь вначале они стояли за общность».
Через два года после смерти Уинстэнли его, таким образом, сочли основателем все еще опасного для власть имущих движения квакеров. Кстати, его печатник, многолетний помощник и, может быть, друг Джайлс Калверт тоже стал квакером. Хотя в 1661 году его лишили права издавать книги, жена его продолжала выпускать в мастерской под черным распростертым орлом квакерские трактаты. Они продолжали бороться с несправедливостью этого мира — как умели.
В 1683 году мысль, что Уинстэнли был основателем квакерского движения, высказал в памфлете «Аргумент в пользу единения» Томас Тенисон.
И в XVIII веке враги квакеров обвиняли их в том, что они являются учениками «левеллера Уинстэнли». Преподобный Томас Беннет в 1711 году, сетуя на умножение «диссентеров», указывал, что начало их восходит к тому времени, «когда Уинстэнли обнародовал принципы квакеризма и впал в энтузиазм».
Те, кто так думали, конечно, ошибались. Правда, в учении Уинстэнли многое напоминает об идеях квакеров. Но он присоединился к «друзьям» только в последние годы жизни, когда движение их уже претерпело существенные изменения. Подлинными основателями квакерства были Фокс, Нейлор, Бэрроу.
Уинстэнли не только обвиняли, его и читали. Трактаты его хранились в библиотеке квакера Бенджамина Ферли (1636–1714), друга (Элджернона Сиднея и Джона Локка. В середине XVIII века радикальный деятель вигской партии Томас Холлис передал для прочтения экземпляр «Закона свободы» писателю Генри Филдингу. В 1790-х годах в далеком Уэльсе, в глуши, в сельском приходе близ городка Суонзи духовные лица читали и обсуждали сочинения вождя диггеров. Французская «История Кромвеля», вышедшая в 1819 году, содержала параграф, посвященный истории копателей.
Идеи Уинстэнли в трансформированном виде нашли отражение в трудах видных социальных мыслителей. В конце XVII века квакером Джоном Беллерсом был опубликован проект создания «производственных содружеств» — кооперативных товариществ для обеспечения бедняков работой и пропитанием. Этот проект соединял в себе черты буржуазного предпринимательства с одной стороны и крестьянско-плебейских утопий эпохи революции — с другой. Читал ли Беллере Уинстэнли — неизвестно, но идеи, близкие тем, которые высказывал автор «Закона свободы», оказали на него несомненное влияние. Среди этих идей — отрицание неправедливостей существующего строя, антиклерикализм, призыв вернуться к традициям раннего христианства, к разумной простоте жизни, лишенной роскоши и «порочного потребления», к упрощению и оздоровлению нравов. И, наконец, сама организация производственных общин, в которых собственность, труд и потребление обобществлены, деньги и купля-продажа отсутствуют, продукты распределяются из общественных складов.
От Беллерса связующая нить тянется к великому социалисту-утописту XIX века Роберту Оуэну. Когда друг его Френсис Плейс нашел в своем архиве сочинение Беллерса и принес его Оуэну, тот был поражен удивительным сходством его содержания с теми мыслями, которые он высказал в своем эссе «Новый взгляд на общество». В восторге от «производственных содружеств», Оуэн издал их отдельной брошюрой тиражом в 1000 экземпляров и широко распространил. Затем в 1818 году он включил его в сборник трактатов, тоже вышедший под заглавием «Новый взгляд на общество».
Оуэн после этого не считал себя первооткрывателем своей системы. «Я даже не претендую, — писал он, — на право первенства в отношении теоретического сочетания этих принципов. Насколько мне известно, это право принадлежит Джону Беллерсу, который опубликовал их в 1696 году и с блеском доказал возможность применить их на практике. Не опираясь ни на какой реальный опыт, он ясно показал, как они могут служить делу совершенствования общества в соответствии с существовавшими тогда условиями; это доказывает, что он был в состоянии предвосхитить будущую точку зрения, идя впереди своих современников на 120 лет… Джону Беллерсу одному принадлежит заслуга изобретения плана, который должен обеспечить великое и неизменное благополучие всего человечества, притом в большей степени, чем все когда-либо созданные человеком проекты».
Настоящий, широкий успех творения Уинстэнли обрели только в двадцатом веке, который дал им поистине второе рождение.
В 1906 году квакер Льюис Беренс издал книгу «Диггерское движение в дни республики, как оно показано в произведениях Джерарда Уинстэнли, диггера, мистика и рационалиста, коммуниста и социального реформатора». В этой книге рассказывалась история диггерского и квакерского движений, приводилась биография Уинстэнли и давалось изложение его трактатов, снабженное обширными выдержками.
Возможно, что именно это издание стало известно Льву Николаевичу Толстому. Во всяком случае, в последней большой своей работе, «Круге чтения», великий русский мыслитель и борец за справедливость дважды приводит цитаты из сочинений Уинстэнли.
Под 23 марта Толстой записывает выстраданную всей жизнью своею мысль: «Земля, как воздух и солнце — достояние всех и не может быть предметом собственности». Он подкрепляет эту мысль свидетельствами Генри Джорджа, Ламеннэ, Томаса Пейна, других замечательных борцов за общность. И среди других высказываний читаем: «Разве это не рабство, что хотя в Англии довольно земли, чтобы содержать в десять раз больше людей, чем теперь, все-таки многие должны просить милостыню у своих братьев, или тяжело работать за поденную плату, или умирать с голода, воровать, или быть повешенным, как люди, недостойные жить на земле». И подпись: «Джерард Винстэнлей».
Этой же теме посвящена подборка мыслей на 12 ноября. Здесь встречаем высказывания Эмерсона, Карлейля, Канта, Ламеннэ, Томаса Спенса, выдержки из Ветхого завета и подписанные тем же именем — «Джерард Вин-стэнлеп» — слова: «Услышь меня, справедливый дух творения, и рассуди, кто вор: тот ли, кто отнимает у меня свободу пользоваться землею, которая дана мне с моим рождением, или я, когда пользуюсь частью земли для того, чтобы жить на ней и кормиться ею».
Толстой работал над «Кругом чтения» в последние годы своей жизни — 1904–1908. В 1910 году, уже после смерти гениального писателя, второе издание книги было арестовано Московским комитетом по делам печати; руководитель издательства «Посредник», в котором она вышла, И. И. Горбунов-Посадов был предан суду за печатание изречений «заведомо возбуждающих к ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя, к неповиновению закону и законным распоряжениям власти…» В обвинении как одна из вреднейших называлась мысль о том, что «земля есть общее и равное достояние всех людей и потому не может быть предметом собственности отдельных лиц, а должна находиться в пользовании тех, кто ее обрабатывает».
И. И. Горбунов-Посадов был признан виновным и приговорен к заключению в крепости сроком на один год. Мысли Уинстэнли и через 250 лет после их появления продолжали таить для власть имущих, хотя бы и в далекой России, огромную опасность. Они наказывались неправым судом не менее сурово, чем в XVII веке.
С тех пор его трактаты были не раз переизданы в Англии и США и переведены на европейские языки, в том числе и на русский. Были найдены и опубликованы ранее неизвестные материалы — памфлет «Раскрытие духа Англии», письмо к леди Дуглас, диггерские листовки. В 1961 году в Лондоне вышел роман «Товарищ Иаков», посвященный Уинстэнли, несколько лет спустя снят фильм о нем и диггерах. Публикуются научные статьи, монографии, диссертации, анализирующие творчество вождя кобэмских копателей. Его проза объявлена классикой; литературному разбору его сочинений посвящаются специальные труды.
Одни историки пытаются очернить его память и исказить личные черты, другие, наоборот, подчеркивают значительность его творчества, его исканий и практической работы на холме Святого Георгия. Кто объявляет его неудачником и лицемером, кто считает чуть ли не предтечей марксизма, коммунистом, материалистом.
Но всякому, кто прочтет дышащие искренностью, убежденностью и силой страницы его трактатов, станет ясно: этот человек боролся за справедливость и счастье для самых бедных, обездоленных, бесправных тружеников на земле. Он верил, что разум и правда когда-нибудь обязательно восторжествуют. Он первый открыл ту простую истину, что «не может быть всеобщей свободы, пока не будет установлена полная общность». Он показал, что распределение благ столь же важно, как и их производство, а справедливость и равенство важнее богатства. Он выдвинул конкретную программу справедливой организации общества и предложил свой проект английскому правительству.
В Москве, у самых стен Кремля, в Александровском саду высится серая каменная стела. На ней высечены имена выдающихся борцов за счастье человечества на земле, за свободу и социальную справедливость. Стела эта была открыта в 1918 году, в канун первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. По инициативе В. И. Ленина в стране, героически приступившей к строительству справедливой и разумной жизни, было решено вместо памятников царям создать монументы видным деятелям социализма и рабочего движения. И среди имен Маркса, Энгельса, Либкнехта, Фурье, Кампанеллы, Жореса, Бакунина, Чернышевского на сером обелиске значится имя «Уинстлей» — искаженное временем имя того, кто в 1649 году собрал на холме Святого Георгия в графстве Серри несколько десятков бедняков, дабы начать с ними строить равное, свободное и справедливое общество. Не лучшее ли это признание высокого смысла его полной страданий жизни?
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИНСТЭНЛИ
1609, 10 октября — Джерард Уинстэнли крещен в церкви в Уигане. 1630, 10 апреля — Уинстэнли, переехав в Лондон, поступает учеником в магазин готового платья. 1637 — Джерард Уинстэнли становится полноправным членом компании торговцев готовым платьем и свободным гражданином Лондона. 1639 — умер Эдвард Уинстэнли, отец Джерарда. 1640, 28 сентября — Джерард Уинстэнли женится на Сузан Кинг. 1641, апрель — Уинстэнли заключает торговый договор с Ричардом Олсвортом. 1643, январь — Уинстэнли разоряется, продает магазин и переезжает в графство Серри. 1648 — ВеснойУинстэнли пишет трактат «Тайна богов». 20 мая публикуется «Наступление дня божьего». Летом выходит третий его трактат — «Рай для святых». 16 октября Уинстэнли подписывает трактат «Истина, поднимающая голову над скандалами» (издан в 1649 году). 1649, 26 января — Уинстэнли подписывает посвящение к памфлету «Новый закон справедливости». 1 апреля — начало деятельности диггеров на холме Св. Георгия. Первая половина апреля — разгром колонии диггеров. 16 апреля — донос Генри Сандерса в Лондон и экспедиция капитана Глэдмена. 20 апреля — беседа Уинстэнли и Эверарда с Фэрфаксом в Уайтхолле. Несколько дней спустя — разгон колонии диггеров соседями. 26 апреля — выход манифеста «Знамя, поднятое истинными левеллерами». 29 мая — Фэрфакс посетил колонию диггеров. 1 июня — «Декларация бедного угнетенного люда». Начало июня — нападение солдат на диггеров. 9 июня — письмо Уинстэнли к лорду Фэрфаксу и его военному совету. 11 июня — нападение в лесу на четверых диггеров. Июнь — Уинстэнли пишет «Декларацию о кровавых и нехристианских действиях У. Старра и Дж. Тейлора». 23 июня против Уинстэнли и трех диггеров возбужден иск в кингстонском суде. Начало июля — Уинстэнли арестован. 11 июля он пишет «Жалобу в палату общин»; вручена 24 июля. Июль — судебный процесс над диггерами. Август — второй арест Уинстэнли и конфискация коров. Переселение диггеров в манор Кобэм. 26 августа — 10 сентября — Уинстэнли пишет «Слово предостережения лондонскому Сити и армии». 10 октября — распоряжение Государственного совета послать в Кобэм войска для помощи мировым судьям. 28–29 ноября — разгон диггеров силами пастора Плэтта, его арендаторов и солдат. Переселение диггеров на новое место, к подножию холма Св. Георгия. Начало декабря — письмо диггеров, 8 декабря — письмо Уинстэнли лорду Фэрфаксу. 20 декабря — переиздание пяти ранних памфлетов Уинстэнли. 1650, 1 января — публикация памфлета Уинстэнли «Новогодний подарок парламенту и армии». 20 февраля — 4 марта Уинстэнли пишет памфлет «Оправдание тех, кого называют диггерами, чье намерение — всего лишь сделать землю общей сокровищницей». Февраль — март — памфлет Уинстэнли «Раскрытие духа Англии». 12 марта — декларация диггеров Уэллингборо. 19 марта — трактат Уинстэнли «Неопалимая купина». 26 марта — Уинстэнли и диггеры подписывают «Воззвание ко всем англичанам». Конец марта — разрушение хижины наемниками Плэтта. 1 апреля — беседа Уинстэнли и Плэтта. 4 апреля — письмо диггеров, захваченное в Уэллингборо. 5 апреля — окончательный разгон колонии диггеров на холме Св. Георгия. 9 апреля — Уинстэнли публикует «Смиренную просьбу к служителям обоих университетов и ко всем юристам в каждом судебном подворье». Апрель — судебное преследование диггероев Серри. 15 апреля — приказ о разгоне и судебном преследовании диггеров Уэллингборо. Август — декабрь — Уинстэнли работает управляющим в маноре Пиртон, Хартфордшир, у леди Дуглас. Ноябрь — Уинстэнли подписывает обращение к Кромвелю, предваряющее его трактат «Закон свободы», 4 декабря — его письмо к леди Дуглас. 1652, начало года — выход в свет трактата Уинстэнли «Закон свободы». 1654, 4 апреля — петиция «мистера Уинстэнли» о помощи беднякам Ланкашира. В августе Уинстэнли встречается с квакером Эдвардом Бэрроу. 1657 — Джерард и Сузан Уинстэнли получают в аренду участок земли в Кобэме. 1660, октябрь — иск наследников Р. Олсворта и обращение Уинстэнли в суд канцлера. Памфлет Л. Кларксона, содержащий обвинения против Уинстэнли. 1663 или 1664 — смерть Сузан Уинстэнли. 1664 — новое завещание Уильяма Кинга. Переезд Уинстэнли в Лондон. Женитьба на Элизабет Стэнли. Уинстэнли присоединяется к движению квакеров, 1665 — рождение сына Джерарда. 1670 — рождение сына Клемента. 1675 — денежный иск Уинстэнли и его семьи против Фердинанде Горгеса и Джона Холланда. 1676, 10 сентября — смерть Джерарда Уинстэнли.ИЛЛЮСТРАЦИИ

Титульный лист утопического проекта Уинстэнли «Закон свободы».

Женщина с прялкой. Начало XVII в.

Обучение грамоте.

Королева Елизавета I.

Фрэнсис Бэкон.

Занятия с учителем. Середина XVII в.

Первая страница книги Бытия с изображением шести дней творения.

Джордж Вильямс, герцог Бекингемский.

Король Яков I Стюарт.

Здание Вестминстера в 1647 г.

Купец в лавке. (Фрагмент.)

Лондонская купчиха.

Вид с Темзы на Лондонский мост. 1614 г.

Эдвард Кок.

Джон Гемпден.

Джон Пим.

Король Карл I Стюарт.

Собор св. Павла в Лондоне. Середина XVII в.

Уильям Принн.

Королева Генриетта-Мария.

Уайтхолл. Банкетный зал.

Томас Уэнтворт, граф Страффорд.

Архиепископ Уильям Лод.

Лондонский Тауэр.

Джон Лилберн.

Наказание плетьми Джона Лилберна.

Джон Лилберн у позорного столба.

Уильям Ленталл, спикер палаты общин Долгого парламента.

Оливер Кромвель.

Генерал Генри Айртон.

Главнокомандующий армией генерал Томас Фэрфакс.

Холмы в Серри.

Крестьянский дом. XVII в.

Церковь св. Марии в Петни, где проходили армейские дебаты в 1647 г.

Король Карл I на эшафоте.

Титульный лист диггерского памфлета «Знамя, поднятое истинными левеллерами».

Уильям Эверард перед генералом Фэрфаксом.
Титульный лист из памфлета 1649 г.

Старая мельница в Кобэме.

Приготовление сыра.
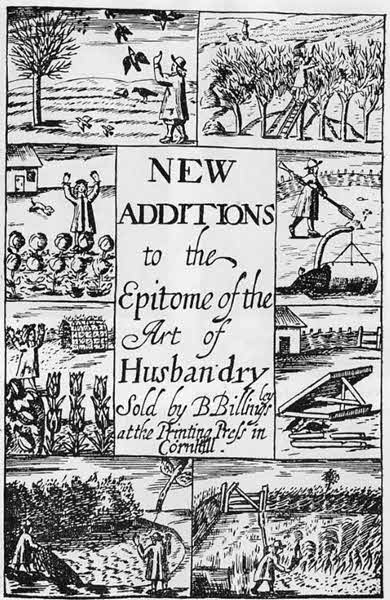
Сельскохозяйственные работы.

Проповедник Хью Питерс.

Генри Вэн-младший.

Площадь Ковент-Гарден в Лондоне.

Джон Лилберн перед судом (1649 г.).

Томас Гоббс.

Генерал-майор Томас Гаррисон.
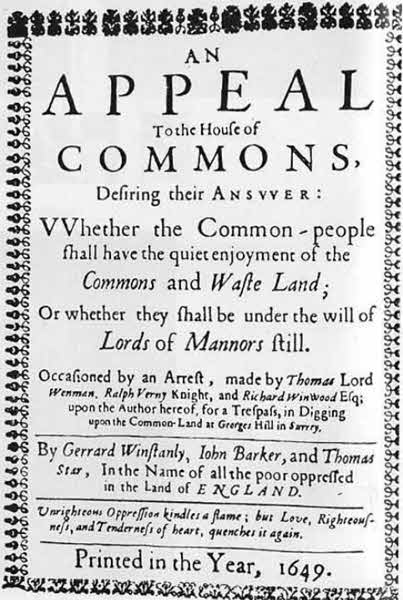
Титульный лист жалобы Уинстэнли в палату общин.

Элизабет Клейпол, любимая дочь Кромвеля.

Ричард, сын Оливера Кромвеля.

Сцена в таверне.

Томас Мор.

Джордж Монк.

Генерал Томас Фэрфакс.

Король Карл II Стюарт.

Казнь цареубийц после реставрации Карла II.

Эдвард Гайд, граф Кларендон.

Наказание плетьми бродяги.

Джон Милтон.

Бальстрод Уайтлок.

Деревенские развлечения.

Дом XVII в. на берегу реки Уэй в Серри.

Лондон. Резиденция лорда Арандела.

Страница антиквакерского памфлета.

Районы распространения квакерства в 1654–1664 гг. (В процентах от общего количества населения.)
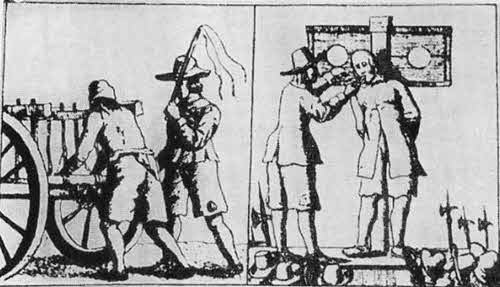
Наказание плетьми и выставление у позорного столба квакера Джеймса Нейлора.

Собор св. Павла в Лондоне. Вид с востока. 1656 г.
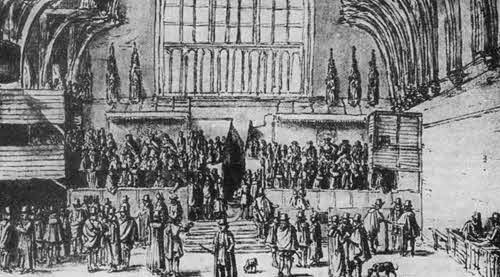
Лондон. Суд канцлера.
СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е. Английская буржуазная революция XVII в. В 2-х т. М., 1954. Архангельский С. И. Крестьянские движения в Англии в 40—50-х годах XVII в. М., 1960. Варг М. А. Кромвель и его время. М., 1960. Барг М. А. Народные низы в Английской буржуазной революции XVII в. М., 1967. Гизо Ф. История Английской революции, ч. I–II. Спб. 1859–1860. Дмитревский Н. П. Законодательство Английской революции 1640–1660. М,—Л., 1946. Лавровский В. М., Барг М. А. Английская буржуазная революция XVII в. М., 1958. Лавровский В. М. Сборник документов по истории Английской революции. М., 1973. Левин Г. Р. Демократическое движение в Английской революции. М., 1973. Лильберн Джон. Памфлеты. М., 1937. Милтон Джон. «Потерянный рай». Стихотворения. «Самсон-борец». М., 1976. Оуэн Р. Избранные сочинения, т. I–II. М.—Л., 1950. Павлова Т. А. Вторая английская республика. М., 1974. Павлова Т. А. Джон Беллере и английская социально-экономическая мысль второй половины XVII в. М., 1979. Павлова Т. А. Кромвель. М., 1980. Попов-Ленский И. Л. Лильберн и левеллеры. М.—Л., 1928. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., в 90 томах. М.,1957. Уинстенли Джерард. Избранные памфлеты. М.—Л., 1950. Шекспир У. Поли. собр. соч. в 8-ми т. М., 1949. Abbott W. С. The Writings and Speeches of Oliver Cromwell, vol. I—4. Cambridge (USA), 1937. Acts and Ordinances of the Interregnum. 1642–1660. Coll, and ed. by С. H. Firth a. R. Rait. Vol. 1—111. London, 1911. Alexander H. G. The Growth of the Peace Testimony of the Society of Friends. London, 1982. Alsop J. Gerrard Winstanley’s Later Life. — Past and Present, London, 1979, N 82, p. 73–81. Another Digger Broadside. Ed. by К. V. Thomas. — Past and Present, 1969, N 42, p. 16–19. Berens L. W. The Digger Movement in the Days of the Commonwealth. London, 1961 (First ed. 1906). Brailsford H. N. The Levellers and the English Revolution. Stanford, Cal., 1961. Braithwaite W. C. The Beginnings of Quakerism. London, 1912. Burnet G. History of my own Time. Vol. 1—IV. Oxford, 1897. Burrough E. A Declaration from the People called Quakers. London, 1659. Burrough E., Fox,G. Good Councel and Advice, Rejected by Disobedient Men. London, 1659. Burton T. Parliamentary Diary from 1656 to 1659, vol. I–IV. London, 1828. Caute D. Comrade Jacob. London, 1962. Christian Faith and Practice in the Experience of the Society of Friends. London, 1972. Clarendon E. The History of the Rebellion and Civil Wars in England. Vol. I–VI. Oxford, 1888. Clarke W. The Clarke Papers, vol. I–IV. London, 1899. Cobbett W. (ed.). The Parliamentary History of England, vol. I–IV. London, 1807. A Collection of Ranter Writings from the 17th Century, ed by N. Smith. London, 1983. Complete Collection of the State Trials and Proceedings, ed. by W. Cobbett. Vol. IV–VI. London, 1828. Davis J. S. Utopia and the Ideal Society. Cambridge, 1981. Dictionary of National Biography. London, 1950. Fox G. The Journal. Cambridge, 1952. Fox G. a. oth. For the King and Both Houses of Parliament. London, 1661. Greaves R. L. Gerrard Winstanley and Educational Reform in Puritan England. — British Journal of Educational Studies, XVII, 1969, N 1–2. Haller W. The Rise of Puritanism, or the Way to the New Jerusalem. New York, 1947. Hardacre P. H. Gerrard Winstanley in 1650. — Huntingdon Library Quarterly. San Marino, 1959, vol. 22, N 4, p. 345–349. Hayes T. W. Winstanley the Digger: a Literary Analysis of Radical Ideas in the English Revolution. Cambridge, Harvard Univ. Press, 1979. Hill Chr. The Collected Essays. Vol. 1. Writing and Revolution in 17th Century England. Brighton, 1985. Hill Chr. The Experience of Defeat. Milton and Some Contemporaries. London, 1984. Hill Chr. The Religion of Gerrard Winstanley. — Past and Present Supplement 5. London, 1978. Hill Chr. The World Turned Upside Down; Radical Ideas during the English Revolution, London, 1972. Journals of the House of Commons, vol. VII, VIII. London, 1813. Juretic G. Digger No Millenarian: the Revolutionizing of Gerrard Winstanley. — Journal of the History of Ideas. Lancaster, 1975, vol. 36, p. 263–280. Lloyd A. Quaker Social History. 1669–1738. London, 1960. Ludlow E. The Memoirs, 1625–1672, vol. I–II. Oxford, 1894. Lutaud O. Winstanley, son oeuvre et le radicalisme «Digger». 1648–1660. T. I–II. Lille, 1973. Matthews A. G. Calamy Revised. Oxford, 1934. Morton A. L. The World of the Ranters. Religious Radicalism in the English Revolution. London, 1970. Petegorsky D. W. Left — wing Democracy in the English Civil War. A Study of the Social Philosophy of Gerrard Winstan-ley. London, 1940. Reay B. The Quakers and the English Revolution. Hounslow, 1985. Sewel W. The History of the Rise, Increase and Progress of the Christian People Called Quakers, vol. I–IL London, 1795. Spencer T. The History of an Unfortunate Lady. — Harvard Studies and Notes in Philology and Literature, N 20, 1938, p. 43–59. Thomas К. V. The Date of Gerrard Winstanley’s «Fire in the Bush». — Past and Present, N 42, 1969. Underdown D. Pride’s Purge. Politics in the Puritan Revolution. Oxford, 1971. Vann R. T. From Radicalism to Quakerism: Gerrard Winstanley and Friends. — Journal of the Friends Historical Society, vol, 49, N 1, 1959. Vann R. T. The Later Life of Gerrard Winstanley. — Journal of the History of Ideas. Lancaster, 1965, vol. 26, N 1, p. 133–136. The Victoria History of the Counties of England. A. History of Surrey. Vol. I–IV. London, 1906.. Whitelock B. Memorials of the English Affairs, vol. I–IV. Oxford, 1853. Wilson J. F. Pulpit In Parliament. Puritanism during the English Civil Wars 1640–1648. Princeton, 1969. Winstanley G. England’s Spirit Unfolded. Ed. by G. E. Aylmer. Past and Present, 1968, N 40, p. 3—15. Winstanley G. The Law of Freedom and other Writings. Ed. by Chr. Hill. Harmondsworth, 1973. Winstanley G. The Works. With an Appendix of Documents Relating to the Digger Movement. Ed. by G. H. Sabine, Ithaca, New York, 1941.
INFO
П 12 Павлова Т. А. Уинстэнли / Гравюры Ю. Берковского. — М.: Мол. гвардия, 1988. — 301[3] с., ил. — (Жизнь заменят. людей. Сер. биогр. Вып. 16. (683)).
ISBN 5-235-00009-9
П 4702010200—010/078(02)-88 КБ-060-009-86 ББК 63.3(Вл)
ИБ № 5391
Татьяна Александровна Павлова УИНСТЭНЛИ
Заведующий редакцией С. Лыкошин Редактор О. Ярикова Макет фототетрадей А. Косаргина Художественный редактор А. Степанова Технический редактор З. Ахметова Корректоры Н. Самойлова, Е. Дмитриева, Н. Хасаия
Сдано в набор 26.11.86. Подписано в печать 09.11.87. А01253. Формат 84Х108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96+1,68 вкл. Усл. кр. — отт. 19, 74. Учетно-изд. л. 18,9. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 50 к. Заказ 2270.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.
Последние комментарии
2 часов 43 минут назад
6 часов 59 минут назад
7 часов 8 минут назад
7 часов 14 минут назад
7 часов 34 минут назад
7 часов 43 минут назад