Воспитание жизнью [Гейнц Зенкбейль] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Воспитание жизнью
ВОСПИТАНИЕ ЖИЗНЬЮ Повесть
1
Мальчик идет вдоль пляжа. Пляж пуст, а песок сметен ветром до самых дюн. Холодный ветер утих, и море успокоилось. Лишь небольшие волны набегают на берег, то прибивая к нему, то унося с собой самые различные предметы: плоский ящик вроде тех, что берут на борт катера, когда выходят в море ловить рыбу, оторвавшийся от верши колышек или выброшенную за борт пустую бутылку. Бутылку мальчик подхватывает и катит перед собой ногами, она узкая, с длинным горлышком. Вот мальчик приближается к забору, который разгораживает пляж и уходит далеко в море. На самом последнем из кольев неподвижно сидит чайка. Мальчик с любопытством выпрямляется и только теперь замечает молодого человека. Он среднего роста, худощав; волосы у него темные, лицо узкое, взгляд выражает необычайную замкнутость. Одет он в серую форму и такого же цвета шапку с козырьком, погоны на куртке окаймлены серебряным шнуром. — Дяденька, почему здесь нет прохода? — спрашивает мальчик. — Я тебе не дяденька, — отвечает молодой человек, и замкнутость его исчезает. Он подходит к изгороди, перегибается через нее и заглядывает в бледное детское личико с курносым носом и широко расставленными удивленными глазенками. — Ко мне нужно обращаться «товарищ унтер-офицер». — Ладно, — невозмутимо соглашается мальчик. — А зачем здесь забор? — Затем, что здесь начинается территория нашей воинской части, — объясняет унтер-офицер. — Видишь за дюнами высокие дома? Это наши казармы. Мальчик не спеша ставит бутылку в мокрый песок. Взявшись руками за колья, он поднимается на поперечную жердь и просовывает свое худенькое личико в отверстие загородки. — Ага, — произносит он и, прищурившись, всматривается в казармы. Это несколько многоэтажных зданий, обращенных фасадом к морю, с бесчисленным множеством окон и плоскими крышами. На пасмурно-сером фоне строения выглядят опустевшими. — А можно мне сходить туда? — спрашивает мальчик, с любопытством разглядывая унтер-офицера. — Нет, — отвечает тот и качает головой. — А почему? — Наш командир не любит этого. — Какой еще командир? — Ну, командир нашего полка. — А-а, — непонимающе произносит мальчик и недовольно морщит нос. — А ты можешь перейти на эту сторону? — Нет, малыш, не могу, — отвечает унтер-офицер. — Почему? Ведь ты же большой! — Все равно не могу. — Смешно. — Ничего смешного тут нет. Воинская дисциплина, брат. Мальчик хмыкает и снова смотрит на казармы, на этот раз уже с недоверчивостью. Потом он осторожно спускается с жерди и некоторое время разгребает ногой в белом резиновом сапожке влажный морской песок, пока из-под него не показывается плоский белый камешек. Мальчик поднимает его, взвешивает на руке и затем неожиданно бросает в море. Чайка, сидевшая на шесте, нехотя поднимает голову. «Плюмпс» — раздается со стороны моря. Бросок не очень удачный. Малыш снова хмыкает, глядя на расходящиеся по воде круги, и вытирает запачканные мокрым песком руки о свои темные вельветовые шорты. — А теперь мне пора идти, — заявляет он тоном человека, который честно сделал свое дело. — Что ж, иди, — соглашается унтер-офицер и кивает мальчику головой. — А завтра ты придешь сюда? — Возможно. Так состоялась их первая встреча. Сначала унтер-офицер Якоб не придал ей никакого значения. Случайное, ни к чему не обязывающее знакомство, пятиминутный разговор и расставание — такие встречи в жизни не редкость. Кому в голову придет задумываться над этим, тем более когда встречается такой вот малыш. Унтер-офицер равнодушно посмотрел вслед мальчугану, который удалялся от него, катя перед собой по песку бутылку с длинным горлышком. Через несколько минут он, словно крошечный жучок, карабкался вверх по дюнам, пока совсем не скрылся из виду за раскидистыми соснами. «Хорошо живется таким, как он, — подумал унтер-офицер, — пока им не знакомы заботы взрослых…» В этот момент чайка взмыла кверху. Повисев какую-то долю секунды над острием кола, она неторопливо полетела прочь и скоро стала похожей на белую точку над серым горизонтом… Унтер-офицер подумал о том, что ему не вечно придется томиться на посту. Он бросил беглый взгляд на часы: до смены оставалось всего несколько минут. «Ты должен, должен», — мысленно говорил он себе, словно уговаривал. Пройдет несколько недель, прежде чем унтер-офицеру Якобу Тесену станет ясно, что этот пасмурный апрельский полдень оказался для него, Якоба, таким значительным, что он заметно повлиял на его мысли и дела, что он как-то изменил характеры людей, укрепил дружбу, соединил влюбленных и сделал жизнь радостнее и интереснее. Эта повесть расскажет читателям об Олафе и о жизненном пути четырех человек.2
Следующий день был, однако, похож на предыдущие, тем более что ефрейтор Бергеман после обеда снова принялся за свои письма. — Люди, внимание! — вызывающе громко крикнул он своим скрипучим голосом. — Не пора ли нам заняться домашним чтением? Якоб бросил на ефрейтора недовольный взгляд. Тот сидел, развалившись на своей койке, в расстегнутом френче, и его полнеющий животик выпирал из-под мокрой от пота рубашки. Он помахал над головой огромной ручищей с зажатыми в ней несколькими письмами. Заметив недовольный взгляд Якоба, ефрейтор ехидно прищурился. «У меня прекрасное настроение, — прочел Якоб на его физиономии, — и никто мне его не испортит, даже ты, Якоб, хоть ты теперь и стал унтер-офицером!» Он поочередно потрогал каждое письмо, лежавшее на тумбочке, вытащил из ящика столовый нож и вскрыл им первый конверт. — Внимание, братцы, начинаю! Якоб заранее знал, что за этим последует. Рядовой Петцинг пододвинет свою табуретку к койке Бергемана, с восхищением полюбуется четырьмя-пятью письмами, а затем рассеянно воскликнет: «Неужели и сегодня так много?» А рядовой Штриглер, койка которого стоит у правой стены, сделает вид, будто его все это нисколько не интересует, хотя сам наверняка будет внимательно прислушиваться к чтению. Такой уж он человек, этот угрюмый индивидуалист и хилый фантазер. Одно сплошное разочарование! Ведь в конце концов Бергеман держал в руках не просто письма, а девичьи послания, в основном серьезные и доверительные! И все они получены в ответ на одно-единственное объявление в журнале, которое ефрейтор дал с месяц назад, находясь в отпуске: «Где ты, очаровательная незнакомка? Мне двадцать три года, спортивная внешность…» Это у Бергемана-то спортивная внешность! Возможно, ему не так уж трудно погрузить на машину рояль или втащить на чердак холодильник, но при чем тут спорт? Видели бы эти «очаровательные незнакомки», как неуклюже он прыгает через «коня»! Сначала он берет «бычий разбег, словно хочет протаранить массивный снаряд, затем следует жалкий подскок, и наконец он прилипает к ближнему краю «коня», усевшись на нем, как испуганный заяц на плывущем бревне. — Неужели и сегодня так много?! — воскликнул Петцинг, широко распахнув глаза. «Ну вот, — подумал Якоб, — в точности так, как и следовало ожидать». — Глаза разбегаются, правда? — спросил Петцинг. — Но должен же этому когда-то быть конец! — При такой рекламе-то? — Реклама была что надо, — подтвердил Петцинг. Якоб в нерешительности продолжал стоять посреди комнаты. Он видел, как ефрейтор Бергеман расправил желтоватую страницу сложенного письма. Якоб разглядел аккуратный, округлый почерк. На какой-то момент он попытался представить себе автора этого письма: молодая женщина лет двадцати с небольшим, слегка расположенная к полноте, не слишком красивая, но зато сдержанная и добрая и, по-видимому, по-матерински заботливая. «Ах, девушка, ставить на Бергемана — это все равно что строить воздушные замки!» — подумал он про себя. Между тем ефрейтор откашлялся. Первые строчки он прочитал про себя. — Ничего крошка, — сказал он, слегка причмокивая, — очень даже не дурна! Петцинг даже закачался на своем табурете. Он пододвинул его ближе к койке и, полный нетерпения, подался корпусом вперед. — Слушай, ну давай же, не тяни! Но Бергеман явно не спешил. «Дешевый прием, — подумал Якоб. — Хочет возбудить наше любопытство. Но потом все же прочтет вслух. И читать будет, конечно, сам. Начнет строить гримасы. Чем-чем, а этим искусством он овладел в совершенстве. Временами он будет менять интонацию, делать двусмысленные ударения на отдельных словах и все это сопровождать взглядами в мою сторону, словно спрашивая, что, мол, я на это скажу. А я буду настоящим ослом, если и на этот раз позволю разыграть перед собой всю эту комедию». Унтер-офицер подошел к двери и взялся за ручку, но… — Эй, Якоб! — услышал вдруг за своей спиной. Он обернулся и посмотрел на лица своих товарищей: заносчивая улыбка Бергемана, красные от возбуждения щеки Петцинга, опущенный к полу взгляд Штриглера. — Что вам от меня нужно? — с трудом сдерживая себя, тихо спросил Якоб. — Смотри, — сказал Бергеман и помахал в воздухе желтоватым письмом, — кажется, эта как раз подойдет для тебя. Бухгалтерша. Зовут Хельгой и живет совсем рядом. — Если она бухгалтерша, — желчно проворчал Якоб, — то, скорее всего, она подойдет тебе. — Почему же это мне? — спросил Бергеман, не меняя выражения лица. — Чтобы вести строгий учет в твоем бумажном гареме. В какой-то миг лицо Штриглера передернулось. Якобу показалось, что он хихикнул. «Но даже если и так, — подумал унтер-офицер, — он все равно не на моей стороне». — Значит, ты отказываешься? — спросил Бергеман. — Отказываюсь, — буркнул Якоб, — мне и своих хватает! При этих словах Бергеман улыбнулся, и унтер-офицер понял почему. В то время как ефрейтор получал письма целыми пачками (вчера — три, позавчера — семь, и, кроме того, мать чуть ли не ежедневно присылала ему какой-нибудь перевязанный сверточек), Якоб вот уже несколько недель ждал одного-единственного письмеца. — Ну ясно, — заметил Бергеман, — кое-кто купается в письмах, а другие лишь ждут их. Но что касается… — Пошел ты к черту! — зло отрезал Якоб. — Шуток не понимаешь, мой дорогой унтер-офицер. — Я-то их понимаю. — С письмами — тоже шутка. — Твое объявление в журнале, Бергеман, можно рассматривать как подлость! — Только не строй из себя праведника, — сказал ефрейтор, и в глазах его промелькнула злоба. — Социализм от такой ерунды наверняка не развалится, да и силу армии этим не подорвешь. Так что не очень-то задавайся. В конце концов мы в роте не на плохом счету. И потом, я давно уже хотел тебе сказать: до твоего прихода у нас в подразделении царили мир и согласие, по крайней мере, жили мы весело, коллектив спаянный у нас был. Унтер-офицер Якоб Тесен все же вышел из комнаты. В длинном коридоре стояла тишина, как и всегда в послеобеденное время. Около лестницы за столом сидел дежурный по роте: сегодня дежурил фельдфебель. Он сонно откинулся на спинку стула. — Куда? — спросил он Якоба, когда тот проходил мимо. — Подышать свежим воздухом. — Недурно! Если бы я мог, тоже пошел бы с тобой. Якоб понимающе кивнул головой, сказал в ответ что-то банальное и уже через минуту не мог вспомнить, что именно. Он спустился по каменной лестнице. Его шаги глухо отражались от белых кафельных стен. «И все-таки ты осел, — ругал он себя, — огромный, длинноухий, беззубый осел». Выходя из здания, он думал о том, как найти выход из неудобного положения, в котором он оказался.3
Широкой гладью перед ним простиралось море. Воздух был свеж и пропитан запахом соли и водорослей. Около забора Якоб снова наткнулся на вчерашнего мальчугана. — Что, малыш, никак не расстанешься со своей смешной бутылкой? — Меня зовут Олаф, — серьезным тоном ответил мальчик. Он стоял в воде по самые голенища своих белых резиновых сапожек и внимательно рассматривал рябое дно у своих ног. — Зачем тебе эта бутылка? — Я буду держать в ней рыбок. — А как ты собираешься их наловить? — поинтересовался Якоб. — Руками… — ответил мальчик. — А разве так нельзя? — Нет, — возразил Якоб, — руками ты ничего не поймаешь. И вообще здесь рыбок нет: тут очень мелко. Но я могу дать тебе хороший совет: выходи-ка ты побыстрее из воды, она еще слишком холодная. — А что, если мне все-таки попробовать? — Получишь насморк, а потом мать будет тебя ругать. Мальчик не двигался с места. — Не будет она меня ругать: ее ведь здесь нет. Якоб пожал плечами: — Ну, значит, кто-нибудь другой отругает. — Старшая сестра, что ли? — Может быть, и старшая сестра. Мальчик оторвал свой взгляд от воды и выпрямился: — А ты меня не выдашь? Якоб замотал головой: — Вот еще! Я даже не знаю, где ты живешь. — Вон там я живу, — ответил малыш, и его худенькая рука указала в сторону от пляжа, туда, где за матово-зелеными дюнами в излучине бухты прилепилось несколько домиков с камышовыми крышами. — Но только ты туда не ходи. — Друзей я не предаю, — кивнул головой Якоб. — Честное слово? — Даю слово воина. Раз ты живешь у старшей сестры, значит, ты не отсюда? Мальчик вытер мокрые руки о свои темные шорты. — Нет, не отсюда, — ответил он. — Я приехал из города на отдых, потому что долго болел. — Вот видишь, — заметил Якоб с напускной строгостью, — тогда тем более должен понимать, что стоять в холодной воде вредно и что старшая сестра будет тебя за это ругать. Раз ты долго болел и приехал сюда отдыхать, быстро выходи из воды. Мальчик удивленно поднял голову, помедлил немного, но затем все же вышел из воды и медленно побрел по берегу. — Не такая уж страшная была у меня болезнь, — пробормотал он и остановился. — Болеть всегда нехорошо. — А ты сам болел когда-нибудь? — спросил мальчуган. — Еще как! И совсем недавно. Ну и противно же это было! — А что у тебя болело? Грудь? — Нет, — ответил Якоб. — У меня с ногой было плохо. — На тебя машина наехала, да? — Нет, не машина, а кое-что другое, твердое и горячее. Я и сам толком не знаю что, — ответил Якоб. — Давай я тебе лучше расскажу об этом как-нибудь в другой раз… Тут их разговор прервался. Прошла минута-другая… Мысленно Якоб снова вернулся в казарму. «Сейчас ребята, наверное, уже переварили прочитанное, — подумал он. — Перебрали все шуточки и вдоволь нахохотались. Теперь лежат и отдыхают на койках. И снова никому нет дела до других, как почти каждый день. А еще говорят о коллективе!» Мальчуган тем временем поднял свою бутылку, и вчерашняя сценка повторилась. Выкопав из песка несколько камешков, он начал бросать их в воду. «Плюмпс» — раздался глухой звук, и камешек утонул. Только ленивой чайки на этот раз не было… Скоро Олаф заговорил снова, и Якобу подумалось, что мальчуган не переставал думать об этом со времени их вчерашнего разговора. — Если тебе нельзя перелезать через забор, почему бы тебе совсем не убежать отсюда? — с детской наивностью спросил малыш. Якоб улыбнулся. — Убежать… Я должен оставаться здесь, — сказал он. — Я нужен экипажу. А знаешь почему? Потому что я командую танком, понял? — Ой! Ты командуешь танком? — воскликнул мальчуган и от удивления раскрыл рот. — Да, — подтвердил Якоб, — я командир танка. — Самого настоящего? — Конечно! — Вот здорово! «Малыш уставился на меня так, словно я одновременно и машинист локомотива, и вождь индейского племени, и продавец мороженого», — не без улыбка подумал унтер-офицер, а вслух сказал: — А теперь можешь закрыть свой рот. Ничего особенного в этом нет. Где есть танки, там должны быть и командиры. — А у вас много танков? Якоб прижал указательный палец к губам и прошептал: — Тише, Олаф, это военная тайна. — У вас их, наверное, тьма-тьмущая? — Да, их больше, чем пальцев на твоих руках и ногах. — Много, — согласился мальчуган. — А танк сильный? — Сильнее, чем десять слонов. — Может он повалить дерево? — Может. — А этот забор? — Это ему ничего не стоит. — А стену может разрушить? — Запросто. — И туда он может залезть? — спросил мальчуган, указывая на дюны за своей спиной. — Это ему раз плюнуть. — Тогда, наверное, он может забраться и на гору? — Конечно, может. — А стрелять он может? — Если нужно, может и стрелять. — А плавать по воде? — Мальчуган уставился Якобу прямо в рот. Тот пожал плечами. — Это может не каждый, — ответил он. — Мой, например, не может. Поток вопросов у мальчугана, видимо, иссяк. Прошло несколько секунд. — Но ты же не вечно будешь ездить на одном танке, правда? — спросил мальчуган после небольшого раздумья. Сказаны эти слова были так, будто мальчик сам себя утешал.4
Спустя некоторое время унтер-офицеру Якобу Тесену было трудно вспомнить, что он ответил на последний вопрос мальчугана. Может быть, он просто кивнул головой и пробормотал: «Да-да», а может, только неопределенно пожал плечами. Но одно он помнил совершенно точно: после такого наивного вопроса мальчугана в голове у него зародилась новая мысль. И чем дольше он о ней думал, тем более дельной она ему представлялась. Во всяком случае, более дельной, чем все предыдущие варианты, которые в итоге сводились к одному: с одобрения или без одобрения начальства, но в любом случае досрочно закончить службу в Национальной народной армии. Поначалу это было всего лишь смелое предположение, возникшее в связи с самокритичным вопросом: «А гожусь ли я вообще для того, чтобы командовать экипажем танка?» «Пожалуй, гожусь, — тут же мысленно ответил он себе. — Танк я знаю хорошо. В школе унтер-офицеров не отставал от товарищей, даже несмотря на историю с ногой. Я самостоятельно вожу танк, могу навести пушку в цель, могу стрелять, и притом почти всегда без промаха. Я знаю, как необходимо его обслуживать, знаю, как устранить простейшие неисправности. Во всех этих вопросах я заткну за пояс любого из наших ребят: Петцинга, Штриглера и уж конечно Бергемана. Они хотя и слушаются меня, но с каким-то безразличием, хотя и подчиняются, но без энтузиазма, хотя и выполняют мои приказы, но без особого усердия. Короче, они вроде бы всего-навсего мирятся со мной, и не больше…» Одни в подобной ситуации равнодушно пускают все на самотек, другие хоть и раздражаются, но затем привыкают; Якоб же слишком долго жил под влиянием близкого ему человека, чтобы мог теперь мириться с таким положением. «Имей в виду, братец, неопределенность в течение долгого времени — хуже зубной боли», — вспоминал он не раз слова своего старшего брата Александра. «Вот он бы быстро справился с таким двусмысленным положением, — подумал про себя Якоб. — Он бы поднялся во весь рост из-за дощатого стола в своем строительном бараке, уперся бы волосатыми руками в его край и со свойственной ему прямотой заявил: «Итак, братцы, кажется, что у нас что-то не то происходит. Давайте-ка сядем все вместе да поговорим начистоту!» И никто не стал бы отговариваться или зевать при этом, ни один арматурщик, опалубщик или бетонщик. А если бы среди них и нашелся такой, как Бергеман, то и рта не посмел бы раскрыть. Они говорили бы до тех пор, пока все не выговорились. Следовательно, мне необходимо провести беседу с ребятами, так как само по себе дело не уладится». Однако планам унтер-офицера не суждено было осуществиться. Такой разговор во многом зависел от правильного выбора момента, а Якобу выбрать такой момент не удалось. Тогда они еще не давали злополучного объявления в журнал и, следовательно, не получали девичьих писем, которые Бергеман выбрал объектом для своих насмешек. Зато тогда ефрейтор регулярно получал из дому посылки с венгерской салями, шоколадом и сигаретами. Мать присылала ему эти лакомства раз в две недели. Вступительное слово Якоба, с которым он обратился к ребятам в свободное время, продолжалось ровно столько времени, сколько ефрейтору понадобилось для того, чтобы разложить полученные им яства на столе. И как только унтер-офицер, не ожидавший ничего хорошего, закончил свое вступление словами: «Вот об этом я и хотел с вами поговорить», Бергеман с аппетитом откусил от салями здоровый кусок. — Что тебе от нас нужно? — спросил он с набитым ртом. — Ты все время твердишь о сколачивании коллектива. — И, повернувшись к остальным двум товарищам, размахивая салями, словно маршальским жезлом, задиристо спросил: — Коллектив мы с вами, товарищи, или нет? — Коллектив! — заорал Петцинг, не сводя глаз с салями. — Долго ты еще собираешься нас дразнить? — Ну и обжора же ты! — заметил Бергеман. — В прошлый раз один все мои сардины слопал! Однако он все же достал из своего ящика столовый нож, тот самый, который спустя несколько недель будет верно служить ему для вскрытия писем от девушек, и отрезал от откусанного конца колбасы кусок длиною с палец. Другой кусок он передал через Петцинга Штриглеру. Тот взял его и не сказал ни слова. — И вообще, — продолжал Бергеман, обращаясь к Якобу, — почему ты, собственно, говоришь нам «вы»? До тебя в нашей комнате никто не говорил друг другу «вы», как, впрочем, и до армии, когда мы все вместе работали. К нам в транспортную бригаду прислали на время одного студента, который изучал искусствоведение. Видать, от учебы-то он слегка и свихнулся. Натворил он у нас делов: то комнатную пальму во время уборки сломает, то разобьет старинное зеркало. А однажды он даже нечаянно вылил в унитаз воду из аквариума, разумеется, вместе с рыбками. Ну и шуму было, скажу я вам, из-за исчезнувших ценных рыбок! И все это называлось «проходить практику на производстве по «биттерфельдскому методу»[1]. Кое-что в этом определении соответствовало истине, а именно то, что его пребывание у нас вышло нам боком: сократились премиальные, меньше стало «левой» работы. Зато говорить этот тип был мастер, своей ученостью он доводил нас буквально до одури! Реализм, символизм, формализм. Одни только «измы», и все этак свысока! И все на «вы». Не знаю, сколько времени он мучил бы нас, если бы мы однажды не сбросили, символически конечно, реалистический комод (резьба по дереву, произведение искусства, восемнадцатый век) на его ногу. С того момента он вдруг стал нормальным человеком. С ним можно было даже ладить, и обращаться ко всем он стал на «ты». Петцинг прыснул со смеху, на тонких губах Штриглера промелькнула довольно сдержанная улыбка, и лишь Якоб хранил тягостное молчание. — Кстати, — добавил Бергеман, — у вас на работе, наверное, тоже не обращались друг к другу на «вы»? Или я ошибаюсь? — Конечно, — согласился Якоб, — не обращались. — То-то и оно, — сказал Бергеман. — Ну как, ребята, вкусно? — Вкусно! — крикнул Петцинг и громко засопел. — Однако в уставе написано… — робко попробовал возразить Якоб. Но ефрейтор снова не дал ему договорить до конца: — Устав — это теория. Я сам его основательно проработал. Так, а теперь довольно! Вот тебе кусок колбасы, и помолчи ты наконец! Итак, дружеский разговор не удался, однако Якоб все же не терял надежды. Если сейчас ничего не получилось, следует попытаться в другой раз: когда-нибудь тебя должны будут понять. Якоб решил поговорить со своим командиром, лейтенантом Телем. Это он принимал унтер-офицера в танковую роту три недели назад. С тех пор, правда, им больше не доводилось поговорить друг с другом, о чем Якоб теперь сильно сожалел. «Он слишком строг, — говорили о лейтенанте одни. — Его предшественник был, как раз наоборот, добрым и приветливым человеком. Если служба шла как надо, он не придирался из-за каких-нибудь пустяков». «Зато этот справедлив, — утверждали другие. — Зря никого не обидит. А что касается пунктуальности, то и пять минут в армейских условиях значат немало. Что, если, к примеру, он начнет выписывать нам увольнительные записки на пять минут меньше? Нет, не дай бог! Правда, со своим секундомером, с которым он не расстается, он иногда может свести нас с ума! Дай ему власть, он на все установил бы нормативы, хотя это не так уж и плохо. В конце концов благодаря этому у нас наладился порядок: второе место в полку что-нибудь да значит. Да и на наше свободное время теперь никто не покушается. Правда, ребятам хочется видеть своего командира хоть иногда по-настоящему веселым. Хотя веселиться-то, собственно, нет причины: наш командир роты все еще лежит в гипсе. А впрочем, лейтенант отнюдь не лишен чувства юмора! Помните, как однажды мы захотели над ним подшутить? Попросили его показать нам ось канала ствола танковой пушки. И как он на это среагировал? «Сейчас я заставлю вас найти ее, — сказал он, — и тот, кому удастся отделить ее от ствола, тут же получит у меня десятидневный отпуск на родину. Это так же верно, как то, что я являюсь лейтенантом Телем, заместителем командира роты первого танкового полка!» Входя в кабинет командира роты, Якоб надеялся увидеть заместителя командира роты, как всегда, подтянутым, энергичным. Но лейтенант сидел, склонившись над столом, устало положив перед собой руки. Его тонкое, несколько заостренное книзу лицо казалось бледным. Он безучастно смотрел перед собой на какие-то бумажки и таблицы. Якоб хотел было доложить, как положено, но лейтенант движением руки остановил его и лаконично спросил: — Что это может быть — плоское, круглое и без зубцов? — Изношенная шестеренка из коробки передач, наверное! — удивился Якоб. — Угадал, — сказал Тель. — На занятиях по матчасти за такой ответ тебе поставили бы пятерку. Ну, что случилось, товарищ Тесен? — Да вот никак не могу справиться с одним делом, товарищ лейтенант. — Большим или маленьким? — Да как сказать? Думаю, что с большим. — Жаль, — произнес Тель, — придется в другой раз: сейчас мне некогда. — Но дело срочное, — настаивал Якоб. — У меня сейчас все дела срочные, — заметил лейтенант и, взяв со стола пластмассовую линейку, поворошил ею кипу бумаг. — Изношенная шестеренка и кое-что другое… Сейчас это меня беспокоит больше всего! — Разве шестеренка не может подождать? — Не может! — Обидно, — сказал Якоб. — Когда вы сможете поговорить со мной? — Минуточку! — Тель линейкой подтянул к себе толстый календарь, прошелся взглядом сверху вниз по его листам, исписанным убористым почерком. — Завтра рано утром выезд на местность, — пробормотал он, — возвращение вечером, отбой. Послезавтра ночная стрельба, до этого посещение больных. — Тут он остановился и на минуту задумался. — Нет, — произнес он, помедлив, — посещение больных отменить нельзя, об этом уже объявлено. На следующий день — проверка технической готовности. Надеюсь, что до этого мне удастся разобраться с этой проклятой шестеренкой! Потом, наконец, парикмахерская; без этого никак нельзя: мне уже стыдно показываться на глаза командиру. Вечером доклад в кружке «Юный специалист» на тему «Социализм и экономия времени». На эту неделю все забито, — заключил он и, пожав плечами, взглянул на Якоба. — Смешно как-то, — сказал Якоб, — вы мой ротный командир, а времени у вас для меня нет! — Я ваш командир взвода, а ваш ротный вот уже два месяца лежит в госпитале. Это я так, для уточнения. А кроме того, я еще руководитель группы политических занятий, руководитель стрелкового кружка и член лекторского коллектива. К тому же я член партийного бюро, член правления мотоспортивного клуба, не говоря уже о том, что включен в кулинарную комиссию, а когда к нам приезжают наши русские друзья, я еще исполняю обязанности переводчика. Хорошо еще, что не умею петь, а то наверняка меня зачислили бы в полковой хор. А между прочим, я до сих пор еще не женат. Правда, скоро это может случиться. Во всяком случае, работы мне хватает по горло! — Стало быть, я могу идти? — спросил Якоб. Тель взглянул на него снизу вверх и помедлил: — Ну ладно, давайте, что там у вас? — Лейтенант посмотрел на свои часы. — Даю вам на объяснение пять минут, не больше! Но не успел Якоб открыть рот, как зазвонил телефон. — Подождите минуточку, — сказал Тель и снял трубку. Разговор был коротким и закончился словами: — Так точно, сейчас буду! — Лейтенант сразу же встал из-за стола, отыскал какой-то листочек в кипе бумаг и, сложив остальные в планшет, спросил: — А может быть, вы все воспринимаете слишком трагически? Якоб посмотрел на него в недоумении и растерянности. — Ведь в конце концов ваш экипаж занимает неплохое место в роте… — продолжал лейтенант. — По одним отметкам судить нельзя, — перебил его унтер-офицер. Лейтенант взял со стола ремень и головной убор. — Ну ладно, — сказал он и вышел из-за стола, — отложим наш разговор до другого раза. А теперь я должен идти, меня вызывает командир батальона. Да если бы и не вызывал, мне все равно уже пора бежать. Прибыли наконец запчасти. Слава богу! «Отложить не отменить», — подумал Якоб и пошел в подразделение. На следующий день начались пятидневные учения, затем предстояли приведение техники в порядок, проверка оружия, пересдача норм по стрельбе, короче — десятки всевозможных мероприятий, которыми живет воинская часть. Лейтенанта часто не было видно целыми днями. Если Якобу и удавалось его увидеть, то ответ был один: — В другой раз, сейчас некогда! И все это в то время, когда выходки ефрейтора Бергемана становились особенно невыносимыми. Якоб уже не имел в виду объявление в журнале; само по себе оно было безобидным и свидетельствовало лишь о непорядочности ефрейтора. Теперь речь шла о другом. Зазнайство Бергемана росло с каждым днем. Казалось, он хотел еще сильнее уязвить унтер-офицера и показать его беспомощность. Поставить на моечную площадку танк? Ерунда, кусочек грязи мы и сами с него обобьем! Слишком сильно промаслен ствол? Да мы и раньше всегда так ствол смазывали! Соскальзывает сцепление? Ерунда, на ходу этого вовсе не заметно! Провисает цепь? Да она всегда провисала! Наш танк слишком глубоко стоит в парке? Наш-то стоит правильно, это другие слишком выдвинуты! И все это в присутствии других солдат, стоявших за спиной унтер-офицера Якоба Тесена! Остальные члены экипажа молчали, а у лейтенанта все еще не находилось времени на беседу. Мужество Якоба убывало с каждым днем. «Но ведь когда-нибудь они должны будут меня выслушать, — надеялся он поначалу. — Главное — оставаться последовательным, не слишком уж полагаться на перегруженного служебными обязанностями лейтенанта. Людей, готовых меня выслушать, в полку не так уж мало». В это время Якоб стал все чаще наведываться на пляж, подолгу наблюдал за волнами и печальными чайками. И вот в один прекрасный день он решил: «Пора кончать, Якоб! В подразделении ты потерпел полное фиаско. Какой же из тебя командир танка?! Видно, эта должность не для тебя. Как только начнется очередное увольнение в запас, лучше сразу же покончить с этим. И избавиться от всех забот и хлопот…»5
То, что Якоб затягивал осуществление своего намерения, частично объяснялось его выдержкой. «Что, если каждый будет пасовать перед первыми трудностями? Раз дал слово, то нужно сдержать его: отслужу четыре года, и баста!» — утешал он себя. Нет, не чувство неловкости перед старшим братом Александром могло стать сдерживающим фактором, хотя одна мысль появиться перед братом с поникшей головой действовала на Якоба удручающе. «Не смейся надо мной, я капитулировал», — скажет Якоб. «А я и не смеюсь, — ответит ему Александр без тени упрека, — я был почти уверен, что так все и кончится». Главной причиной, по которой Якоб затягивал свой уход из армии, была его встреча с Грет, их странные, почти невероятные, а для него довольно неясные взаимоотношения, о которых Бергеман, получавший в ответ на свое объявление письмо за письмом, кажется, догадывался. Унтер-офицер Якоб Тесен познакомился с девушкой в феврале. С тех пор прошло почти два месяца. Встреча эта произошла после несчастного случая с ним. Якоба отпустили из госпиталя с еще не совсем зажившей раной на ноге, уступив его настойчивым просьбам. Ему же очень не хотелось пропускать последние дни учебы, а главное — выпускные экзамены в школе унтер-офицеров. Экзамены он выдержал хорошо. А это кое-что да значило, если учесть, что он пролежал четыре недели в госпитале, вместо того чтобы сидеть в аудитории или присутствовать на практических занятиях на местности. Когда экзамены были сданы и Якоб получил унтер-офицерское звание, его вызвал к себе главный врач школы. — Товарищ унтер-офицер, — начал он, — ваш патриотизм и служебное рвение заслуживают всяческих похвал, однако я не могу направить вас в строевую часть. По состоянию здоровья вы сейчас не годны даже для несения внутренней службы. Поезжайте-ка лучше на несколько недель в дом отдыха, а там видно будет! Дом отдыха располагался в лесистой местности на юго-западе республики. Здание его прилепилось к каменистой скале, словно желая спрятаться от зимней непогоды. Поблизости от него находилось еще несколько профсоюзных здравниц с широкими окнами и шиферными крышами, блестевшими на солнце от дождя. На самой вершине горы в разрывах серых облаков виднелись развалины старинного замка. Стоило Якобу высунуться из окна и посмотреть в ту сторону, как он мог увидеть причудливые зубцы каменных стен, за которыми высилась массивная башня. «Вот бы подняться туда без помощи палки, — подумал в первый же день пребывания в доме отдыха Якоб. — И тогда считай, что мой отпуск кончился!» В доме отдыха царила тишина. Он был почти пуст: немногочисленные отдыхающие рассредоточивались по его коридорам и этажам. С двумя из отдыхающих, своими соседями по столу, Якоб подружился. Один из них был старик с редкими седыми волосами, другой — молодой парень с гладким лицом и золотистым пушком на подбородке. Якоб принял старика за майора из какого-нибудь штаба, а парня — за ефрейтора. Через несколько дней выяснилось, что Якоб ошибся: седовласый старик оказался обер-фельдфебелем из военного духового оркестра, где он играл на кларнете, а юнец — лейтенантом из органов военной юстиции. Оба они частенько приглашали Якоба поиграть с ними в скат. Раньше Якоб играл довольно редко: на стройке во время обеденного перерыва он чаще наблюдал за игрой товарищей из-за спины старшего брата Александра. Теперь же он играл сам, но играл неудачно. Две недели в доме отдыха пролетели незаметно. «Только бы поскорее отсюда вырваться и взяться наконец за работу!» — мечтал Якоб. Несколько раз он пытался подняться на гору, но каждый раз ему не удавалось осилить и половины пути до развалин замка. С Грет он познакомился за несколько дней до отъезда. Однако, как бы там ни было, а Якоб с тех пор лишился сна и покоя. Грет отдыхала по соседству в профсоюзном доме отдыха. На вид она была худенькая и, казалось, ничего особенного собой не представляла. У нее были черные жесткие волосы, живые карие глаза и маленький, усеянный веснушками нос. «Червячок какой-то, — подумал про нее Якоб, оторвавшись на миг от игры в скат и посмотрев на девушку. — Где это видано: веснушки и темные волосы!» Грет была не одна, она пришла с группой девушек одного с ней возраста. Подружки, коллеги или случайные знакомые. И стоило им только снять с себя мокрые от дождя куртки, как в доме отдыха сразу же почувствовалось радостное оживление. Девушек окружили отдыхающие. Зазвучала музыка, послышался смех, начался оживленный разговор, кто-то даже запел. Тут уж и партнеры Якоба не смогли усидеть за столом. Гарнизонный музыкант, мастер игры на кларнете, заметил, что когда-то он довольно сносно играл на аккордеоне. Было это сразу же после войны, он тогда устроился аккордеонистом в какую-то забегаловку или спекулянтское кафе. Услышав это, кто-то тотчас принес инструмент, и он заиграл на нем «Поедем со мной на Таити». Потом зазвучала песня о человеке, который обожал сосиски и салат. Начальник дома отдыха, в обычное время педант с недовольным выражением лица, на этот раз решил показать себя с лучшей стороны: в виде исключения он разрешил продавать в буфете коньяк, правда, разбавленный горячей водой и подслащенный двумя кусочками сахара, что сходило ему с рук. Не прошло и получаса, как начались танцы. — Надо же, нам все же повезло напоследок, — заметил молоденький лейтенант и покраснел. Своими словами он выразил мысли всех отдыхающих, за исключением одного. Этим человеком был Якоб. С кислой миной на лице он продолжал сидеть за столом, на котором были разложены карты. «Опять нога заболела, черт бы ее побрал, — подумал он. — То заноет, то заколет. Оно и немудрено при такой холодной и сырой погоде». Он заказал себе порцию грога, затем еще одну и еще. Уставившись на стакан, он подумал, что, пожалуй, лучше будет пойти и прилечь… — Эй, вы что, уснули? — услышал он над собой звонкий, чуть резковатый голос. Якоб прищурился. Перед ним, опершись о стол, стояла черноволосая девушка. Ее веснушчатый нос уморительно сморщился. — Ну, в чем дело? — спросила она, и в открытом взгляде ее не чувствовалось неприязни. — Вот именно, в чем дело? — недовольно спросил в свою очередь Якоб. — Объявлен белый танец. Вы разве не слышали? — Нет, — ответил Якоб. — Ну так теперь знаете. Якоб помедлил, потом покачал головой: — К сожалению… — Ах, вот как! — воскликнула девушка, и на носу у нее появились крошечные морщинки. — Молодой человек с мировой скорбью. Не хотите, ну и не надо! — Ошибаетесь. Никакой мировой скорби у меня нет и в помине. — Сейчас вы наверняка скажете, что не умеете танцевать, не так ли? — Именно так. — Совершенно излишне! — произнесла, она и отвернулась. Якоб пошарил рукой позади себя: его палка стояла около батареи. — А это вы видели? — спросил он, поднимая палку вверх. Девушка не двигалась с места. — Ах, вот оно что! Но ведь я же не знала этого. Только не разбейте ею лампочку. — Как знать, — сказал Якоб, — возможно, для вас я способен и на большее. Девушка смешно сморщила свой нос, но не ответила на слова Якоба и все еще продолжала стоять в нерешительности. — Ну, тогда я пойду… — Это почему же? — возразил Якоб, вдруг почувствовав к ней расположение, и отодвинулся немного в сторону вместе со скамейкой, на которой сидел. — Вы могли бы составить мне компанию! — Вот тут? — спросила девушка, указывая на место рядом с ним. — Ни за что! И вообще… — Она впервые, казалось, почувствовала смущение. — Я же вам ничего не сделаю. — Это и так заметно по вашему виду! В этот момент аккордеонист громогласно объявил: — А теперь играем «Кетченбродский экспресс»! Кое-кто из отдыхающих захлопал в ладоши, послышались крики «Браво!», а одна девушка спросила: — Это что еще за танец такой? Музыкант сыграл несколько аккордов. Танец начался. Девушка все еще продолжала стоять около стола Якоба. — Ну хорошо, — сказала она, — я принимаю ваше предложение. Но только сяду не на вашу скамейку, а вот с этой стороны. Играем пять минут, не больше!6
Как только девушка села, оба, не сговариваясь, замолчали. Якоб поиграл пустым стаканом, собрал карты в колоду и отложил их в сторону. Затем он украдкой из-под опущенных век стал внимательно рассматривать девушку. Та положила локти на стол и оперлась подбородком на сложенные руки. Якоб заметил, что руки у нее грубоватые и сильные. И как-то не вяжутся с ее худенькой фигуркой… Помолчав, девушка так посмотрела на него, что ему стало немного не по себе. — Куда исчезла ваша разговорчивость? — спросила она. — А пять минут скоро кончатся. — Хотите грога? — Могли бы и раньше догадаться. — То есть как это? — Надо же что-нибудь делать! — заметила она. — Значит, грог, — сказал Якоб и поднялся из-за стола. — Да уж сидите вы лучше на месте с вашей ногой! — приказала она, затем встала и, слегка пружиня, зашагала на своих тоненьких стройных ножках к стойке бара. Якоб смотрел ей вслед и думал: «Ангелом ее не назовешь. Скорее всего, это чертенок в юбке». Вернувшись к столу с двумя дымящимися стаканами на овальном подносе, девушка спросила: — Что случилось с вашей ногой? Надеюсь, вы мне об этом расскажете? На какой-то миг у Якоба зародилось подозрение: не разыгрывает ли она его? Разумеется, ему хотелось рассказать ей о несчастном случае, который произошел с ним на уборке урожая. В конце концов, эта история заслуживала внимания. К тому же зачем скрывать, если его ранение может произвести выгодное впечатление на слушающего. Якоб уже не раз рассказывал эту историю: сначала врачу, потом медсестре, затем товарищам по палате. И всякий раз совершенно непроизвольно его рассказ пополнялся некоторыми новыми драматическими подробностями. Да еще какими! В последнем варианте эта история выглядела следующим образом: — Работаем мы, значит, на поле. Вдруг вой сирены. Мы, понятно, бегом в деревню. Мы — это вся наша учебная рота. Смотрим, хлеб горит, но спасать уже почти нечего. Сплошная стена огня. Вдруг кто-то кричит: «Поросята там!» Ну, поросята, думаю, стоит ли рисковать из-за хрюшек? Но тем не менее бросаюсь туда с мокрой тряпкой на голове. Ну и жарища там, скажу я вам! В дыму почти ничего не видать. Прошло несколько минут, пока мне удалось отыскать поросят. А они визжат так жалобно. Вся эта затея могла бы кончиться плохо, не будь с тыльной стороны хлева вентиляционных отверстий под самой крышей. Туда я их по одному и повыбрасывал. Когда Якоб договорил до этого места, танец кончился. Он заметил, как девушка бросила взгляд на соседний стол. Там как раз рассаживались ее подруги. К ним присоединился кое-кто из отдыхающих, в том числе и молоденький лейтенант, который был уже явно навеселе. Он упражнялся в красноречии, пытаясь доказать, что грог, собственно говоря, не относится непосредственно к алкогольным напиткам, а скорее является медицинским средством. Девушек это страшно забавляло, и соседка Якоба тоже заулыбалась. Повысив голос, Якоб продолжал: — Да, так вот,повыбрасывал я их, значит, в эти отверстия. А одного никак поймать не могу. Ну и глупый же был этот последний! Глупее не придумаешь. Он даже не понимал, что его хотят спасти. Насилу я его поймал. Со злости схватил его за закорючку… «А с поросенком-то, — думал между тем про себя Якоб, — звучит недурно, нужно будет взять этот эпизод на вооружение и в следующий раз». — Когда же наконец я и сам пролез в отверстие, то тут, верно, и произошло что-то с ногой. Что именно, не знаю. Очнулся я на охапке сена, а потом приехала «скорая помощь»… — Интересная история, — заметила девушка и отпила чуть-чуть из своего стакана. — Видимо, вы ее часто рассказываете. А соответствует ли она действительности? — Что касается пожара, — произнес назидательным тоном Якоб, — и всего остального, так об этом даже было напечатано. В ноябрьском номере нашей армейской газеты. Можете убедиться в этом сами. — Прекрасно, — сказала Грет, — из вашего рассказа я поняла, что вы служите в армии… — Угадали, — признался Якоб и рассказал девушке о том, что недавно окончил школу младших командиров, получил звание унтер-офицера. — Сейчас я только и делаю, что считаю дни, которые мне осталось отбывать здесь. В части меня ждет танковый экипаж. — Неужели вы так торопитесь? — девушка испытующе посмотрела на него. — Тороплюсь. — А почему? — Да так. — Умный ответ, — заметила она и язвительно скривила свой маленький рот. — А что бы вам хотелось от меня услышать? — поинтересовался в свою очередь Якоб. — Должны же вы знать, почему вам так не терпится уехать отсюда, — не отступалась Грет. Якоб на миг замялся: — Ну, мне хочется поскорей вернуться на службу, потому что у нас там намного интереснее… — Только поэтому? Да вы же сами в это не верите. — Как? Вы не верите в то, что у нас в части много интересного? Знаете, что я вам скажу: у нас за месяц происходит больше разных событий, чем где-нибудь за целый год. — Я совершенно не то имела в виду. Вы переиначиваете мои слова. — Я расскажу вам один случай, — продолжал Якоб, сделав вид, что он не расслышал замечания девушки. — Тогда-то вы поверите, что у нас тоже кое-что бывает. К примеру, история, которая произошла во время ночного марша. Вы меня слушаете? — Да, — ответила девушка. По-видимому, в душе она уже отказалась от намерения дальше выспрашивать Якоба. — Так вот, — начал он, — выехали мы как-то раз на учения. Ночь стояла темная хоть глаз выколи. Наши танки шли с выключенными фарами, только маленькие лампочки горели впереди. Когда наша колонна проходила по запутанным улочкам одного населенного пункта, мы на крутом повороте задели за какой-то сарай и развалили угол… — Ничего интересного в этом я не нахожу, — заметила Грет. — А уж смеяться над этим и подавно не буду. Якоб оживленно замахал руками: — Да нам самим тогда было не до смеха! Но, представьте себе, хозяин сарая на следующий день от радости чуть ли в ладоши не хлопает. Уж он-то знал наверняка, что солдаты все ему отремонтируют, да так, что сарай станет лучше, чем был. Действительно, после учений мы поставили для его сарая совершенно новую стену, даже полкрыши перекрыли новенькой заводской черепицей. А когда сарай был готов, хозяин позвал нас к себе в дом и выставил на стол несколько бутылок анисовки. Настойка была кислая, но мы ее стойко пили. От последней бутылки мы немного окосели. А хозяин сарая, пожимая нам на прощание руку, разоткровенничался: «Стена старая была, давно покосилась, того и гляди, упадет. Если бы вы ее не задели, друзья, мне самому пришлось бы снести ее и ставить новую: инспекция по безопасности давно уже на меня наседала. — Потом он еще больше понизил голос, принял таинственный вид и продолжал: — Если у вас еще будет случай, друзья, то имейте в виду: задняя стенка тоже не то, что нужно. Только заранее предупредите меня, чтобы я вовремя вывел оттуда кроликов и козу…»7
«Неважный был вечер», — подумал на следующее утро унтер-офицер Якоб Тесен, стоя в своей мансарде перед зеркалом. Настроение было плохое, да и голова болела. А ведь каким многообещающим было начало… Он вспомнил, как заразительно смеялась она. — Ну надо же! — воскликнула она. — Почти как в анекдоте! — Но это не анекдот, — заметил Якоб. — Знаете что, давайте выпьем еще грогу! — Я не буду, — отказалась девушка. — Правда? — Правда, но вам я могу его принести. Они посидели вместе еще с полчаса. Якоб давно уже не чувствовал себя так хорошо. Они с любопытством наблюдали за молоденьким лейтенантом, который сидел за соседним столом и становился все менее разговорчивым, Вскоре лицо его побледнело еще больше, а затем обер-фельдфебель увел его спать. За соседним столиком освободились два места. Якоб и Грет пересели туда. Спустя несколько минут Грет предложила: — А может, все же попробуем потанцевать? Забудьте на миг о своей палке, и все будет в порядке. И Якоб забыл о палке, так как все время смотрел только на Грет. Веснушчатый носик девушки вдруг показался ему родным и очень знакомым. Виною всему был, по-видимому, выпитый грог, который и заставил его произнести следующую фразу: — Фу, какой тут ужасный воздух! — Вот уж не нахожу, — ответила Грет. — Здесь тепло и уютно. — Нет, здесь все-таки душно, я бы с удовольствием проветрился. — Ну так идите. — А вы не хотите пройтись со мной? — Честно говоря, мне не хочется, — призналась она. — Ну хоть немножечко, только до дверей… — настаивал он. Они вышли на веранду и стали смотреть вниз, в долину, где в молочном тумане темнели мокрые ели. Якоб и Грет стояли рядом. Девушка втянула голову в плечи, казалось, ей было зябко в тоненьком свитере. «В первый раз я нахожусь наедине с почти незнакомой девушкой, — подумал Якоб. — Другие, которых я знал до сих пор, не были для меня чужими. Как правило, они были знакомы мне еще со школьной скамьи. С некоторыми из них я даже целовался». Однажды вечером его старший брат Александр, оторвавшись от газеты и наморщив свой высокий лоб, заметил: — Не слишком ли рано ты начал? — Что ты имеешь в виду? — Якоб попробовал сделать вид, что не понимает брата. — Посмотри на себя в зеркало и вытри с лица губную помаду! Теперь, находясь в мансарде, Якоб мог глазеть на себя в зеркало сколько угодно. Никакого следа губной помады: из зеркала на него глядела бледная небритая физиономия с заспанными глазами. — Наверное, только этого вы и хотели? — спросила она нараспев и без удивления, когда Якоб обнял ее за плечи и склонился над ней. Ловко вывернувшись, Грет схватила его за запястья. — Всегда одно и то же, — бросила она и ушла с веранды. «Сам во всем виноват», — подумал Якоб, глядя в зеркало, и постучал себе пальцем по лбу. Прошло несколько дней, и воспоминание о понесенном поражении забылось. Он все реже думал о случае на веранде. Теперь им полностью овладела новая мысль: «Если ничего не произойдет, то дней через десять можно собирать свой чемодан и отправляться в заданном направлении». Эту надежду вселил в Якоба лечащий врач, правда, с одной оговоркой: «Если к тому времени сможешь прилично бегать!» «Итак, долой палку и давай как следует тренироваться. В конце концов мог же я танцевать без этого костыля. Ах да, танцевать… — Прошедший вечер снова вспомнился ему. А с воспоминанием возник и образ девушки с жесткими темными волосами. — Этот веснушчатый нос…» — подумал Якоб и вдруг почувствовал к нему какую-то симпатию.8
Якоб тренировался по три раза в день. К своей цели — развалинам замка на вершине горы — он с каждым разом подвигался все ближе и ближе. Для него это было нелегким делом, поскольку тропинка наверх изобиловала крутыми подъемами и спусками и была усеяна скользкими камнями. За пять дней до отъезда, это было перед полуднем, Якоб тренировался в беге на длинную дистанцию. Вдруг за поворотом раздался треск. Якобу показалось, что кто-то сломал молодое деревце. Он остановился, прислушался и затем побежал дальше, поглядывая по сторонам, и вдруг на лесной опушке увидел ее. На Грет были черные в обтяжку брюки и оливкового цвета куртка с фигурной отделкой. Волосы девушки растрепались от влажного ветра. Она стояла, повернувшись к нему спиной, и держала в руках сучковатую палку. Слова раздался треск, и палка переломилась об ее колено на две части. У ног Грет уже высилась горка наломанных сучьев. — Дрова собираете? — громко спросил Якоб. — А, командир танка! — удивленно воскликнула девушка и выпрямилась во весь рост. Якоб осмотрелся вокруг. — Вы здесь совсем одна? — Добрый день. Как видите, одна, если не считать вас. — А ваши подруги? — Они спят. — Как, еще спят? — Нет, уже спят. Она наклонилась, подняла с земли палку и взвесила ее в руке. «Интересно, что будет теперь?» — подумал Якоб. Грет посмотрела, как бы примериваясь, вперед, туда, где на окраине леса стояла тоненькая елочка. Неожиданно размахнувшись, девушка с силой бросила палку в сторону елочки. Раздался звонкий удар по стволу, и тысячи дождевых капель упали на землю. — Это чтобы не потерять спортивной формы, — пояснила она. Грет повторила бросок еще несколько раз и почти всегда попадала в цель. Якоб все стоял и смотрел на нее. «Она чем-то напоминает мне натянутую пружину», — подумал он и сказал: — Смотрю я на вас и знаете с кем сравниваю? — С кем? — спросила она, вытирая руки носовым платком. — Со своим старшим братом, — ответил Якоб. — Ему уже за тридцать, но он не может равнодушно пройти мимо хотя бы одного тяжелого предмета на стройке, обязательно должен его поднять. Он легко выжимает ось полевой вагонетки. — Ваш брат мне симпатичен, хотя я его и не знаю. — Наверное, потому, что он далеко отсюда. Мы жили с ним вместе с шестьдесят первого года, пока мне не надоело и я не сбежал. — Вы так много говорите о своем брате. А где же ваши родители?.. — Мои родители бросили меня, — равнодушно ответил Якоб. — Они там, в Западной Германии…— Ешь помедленнее, — заметил Якобу на другой день молоденький лейтенант, сидевший с ним за одним столом, и в голосе его прозвучало восхищение и даже зависть. — У тебя еще много времени. Даже если и опоздаешь, она наверняка подождет тебя. — Женщин нельзя заставлять ждать, — ответил Якоб, — а эту тем более. — Он быстро проглотил еду и первым вышел из столовой. Недалеко от дома отдыха, прямо под склоном горы, журчал ручей. Легкий деревянный мостик соединял оба каменистых берега. Грет уже ждала на условленном месте. Она сидела на перилах и длинной палкой рисовала на песке какие-то фигурки. Когда Якоб приблизился, она легко соскочила с перил. — Куда пойдем? — спросила она. — Мне все равно, — ответил Якоб. — Неподалеку отсюда есть старая церковь. Полчаса ходьбы. — Вот как? — удивился Якоб. — Старые церкви меня как-то не очень интересуют. — Но эту стоит посмотреть. Когда-то в ней читал свои проповеди сам Томас Мюнцер. — Вот уж не подумал бы, — сказал Якоб. — Мне казалось, что, кроме рыцарей-грабителей, там наверху никогда никого не было. — Так думают многие. Хотите, я составлю вам план экскурсий на целую неделю вперед? — Вряд ли стоит, — ответил Якоб. — К сожалению, из этого ничего не получится: через четыре дня моя путевка кончается, и я уезжаю…
— Угадайте, что меня все больше и больше интересует? — спросил Якоб на следующий день у Грет, когда они снова встретились. — Что же? — спросила она, замедляя шаг. — Мне хотелось бы узнать, кто вы такая, — сказал Якоб. Она откинула назад голову и лукаво ответила: — Девушка, а кто же еще? — Не замужем? — Послушайте, на такие вопросы я не отвечаю! — Значит, не замужем, — улыбнулся он, — наверняка у вас еще нет друга. — Я отказываюсь отвечать на эти вопросы! — Пожалуйста. Но тогда скажите по крайней мере, чем вы занимаетесь? — А вот это отгадайте сами. — Вы — студентка. Она подумала и кивнула головой. — Наверняка вы изучаете историю. — Нет. — Литературу? — Тоже нет. — Если не хотите говорить, я не настаиваю. — Я изучаю сельское хозяйство, — сказала она. — Правда, учиться начала только осенью, но если все пойдет хорошо, то через несколько лет я буду агрономом. «Нам становится интересно друг с другом, — с удовлетворением подумал Якоб. — Но, к сожалению, через три дня меня здесь уже не будет…»
Утром следующего дня сосед, молоденький лейтенант, за завтраком сказал Якобу: — По твоему лицу, дорогой, видно, что ты втрескался по самые уши. — Ерунда какая! — фыркнул Якоб. — Твоя реакция мне понятна. Не вешай носа, вы подходящая парочка. — И совсем мы друг другу не пара! — решительно заявила Грет, когда Якоб во время очередной встречи завел с ней разговор на эту тему. — Теперь я знаю, о чем вы думаете, — сказал Якоб. — Вы думаете о курортных приключениях, и только. Я лично о них не думаю. Просто так получается, что мы теперь видимся каждый день. Мы много гуляем вместе, разговариваем, спорим, но почти ничего не знаем друг о друге… — О вас я, между прочим, кое-что знаю, — улыбнувшись, возразила она. — Вспомните наш первый вечер в доме отдыха… — Вы не можете мне его простить? — с чувством спросил Якоб. — Или не хотите? — Что вы! — засмеялась Грет. — Ведь я ко всему привыкла! «Теперь она преувеличивает насчет того, что «ко всему привыкла», — подумал он, но все-таки спросил: — Как это понимать? — Прежде чем стать студенткой, я работала в деревне и была там единственной девушкой на нашем участке. Остальные все парни — двадцать один человек. И хотя я выгляжу не ахти как из-за своего веснушчатого носа, мне пришлось от них отбиваться… «Она считает себя некрасивой, значит, она чуточку тщеславна. С ума сойти, Якоб, но ничего не поделаешь: завтра твой поезд отправляется!» — Помни о том, какую цель ты перед собой поставил, — сказала Грет. Якоб кивнул головой: — Да, Грет, я знаю. — Удастся ли тебе ее осуществить? — Я должен. — Хочешь, я пойду впереди? — Оставь, Грет, ведь моя нога уже зажила. — Если будет трудно идти, обопрись на меня… Но Якоб не услышал ее слов, занятый одной мыслью: «Жаль, что это наша последняя встреча».
9
«Я все еще люблю тебя, — думал Якоб, — хотя и дом отдыха, и совместные прогулки в горы остались далеко позади. Семь недель ни единой весточки. Семь трудных недель в этом полку, в этой роте… Я люблю тебя, Грет, хоть ты и говоришь, что ты не красивая. Ты прекрасна, а быть прекрасной — это намного больше. Умные люди всегда прекрасны, а ты умная. Ты уверена в себе, ты сильная. У тебя есть цель в жизни, и ты знаешь, чего хочешь, к чему стремишься. Ты простая, веселая, добрая. И поэтому прекрасная…» Мысленно он видел перед собой лицо девушки, такое, как тогда, поздно вечером, на развалинах башни. В ее глазах светились крошечные огоньки. Он знал: сейчас она не стала бы сопротивляться, если бы он решился поцеловать ее. Ее маленькие сильные руки не оттолкнули бы его, потому что это был их последний день, их последний совместный вечер. Но Якобу не хотелось дешевой победы над девушкой. «Я вообще не хочу никакой победы, — подумал он. — Я хочу, чтобы мы сами нашли путь друг к другу… Но почему же ты заставляешь меня так долго ждать? Если бы ты была сейчас здесь, я рассказал бы тебе о маленьком мальчике, которого зовут Олаф и который повсюду таскает с собой пустую бутылку с длинным горлышком. Только что он стоял рядом со мной, отделенный от меня забором, и задавал мне вопросы, среди которых был и такой: «Но ты же не вечно будешь ездить на одном танке, правда?» Ты думаешь, это звучит абстрактно? Для меня — нет. Это чуть ли не стало историей, Грет, в преждевременной развязке которой и ты сыграла свою роль. Но, поскольку мне кажется, что ты не понимаешь, в чем тут дело, я хочу рассказать тебе все с самого начала. «Жил-был» — так обычно начинаются сказки, но у сказок всегда хороший конец. А какой конец будет у этой истории, сказать пока еще невозможно. Итак, жил-был маленький мальчик. Пожалуй, ему было столько же лет и он был такого же роста, как Олаф. Отец мальчика был профсоюзным работником в одном из крупных универмагов, в котором продавщицей в отделе «Все для женщин» работала и его мать. Из месяца в месяц отец мальчика собирал членские взносы, распределял путевки в дома отдыха, организовывал собрания, выпуская плакаты с лозунгами: «Работай вместе со всеми, планируй вместе со всеми, управляй вместе со всеми!» или «Думать — это долг каждого гражданина!». Мать продавала одежду: повседневную, свадебную, специальную… Родители хорошо зарабатывали, жили неплохо, обеспеченно. Маленький мальчик рос так же беззаботно, как и тысячи его сверстников. Но однажды случилось нечто совершенно невероятное! В один из воскресных августовских дней его родители вдруг уехали, уехали навсегда, бросив своего маленького сына на произвол судьбы… Они никого не обманули, не оболгали, у них не было долгов, они не причиняли никому зла. Профсоюзная касса тоже была в порядке, как и касса в отделе «Все для женщин». Никто им не угрожал, и все же они уехали, купив себе два билета по двадцать пфеннигов. Граница с Западным Берлином тогда еще была открыта, еще ровно одну неделю… Может быть, это событие, и сыграло решающую роль в том, что мальчик рос особенно чутким, что он проявлял интерес к вещам, которые выходили за рамки его детского разума. «Они показали свою беспринципность, — заявил старший брат Александр, — свое неверие в осуществление наших планов. Потому-то они и сбежали. Не вешай носа, братишка. Будь уверен, мы с тобой не пропадем!» И Александр, который до того времени отличался непоседливостью и очень часто переходил с одной стройки на другую, из-за меня сразу же осел на одном месте и стал моим опекуном. Он устроился на работу в Берлине. На это же предприятие после окончания школы пришел учеником и я. Старший был всегда впереди своего младшего брата. Когда он стал бригадиром, я только приступил ко второму году обучения, когда же мне присвоили звание квалифицированного рабочего, он уже был мастером, а когда мне впервые прикололи планку активиста, у него их было уже три. Рабочие называли его Александром Великим, меня же прозвали Якобом Маленьким. Долгое время мне нравилось покровительство брата. Но в один прекрасный день я от него сбежал. Ты спросишь о причине? В конце концов надоедает оставаться все время в тени такого знаменитого брата… Александр был заметной фигурой на предприятии, постепенно он сделался чуть ли не его руководителем. В его распоряжении находились цеха, он командовал многими бригадами. Я же был всего лишь обыкновенным электриком, мог командовать только самим собой. Брат заставлял меня заниматься пустячной работой: устранить короткое замыкание, изолировать оголенную проводку, починить вилки с плохим контактом. Если я хотел заняться чем-нибудь более серьезным, он почти всегда говорил: «Не трогай этого, малыш. Это для тебя слишком сложно. Иди-ка лучше отдохни, я сам это сделаю». Человек, который хоть чуть-чуть себя уважает, не может позволить, чтобы к нему так относились всю жизнь… В армии с самого первого дня все было совершенно иначе. Слова обер-фельдфебеля, с которыми он обратился к новобранцам, до сих пор звучат у меня в ушах. «С сегодняшнего дня вы солдаты, — заявил он нам, стоя перед строем и слегка раскачиваясь. — Понятно?» «Понятно!» — хором ответили мы ему. «Думать — вот первая заповедь солдата, — продолжал он. — Понятно?» — «Понятно!» — «Чего вам здесь не придется испытывать, так это поблажек! Зато всех вас здесь ожидает высокая требовательность, с моей стороны, во всяком случае! Одновременно мы, командиры, будем оказывать вам доверие, поскольку высокие требования можно предъявлять только к тем, кому доверяешь. Понятно?» — «Понятно!» — «С этой минуты вся ваша жизнь будет во всем регламентироваться положениями уставов и приказами командиров. Итак, на протяжении полутора лет, пока вы будете находиться в армии, ваша служба будет оцениваться по результатам, конкретным результатам. Кто вначале не справится, тому помогут. Но главное — надо стараться самим. Чего мы от вас ожидаем? Чтобы каждый из вас стал настоящим воином, способным, если потребуется, встать на защиту своего социалистического отечества. Теперь все понятно? По-видимому, нет. И тем не менее — налево! Шагом марш!» «Совсем другая музыка», — подумал я тогда, и, честно говоря, мне она пришлась по душе. По крайней мере, не то, что мелочная опека Александра, без которой шагу нельзя было ступить. Сейчас ты поймешь, Грет, зачем я тебе все это рассказываю. Я стал унтер-офицером, потому что хотел избавиться от опеки брата. Я хотел доказать ему, что я тоже кое-чего стою. После окончания школы унтер-офицеров меня назначили командовать танковым экипажем, который должен находиться в состоянии постоянной боеготовности и каждый член которого хорошо знает, что от него потребуется в той или иной обстановке. Вот почему мне так не терпелось поскорее уехать из дома отдыха и попасть в свою часть… За время службы в армии я пережил немало неприятностей, не раз оказывался в трудных ситуациях. А теперь мне кажется, Грет, что я не тот командир, который тут нужен… Мой экипаж находится на хорошем счету у командования. Мы неплохо водим наш танк и метко стреляем. Однако у нас очень неважно обстоит дело с дружбой, слаба взаимовыручка, не хватает веры в коллектив, короче говоря, наш экипаж не спаян. И я не могу этого добиться, потому что ребята просто не понимают меня. Ты пока еще не можешь понять, какую роль в моей жизни играет маленький мальчик. Но вспомни его последний, такой наивный вопрос…» …Якоб внимательно смотрел вслед удаляющемуся мальчугану, который уже превратился в точку. Сейчас он совсем исчезнет среди раскидистых сосен. Унтер-офицер повернулся и зашагал через песчаные дюны к казарме. Песок скрипел под его ногами. «Нет, мне совсем не обязательно вечно ездить на одном и том же танке, — мысленно отвечал он на вопрос Олафа. — Танков так много. И самых различных типов: средние танки, плавающие танки… И на каждом из них должен быть командир. Отслужившие свой срок унтер-офицеры демобилизуются, и на их места назначают новых. Вот где выход из положения, разом можно снять с себя весь тяжелый груз. И не будет ни Петцинга, ни Штриглера, а главное — Бергемана. Перевод в новую часть — это не бегство, а всего лишь перевод. И у Александра не будет повода для покровительственных усмешек. Да и Грет, раз она ничего не знает, не будет задавать неловких вопросов…» Это решение, которое вдруг пришло Якобу в голову, нравилось ему все больше и больше.10
Вечером, выйдя из здания штаба полка, лейтенант Тель облегченно вздохнул и подумал: «Наконец-то мне удалось получить отпуск, на целых четыре дня!» А ведь еще совсем недавно он не представлял, получит отпуск или нет. Майор Брайтфельд, как и несколько недель назад, задумчиво склонил голову набок, и это чуть было не лишило лейтенанта выдержки. Тель уважал своего начальника, этого массивного, неуклюжего человека, которого невозможно было представить пролезающим в башенный люк, но который владел своим танком так, как никто другой в полку. Почти все офицеры были самого высокого мнения о военных способностях командира батальона. Какую бы тактическую задачу перед ним ни ставили, маршевая скорость его батальона всегда была высокой, развертывание в боевой порядок — быстрым и организованным, руководство батальоном — надежным и точным. Однако, когда речь заходила об отпусках, майор становился невыносимым. Затаив дыхание, лейтенант Те ль думал: «Интересно, по каким причинам он теперь откажет мне в отпуске?» А причины для этого у майора каждый раз были самые разные: то не закончены учения по практическому вождению танков, то не проведены боевые стрельбы, то необходимо пересмотреть целую серию учебных фильмов… — На нас опять что-то надвигается, — задумчиво произнес командир батальона и при этом спокойно взглянул на Теля. — А когда у нас этого не бывает, товарищ майор? — возразил ему Тель с некоторым раздражением. — На нас вечно что-нибудь да надвигается. Однако это не может служить причиной, по которой я вот уже два месяца никак не могу съездить домой. — Вы командир роты, — сказал Брайтфельд, — и если то, о чем я слышал, подтвердится, я не смогу отпустить вас сейчас. Ваш отец в такое время тоже не смог бы отпустить ни одного из своих командиров. «Вечно, когда я должен от чего-то отказываться, он приводит моего отца мне в пример», — подумал Тель и сказал: — Я ведь не штатный командир роты, а лишь временно замещаю его. — Да, но это «временно» тянется чуть ли не четверть года, — заметил Брайтфельд. «Неужели прошло уже так много времени с тех пор, как с нашим ротным произошел несчастный случай? — подумал Тель и загрустил. — Пора бы ему наконец выписаться из госпиталя. Работы невпроворот. Даже о своем первом взводе некогда подумать. Да и домой в конце концов хочется съездить!» — Но для меня это очень важно, товарищ майор! — настаивал он. — Мне вы тоже нужны, — не отступался от своего Брайтфельд. Он постучал пальцами по крышке стола. — На днях появится сообщение о крупных учениях, которые состоятся, так сказать, вне плана. Невиданные по размаху учения с участием соединений стран — участниц Варшавского Договора. Проводиться они будут через месяц или, возможно, через два. Но ведь к ним нужно как следует готовиться. — Неужели я должен ждать еще два месяца? Брайтфельд улыбнулся и небрежно махнул рукой. — Не так долго, нет, но недельки две придется подождать. — Но это невозможно! — не выдержал Тель. — Нам необходимо полностью завершить программу форсирования танками водных преград. — Несмотря ни на что, — настаивал Тель, — я не могу больше ждать. Я должен съездить домой хотя бы на несколько дней. — Почему? «Потому что моя невеста мною недовольна», — мысленно ответил Тель. Последний раз, было это примерно месяца два назад, она у него спросила: — Выйдет у нас с тобой вообще что-нибудь со свадьбой? Тогда Тель с уверенностью пообещал: — Мы поженимся еще в этом году. В следующий раз, когда приеду в отпуск, обо всем договоримся и все подготовим. Однако Елена только неопределенно пожала плечами. Кто знает?.. И ее сомнения, видимо, не были лишены оснований. Тель познакомился с ней, когда она была еще студенткой факультета славистики. Она прекрасно владела тремя языками, и ей предложили работать по контракту в качестве переводчицы. С тех пор она разъезжала то с каким-нибудь физиком-атомщиком на сессию в Варшаву, то с ученым-метеорологом на международный конгресс в Ленинград, то для разнообразия с двумя-тремя кинематографистами в Варну или Констанцу… «Эти киношники особенно любят кататься по свету, — думал Тель, — как будто все комедийные фильмы необходимо снимать только на Черном море или еще где-нибудь за границей». — Моя невеста случайно оказалась дома всего на одну неделю, а со свадьбой, как вы знаете, хлопот немало, — ответил Тель. — Хорошо, — нерешительно произнес Брайтфельд, — даю вам два дня. — Этого слишком мало, мне нужна по крайней мере неделя! — Хорошо, три дня. — За три дня я ничего не успею сделать, мне нужно хотя бы шесть. Некоторое время они еще торговались. Кому-нибудь другому Брайтфельд просто не дал бы и пикнуть, однако лейтенанта он знал давно, знал, что на него вполне можно положиться. Они вместе участвовали в многочисленных учениях, боевых стрельбах, проверках, и между ними завязались дружеские отношения. — А с программой по преодолению водных рубежей вовремя справитесь? — поинтересовался Брайтфельд. — Так точно, товарищ майор! — Хорошо, договорились — четыре дня. — Подчиняюсь власти, — вздохнув, ответил Тель. — Подчиняйтесь, подчиняйтесь, — сказал Брайтфельд. — Давайте сюда ваш рапорт! — Медленно, словно все еще не желая окончательно согласиться, он подписал листок, протянул его через письменный стол Телю и неторопливо почесал затылок. — В конце концов, мы с вами оба солдаты, — сказал он. — Короче, вы понимаете, что я хочу сказать. У вашего отца, полковника… Через пять минут Тель уже спускался по широкой лестнице штаба. Теперь, когда отпускное свидетельство лежало в его удостоверении, у него было только одно желание: как можно скорее переодеться, вытащить из сарая заправленный еще несколько недель назад мотоцикл — и в путь! Но сначала ему надлежало выполнить кое-какие формальности по передаче дел. По бетонной дорожке он прошел к высокому зданию казармы, где на одном из этажей размещалась его рота. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел в свой кабинет, — какая-то бумажка, лежавшая на письменном столе. Тель отлично помнил, что раньше бумажки здесь не было. Он обошел вокруг стола, не ожидая ничего хорошего. «Прочитать или не стоит?» Наконец он взял ее в руки и развернул. Почерк был разборчивый.«Я, унтер-офицер Якоб Тесен, — читал Тель, — прошу освободить меня от должности командира танка второго танкового взвода и перевести меня в одну из рот соседнего полка. Основание: отсутствие взаимопонимания с экипажем танка».«Теперь прощай, веселый отпуск, — мелькнуло у лейтенанта в голове, — конечно, если не произойдет какого-нибудь чуда». Он подошел к окну и раздвинул шторы. Внизу на широком, поросшем травой плацу было тихо. Несколько унтер-офицеров медленно шли к столовой. «Нет, — подумал Тель, — на чудо рассчитывать не стоит. Но еще не все потеряно, кое-что можно исправить. С этим Тесеном нужно поговорить, и притом немедленно!» Отворив дверь кабинета, он позвал из коридора дежурного фельдфебеля. — После ужина, — приказал ему Тель, — пришлите ко мне унтер-офицера Тесена! «Все уладится, и через полчаса меня уже здесь не будет», — мысленно успокоил он себя.
11
Однако желанию лейтенанта Теля не суждено было сбыться. Елену увидеть не удалось, да и Якоб не отказался от своего решения. — Представь себе, отец, сколько я его ни уговаривал, все впустую! — объяснял Тель отцу, с которым ему удалось встретиться дома перед самым отъездом на учения. Из-за серого лесного массива порывом ветра донесло гул моторов. Полковник, сидевший на плащ-палатке у небольшого костра, подкинул в огонь охапку хвороста. Ветки намокли от дождя: в костре послышалось шипенье и треск, потом кверху повалили густые белые клубы дыма. Некоторое время полковник ворошил палкой в костре, и Телю казалось, что отец не слышит его слов. Но полковник вдруг спросил: — Так, значит, не хочет он, этот твой унтер-офицер, оставаться у вас в роте? — Да, — ответил Тель, — унтер-офицер Тесен настаивает на своем. Гул моторов все нарастал. Полковник поднял голову. — Водитель! — крикнул он высоким скрипучим голосом, не оборачиваясь. В укрытии за соснами хлопнула автомобильная дверца. Ефрейтор, выскочив из кабины, подбежал к костру. Под мышкой он держал туго набитую папку, потрепанную, с оторванными ручками. Тель вспомнил, что когда-то подарил ее отцу в день двадцатилетия его воинской службы. — Зачем она мне, — проворчал тогда отец и подозрительно покосился на подарок сына, — студент я, что ли? Однако папку все же взял, и с тех пор она стала его постоянной спутницей на всех учениях. Она всегда была туго набита топографическими картами, таблицами, схемами, сигаретами… — Что случилось? — спросил шофер, остановившись сбоку за спиной полковника и несколько наклонившись вперед. Отец взглянул на сына, и в его прищуренных глазах вспыхнул задорный огонек. — Нет, ты только послушай, сынок! И он еще называется моим водителем! А сам даже понятия не имеет, как нужно докладывать по уставу! — Полковник повернулся в сторону ефрейтора. — Надо докладывать: «Товарищ полковник, ефрейтор…» Э-э-э, как ваша фамилия?.. — Майер, — подсказал шофер, — ефрейтор Майер. — Вот так и докладывайте: «Товарищ полковник, ефрейтор Майер по вашему приказанию явился!» Вот как это делается, ясно? — Да, — ответил шофер и кивнул головой. — А что вам угодно? — Угодно?! — Голос полковника стал еще более скрипучим. — Угодно?! Сосисок с горчицей, да побольше! Черт побери, когда вы наконец поймете, что вы не в своей пивной, а в воинской части! — И, повернувшись к сыну, добавил: — До армии он работал официантом в лейпцигской «Астории». Хотел бы я знать, как ему удалось стать шофером! Ефрейтор начал было что-то говорить об обществе «Спорт и техника», однако полковник нетерпеливым жестом оборвал его. — Вы что-нибудь слышите? — спросил он, подняв кверху свой указательный палец. — Это, наверное, танки! — У вас прекрасный слух, почтеннейший, это действительно танки. А скажи-ка мне, сколько их? — Не знаю, — ответил ефрейтор, пожимая плечами, и при этом скорчил скорбную мину, словно произнес дежурную фразу всех официантов: «Очень жаль, но печенка сегодня уже кончилась». — А что вы вообще знаете? Ничего вы не знаете! — сердито бросил полковник. Тут в разговор вмешался Тель: — Судя по гулу, их три. Три танка, значит, один взвод. Бросив на сына одобрительный взгляд, полковник недовольным тоном продолжал: — А тебя я не спрашивал, товарищ лейтенант. И вообще, разве в твоем полку принято перебивать старших по званию? Сын улыбнулся. — Так, — проговорил полковник, обращаясь снова к ефрейтору, — сейчас давай что есть силы дуй через лес туда. Посмотришь, как подходят танки. При этом следи как следует за маршевым порядком, я хочу знать это. А когда подойдет весь батальон, вернешься ко мне и доложишь! — Слушаюсь! — Только смотри, чтобы тебя никто не заметил, — добавил полковник, — они ведь не знают, что мы здесь! Ефрейтор со всех ног бросился выполнять приказ. Полковник посмотрел ему вслед и, немного помолчав, пробормотал себе под нос: — Хоть он и всего неделю у меня, этот Майер, но водитель он классный. Хотел бы я знать: как его угораздило стать официантом? Полковник вытащил из костра горящий сучок, а из кармана брюк — смятую пачку папирос и закурил. Прикуривать было нелегко: сучок дымил, и дым ел глаза. Вдруг полковник заговорил снова: — История с унтер-офицером, кажется, задела тебя за живое, если ты ради нее пожертвовал частью своего отпуска и приехал посоветоваться со мной. Лейтенант подумал: «С отпуском это не так уж важно. Елена все равно улетела, причем совершенно неожиданно. А может, и нет, кто знает?«Очень жаль, — писала она в записке, — что у нас и на этот раз ничего не вышло. Неожиданно посылают в Прагу на сессию социологов и экономистов. Если все будет хорошо, вернусь через два дня».Итак, по крайней мере половина с таким трудом полученного отпуска оказалась у Теля потерянной. Но тут он вспомнил об отце и решил заехать к нему. Хорошо еще, что удалось застать отца дома. «Не повезло тебе, сынок, — вспомнил Тель слова отца, — к сожалению, нет ни одной свободной минуты. Сейчас уезжаю на танковые стрельбы, если хочешь, поедем вместе, завтра к утру вернемся…» — Он тебе очень нужен, этот унтер-офицер? — услышал Тель вопрос отца. — Он мне просто необходим, отец. Так же необходим, как тебе любой из твоих командиров, когда вы отправляетесь на большие учения. Ты ведь, наверное, слышал о предстоящих крупных маневрах? — Лейтенант просвещает командира дивизии, — шутливо заметил полковник. — Да, случайно я слышал о них и еще кое о чем. «Его обычные шутки, — подумал Тель, — а я вечно на них попадаюсь». — Одно могу сказать тебе уже сейчас, — полковник швырнул окурок папиросы в костер. — Мы опять будем соперниками: ты — с «голубыми», я — с «красными». — Его глаза хитро блеснули. — Спасибо за информацию, — сказал Тель. — Старое соперничество между отцом и сыном. На этот раз, так сказать, на высшем уровне. — Болтун ты, — улыбнулся полковник и подтолкнул сына в бок, — молоденький болтунишка! И оба рассмеялись.
12
О старом соперничестве между отцом и сыном не могло быть и речи. Наоборот, Тель-младший испытывая по отношению к Телю-старшему должное уважение и восхищение. И не только потому, что отец был полковником и командовал дивизией, и не из-за отцовского прошлого, хотя в прошлом отца и была такая деталь, мысль о которой наполняла сына чувством все большей и большей гордости. «Действительно, — приходила ему иногда на занятиях по истории мысль, — не каждый может похвастаться отцом, который с самого начала, почти с первого часа войны против Советского Союза, стоял на правильных позициях: сперва воевал в партизанском отряде в селах Белоруссии, потом — в качестве представителя партии — вел пропагандистскую работу в лагерях для немецких военнопленных». «Четыре вещи привез я с собой в качестве сувениров о тех временах, — рассказывал полковник, когда находился в приподнятом настроении. — Вот эти три медали и свой скрипучий голос. — При этом он постукивал пальцем по своей худой шее. — Медали — за участие в боевых действиях против гитлеровцев, а голос — от бесконечных дискуссий. Порой нелегко приходилось тогда с пленными земляками. И если нам удавалось кое-кого из них переубедить, то лишь потому, что сами мы были непреклонными. Кое-кто из пленных за короткое время превратился в настоящих борцов». Глубокое ясное мышление, целеустремленность в действиях, постоянное внимание к задачам времени — вот что было характерно для отца всегда. В этом ему можно было позавидовать. «Он женат на своей армии, — думал иногда о нем Тель-младший. — И если в учебниках по истории будет написано: «В пятидесятых годах двадцатого века на немецкой земле впервые были созданы Вооруженные силы рабочих и крестьян», то я буду знать, что мой отец, полковник, тоже принимал участие в их создании, и не где-нибудь, а на самом переднем крае». Иногда, правда, из-за бесконечных отсутствий отца сын чувствовал себя заброшенным. В этом, собственно, и заключалась основная причина того, что он определил как старое соперничество. Некоторое время отец и сын находились в натянутых отношениях, которые особенно обострились после внезапной смерти матери. Однажды это дало отцу повод спросить у сына: — Ну а чем ты намерен заниматься дальше? Спросил он об этом невзначай пять лет назад, после того как молодой Тель вернулся с выпускного вечера, на котором ему были вручены свидетельство о присвоении квалификации и аттестат зрелости. «Ну а чем ты намерен заниматься дальше?» При этом отец выглянул из ванной комнаты с мыльной пеной на щеках и с махровым полотенцем на худом плече. Сын остановился как вкопанный, проглотил подступивший к горлу горький комок и затем желчно спросил: — Неужели это тебя хоть сколько-нибудь интересует? — Глупый вопрос, — недовольно проворчал отец, скрывшись в ванной комнате. — Тогда почему же ты спрашиваешь об этом только сейчас? — Разве только сейчас? Тель точно не помнил, были ли такие разговоры раньше. Конечно, время от времени, когда случай сводил их вместе за обедом или ужином, разговор так или иначе заходил и о будущем сына. При этом отец прямо не предлагал, какой путь, по его мнению, следовало избрать сыну. Но все же в этих случайных разговорах нет-нет да и проскальзывало родительское пожелание, совершенно определенное и, безусловно, само собою разумеющееся… Потому-то отец и сказал: — А разве не все равно, говорили мы об этом или нет? Мне кажется, у тебя на этот счет полная ясность. — Никакой ясности у меня нет, — упрямо ответил сын. — Как бы ты посмотрел, например, на то, если бы я занялся изучением математики? — Почему именно математики? «Это могла бы быть и кибернетика, — подумал сын, — и ядерная физика, и астронавтика. С таким же успехом я мог бы пойти служить во флот, поступить работать на химический комбинат, на завод тяжелого машиностроения; мог бы избрать для себя карьеру дипломата, тем более что ты немало помучил меня, заставляя учить русский язык; наконец, я мог бы стать тем, кем ты в глубине души желал бы меня видеть…» Ответил он несколько вызывающим тоном: — Ты что-нибудь имеешь против математики, отец? Математика — это нечто реальное, это наука, в которой царит порядок и закономерность. Отец, теперь уже свежевыбритый, выглянул из ванной комнаты и бросил на сына испытующий взгляд. — Я вижу, отец, — сказал Тель, — тебе не по душе математика. — Как раз наоборот, — возразил отец и откашлялся. — И особенно, когда я думаю о наших офицерах-артиллеристах. Знаешь, сынок, как много им приходится биться с математическими формулами?! Но, судя по твоему тону, у тебя в голове что-то другое… «Ты меня хорошо слушал, — подумал Тель. — Мне действительно не хотелось бы, чтобы после смерти матери между нами возникали недоразумения. Когда меня из пионеров приняли в Союз Свободной немецкой молодежи, ты даже не заметил, что я перед тобой частенько стал появляться в голубой рубашке. Даже когда я окончил десятый класс и получил аттестат зрелости, будучи вторым учеником в классе, ты и тогда не соизволил похвалить меня. А когда я рассказал тебе, что нашу бригаду выдвинули на соискание Государственной премии, ты только пробурчал, что это, мол, вполне естественно. И вот сегодня, в незабываемый для меня день, когда мне присвоена квалификация слесаря-моториста, у тебя не нашлось ничего, кроме вопроса: «Ну, а чем ты намерен заниматься дальше?» Какой вопрос! А ведь мы живем с тобой под одной крышей! Если бы я вдруг попытался говорить с тобой по-вьетнамски или по-испански или показал бы тебе написанный мною роман в пятьсот страниц, если бы сообщил, что стал отцом тройни, тебя ни то, ни другое, ни третье не вывело бы из равновесия, потому что, по-твоему, все это само собой разумеющиеся вещи. Как нечто само собой разумеющееся, ожидал ты услышать от меня ответ на вопрос, чем я буду заниматься в будущем. Точно знаю, какой ответ тебе хотелось бы услышать. Но ты не получишь его от меня, по крайней мере теперь!» И как бы в подтверждение своих мыслей, сын повторил: — Итак, чтобы ты знал, я решил заняться математикой! Вскоре Теля призвалина военную службу, и он стал танкистом. Отцовское воспитание и отцовский пример были слишком сильны, чтобы он мог быть средним или плохим солдатом. Однако, когда он получил первый отпуск и приехал домой, отец за ужином, внимательно посмотрев на сына, спросил: — Ну как, воин, нравится тебе армия? В сына же словно черт вселился, и он подчеркнуто равнодушным тоном ответил: — Да уж как-нибудь продержусь, отец. Он взглянул на сына. Даже без формы, в своей темной шерстяной рубашке с засученными по локоть рукавами, отец, выглядел по-солдатски мужественным. В его серых, окруженных морщинками глазах вспыхнул огонек. Высокий голос стал еще более скрипучим, когда он спросил: — И это все, что ты мне можешь сказать? — А что же еще? — возразил Тель. Однако заметив, что отец начал нервно постукивать костяшками пальцев по столу, добавил: — В общем-то служить в армии довольно интересно. Современная техника, например, требует от воинов, особенно от командиров, хорошего знания математики. А что касается наших танков, так это просто чудеса техники! — Знаю, — недовольно проворчал полковник, — как-никак не первый год служу в армии. Взглянув на часы, отец встал из-за стола и пробурчал что-то непонятное себе под нос. Он надел китель, застегнул ремень с кобурой и, не говоря ни слова, твердой походкой направился к двери. Сын, пораженный выдержкой отца, подумал: «Я знаю, отец, что тебя это злит, знаю, что в тебе все бушует. Но ведь и я тоже вправе рассчитывать на то, чтобы ты со мной разговаривал на равных!» Когда Тель приехал в отпуск в следующий раз, отец, видимо, решил уделить ему больше времени. Во всяком случае, он уже не поглядывал то и дело на свои часы. «Это уже хороший признак, — подумал про себя сын. — Наверняка сегодня что-нибудь произойдет». — Ты только послушай, отец, — начал он разговор, — какие безобразия творятся у нас в роте. На учениях нам было приказано протянуть телефонную линию длиною двенадцать километров. Сначала все шло хорошо. Но только короткое время. Вдруг где-то произошел обрыв. Вот тут-то все и началось, отец! Офицер-связист приказал мне устранить неисправность за пять минут. Ты себе представляешь, что такое пять минут? И это на линии протяженностью двенадцать километров! Такого олимпийского рекорда еще никто не ставил! Ну скажи, разве можно принимать всерьез приказы такого офицера? Отец сидел выпрямившись и невозмутимо слушал сына. — А во время ночного марша, — продолжал Тель, — произошел такой случай. Мы должны были пройти по азимуту определенное расстояние. Впереди шел командир нашего взвода. На одном из участков маршрута он допустил ошибку при ориентировании на местности. «Бывает и такое, — подумали мы. — Командиры тоже не застрахованы от ошибок». Решили сказать об этом ему. И тут он разбушевался: как это, мол, вы могли подумать, что я ошибся! Ну ладно, думаем, и продолжаем идти вперед. Жаль только, что расхлебывать эту кашу пришлось нам. После того как мы окончательно сбились с пути, командир взвода вылез из танка и, потрясая над головой своим компасом, заявил, что, мол, во всем виноват компас. Давно мы не смеялись так от души, как после этого случая… На этот раз отец не остался равнодушным к рассказу сына: его глаза превратились в узкие щелочки, а тело затряслось от беззвучного смеха. — Так, — произнес он отрывисто и кивнул головой. — Вот какие истории бывают, отец. — Бывают, — согласился отец. — Но позволь-ка задать тебе один вопрос, сынок: сам-то ты как относишься к профессии офицера? «Ну, — подумал Тель, — кажется, отец решил наконец поговорить со мной по душам». — В подобных ситуациях, ты, например, мог бы поступить разумнее, — продолжал отец. — Ты так считаешь? — с притворством спросил сын. — Еще неизвестно, удовлетворит ли меня эта профессия. — В мое время такого вопроса даже не возникало, — категорично возразил ему отец. «Не слишком разумный ход с твоей стороны, — подумал Тель. — Тебе нужно убеждать меня, а не злить». — Для твоего поколения, отец, — ответил он, — в свое время многое казалось само собой разумеющимся. Но что поделаешь, если у меня душа вообще не лежит к профессии офицера. Прожить жизнь, занимаясь делом, которое тебе не нравится… Нет уж, благодарю. — Стало быть, так ты относишься к профессии офицера? — недовольно проворчал отец. — Я тебе только намекнул на одну из многочисленных возможностей. — И эта возможность кажется мне вполне реальной после сказанного тобой. «Так вот, значит, как ты меня оцениваешь, отец! И все это только потому, что у тебя заранее сложилось определенное мнение обо мне». — А что, собственно, привлекательного ты находишь в профессии офицера? В голосе отца почувствовалась агрессивность: — Что за глупые вопросы ты мне задаешь?! Для приспособленца в ней действительно нет ничего привлекательного! «Благодарю тебя, — подумал Тель, — ты был достаточно груб». — Ну а не для приспособленца? — спросил он. — А я-то думал, что ты жаждешь большого дела, трудной работы. Мне казалось, что ты хочешь служить в армии. Но, к сожалению, я ошибся! Отцу, видимо, уже надоел этот разговор, он встал и направился к двери. «Все так и есть! — хотелось Телю крикнуть ему вслед. — Я всегда сам стремился к этому!» Но отец опередил его. Дойдя до дверей, он обернулся и раздраженно сказал: — Впрочем, все это пустяки. В наше время нас интересовал один лишь вопрос — как ты относишься к своему классу. Сегодня к этому следовало бы добавить: как ты относишься к своему государству. В отношении тебя мне теперь все ясно! — И он закрыл за собой дверь, хлопнув сильнее обычного. «Пожалуй, сейчас ты зашел слишком далеко, отец, — озабоченно подумал Тель. — Посмотрю, как тебе удастся выйти из этого положения!» Эта мысль долго не давала сыну уснуть. Он уже целый час лежал в постели, а сна все не было. Вдруг в соседней комнате зазвонил телефон. Тель услышал через стенку, как отец снял трубку. «Он еще не спит и работает, сидя за письменным столом», — подумал сын. — Значит, иначе никак нельзя? — услышал сын голос отца. — Понятно, товарищ генерал. Так точно, все ясно. Ну что же, ничего не поделаешь. Будет сделано, как вы сказали. Так точно, завтра! Жаль, что иначе нельзя! Ну, хорошо! Затем в соседней комнате наступила тишина. Тель подождал немного — ни звука. «Может быть, стоит посмотреть, что он там делает?» — подумал он. Тихонько заглянул в кабинет отца. Отец стоял около письменного стола в накинутом на плечи кителе. В руке он все еще держал телефонную трубку. Вид у него был усталый и немного растерянный. — Что с тобой? — спросил сын, входя. Отец посмотрел на него. — Ничего особенного, — спокойно ответил он и положил трубку на рычаг аппарата. — Во всяком случае, ничего необычного, как сказали бы теоретики: влияние научно-технической революции на нашу воинскую жизнь. В этом тоже есть свои прелести. — Прелести? — удивился Тель. — По твоему виду этого не скажешь. — А ты наблюдателен, — заметил отец. Он выдвинул ящик письменного стола, взял папиросу и закурил. — Представь себе, сынок, — сказал он, выпустив дым изо рта, — мы получаем новое вооружение, которое поступает в части, как говорится, буквально на днях. Однако никто из офицеров не умеет с ним обращаться, за исключением нескольких специалистов, прибывших к нам из Берлина. Вот и приходится направлять половину личного состава на переподготовку. А ты представляешь себе, что это значит? — Он сделал паузу, сел на край письменного стола и загасил недокуренную папиросу. — На полгода я лишаюсь каждого второго лейтенанта, обер-лейтенанта и капитана. И поверь мне, как только они выучатся, половину из них я больше уже не увижу. Но самое неприятное заключается в том, что в течение этого времени в артиллерийском полку будет полная неразбериха: ефрейторы будут командовать орудиями, унтер-офицеры — взводами, унтер-лейтенанты — батареями и так далее… «Странно, что он мне все это говорит», — подумал Тель и спросил: — Что же теперь будет? — Все будет в порядке: мы и не такое выдерживали, — ответил отец. — Справимся и с этим. — Несмотря на нехватку кадров? — Должны справиться, — отец посмотрел на сына долгим взглядом. Затем неожиданно спросил: — Ну, а ты что скажешь? — Я понял тебя, отец, — сказал Тель-младший. — Я тебя понимал с самого начала и знаю, какого ответа ты от меня ждешь. Я готов! Так пять лет назад закончилась мнимая вражда между отцом и сыном. — Ах ты проказник, — рассмеялся тогда отец. — Болтунишка ты этакий! Смотри же, делай свое дело как следует! — Не радуйся заранее, — улыбнулся сын. — Кто знает, может, я тебя еще разочарую. — Посмей только, — шутя пригрозил ему отец и добавил: — Нет, ты не можешь меня разочаровать. Я тебя знаю, голубчик. Ты весь пошел в меня! Если бы майора Брайтфельда, командира лейтенанта Теля, спросили, действительно ли молодой офицер пошел в своего отца, тот бы со свойственной ему рассудительностью ответил: «Лейтенант Тель? Неплохой парень. Прекрасно освоил свою специальность. Выдержан, последователен, обладает упорством и требовательностью к себе, абсолютно надежен. У этого офицера большое будущее. Кое-чему, правда, ему еще следует поучиться, а именно: пониманию людей и умению руководить ими. Но я уверен, он и этому научится!»13
Умение руководить людьми… Да можно ли этому вообще выучиться? В данный момент лейтенант Тель не мог дать себе ясного ответа на этот вопрос. Небольшой костер тем временем уже догорел, и лейтенант Тель почувствовал прохладу. Стало темно, наступила тишина. Даже гул танковых моторов не доносился из-за темного леса. Пахло туманом и дымом. «Словно мы здесь совсем одни, — подумал Тель, — мы вдвоем: мой отец и я». — У нас, коммунистов, издавна существует один непреложный принцип, — первым нарушил молчание отец, — если не имеешь успеха, ошибку ищи в первую очередь у самого себя. Говоря иными словами — самокритика. — Ты знаешь мою историю, — сказал сын. — А теперь мне бы хотелось узнать, в чем состоит моя ошибка. — Как мне кажется, в самом главном. — Интересно, в чем же? — Подумай сам, — сказал отец. — Вспомни, как ты принял своего унтер-офицера… «Странный вопрос! — Тель был разочарован. — А как мы его в роте должны были принимать? Разумеется, как культурного человека. Во всяком случае, меня принимали совсем иначе». Где-то рядом послышался треск. К ним кто-то приближался. Человек прошел всего в нескольких метрах мимо костра. — Товарищ полковник! — Я здесь, товарищ Майер! — вполголоса ответил полковник. — Идите сюда! Батальон весь в сборе? — Все до единого собрались, — ответил ефрейтор. — Через десять минут раздастся первый залп. Тель услышал, как отец встал и отряхнулся. — Пошли, сынок, уже пора. На ощупь они двинулись через лес. Мокрые ветки кустарника цеплялись за обмундирование. С деревьев на землю падали тяжелые дождевые капли. Впереди шел водитель, следом за ним полковник. В темноте Тель смутно различал силуэт отцовской фигуры. — Неужели у вас нет с собой карманного фонарика? — недовольно спросил отец. — Есть, — ответил водитель. — Только он остался в машине. — На тебя это похоже, — пробормотал полковник. В этот момент где-то далеко позади раздался глухой взрыв. Земля под ногами чуть заметно вздрогнула. В темноте неба послышался легкий свист, а спустя несколько секунд высоко над ними вспыхнула яркая осветительная ракета. — Ну вот, — проговорил полковник, поворачиваясь к сыну, — теперь нам по крайней мере не понадобится фонарик. Освещение шикарное и притом бесплатное. — Да, — согласился лейтенант и посмотрел вверх на осветительную ракету, которая, мягко покачиваясь, медленно спускалась на парашюте. При ее ярком свете местность вокруг словно ожила. Слева в оранжевом отблеске чернел сосновый лес, перед ним расстилался кустарник, а чуть ближе — холмы, земляные насыпи, причудливые заграждения, опоясанные несколькими рядами колючей проволоки. Справа были видны танки, целый батальон, напоминавший стадо выстроившихся в ряд боевых слонов с длинными хоботами пушек, грозно вытянувшихся вперед. — Слишком скоро сгорела ракета: район обстрела не удалось рассмотреть, — заметил Тель. — Я его не увидел, — сказал полковник. В его голосе послышалось еле сдерживаемое раздражение. — Может случиться так, что мы ничего и не увидим. В стороне от них темнела громада высокого холма. Тель разглядел на его вершине деревянную наблюдательную вышку. — Полезай наверх! — приказал ему полковник. — Я скоро подойду. Только дам взбучку командиру минометной батареи. Когда вспыхнула вторая осветительная ракета, лейтенант уже вскарабкался на вышку. На сей раз ракета спускалась с большой высоты и светила дольше, выхватывая из темноты весь полигон с его многочисленным и сложным хозяйством. Справа от него можно было рассмотреть железнодорожную станцию, церковь, переезд. Таинственный ландшафт приобретал знакомые очертания… Послышались шаги: кто-то поднимался снизу по лестнице. — Ну, как на сей раз осветили местность? — спросил полковник, просунув голову в люк и переводя дыхание. — Отлично! — ответил Тель. — Видно как днем. Отец пролез через люк. — Я им высказал все, что о них думаю, — сказал он и, встав рядом с сыном, перегнулся через деревянные перила. Телю показалось, что он слышит, как у отца стучит сердце. — Действительно, — с удовлетворением подтвердил он, — освещение хоть куда. — И, кивнув головой в сторону полигона, заметил: — Просто невероятно! Как в сказочном фильме: сначала темная-темная ночь, а потом вдруг светло как днем и видны предметы, которые ты здесь вовсе и не ожидал увидеть. — Можешь спуститься, — шутливо подхватил отец, — и зайти в село. Кабачок в нем еще открыт, если тебе повезет, закажешь шницель по-гамбургски и… — …сто граммов советской водки для тебя, — тем же шутливым тоном закончил фразу сын. — Было бы недурно, хотя с некоторых пор я предпочитаю советское шампанское. Они, довольные, рассмеялись. — Кроме шуток, — сказал Тель. — Однажды я действительно чуть было не соблазнился. — Чем? — спросил отец. — Хотел дойти до района обстрела. — Надеюсь, ты вовремя сообразил, что эти деревеньки всего лишь деревянный муляж? Осветительная ракета спускалась все быстрее. Наконец она потухла, и вокруг снова сгустилась черная ночь. Тель-младший предался воспоминаниям: — Настроение у меня тогда было паршивое, в голову лезли какие-то сентиментальные мысли. Хотелось, чтобы все домики на полигоне, сколоченные из фанеры, превратились в настоящие дома с теплыми комнатами, накрытыми столами, с перинами на постелях, с гостеприимными хозяевами. Чтобы можно было зайти в один из них, постучаться в дверь и попросить: «Впустите, добрые люди, усталого голодного офицера, который чувствует себя совсем одиноким из-за того, что его плохо приняли в полку… А собственно говоря, помнишь ли ты, отец, как я приступил к службе в нашем полку? — спросил он. — Кажется, там у тебя была какая-то неприятная история, — припомнил полковник. — Больше того, — возразил сын, — это была одна из самых мрачных страниц в моей жизни. Ты вот недавно спрашивал меня насчет унтер-офицера Тесена. О том, как мы его встретили в роте. По сравнению с тем, как встретили меня, — это день и ночь. Можно сказать, что Теля, который тогда только что получил звание унтер-лейтенанта, в танковом полку вообще не приняли. Его и трех других молодых офицеров никто не ждал. Исполненные жаждой кипучей деятельности, они поначалу долго и терпеливо ожидали у широкой лестницы, ведущей в здание штаба. «И в этом негостеприимном полку нам предстоит провести годы, а может быть, половину жизни…» — с тревогой думали тогда они. Постепенно их терпению пришел конец, давал о себе знать голод, да и от усталости они еле держались на ногах. Их одолевало беспокойство: неужели к ним так никто и не выйдет? Из окон казармы выглядывали солдаты, внимательно рассматривая вновь прибывших: кто, мол, они такие? А, так это новенькие офицеры! — Ребята, глядите-ка, к нам новые командиры прибыли! Дежурный офицер, молодой лейтенант с заспанным лицом, тоже высунулся из окна. — Мне никто ничего не сообщал о вашем приезде, товарищи. В штабе сейчас нет ни одного офицера. Потом он куда-то несколько раз звонил, но все безрезультатно. — Я вижу, — обратился один из вновь прибывших унтер-лейтенантов к другому, — мы здесь вообще не нужны. В это время мимо них случайно проходил какой-то майор. — А, вы уже здесь? Наверняка опять кто-то из наших прошляпил. Ну ладно, потерпите до завтра, а там посмотрим. К сожалению, у меня сейчас тоже нет времени заняться с вами, большинство наших товарищей находится на учениях. А ведь без писем и газет им тоже не обойтись. Вас, наверное, в училище учили, товарищи, что в центре нашего внимания всегда должен находиться человек, а в заботу о человеке входит также и доставка ему почты и газет во время учений… Дежурному офицеру было приказано позаботиться о прибывших: предоставить им жилье, обеспечить постельными принадлежностями, поставить на довольствие. Однако, сколько дежурный ни старался, ключей от комнат, где следовало разместить вновь прибывших, нигде не могли найти. Тем временем столовая уже закрылась, а постельные принадлежности просто некуда было девать. — Я сыт по горло таким приемом, — заявил тогда Тель. — Пока майор из штаба не ушел, поеду-ка я лучше с ним на полигон…— С унтер-офицером Тесеном все было иначе, — сказал сын, обращаясь к отцу. — Встретили его хорошо, для него уже была приготовлена койка с чистым постельным бельем. Да и ужин ему не забыли оставить. Отец молчал. — А ты ожидал большего? — спросил сын. — Значительно большего! — Ну и ну, не очень-то скромно с твоей стороны! — То, что ты сделал, ты просто обязан был сделать. — А что же нужно было еще? — спросил сын. — Какую роль, по-твоему, должен играть унтер-офицер в роте? — вопросом на вопрос ответил полковник. — Унтер-офицер? — удивленно переспросил сын и, подумав, ответил: — Воинское звание «унтер-офицер» присваивается, как правило, после успешного окончания школы младших командиров, выпускников которой назначают командирами мелких воинских подразделений: отделений, экипажей, расчетов. — Ты был прилежным курсантом в офицерском училище, но мне этого недостаточно! — Скажи, в конце концов, к чему ты клонишь? — Ты видишь в унтер-офицере главным образом служебную единицу и почти не замечаешь его как человека. Унтер-офицер — это твой непосредственный помощник и боевой товарищ. С ним тебе предстоит переносить все трудности и тяготы воинской жизни. Он должен стать твоим первым советчиком, он должен во всем помогать тебе, а в случае необходимости даже защищать твою жизнь. Ты отдаешь унтер-офицеру приказы, а он практически проводит их в жизнь, проявляя при этом инициативу. От подготовки и боевых качеств твоих унтер-офицеров, сынок, зависят успехи и неудачи всей твоей роты. Вот что должен значить для тебя унтер-офицер. И поэтому имей в виду: если к тебе придет новенький, неопытный и даже неуверенный в себе унтер-офицер, окажи ему особое внимание. Следи за каждым его шагом, стань его советчиком, не лишая его при этом собственной инициативы, помогая ему во всем, не навязывая ему своего мнения. Он должен почувствовать, что его непосредственный командир одновременно является его ближайшим другом и боевым товарищем. Вот тут-то, сынок, как мне кажется, ты и допустил промах со своим унтер-офицером Тесеном! Чего ему не хватало, так это веры в ваш воинский коллектив! Со стороны лесной опушки послышался гул. К ним приближалась крошечная голубоватая точка. Вскоре внизу около наблюдательной вышки остановился танк. Его мотор продолжал приглушенно работать на малых оборотах. — Всему свое время, отец, — задумчиво произнес сын. — И кроме того, такой унтер-офицер, как Тесен, в помощи не нуждается. И я, собственно говоря, уверен, что он и сам сумеет утвердить себя… В небе повисла еще одна осветительная ракета. Сын с недоумением взглянул на отца: «Что это с ним вдруг случилось? Почему он так улыбается?» — Не нуждается? Сам сумеет утвердить себя? — Отец усмехнулся. — Звучит очень знакомо. Вспомни, мой мальчик, не утешал ли кое-кто себя точно таким же образом? Тель недоуменно пожал плечами. — Вспомни сам, хотя с тех пор прошло уже пять лет… Мнимая вражда между отцом и сыном… — продолжал отец. — Ах, ты это имеешь в виду! — сказал сын. — Но такое бывает только тогда, когда один из оппонентов считает наличие определенных склонностей у другого само собой разумеющимся. В этот момент внизу заревел мотор. Танк вздрогнул и покатил по направлению к полигону, покачиваясь на рытвинах. «Вот когда он мне все припомнил», — подумал сын. Неожиданно из ствола танковой пушки вырвался сноп пламени, и через какую-то долю секунды раздался грохот выстрела.
14
Жизнь унтер-офицера Тесена текла все так же однообразно. Дни шли за днями, наполненные будничными заботами и ожиданием ответа командира на рапорт о переводе в другую часть. Кроме того, ежедневно в полдень, когда обер-фельдфебель раздавал почту, у Якоба появлялась слабая надежда получить письмецо. Правда, эта надежда тут же исчезала, поскольку Грет все еще не давала о себе знать. У Якоба вошло уже в привычку после раздачи писем отправляться к морю. Там около забора он почти всегда встречал Олафа. Их мимолетное знакомство давно уже переросло в дружбу. Непринужденные и ни к чему не обязывающие разговоры с мальчуганом отвлекали Якоба от мрачных мыслей. «Наверное, она так и не напишет, — думал унтер-офицер, день ото дня становясь все печальнее. — Дальше ждать бесполезно…» А время шло своим чередом. Удовлетворение Якоб чувствовал лишь оттого, что ефрейтор Бергеман тоже больше не получал писем. Это обстоятельство даже побудило рядового Штриглера высказаться: — Отсмеялся, голубчик. Мне кажется, что теперь на твою удочку ни одна девица не клюнет. Сказано это было почти вызывающе. Если бы голова у Якоба не была занята Грет и прошением о переводе, он бы заметил перемены, происшедшие в их комнате. Настроение у всех подчас делалось весьма мрачным, и иногда казалось, что все ненавидят друг друга. Штриглер сделался еще более угрюмым и замкнутым. Свое свободное время он проводил почти всегда лежа на койке и неподвижно уставившись в потолок. Иногда он отворачивался к стенке и делал вид, что спит. Газет он почти никогда не брал в руки. — Ах, оставьте вы меня в покое! — раздраженно заявлял он, когда ефрейтор Бергеман или рядовой Петцинг пытались заговорить с ним. — Интеллектуальное короткое замыкание, — комментировал в таких случаях Бергеман поведение Штриглера. — Пусть чудак побудет наедине с самим собой. Какое-то время казалось, что ефрейтор и Петцинг благодаря этому даже сблизились между собой. Несколько раз они вместе ходили в кафе, расположенное неподалеку от части. Но однажды Бергеман отказался идти туда, и Петцинг несколько дней был предоставлен самому себе. — Что это с тобой произошло? — приставал к нему с расспросами Петцинг. — Такой здоровяк, а не хочешь выпить? — Да не в этом дело, — кисло отнекивался Бергеман. — Просто с тобой неинтересно. Ты, как выпьешь, начинаешь говорить разные гадости… Впрочем, несмотря на отсутствие писем, ефрейтор вел себя с достоинством. Он даже занялся несколько необычным для него делом, и Якоб подумал: «Никогда не знаешь, чего ждать от этого парня». Бергеман зашел в полковую библиотеку и взял там учебник английского языка. — У нас ведь никто не знает английский, — так он объяснил свое решение. — Все учатся говорить по-русски, что, конечно, неплохо, а вот по-английски — почти никто. А если придется иметь дело с янки, то на каком языке мы с ними будем разговаривать? Д язык у них довольно простой. Произошло это на девятый день после подачи Якобом рапорта о его переводе. Лейтенант Тель уже вернулся из своего краткосрочного отпуска. Терпение Якоба было на пределе: когда же в конце концов они разберутся с рапортом! Однажды в коридоре казармы его остановил обер-фельдфебель. — Мне кажется, сегодня у вас не будет повода для разочарования, — проговорил он. — Для вас у меня кое-что есть. Целых два письма и среди них, по-моему, именно то самое, которого вы так давно ждете. Один конверт был белый, другой — серый. Последний, Якоб знал заранее, пришел от его брата Александра. «Его письмо может немного подождать, — подумал Якоб. — Вряд ли что нового. Опять менторский тон… долго не пишешь… беспокоюсь за тебя, будь примером… помни о словах Калинина, что даже в будни нужно работать с праздничным настроением…» Письмо от Грет было не длинным, всего на одну страницу. У нее оказался крупный и твердый почерк. «Почерк лесоруба», — шутя подумал про себя Якоб.«Мой дорогой! Наконец-то я собралась тебе написать! Сначала я думала: а что, если все это обман? И отгадай, что я сделала? Ни за что не отгадаешь. Тебе и в голову даже не придет. Я начала искать ноябрьский номер вашей армейской газеты. К сожалению, достать ее было нелегко. Но мне удалось это сделать только благодаря двум ученым крысам из архива нашей университетской библиотеки. Сначала они никак не хотели ее выдавать: «Армейскую газету? Вы первая, кто ее спрашивает. Да к тому же еще за ноябрь прошлого года! Газеты за тот год уже подшиты и находятся в хранилище». Ну разве не патриоты своего дела? И все же им пришлось выдать мне подшивку. «Курсант школы унтер-офицеров Якоб Тесен — герой нашего времени», — с удивлением прочитала я. Ну может быть, я не совсем права, но мне показалось, что статья написана в таком духе, будто ты, спасая поросят, спас от гибели армию. Кстати, твой поступок я лично считаю довольно легкомысленным. Хотя, — дальше следовали слова, подчеркнутые жирной линией, — сам по себе он мне понравился!»Конец письма был выдержан в серьезных тонах, хотя и вселял немалую надежду: «Скоро у нас будет шестинедельная практика, место которой я выбрала сама: это одно народное имение, расположенное на берегу моря. На мотороллере оттуда всего лишь час езды до тебя…» «Всего час езды? — Якоб заволновался. — Радоваться надо! Хотя, кажется, как раз теперь-то и начнутся настоящие сложности!» Он зашел в комнату, схватил ремень и головной убор. «Скорее на пляж, — подумал он, — нужно все как следует обмозговать и взвесить…» — Куда это ты так спешишь? — проворчал со своей койки ефрейтор Бергеман, держа на полном животе учебник английского языка. — Как, разве тебе ничего не известно? — вмешался в разговор Петцинг. — Он каждый день в это время идет на берег моря к дюнам. — А ты откуда знаешь? — Из окна можно видеть. — Вот как? — Бергеман приподнялся на койке. Учебник его при этом завалился за кровать. — И что же он там делает? Петцинг пожал плечами: — Трудно сказать. Для этого нужно сильно высунуться из окна, а я не переношу высоты: меня тошнить начинает. Штриглер, повернувшись лицом к стене, лаконично произнес: — Это от пьянства, а не от высоты. Якоб уже взялся за дверную ручку, как вдруг ефрейтор спросил его: — Не исчезай так внезапно, скажи хоть, она очень интересная? — Оставь свои небылицы при себе, — оборвал его унтер-офицер. — Не прикидывайся, наверняка с какой-нибудь девчонкой встречаешься на пляже! — продолжал допытываться Бергеман. — А тебе никогда не приходилось ошибаться? — Приходилось, — честно признался Бергеман, — и однажды весьма жестоко. Это было тогда, когда мы должны были повезти пианино доктору Мюллеру. Он жил на Рюдесхаймерштрассе, девяносто шесть, на седьмом этаже. Мы позвонили у двери, нам открыла какая-то пожилая тощая дама. «Да, конечно, я доктор Мюллер, — сказала она, — но музыкой я не занимаюсь. Я лингвист и только что вернулась из Центральной Африки». После долгой беготни по этажам нам удалось выяснить, что пианино принадлежало ее брату, преподавателю музыки доктору Мюллеру, который жил на той же улице, но только не в доме девяносто шесть, а в доме шестьдесят девять. Вот какая получилась история. Ну а теперь рассказывай. — Нечего рассказывать, — сказал Якоб. — Того, о чем вы думаете, вообще не существует. А на пляже я встречаюсь не с девушкой, а с маленьким мальчиком. — С мальчиком в юбке, не так ли? — Ну и мысли лезут тебе в голову! — сказал Якоб. — Уж больно неубедительно ты говоришь, — неожиданно для Якоба вмешался в разговор рядовой Штриглер. — А я никого и не собираюсь убеждать. — Значит, маленький мальчик, говоришь? — Конечно. Ему еще нет и десяти лет! В этот момент ефрейтор Бергеман повернулся на койке, затем встал с нее и, застегивая воротничок френча, сказал: — Чепуха это все, ребята! Просто-напросто он водит нас за нос! — И, повернувшись к Якобу, добавил: — Но так просто ты от нас не отделаешься, Якоб. Мы поверим тебе только тогда, когда сами во всем убедимся!
15
Лейтенант Тель несколько раз обошел вокруг письменного стола, стоявшего в кабинете. Задержался у окна, посмотрел на затянутое серыми тучами небо. Тучи висели низко, и лишь временами между ними появлялись просветы, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Робко скользнув по казарменным крышам, они снова исчезали. В другой раз лейтенант, возможно, подумал бы: «Вот и солнышко! Значит, весна не за горами! Если такая погода продержится несколько дней, дивизионные учения не будут очень трудными». Однако сейчас лейтенант думал не об этом. Настроение у него было отвратительное. «У тебя плохое настроение? Тогда подумай, отчего оно плохое, и постарайся изменить его. Но изменить его невозможно, — вздохнул он. — Обе причины, которые так угнетают меня, находятся вне моей власти: Елена вовремя не вернулась из своей поездки, а Якоб Тесен больше не хочет ждать… А впрочем, твоя идея, отец, была хороша, и звучала она весьма убедительно. Только успеха пока что, к сожалению, не видно. А рапорт унтер-офицера все еще лежит на моем письменном столе, прямо у меня под носом: «Я, унтер-офицер Якоб Тесен, прошу…» Да, слишком долго он лежит здесь! Его давно следовало бы передать комбату майору Брайтфельду или даже командиру полка. Твои наставления, отец, не могут помочь мне!»— Было это весной сорок второго года в одном из лагерей для немецких военнопленных под Иваново, — начал свой рассказ отец. — С момента зимнего наступления Красной Армии прошло уже много времени, но в рядах антифашистов все еще царило приподнятое настроение. Оно и понятно: ведь под Москвой фашистам впервые был нанесен такой серьезный удар, что им пришлось удирать. В один из весенних дней я получил задание поехать в Иваново, неподалеку от которого размещался лагерь для военнопленных, чтобы провести среди них разъяснительную работу. «Дело нехитрое, — думал я, — особенно после такого военного успеха наших советских друзей!» Это был один из временных лагерей начального периода войны, предназначенный для размещения небольшой партии пленных. Позднее, когда количество военнопленных достигло нескольких сотен тысяч, лагеря стали более крупными. Во всяком случае помещение, в которое меня привели, оказалось простым бараком, по-видимому, прежде там было зернохранилище, а поскольку зерна для хранения в ту пору уже не было, оно пустовало. В бараке были крошечные окошки, заделанные вместо стекол деревянной дранкой. В некоторых окнах, правда, дранку уже вынули, так как погода становилась с каждым днем теплее. Весна в тех местах всегда начинается неожиданно и проходит быстро. На деревянных скамейках, на грубо сколоченных нарах и прямо на полу сидели пленные, мои земляки, На их лицах уже не было той растерянности, которую можно было видеть у них в первые дни плена. Теперь они уже знали, что с ними ничего плохого не сделают, что полоса невезения для них кончилась и теперь им уже ничего не грозит. Самое большее, что их может ожидать в стране, западные районы которой они разграбили и опустошили, это работа по восстановлению. Поэтому настроение у военнопленных снова поднялось. Угрызений совести или раскаяния они не чувствовали, вместо этого — только надменность, презрение и холодность. Они вновь как бы превратились в маленькую расу господ. Мною овладели сомнения: удастся ли мне повлиять на них, убедить в закономерности поражения фашистской армии под Москвой? В довершение всего, сынок, Красная Армия в тот момент вновь отошла по направлению к Дону. Однако, несмотря на все это, я начал говорить. Слова мои были встречены ледяным молчанием. Потом из рядов военнопленных под одобрительный гул голосов раздались выкрики: «Подлец! Предатель! Бездомный бродяга, тебя ждет сук и просмоленная веревка!..» «Черт побери, — подумал я, — и зачем только я согласился приехать сюда и беседовать с ними?! Они же неисправимы!» В тот момент мне хотелось удрать куда-нибудь, все равно куда: на фронт или к партизанам. Короче, я уже был готов отказаться от своей миссии, как вдруг прямо перед собой заметил бледного небритого молодого человека, сидевшего на полу. Он приставил левую руку к уху, словно боялся пропустить хоть одно мое слово. Глаза у него были широко раскрыты, и их взгляд выражал нечто похожее на заинтересованность. «Теперь я буду продолжать, хотя бы для него одного», — мысленно решил я. И выдержал до конца. Каждый раз, когда мне казалось, что слова мои звучат неубедительно, я смотрел на лицо молодого человека. Оно вселяло в меня уверенность… — Ну и какова же мораль этой истории? — спросил Тель у отца. — Рассказывая ее тебе, я думаю о твоем унтер-офицере. Ему сейчас кажется, что все в роте настроены против него. Но если бы в его экипаже нашелся один человек, который… — Я тебя понял, отец, — сказал сын. — Кстати, что за человек был тот твой внимательный солдат? — Ах, — улыбнулся полковник, — мой внимательный слушатель оказался почти совсем глухим: его контузило под Волоколамском, однако об этом я узнал много позже, А кстати, многие из тех военнопленных стали впоследствии совершенно порядочными людьми… После возвращения из отпуска в часть лейтенант Тель как-то подумал: «А может, в рассказе отца заложен более глубокий смысл? Почему бы мне не попробовать? Только кто же из тех, кто живет в комнате Тесена, найдет в себе достаточно сил, чтобы поддержать унтер-офицера Тесена?» На следующее утро согласно распорядку дня личный состав работал по обслуживанию танковой техники. Ворота парка боевых машин были распахнуты настежь, и танки один за другим, съехав с моечной площадки, останавливались на широкой бетонной площадке перед воротами. Со стальных исполинов струйками стекала вода. Лейтенант сидел в сторонке на штабеле пустых ящиков из-под снарядов и наблюдал за работой экипажей. Якоб Тесен, командир второго танка, сидел на танковой башне, свесив ноги в командирский люк. В руках он держал инструкцию: по-видимому, еще раз хотел проверить порядок осмотра деталей. Лейтенанту Телю такое рвение показалось несколько нелогичным: с одной стороны, рапорт о переводе, с другой — такая добросовестность унтер-офицера. «Вид у него такой, как будто он вовсе и не собирается уходить от нас», — подумал Тель. Впереди из водительского люка выглянул ефрейтор Бергеман. Рядовые Петцинг и Штриглер сновали вокруг танка: они смазывали траки. «Штриглер! — решил вдруг лейтенант. — Малый он интеллигентный, с него, пожалуй, и стоит начать…»
«И вот опять неудача, — думал Тель, стоя у окна своего кабинета. — Может, я оказался слишком нетерпеливым и потому грубым?» Он попробовал восстановить в своей памяти разговор с рядовым Штриглером, который состоялся там же, в танковом парке. Тель напомнил рядовому о том, что тот имеет законченное среднее образование: — Вы же имеете аттестат зрелости! Вы кое-чему уже научились, чему другие не смогут научиться из-за отсутствия у них способностей и возможностей: например, решать дифференциальные уравнения, разбираться в химических соединениях, безошибочно классифицировать животных по группам… Вы, наверное, знаете монолог Доктора Фауста, в котором тот говорит о свободном народе, живущем на свободной земле; вы знакомы также с маленькой, но известной всему прогрессивному миру брошюрой, которая начинается словами: «Призрак бродит по Европе…» Короче говоря, своими знаниями вы превосходите любого в нашей роте… И тут рядовой Штриглер перебил его. — Зачем вы, собственно говоря, мне все это перечисляете? — напрямик спросил он. — Да потому, что вы меня разочаровываете, — ответил Тель. — Вы как-то ни во что не желаете вмешиваться. — Возможно, — последовал лаконичный ответ. — Скажите, как вы понимаете слова «быть личностью»? — И, поскольку Штриглер не отвечал, продолжал: — Быть личностью — это значит непрерывно работать над собой, бороться за свои убеждения, опираясь на общественные критерии, и действовать согласно этим критериям, действовать сознательно, целеустремленно, диалектически! Вот, собственно говоря, что мне хотелось бы найти в вас… — Не каждому дано такое. — Штриглер пожал плечами. — Эх вы! — с упреком воскликнул Тель. — И почему только вы такой… — «Только бы сейчас не обидеть парня», — подумал лейтенант про себя и быстро исправился: — Почему вы так?.. «Вот с какого вопроса следовало бы начинать с ним разговор, — подумал Тель, — а он на нем оборвался». Штриглер стоял возле штабеля пустых ящиков из-под снарядов и, держа в руках промасленную ветошь, с застывшим выражением лица смотрел на затянутое тучами небо. «Ну и взгляд у него! — мелькнуло у Теля в голове. — Сейчас он похож на мученика, которого хотят лишить веры. Как можно стать таким человеком, окончив нашу среднюю школу? Это же черт знает что такое! На аргументы можно отвечать контраргументами, можно выговориться до конца и прийти, наконец, к взаимопониманию. А этот только глазеет да молчит в течение долгого времени… Он, пожалуй, может промолчать так полдня. С таким человеком говорить нелегко…» Мысленно он опять обратился к отцу: «Так вот, отец, твой рассказ был хорош, мораль его ясна. И все же результатов не последовало. Уговорить Штриглера мне не удалось, и, следовательно, на стороне Якоба Тесена никого не будет. А сам унтер-офицер с полным правом потребует, чтобы его рапорт о переводе был наконец рассмотрен…»
16
— Кого это ты с собой привел? — спросил мальчуган Якоба, выбежав на берег и увидев, что тот идет в сопровождении трех товарищей. Белые резиновые сапожки малыша и узкая бутылка с длинным горлышком стояли на берегу. — Знаешь, это наши ребята, — сказал Якоб, — они пришли вместе со мной. Вот этого, слева, зовут Петцинг. Он заряжающий, и наивным человеком его не назовешь. А почему, я сейчас тебе объяснить не могу по некоторым соображениям. Да и ему самому неловко будет слушать о себе. А тот, что стоит с ним рядом, худой, это рядовой Штриглер — наводчик орудия. Сейчас он, пожалуй, только тем и занимается, что считает, сколько ему осталось до демобилизации. А толстяк, что стоит за ним и ухмыляется, это Бергеман. Он механик-водитель нашего танка. Однако восхищаться им не следует. Он как раз довольно ленивый человек. При этих словах Якоба ефрейтор попробовал было запротестовать, но унтер-офицер жестом остановил его и продолжал: — Бергеман, между прочим, хвастает, что он спортсмен. Но он такой же спортсмен, как я профессор университета. В общем он порядочная обуза, которая вместе с двумя вот этими типами висит у меня на шее. Попрыгав попеременно то на одной, то на другой ноге, мальчик стряхнул с них капли воды. — А чего им здесь нужно? — спросил с детской наивностью. — Они не верили, что ты маленький мальчик. — А кто же я еще? — Ну, может быть, маленькая девочка… — Вот еще! — В голосе мальчугана прозвучала открытая обида. Он с трудом натянул на мокрые, испачканные в песке ноги носки и попытался влезть в свои резиновые сапоги. — А почему ты сегодня так долго не приходил? — спросил он. — Я не мог прийти раньше. Сегодня я получил хорошую весть, — сказал Якоб. — По почте? — Да, по почте. — А что это за весть? — Этого тебе еще не понять, Олаф, — сказал Якоб. Наконец мальчуган натянул сапожки. Несколько раз он притопнул ими по сырому песку, чтобы они лучше сидели на ногах. Потом, ткнув пальцем на песчаную полосу позади себя, сказал: — Я тебе там кое-что нарисовал. Солдаты подошли поближе и вытянули шеи. Петцинг вдруг покатился со смеху: — Это еще что за смешные каракули? Мальчуган задрал голову кверху. С его светлых гладких волос каплями стекала вода, а курносый нос казался особенно бледным. Обведя вопрошающим взглядом солдат, он остановился на Якобе: — Неужели он действительно не узнает? — Видно, не узнает, — сказал Якоб. — А может, это из-за того, что он смотрит на рисунок сбоку. — Да я же нарисовал здесь танк, такой же, как у вас! — В голосе мальчика прозвучал упрек. Штриглер пожал плечами, Бергеман усмехнулся, а Петцинг беззвучно рассмеялся: — Танк? Это, скорее всего, сломанная детская коляска! — Правда? — спросил Олаф дрожащим голосом, обращаясь к Якобу. — Если это танк, Олаф, то он должен выглядеть немножко иначе… — успокоил мальчика Якоб. — Это потому, что я еще ни разу в жизни не видел настоящего танка. Покажите мне хоть разок ваш танк! Унтер-офицер смотрел на мальчугана, не зная, что сказать. «У малыша не только нос бледный, но и щеки. А тонкие губы выглядят совсем синими», — подумал он и спросил: — Олаф, ты, может быть, замерз? Мальчуган, казалось, не расслышал вопроса, продолжал говорить о своем: — Вы только поднимите меня через забор и возьмите с собой. — Нет, Олаф, этого делать нельзя. — Почему? — Я ведь тебе уже однажды объяснял! — Ты нехороший! Я ведь только хочу взглянуть на танк, чтобы потом нарисовать его здесь как следует, — с горечью произнес мальчуган, и губы его задрожали. «Довольно, — подумал Якоб, — мальчик озяб», а вслух сказал: — Пожалуй, в другой раз, Олаф. А теперь — марш домой, иначе тызаболеешь! — Когда это в другой раз? — заупрямился мальчуган. — Ребята, хватит, пошли! — снова вмешался в разговор Петцинг. Но Олаф не хотел сдаваться: — Когда мне можно будет пойти посмотреть ваш танк? Завтра? Все трое молчали, а Бергеман и Петцинг даже отвернулись, сделав вид, что они здесь ни при чем. — Послушай, Олаф, — начал Якоб, — настоящий танк мы тебе действительно показать не сможем. Он в гараже, гараж заперт, а перед ним стоит часовой и никого туда не пускает, даже таких малышей, как ты. Но, быть может, мы покажем тебе когда-нибудь маленький танк, очень похожий на настоящий. А если ты сейчас меня послушаешься и сразу же пойдешь домой к своей сестре, мы тебе его подарим насовсем. Ты меня понял? — Ты говоришь так только для того, чтобы я ушел. — Нет, ты получишь свой танк, — решительно заявил Якоб. — Честное слово? — Слово воина. А ты ведь знаешь, что оно значит немало! — Договорились, — удовлетворенно сказал мальчуган. — Но не забудь: ты обещал! — Он поднял с песка бутылку с длинным горлышком и заторопился прочь, Еще долго они видели, как мелькают его белые резиновые сапожки. — Послушай, Якоб, — произнес после паузы ефрейтор Бергеман, когда они шли через дюны к казармам. — Зачем ты ему наобещал? — Вас забыл спросить! — ответил унтер-офицер. — Тогда смотри сам и выполняй. Якоб беспомощно развел руками: — Постараюсь. — Совсем не обязательно выполнять это обещание, — заметил Петцинг. — Ничего другого от тебя и не следовало ожидать, — сказал Якоб. — А ты небось рассчитывал втянуть в это дело кого-нибудь из нас? Никто на это не клюнет. — Он подтолкнул Бергемана: — Или ты, может, согласишься пожертвовать своим свободным временем? Ефрейтор засопел, почесал у себя за ухом и пробурчал что-то непонятное. Сделав несколько шагов, он сказал: — Не-е-ет! Каждый казался погруженным в собственные мысли. Они дошли до первого здания и дальше зашагали по бетонной дороге. — Сыну моей сестры, то есть моему племяннику, исполнилось восемь лет. Так я его однажды так разыграл, что он с тех пор у меня ничего не просит. А знаете как? — неожиданно сказал Штриглер. — Как? — спросил Петцинг и остановился. По тону Штриглера нетрудно было догадаться, что сейчас последует какая-нибудь забавная история. Петцинг в любое время был готов слушать всевозможные истории, особенно смешные или сальные. — Расскажи, — попросил он. — Так вот, год назад племяш спрашивает у меня: «Ты ведь мой дядя?» «Разумеется, — отвечаю ему, — я твой дядя». — «Тогда почему же ты мне никогда ничего не приносишь?» «Ого, — думаю, — так вот откуда ветер дует!» И отвечаю: «В следующий раз, дорогой мой, я тебя не забуду». Честно говоря, я не придал его словам никакого значения. К тому же кошелек мой всегда пуст. Хронический сквозняк, если можно так выразиться. Ведь тогда я еще учился в школе, хотя племянник мой этого и не знал. «Ну что, дядя, ты сдержал свое обещание?» — спросил он меня в следующий раз. «Ах, — ответил я небрежно (а про себя подумал: «Ничего страшного»), — ведь я тогда пошутил с тобой». С тех пор он не верит ни единому моему слову. — И это все? — разочарованно спросил Петцинг. — Все, — ответил Штриглер. — А к чему ты все это рассказал? — К тому, чтобы вы знали, что у детей очень хорошая память на обещания. — Ерунда. Ничего это не значит. — Значит! Раз дал слово, держи его. Якоб дал слово от всех нас, и я на его стороне. Воцарилось молчание. Затем Штриглер, обращаясь к унтер-офицеру, сказал: — Якоб, ты смело можешь рассчитывать на мою помощь. Сказаны эти слова были почти торжественно. «А что, собственно говоря, произошло? — мысленно спрашивал себя Якоб вскоре после того, как он познакомил ребят с мальчиком. — Откуда вдруг у меня появилось чувство удовлетворенности? Быть может, из-за письма Грет? Возможно, но только частично. Отчего вдруг сделалось так легко на душе? Этого Штриглера толком не поймешь, сперва крутит и вертит, а потом вдруг поддерживает меня. «Якоб, ты смело можешь рассчитывать на мою помощь». Это даже неплохо». Пройдя по коридору, Якоб остановился у кабинета лейтенанта Теля, постучал и вошел. Молодой офицер сидел за письменным столом, положив руки на какие-то бумаги. — Я догадываюсь, зачем вы пришли, — произнес он. — Думаю, что нет. Мой рапорт еще у вас? — спросил Якоб. Тель порылся в бумагах, нашел листок и поднес его к своим глазам. — Как видите… — Слава богу, — обрадовался Якоб. — Почему? — Верните его мне. Мне вдруг расхотелось переходить в другую часть, а почему, я и сам еще толком не знаю. Следовательно, вам эта писанина теперь ни к чему.17
— Не сердись на меня, если я сейчас тебе кое в чем признаюсь, — сказал в тот же день после обеда Тесен рядовому Штриглеру, подойдя к нему во время чистки оружия. — Ну и зол же я был на тебя раньше! Штриглер продолжал неторопливо чистить ствол автомата. На его аскетическом лице промелькнула довольная улыбка. — Вот как? — только и сказал он. — Ничего хорошего я о тебе не мог сказать, — продолжал Якоб, — и все из-за твоего поведения. — Могу себе представить, — произнес наконец Штриглер. — Скажи, почему ты вдруг решил поддержать меня? — поинтересовался Якоб. Штриглер положил автомат на табурет, взял в руки затвор и начал его чистить. Затем, бросив взгляд в сторону Бергемана и Петцинга, он тихо произнес: — Атмосферу, которая была у нас в экипаже, рано или поздно нужно было разрядить. — И это говоришь мне ты? — удивился Якоб. Штриглер хотел признаться, что он и раньше готов был встать на защиту Якоба, да все как-то не решался. Он не сделал этого ни в тот раз в присутствии лейтенанта, ни позже перед Якобом. Ведь если быть совершенно откровенным, следовало здорово заняться самокритикой. Начальство возлагало на Штриглера надежды, так как он был самым образованным в экипаже. Он знал гораздо больше, чем его товарищи. Он мог безошибочно решать дифференциальные уравнения, составлять замысловатые формулы сложных химических соединений, объяснить строение атомного ядра. Разумеется, он изучал и «Манифест Коммунистической партии», в котором написано, что по Европе бродит призрак коммунизма. Был в состоянии сделать устный реферат минут на двадцать о сущности государства, как капиталистического, так и социалистического, о роли народных масс в истории и многом другом. Безусловно, ему были ясны причины империалистических войн, а защита завоеваний социализма представлялась ему как логическое следствие разделения мира на два лагеря. Короче говоря, у него было все для того, чтобы стать сознательным воином… Закончив школу, Штриглер получил вежливое, но настоятельное напоминание о необходимости выполнить свой гражданский долг и отслужить положенный срок в Национальной народной армии, о которой он в ту пору имел довольно-таки смутное представление. В основном он видел воинские части на парадах, которые в праздники транслировались по телевидению, да и эти передачи он смотрел без особого внимания. Кое-что он читал об армейской жизни в газетных статьях, специальных брошюрах или слышал по довольно редким докладам на военно-политические темы в школе. Короче, он знал о ней столько, что у него сложилось своеобразное представление об армии, довольно далекое от реальных будней. Но именно эти будни и доставляли ему теперь так много неприятностей: ранний подъем, бесчисленные построения, строевая подготовка, поверки, несение караульной службы, уборка помещения и даже стирка подворотничков. Кроме того, ему, никогда раньше не делавшему даже утреннюю зарядку, немало трудностей доставляли занятия физической подготовкой. В столовой его никто не спрашивал, что ему нравится больше. Рассуждать здесь особенно не приходилось: почти все делалось совместно и под строгим контролем. И мать была далеко, и подруги не было рядом, и постель оказалась не такой уж мягкой, и отпуск давали редко. А какой храп стоял у них в комнате! За довольно короткое время танкисту Штриглеру надоело служить в армии. С одной стороны, он прекрасно понимал необходимость существования Национальной народной армии, понимал, какую важную функцию она выполняет, а с другой — никак не хотел понять, почему именно он должен служить в ней… Оказавшись в части, Штриглер столкнулся со всякими трудностями воинской службы. Более того, пришлось познакомиться и с такими вещами, которых, собственно, не должно было быть, например, с недостаточной выучкой отдельных младших командиров, их несколько грубым отношением к подчиненным, особенно в тех случаях, когда стоило бы прислушаться к их советам, и тому подобным неприятным явлениям. При таком отношении Штриглера к служебным обязанностям случай с дорожными указателями был как раз кстати. Указателями служили камни, разграничивающие танковую проезжую полосу, которая вела от казармы в район учений. — Раньше я никогда не обращал внимания на дорожные разграничительные полосы, — неоднократно рассказывал впоследствии Штриглер, каждый раз корча при этом насмешливые гримасы, — хотя мы почти ежедневно выезжали в поле. За три дня до проверки я вдруг заметил, что камни, которыми обозначена разграничительная линия, выкрашены в ослепительно белый цвет. «Ну что ж, — подумал я, — неплохо придумано для безопасности движения: ни один танк не собьется с пути». К моему великому удивлению, после возвращения в расположение части вызывает меня к себе офицер из штаба полка и сует мне в руки канистру с красной краской и тонкую кисточку. Краска, собственно, была не красная, а скорее розоватая: видимо, ее слишком жидко развели. «На каждый камень, — заявил мне офицер с таким видом, будто ставил передо мной задание, от выполнения которого зависело дальнейшее существование всей нашей армии, — на расстоянии ладони от верха должна быть нанесена опоясывающая сантиметровая полоса». Сказав это, он с беспокойством взглянул на небо. «Надеюсь, дождя сегодня не будет, — добавил он, — краска неводоустойчивая и может продержаться не более трех дней. А за это время, бог даст, проверка и закончится…» Еще ни разу путь к району учений не казался мне таким долгим и длинным, как в последующие два дня, когда я от зари до сумерек вынужден был рисовать на камнях полоски. «Зачем, — мысленно спрашивал я себя, с ожесточением обмакивая тонкую кисточку в розоватую жидкость, — зачем, черт побери, этим камням понадобились розовые жабо, которые к тому же легко смываются дождем? Какая польза от этой работы? Разве для этого я получал аттестат зрелости? Интересно, как чувствует себя на подобной работенке Гертлет из второй роты, ведь у него в кармане диплом химика. Или Клингер из третьей роты, дипломированный архитектор? До армии они занимали ответственные посты, а здесь вот уже два дня подряд рисуют жабо на каждом камне, через каждые десять метров… Да здравствует, — мысленно воскликнул я, повернувшись к лесу, — научно-техническая революция! Да здравствует повышение производительности труда! Размахивайте как следует кисточками, физики, химики, учителя, доценты! Математики, кибернетики, техники! Специалисты-высокочастотники, прогнозисты, агрономы, верхолазы, пищевики, нефтяники! Все абитуриенты! Вы — будущее республики! А у республики вас сотни тысяч. Поэтому не отворачивайте свой нос от разрисовки камней! Работайте с радостным лицом! Пошевеливайтесь! За работу, за работу! Только тут вырабатывается настоящий характер! Понятно? Нет, — думал я, — нехорошую работу мне дали: больше двухсот камней, по одному на каждые десять метров, точно выстроившиеся в ряд девицы-пансионерки с розовыми ленточками на шее. А ведь каждая работа должна иметь смысл». Вечером накануне прибытия инспекторов пошел дождь. Камни стали похожи на брынзу, вымазанную малиновым киселем. На следующее утро офицеры-инспекторы, втянув голову в плечи и укрывшись плащ-палатками, промчались на газике в район учений. Они не смотрели ни направо, ни налево, они вообще не интересовались подобной ерундой. Их интересовало только то, как мы стреляем из наших танков. Этим они интересовались досконально. А наша рота стреляла так, словно где-то что-то рушилось… «Однако можно ли оправдывать мое злорадство, — думал я, — поводом для которого послужил этот случай и многие другие до и после него? Какое бы задание мне ни дали, разыгрывать из себя мученика я не имею права. Каким бы трудным оно ни было, личную ответственность за его выполнение с меня никто не снимет».18
Личная ответственность — эта тема была для рядового Штриглера любимым объектом для размышлений. О ней он думал и теперь, когда хоть и по пустячному поводу, но все же поддержал своего унтер-офицера. Штриглер, каким бы нестойким он ни казался, был человеком тонким. Он часто задумывался над всем, что происходило вокруг. Естественно, он мог ошибаться, но потом сам же страдал от своей ошибки или слабости. Личная ответственность… Как торжественно звучат эти слова! Над этим следовало бы хорошенько подумать. Штриглер упустил свой шанс в тот день, когда в их комнате стало известно об отстранении ефрейтора Бергемана от обязанностей командира танка. «Наверное, его это здорово задело», — подумал про себя Штриглер. До сих пор он не испытывал особой симпатии к ефрейтору, а себя считал обойденным. Бергеман не закончил средней школы, но, несмотря на это, всегда лез вперед: красноречивый, самоуверенный, веселый, предупредительный и в то же время зубастый. Штриглер постоянно чувствовал, что ему никак не угнаться за Бергеманом. «Ну вот, теперь и его как следует стукнули. Так ему и надо, этому выскочке! И вечно он бахвалится: «Мой танк, мой наводчик, мои успехи с моими ребятами…» О скором прибытии во взвод нового командира танка Якоба Тесена они узнали вечером. Тот день у них был очень трудный: меняли траки у гусеницы в танковом парке под пронизывающим ветром. Они до чертиков устали, руки окоченели от холода, к тому же все очень проголодались, так как время шло к ужину. Ефрейтор Бергеман сделал вид, что его нисколько не тронуло понижение в должности. «Я вовсе не цепляюсь за эту должность», — казалось, говорило выражение его лица. Молча он достал свои вещички из шкафчика и занял новое место. «Однако он неплохо владеет собой», — подумал про него Штриглер, и на какое-то время ему даже стало жаль ефрейтора. — Надеюсь, что вы, по крайней мере, довольны мной? — осведомился Бергеман у ребят. Штриглер молчал, а Петцинг только кивнул головой. — Или я был к вам несправедлив? — продолжал Бергеман. — Нет, — ответил Петцинг. — Вот видите. И мы всегда были вместе, не так ли? — Так. — И кое-что вынесли на своих плечах. — Что правда, то правда, — согласился Петцинг, — особенно если вспомнить случай с маскировочными сетями, которые мы раздобыли в гараже третьей роты. — Вернее говоря, украли, — уточнил Штриглер. — Ерунда, — возразил Петцинг, — они же остались собственностью армии, просто хозяин стал другим. И вообще, на законах меня не проведешь, я их прекрасно сам знаю! — И все же это было нехорошо, — упорствовал Штриглер. — Их, наверное, искали. И кто-то определенно получил за пропажу взыскание. Бергеман примирительно воздел кверху свои огромные ручищи. — Признаю, это была не совсем джентльменская акция. Видите, я самокритичен. Но разве сейчас время спорить об этом? В конце концов на проверке мы получили хорошую оценку. И если не ошибаюсь, кое-кто получил даже внеочередной отпуск с поездкой домой, а? — Сроком на один день, — недовольно пробурчал Петцинг и, обернувшись к Штриглеру, спросил: — А ты уже отгулял свой день? Да или нет? — Отгулял, — робко ответил Штриглер. — Ну так чего же ты тогда шумишь? Штриглер хотел было еще что-то возразить, но Бергеман в этот момент вытащил из-под кровати коробку. Он разложил на койке остатки своей посылки и начал дележку, на этот раз значительно более щедрую, чем когда-либо. У Штриглера даже дух захватило. Желание полакомиться оказалось так сильно, что от принципиальности не осталось и следа. Он позволил заткнуть себе рот куском салями толщиной с большой палец. — Это тебе как аванс за то, чтобы мы и дальше крепко держались друг за друга, — проговорил Бергеман. Вот так шанс поспорить с ними был упущен. Позднее, когда Штриглер вспоминал эту сцену, он ругал себя за малодушие и беспомощность. «Подкупил меня своей колбасой этот подонок!» — с неудовольствием думал он. Однако вслух он не сказал ни слова, а только все больше и больше замыкался в себе, не обращая внимания на все происходящее вокруг него. Его молчание воспринималось ребятами как немое согласие. Хотел он этого или нет, но товарищи смотрели на него как на своего единомышленника. Лишь изредка в нем просыпалась совесть: «Разве то, что здесь происходит, хорошо?» А когда Бергеман заходил слишком далеко в своих выпадах против Тесена, Штриглер в отчаянии думал: «Нет, так дальше продолжаться не может. Нужно найти выход из этого положения». И наконец этот разговор в танковом парке, высказывания лейтенанта Теля относительно личности. И его вопрос о том, как он мог дойти до жизни такой. «И почему только я такой непоследовательный? — думал Штриглер. — Можно даже сказать, что мне не хватает мужества…» Однако после разговора с лейтенантом в парке он стал несколько собраннее. Теперь он только ждал благоприятного случая, чтобы поддержать своего командира унтер-офицера Якоба Тесена. И вот этот случай представился, пусть незначительный, во время знакомства на пляже с Олафом. Хорошо было бы ему как следует объяснить свое поведение унтер-офицеру, но ведь не так-то просто встать и громогласно заявить: «Я хочу стать другим…» Штриглер поднял свой автомат и заглянул в ствол, который блестел, как и положено, потом вставил затвор. — Все в порядке? — спросил его Тесен, который все еще стоял рядом. — Порядок! — И никаких претензий нет? — Якоб кивнул на оружие. — В будущем у меня больше не будет никаких претензий, товарищ унтер-офицер, — многозначительно ответил Штриглер. — Все будет по-другому, я в этом убежден: я решил иначе относиться к службе!19
Встреча экипажа Якоба с Олафом на берегу моря дала унтер-офицеру одного сторонника, который проникся симпатией к мальчугану и который захотел хоть чем-то помочь ему. «Один из трех уже на моей стороне, — подумал Якоб, — вместе со мной — это половина экипажа, а немного погодя и оставшиеся двое к нам присоединятся…» Однако в первое время ефрейтор Бергеман и рядовой Петцинг восприняли намерение своего командира и наводчика как блажь, считая, что тратить свое свободное время, которого у них и без того немного, на какого-то незнакомого мальчишку просто глупо! А когда в тот же вечер унтер-офицер Тесен и рядовой Штриглер подтащили стол под лампочку, чтобы было лучше видно, и, развернув большой рулон бумаги, начали делать на нем чертеж модели танка, Бергеман и Петцинг несколько раз бросали на командира насмешливые взгляды. — Вы только не очень большой танк стройте, — ехидно заметил им Бергеман, лежа на койке и закинув руки за голову. — По крайней мере старайтесь, чтобы модель не получилась больше оригинала… — Однако и не настолько маленькой, — поддержал его Петцинг, — чтобы она свалилась со стола, если я неожиданно чихну. — Со мной лично подобный случай уже был, — заметил Бергеман. — Как-то я наводил порядок в загородной вилле, которая, разумеется, принадлежала не мне, а одному жестянщику, и нечаянно так чихнул, что со стола слетела не какая-нибудь игрушка, а чашка из настоящего китайского фарфора. — Ну и мастак же ты врать, — засмеялся Петцинг. — Где это видано, чтобы у жестянщика была вилла?.. Оба так и покатились со смеху. На изготовление модели Якоб и его добровольный помощник потратили несколько вечеров, однако ни Бергеман, ни Петцинг не изъявили ни малейшего желания помочь энтузиастам. Тем не менее они пока прекратили подшучивать над ними, решив, по-видимому, сделать это несколько позже, при удобном случае. Найти же подходящий случай Петцингу было отнюдь не трудно, так как на отсутствие фантазии он жаловаться никак не мог. Спустя несколько дней оба насмешника, казалось, даже смирились со столь необычным увлечением своего командира, который охотно отдавал ему все свое свободное время. Более того, Якобу даже показалось, что оба они прониклись уважением к его затее, так как Петцинг и Бергеман старались по вечерам не занимать стол и мирно сосуществовать с «модельерами». — Лучше было бы, если бы и вы присоединились к нам, — предложил им Штриглер, — по крайней мере, вместе быстрее бы сделали модель. — Возможно, что следующий из них придет к нам быстрее, чем мы думаем, — заметил Якоб. — Бергеман этого никогда не сделает, — сказал Штриглер. — Не смотри так мрачно. — Просто я его знаю. Между тем постройка модели, несмотря на все старания Якоба, шла медленно, так как порой недоставало то одного, то другого: или не было нужной проволоки, или ребята никак не могли найти нужных шурупов и краски. Да и свободного времени было очень немного, так как приближались дивизионные учения, а к ним нужно было как следует подготовиться. Подготовка к учениям в полку развернулась вовсю, и солдаты с утра до вечера были заняты. Якоб имел довольно ясное представление о том, что такое дивизионные учения. И хотя в дивизии они проводились уже не однажды, каждый раз это были серьезные испытания, на которых нужно было показать выучку воинов и их способность действовать в масштабе соединения. На этих учениях, и только на них, можно было продемонстрировать все свое мастерство. В течение последних недель широко развернулась подготовка к учениям. Она проходила и в учебных классах, и на местности, и даже на стрельбище. Свободного времени почти совсем не оставалось. К тому же к танкисту предъявляются особые требования: уход за техникой — это не карабин привести в порядок, а целый танк. И независимо от того, надолго и далеко ли ты выезжал на нем из расположения, вернувшись, весь его должен вычистить, а пыли и грязи на нем, как известно, оседает немало. После окончания занятий унтер-офицер Тесен и рядовой Штриглер, потные и грязные, сняв замасленные комбинезоны, спешили в душ, а потом, вернувшись в комнату, могли взяться за напильник и кисточку, если, разумеется, пересиливали собственную усталость. Однако бывали вечера, когда они возвращались в казарму настолько уставшими, что были уже не в силах ничего мастерить. Постепенно модель танка преображалась, хотя до конца было еще далеко. Это было трудное время и для лейтенанта Теля. Командир роты все еще лежал в госпитале, и лейтенант продолжал выполнять его обязанности, да еще с каким рвением: вставал чуть свет и шел в подразделение к подъему, весь день находился среди солдат и уходил домой только после отбоя. Само собой разумеется, что усердие лейтенанта Теля не осталось незамеченным командиром батальона. Однажды после вечерней поверки он сам подошел к Телю и сказал: — Работаете вы хорошо, однако не слишком ли усердствуете? — Это сейчас нужно, — коротко, уверенно ответил ему молодой лейтенант. — Дело в том, что одни усердствуют потому, что не могут работать ритмично, другие потому, что не умеют командовать людьми, а третьи потому, что у них плохая память… — Есть и много других причин, — заметил Тель как бы между прочим, а сам подумал: «Можно ведь так заработаться, что даже на размышления времени не останется». За несколько дней до этого Тель получил одно за другим два письма. Первое было толстым и лежало в красном конверте, от которого пахло дорогими духами. Взяв письмо в руки, лейтенант мысленно спросил самого себя: «Хороший ли это знак, что она так много написала?» Вскрыв конверт, он начал читать. Невеста с мельчайшими подробностями описывала свою очередную поездку в Прагу. Сначала речь шла о полете из Берлина в Прагу, а потом последовало красочное описание пражских достопримечательностей: Градчан, Карлова моста, площади Святого Вита и еврейского кладбища. «Зачем столько подробностей? — мелькнуло в голове у Теля. — Ведь она уже не в первый раз посещает Злату Прагу. Уж если и писать, так пиши о том, что на самом деле интересно». Далее в письме шло описание членов делегации, в которую входил один профессор («Ну и что из этого?»), два доктора наук, и притом довольно молодых («В этом в наше время нет ничего удивительного!»), один из которых недавно опубликовал книгу об экономических проблемах. Заканчивалось письмо самым простым приветом. «В письме нет ни слова о нас, о наших с ней отношениях, — с неудовольствием подумал Тель, — ни слова о предстоящей свадьбе, о нашей совместной жизни. Человеку, который пишет такие длинные письма, видимо, есть что скрывать. Эх, Елена, Елена, мне кажется, у нас с тобой все идет насмарку…» На следующий день он получил другое письмо — от отца. Нужно сказать, что писал полковник обычно очень редко и все его письма были похожи на телеграммы, а присылал он их ко дню рождения, к Первому мая, к Дню республики. На сей раз письмо отца начиналось несколько необычно:«Перечитывая произведения Фрунзе (его отец очень уважал и даже любил), я натолкнулся на нечто новое, кое-что перечел совершенно другими глазами…»Далее следовала довольно пространная цитата из речи М. В. Фрунзе, которую тот произнес 1 августа 1924 года на торжественном заседании Военной академии РККА, посвященном 4-му выпуску ее слушателей:
«…Вы должны вернуться в атмосферу довольно-таки серьезную, в атмосферу обыденщины, обывательщины, с ее рутиной, с ее будничными крохоборческими интересами. И несомненно, что эта обстановка, эта атмосфера будет являться величайшим препятствием для достижения тех целей, о которых я сейчас вам говорю. Но плох будет тот из вас, кто впадет в уныние, кто впадет в состояние апатии. Настоящий вождь-революционер, вождь-организатор именно и будет испытан здесь, в этой практике, в этом опыте повседневной будничной работы. И только тот из вас может претендовать на роль настоящего красного генштабиста, настоящего организатора и вождя Красной Армии, который с этой обстановкой сумеет справиться, не даст ей подчинить себя и сумеет и себя продолжать учить и других вести за собой. Об этом последнем вы должны точно так же помнить постоянно…»[2]«И к чему только он мне все это пишет?» — думал Тель, продолжая читать письмо дальше.
«…Я доволен, что ты, мой сын, мой дорогой мальчик, все делаешь сознательно. Став офицером, ты уже не спросишь, куда тебя пошлют. Надеюсь также, что ты не будешь ссылаться на меня и мою довольно высокую должность, что у нас иногда еще случается. Я интересовался у твоего начальства, как ты там работаешь и служишь, и получил хороший ответ, который наполнил мое сердце удовлетворением. Смотри, сын, не опускай головы ни перед какими неудачами, в том числе и перед сугубо личными.«Это он намекнул на мои отношения с Еленой, — мелькнуло у Теля в голове. — То ли ему что-то известно, то ли он просто догадывается…» Тель осторожно сложил письмо, обещая себе, что никогда не подведет отца. «Выходит, никакой свадьбы пока не предвидится, — пришла в голову мысль. — Не будет у меня жены, которая понимала бы меня с полуслова, которая ждала бы меня по вечерам дома, которая говорила бы мне: «Послушай, меня кое-что тревожит, и потому я хотела бы выслушать твой совет…» Не услышу я и радостного детского крика: «Папа пришел!» И ни дочка, ни сын не поцелуют меня на сон грядущий, не попросят починить коляску для куклы… Не будет воскресных прогулок в зоопарк, когда детишки так охотно подолгу простаивают перед клетками с обезьянами или другими зверями, не нужно будет отвечать на бесконечные детские «почему» и «зачем»… А вместо всего этого — полковая столовая, офицерское общежитие, комната с четырьмя стенами… Так что, отец, твое письмо хотя и не облегчило мою жизнь, зато заставило меня по-другому смотреть на многое, и за это тебе спасибо».Твой уважающий тебя отец».
20
В последнее время лейтенант Тель стал уделять особое внимание экипажу унтер-офицера Якоба Тесена. «Тут я кое-что упустил, — думал лейтенант, — и упущенное следует наверстать сейчас. Нужно будет побеседовать с ними о роли каждого солдата в воинском коллективе. Что же им сказать? Что дивизионные учения явятся испытанием нашей выучки и физической закалки? Что-то они нам принесут? Несколько бессонных ночей? Да, безусловно. Нерегулярное питание? Такое тоже возможно. Пыль, грязь, сырые ночи? Все это, безусловно, будет. И разумеется, долгий марш на боевых машинах, этак километров на триста, с двумя-тремя небольшими привалами, когда сутками нужно будет находиться в тесном, душном, трясущемся и грохочущем танке. И все это в условиях «ведения боя, отражения атак противника с фронта, флангов, тыла, воздуха». — Я бы хотел поговорить с вашим экипажем, — сказал Тель Якобу. Он сделал небольшую паузу и продолжал: — Вы часто смотрите на карту нашей страны, на оба германских государства? — Да, конечно, — ответил лейтенанту Бергеман. — И что вам при этом бросилось в глаза? — Слишком много водных преград на нашем пути, — заметил Штриглер. — Через несколько километров речка или ручей, а иногда и большая река. — Вы, как я вижу, внимательны, — сказал лейтенант и тут же спросил: — А как наши танки будут преодолевать эти водные преграды? Унтер-офицера Тесена я не спрашиваю, поскольку он знает, как это делается. Но и вам, ефрейтор Бергеман, это тоже следует знать. А сейчас я задаю вопрос лично рядовому Петцингу: как наши танки переберутся на другой берег реки или ручья? — Через мост, разумеется, — не задумываясь, выпалил Петцинг, но, немного подумав, засомневался в своей правоте. — Если там будет мост, — заметил лейтенант. — Однако в боевой обстановке не всегда можно надеяться на то, что будет мост. Если мост будет цел, считайте, что нам повезло. Однако довольно часто мосты бывают «разрушены», танки приходится переправлять на специальных паромах. За переправу отвечают инженерные части. Это в том случае, если река широкая и глубокая. Но иногда полку или батальону приходится переправляться самостоятельно, Дабы сэкономить время, которое в современном бою имеет особое значение. Иногда несколько потерянных минут могут привести к катастрофе. Так что нужно искать другой выход. И знаете какой? Форсирование реки под водой! Да, да, товарищи, вы не ослышались: именно под водой. Под водой, своим ходом, и будут форсировать реку наши танки. Глубина брода повсеместно будет чуть больше метра, но по пути следования возможны и подводные ямы. Надеюсь, вы меня понимаете? — О таком виде форсирования мы слышали, — заговорил Штриглер, — но нас интересует, обойдется ли такое форсирование без препятствий? Лейтенант понимал, что солдат прежде всего интересует вопрос безопасности. А поскольку вопрос задан, не ответить на него нельзя. — Мне уже более десяти раз приходилось форсировать реки под водой, поэтому я могу поделиться с вами опытом. И должен сказать, что неприятностей при таком форсировании бывает не больше, чем при обычном марше по пересеченной местности. Это, так сказать, один из вопросов, которые мы должны отработать при подготовке к учению. Да, товарищи, все ли вы умеете плавать? — Немного помолчав, лейтенант продолжал: — Тех, кто не умеет плавать, я до форсирования не допущу! А теперь вернемся к вопросу, который мне задал рядовой Штриглер. Я имею в виду возможные ЧП. Не исключено, что во время движения у танка заглохнет мотор, и случиться это может вовсе не потому, что у наших танков ненадежные моторы, вы и без меня знаете, что это не так, а скорее из-за той или иной ошибки механика-водителя. Это, конечно, досадно, но отнюдь не смертельно. Вы всегда должны быть уверены в нашей боевой технике, которая доверена вам. К тому же, на всякий пожарный случай, на берегу будет находиться аварийная команда со средствами тяги, которая в случае чего мигом вытащит ваш танк из воды. «Нужно хоть этим их успокоить, — думал Тель. — Уверенность — большое дело, без нее невозможно победить страх, а с ним, как известно, хорошо серьезное задание не выполнишь. Что-что, а страх и паника лишают человека разума и толкают на необдуманные поступки…» — Ну, не будем настраивать себя на плохое до тех пор, пока вода не просочилась в наш танк, чего при нормальных условиях не должно случиться, так как на берегу вы зашпаклюете все щели. Если же вы все сделаете как следует, то вода не просочится и вы благополучно доберетесь до противоположного берега. Если же вода все-таки попадет в танк через люк, это не доставит вам удовольствия, особенно если вода холодная. Однако люк вам удастся открыть только тогда, когда давление в танке и вне его будет уравновешено, а ко всему этому вы должны тщательно подготовиться еще на берегу. Объясняя все это, лейтенант несколько раз провел ладонью по незаконченной модели танка. Чем дольше находился лейтенант среди солдат, тем спокойнее он себя чувствовал. Все, что до сих пор было связано с Еленой, как-то незаметно отошло на задний план, по крайней мере сейчас. — А теперь, товарищи, задавайте еще вопросы, если они есть. Унтер-офицер Тесен слушал лейтенанта довольно рассеянно: лично для него командир взвода ничего нового не сказал. Тесену уже не раз приходилось форсировать реки под водой, а теорию такого форсирования он изучал в школе младших командиров. Единственное, что удивило унтер-офицера, так это то, как лейтенант разговаривал с солдатами: просто и откровенно. Время от времени Тесен посматривал на руку лейтенанта, поглаживающую их модель танка, а про себя думал: «Не я буду, если не добьюсь того, чтобы у нас был сколоченный экипаж! Единственное, чего я не знаю, дождется ли Олаф в скором времени от нас модели танка».21
Спустя неделю после беседы лейтенанта Теля с экипажем Якоба танковый батальон, в который входила и рота временно исполняющего обязанности ротного Теля, выехал на железнодорожную станцию для погрузки в эшелон. Танки погрузили на платформу, а личный состав — в товарные вагоны, оборудованные двухъярусными нарами. Как только погрузка была закончена, эшелон отправился в путь через всю республику в юго-западном направлении. Ехали целый день и одну ночь. Поездка была скучной и однообразной для всех, кроме тех, кто был назначен в караул охранять танки на платформах. Солдаты спали, рассказывали различные истории, играли в скат. И так до самого пункта выгрузки, находящегося на берегу широкой реки, вода в которой казалась темной. Противоположный берег был отлогим. Через равные промежутки его разрезали каменные буны, концы которых скрывались в глубине реки. Штриглер показал рукой на обрыв на некотором расстоянии от берега и спросил: — А этот обрыв нам не помешает? — Вряд ли, он довольно далеко от берега, — ответил ему Якоб. По верху дамбы шла пешеходная тропинка, спускавшаяся в одном месте вниз. Танкисты сняли свои шлемы, положили их на колени. Приятно было после долгой езды в закрытом вагоне посидеть на воздухе. Все молчали, наслаждаясь тишиной. Спустя некоторое время Штриглер вынул из кармана пачку сигарет и закурил. Якоб бросил на него беглый взгляд, а затем взглянул на дамбу, у основания которой стояли их танки с выключенными моторами. Солдаты сидели на траве. Кое-кто растянулся во весь рост, греясь на солнышке. Штриглер чиркнул спичкой и, прикурив сигарету, проговорил: — Вода словно приглашает нас к купанию. — Для купания время не очень подходящее, несколько рановато, — возразил ему Якоб. — И все же, — не отступал от своего Штриглер, — я сейчас охотно выкупался бы. В этот момент к ним подошли Бергеман и Петцинг. Ефрейтор, услышав последние слова Штриглера, с удивлением воскликнул: — Выкупаться? В этой воде? Черта с два! — Знаешь ли ты, что вода любит жертвы? — не без ехидства спросил Штриглер. — Чепуха! — заметил Бергеман. — Вовсе не чепуха! Это слова Шиллера из «Вильгельма Телля». Спустя некоторое время лейтенант приказал танкистам идти к своим танкам. А через несколько минут моторы взревели, танки пришли в движение. В голове колонны шел танк лейтенанта, вторым — экипаж Якоба Тесена. Ехали по лощине, покрытой густой грязью, и грязь большими лепешками отлетала от гусениц. «И все-таки грязь лучше, чем пыль, — невольно подумал Якоб. — Все, что прилипает к машине, при форсировании реки отмокнет и отвалится от брони». Вскоре они выехали на лужайку, окруженную соснами. Якоб приказал подогнать танк вплотную к стволу огромного дерева, вокруг которого рос густой кустарник. И хотя листьев на кустарнике уже не было, ветви его в какой-то степени все же скрывали машину от глаз противника. Другие танки тоже укрылись за деревьями. Лужайка была самой обыкновенной, однако танкисты знали, что здесь им придется готовить свои машины к форсированию реки: шпаклевать смотровые щели и пазы, монтировать на башенный люк специальную трубу, через которую во время форсирования реки по дну в танк будет поступать свежий воздух, так необходимый экипажу да и мотору. Одновременно эта труба будет служить офицеру-инспектору ориентиром для определения положения танка под водой. — Уж больно узкая эта труба, — скривил губы ефрейтор Бергеман, — через нее только котенок пролезть может. — Ты так говоришь, как будто видишь такое впервые в жизни, — усмехнулся Штриглер. — Ну и что из того, что не впервые, — проговорил Бергеман, окидывая трубу недоверчивым взглядом. Пока танкисты монтировали трубы на башнях, лейтенант, стоя на своем танке, внимательно наблюдал за действиями солдат, а спустя некоторое время потребовал от командиров танков доложить о готовности. — Ну как там у вас, все в порядке? — спросил Якоб у танкистов. — Готово! — доложил Штриглер, стоя на башне. — Тогда по местам! — скомандовал Якоб. Штриглер и Петцинг влезли в танк через башенный люк, а ефрейтор Бергеман протиснулся внутрь машины через люк механика-водителя. Когда взревел мотор, Якоб полез в люк и уселся на место командира танка. «Ну, счастливого пути», — мысленно произнес Якоб, плотно закрывая люк. В танке было душно. Мотор взревел еще громче, и стальная махина медленно выехала из укрытия. Каждый занялся своим делом. В данный момент весь успех форсирования зависел только от механика-водителя, от его действий… Якоб напряженно прильнул к смотровой щели. А вот и он! Это плавающий танк, над которым плавно раскачиваются гибкие тонкие радиоантенны. В наушниках раздается треск, а затем слышится голос офицера-посредника: — Вы готовы к форсированию? Такой вопрос офицер задает каждому экипажу. Отвечать на него должен Бергеман, но он почему-то медлит. Наконец Бергеман докладывает: — Я готов! — Вперед! Танк медленно спускается к реке. Перед ним на значительном расстоянии движется танк лейтенанта Теля. Он уже вошел в воду. Проходит минута-другая — из-под воды видна только башня с вмонтированной в нее трубой да задранным вверх дулом пушки. А танк входит все дальше и дальше в воду, гоня перед собой небольшой вал воды. И вот уже и башня скрывается под водой. Теперь очередь за танком Тесена. Якоб чувствует, что машина в воде. Он прильнул к смотровой щели, через которую видна блестящая поверхность воды. Полоска противоположного берега кажется очень далекой, а чуть дальше поднимается невысокий голый обрыв, справа от которого возвышается куча серых камней. Вода тем временем доходит до основания башни… В этот момент в наушниках снова раздается голос офицера-посредника: — Как вы себя чувствуете? — Хорошо, — отвечает Бергеман. В этот момент в смотровой щели еще раз мелькнули узкая полоска молочно-голубого горизонта и слепящая глаза поверхность воды, а затем все погрузилось сначала словно в пену, а затем в светлую зелень, которая темнела с каждой секундой. А еще через секунду вода сомкнулась над башней… Мотор работал равномерно, и только это одно нарушало необычную тишину. «Словно в космическом корабле, который со скоростью света несется к далекой планете, отделенной от земли расстоянием в несколько световых лет, — мелькнуло в голове у Якоба. — И единственная ниточка, которая связывает космонавтов с землей, — это радио». — Взять немного левей! — последовала первая команда на поправку движения. Услышав ее, экипаж уже не чувствовал себя одиноким и оторванным от земли. Танк слегка дернуло. Якоб почувствовал, что машина взяла чуть-чуть влево. Видимо, поправка была сделана правильно, так как вслед за этим последовала команда: «Прямо!» «Прошли под водой метров шестьдесят», — сообразил Тесен. — Чуть правее! И снова рывок, который на сей раз показался Якобу слишком грубым. — Чуть левее! Еще немного левее! Стоп! Чуть правее… Прямо! Эти команды следовали одна за другой, и вскоре танк двигался в нужном направлении.22
С этого момента форсирование реки потеряло для Якоба захватывающий интерес. «Прошли метров сто двадцать, — подумал Якоб, — следовательно, это половина пути под водой…» И тут мысли унтер-офицера, к его огромному удивлению, перескочили на довольно отвлеченную тему. Он подумал о том, что через два дня закончится еще один этап подготовки к крупным учениям, до начала которых осталось недели две-три, а уж тогда можно будет увидеться с Грет. «Ах, Грет, Грет! Я так рад встрече с тобой! Но прежде я должен доделать модель танка для Олафа». Воспоминание о данном мальчугану обещании несколько испортило Якобу настроение. К действительности унтер-офицера вернул встревоженный голос ефрейтора Бергемана: — Командир, почему-то больше нет никаких команд! — Если нет, значит, мы двигаемся правильно. — Надеюсь. «Почему это он сказал «надеюсь»? — подумал Якоб. — И с каких это пор он начал называть меня командиром?» Прошло несколько секунд, а затем Бергеман сказал: — Знаешь, дружище, здесь что-то нетак! — Двигай дальше, — приободрил его командир. — Сейчас ты увидишь небо. И тут под правой гусеницей что-то треснуло. Правда, танк все еще двигался, но он вдруг начал как-то валиться на сторону. — Что мне делать? — воскликнул Бергеман. — Стой! — приказал ему Якоб. — Остановиться под водой? Якоб понимал, что сейчас дорога каждая секунда, и все же скомандовал: — Остановись! — Дружище! — услышал Якоб голос Петцинга. — Дружище! И тишина… — А что дальше, командир? — спросил Бергеман через несколько секунд. — Пусти свежего воздуха, а мы подождем, пока заметят, что мы остановились, и скажут, что нам делать… — Они могут сразу и не заметить, — перебил его Бергеман, — а мы тут сиди! «Те, что наверху, возможно, ни в чем не виноваты. Кто знает, может, просто рация отказала?» Наклонившись к рации, Якоб вызвал КП и перешел на прием, однако ответа не получил: в наушниках было тихо — ни слов командира, ни шума помех. «Нарушена радиосвязь! — мелькнула мысль. — А наша стальная громадина стоит на дне реки… Проклятие!» — Ну? — спросил Бергеман. Якоб промолчал. — Рация не работает? — Да. — Вот это влипли! Мотор монотонно работал на холостых оборотах. От брони несло холодом. И Якоб вдруг почувствовал, как заныл у него рубец на ноге. «Мне только этого и не хватало, — подумал он. — Это, наверное, от волнения. Такое чувство охватывает тебя у зубного врача, когда ты садишься в кресло, хотя врач еще и не дотронулся до тебя. Чего нам ждать? Пока все танки выберутся на берег, а к нам подойдет тягач и вытащит нас?..» — Что с мотором?! — нервно крикнул Якоб и подумал: «А что с ним может быть? Я сам чувствую, что он работает на холостых оборотах. Воздух поступает, и он работает нормально…» Обычно Якоб долго думал, прежде чем что-нибудь решить, но в ответственные моменты он быстро принимал решения. Так было и во время пожара в кооперативе, когда кто-то крикнул: «Да там же поросята!» — Сейчас ты будешь выполнять мои команды, — сказал Тесен, обращаясь к ефрейтору Бергеману. — Понятно? — Да. — Хорошо, тогда давай задний ход! — Я должен… — начал было протестовать Бергеман. — Я сказал, задний ход! Это приказ! Наступила небольшая пауза, затем послышался скрежет: это механик-водитель включал задний ход. — А теперь медленно назад! Мотор заурчал. Танк содрогнулся, а под правой гусеницей послышался отвратительный скрежет. Якоб в уме считал пройденное расстояние: «Десять метров, пятнадцать… двадцать…», а затем громко крикнул: — Стой! По расчетам Тесена, башню уже было видно из воды. — А теперь медленно вперед! Чуть левее! Машина слушалась механика-водителя и медленно ползла вперед. И вдруг снова раздался отвратительный скрежет металла, и танк снова накренился на левую сторону. — Стой! Назад! Повторим еще раз! Однако ни вторая, ни третья попытки результата не дали. Якоб мысленно выругался. — Что же теперь? — спросил Бергеман. — С нами что будет? — Попытаемся еще раз, — ответил Якоб. — Какой ты упрямый! — Пусть упрямый, но надо попытаться еще раз. — А потом еще и еще… — Да! — буркнул Якоб. — До тех пор, пока не удастся. — Однако делать это вовсе не обязательно, — заметил Бергеман, — если мы прекратим двигаться, нас все равно вытащат… — Вот этого-то я и не хочу. — Твое самолюбие мне противно! — выкрикнул Бергеман. Оба немного помолчали. Якоб слышал в своих наушниках шумное дыхание Бергемана. «Нужно ему объяснить, почему я поступаю именно так», — решил Тесен и произнес: — Я полагаю, что на учении нужно учиться… А ты представь себе, что мы сейчас в бою, когда каждый танк ждут на том берегу… — Но ведь это же бессмысленно! — перебил его ефрейтор. — Это уж мне решать! — Только за нас не решай! — Я ваш командир, и мои приказы распространяются на всех вас, в том числе и на тебя! — Даже если твои приказы доведут нас до могилы?! — испуганно выкрикнул Бергеман. «Он просто-напросто испугался, — понял Якоб. — Крикун Бергеман наложил в штаны от страха. Вот тебе и всезнайка! Куда делась напускная бодрость? Если бы можно было, я продержал бы его часа три под водой, а то и целых полдня, пока он не сожмется в комочек и не поймет, какое он ничтожество… О, Якоб, да ты, кажется, злопамятный! — пожурил унтер-офицер сам себя. — А ведь это нехорошее чувство, оно до добра не доведет никогда. Злопамятство и месть, как любит говорить мой брат Александр, — оружие наших врагов, а наше оружие — помощь и единство. Мне нужен Бергеман не трусливый, а смелый, инициативный, сообразительный, который готов поддержать меня в любой момент и словом и делом: будь это дивизионные учения или постройка модели танка для маленького Олафа. Мне нужен этот ефрейтор… и я буду за него бороться…» Но тут мысли унтер-офицера были прерваны паническим криком ефрейтора Бергемана: — Я хочу выбраться из этой коробки! С меня хватит! Довольно! Пока нас не залило здесь водой!..23
Если затопит танк, это будет самым неприятным, что может постигнуть танковое подразделение, и лейтенант Тель хорошо знал об этом. И совсем не потому, что застрявший танк трудно вытащить из воды. Для этой цели имеются специальные тягачи, которые великолепно справятся со своими обязанностями. Самое страшное заключается в другом: вода, попав внутрь танка, портит электрооборудование, радиоаппаратуру, мотор, вообще все, и это влечет за собой перемонтировку оборудования, на что уходит не несколько дней, а несколько недель напряженной работы. Короче говоря, такой танк уже не является боевой машиной и не может быть использован в бою. Лейтенант Тель все это прекрасно знал, но надеялся, что с ним такого не произойдет. Прошло десять минут, как танк лейтенанта первым достиг противоположного берега. Открыв люк, лейтенант высунул из него голову и первым делом посмотрел на реку. И сразу же увидел, что форсирование идет не строго по плану. Второй танк отклонился слишком вправо, он шел прямо на бетонную буну… «Интересно, куда смотрят на КП? — подумал лейтенант. — Не может быть, чтобы они этого не видели!» Спустя минуту лейтенант Тель узнал, что радиосвязь с танком Тесена потеряна. Уставившись на поверхность воды, лейтенант с тревогой наблюдал за бесплодными попытками экипажа выбраться из реки. Однако труба, через которую в танк поступал воздух, после каждой попытки вновь перемещалась на середину реки. «Лишь бы только ребята не потеряли мужество и водой бы их не залило!» — думал лейтенант. Тель спрыгнул с танка на землю, еще мокрую и вязкую после недавнего наводнения. Гусеницы танка оставили на ней глубокие резные отпечатки. Лейтенант спустился к самой воде, где уже собралась солдаты из спасательной команды. Кто-то столкнул на воду лодку. Все смотрели на лейтенанта, ожидая от него одного-единственного знака, повинуясь которому они бросились бы в воду. «Пора или не пора? — мучительно размышлял лейтенант. — Нет, подожду еще немного». А у самого на душе скребли кошки. — Вот уже три минуты, как танк топчется на одном и том же месте, — заметил невысокий плотный солдат, склонившийся над переносной рацией. Выпрямившись, он не сводил глаз с лейтенанта. Его розовощекое лицо, казалось, еще никогда не знало бритвы. — Удастся ли им выкарабкаться, товарищ лейтенант? Я что-то не очень верю. «Веришь ты или не веришь, это сейчас не самое главное, — подумал лейтенант. — Важно, чтобы они сами в себя поверили». — Рация все еще не отвечает? — спросил он у солдата. — Нет, — ответил радист, — молчат, как мыши. — Как мыши, говоришь? — вспыхнул лейтенант. — Такого выражения в уставе нет. Радист застыл по стойке «смирно» и доложил: — Товарищ лейтенант, рация унтер-офицера Тесена все еще молчит! — Вот так-то лучше, — заметил лейтенант. Со стороны холма послышался шум мотора, но солнце било лейтенанту прямо в глаза, и потому он не сразу узнал командира батальона майора Брайтфельда, который выскочил из машины, едва она остановилась. Лейтенант Тель подбежал к комбату и, вытянувшись, хотел доложить, однако майор решительным жестом руки остановил его. — Я все отлично видел с холма, — быстро проговорил он. — Меня интересует другое: почему вы до сих пор не приняли никаких мер? «И он тоже беспокоится», — подумал лейтенант и ответил: — Это второй экипаж, товарищ майор. — Не задавайте мне загадок. Я же вам уже сказал, что все видел через стереотрубу! — Это танк унтер-офицера Якоба Тесена, — смутившись, проговорил лейтенант. — И я хочу, чтобы его экипаж действовал самостоятельно. — Вы преследуете какую-нибудь цель? — спросил Брайтфельд. — Так точно, товарищ майор, и притом очень важную: нужно, чтобы этот экипаж самостоятельно нашел выход из создавшегося положения. Майору Брайтфельду было за тридцать. Когда закончилась война, ему было всего пятнадцать лет. Короче говоря, он принадлежал к тому поколению молодежи, которое было в военные годы отравлено гитлеровской пропагандой. И в то же время это было поколение, на которое нация могла возлагать надежды в ближайшем будущем. И Брайтфельд нашел свое место при народной власти. Он стал офицером народной армии. — Вы считаете, что этот экипаж способен справиться самостоятельно? — спросил майор лейтенанта. — Если бы вы спросили меня об этом неделю назад, я бы ответил отрицательно! Но сегодня я убежден в том, что они справятся. — Хорошо, — согласился майор, почесывая затылок. — Я разрешаю им сделать еще одну попытку, но… — Брайтфельд ткнул пальцем в сторону трубы танка, — но чтобы она длилась не более трех минут. Через три минуты мы их вытаскиваем! У лейтенанта словно гора с плеч свалилась. «Не каждый командир согласится на такое, — подумал Тель. — От другого ни «да», ни «нет» не добьешься, а этот на риск идет». — Товарищ лейтенант! — закричал в этот момент радист. — Да они, похоже, воздух выпускают. Тель посмотрел на воду и действительно увидел позади трубы полосу пузырьков. Солдаты на берегу заволновались. — Никто никакого воздуха не выпускает. Просто механик-водитель нажал на педаль газа, — ответил лейтенант. — В их распоряжении осталось еще две минуты, — проговорил майор, взглянув на часы. — А им больше и не потребуется, танк уже пошел. — Тель показал рукой на трубу. На этот раз танк дошел назад до середины реки. Затем труба на несколько секунд замерла на месте. «Сейчас механик-водитель переключает ход с заднего на передний». И вот танк уже медленно двинулся к берегу. — Ну, видать, буксировать его не придется, — радостно сказал майор. — На этот раз они взяли правильный курс. Из воды, вспоров ее поверхность, показалось дуло пушки, затем орудийная башня, и наконец танк выполз на берег в нескольких десятках метров от солдат. Лязгая гусеницами, он шел по грязи. Вот откинулась крышка люка, и в нем показалась голова унтер-офицера Якоба Тесена. Пройдя еще несколько метров, громадина остановилась. Майор Брайтфельд и лейтенант Тель бросились к танку. — Ну как настроение?! — громко закричал майор. Якоб тем временем спрыгнул на землю и, стащив с головы шлем, вытер рукой потный лоб, затем снова надел шлем и, приняв положение «смирно», доложил: — Настроение у экипажа хорошее! На землю спрыгнули один за другим Штриглер и Петцинг, а в открытом люке механика-водителя показалась перемазанная потная физиономия Бергемана. — И никто из вас не поддался панике? — Майор изучающе переводил взгляд с одного танкиста на другого. Бергеман заглушил мотор, и стало тихо-тихо. Бергеман, Петцинг и Штриглер впились глазами в лицо своего командира. — Поддаться панике? — спросил унтер-офицер и, сделав небольшую паузу, продолжал: — В нашем экипаже таких не может быть, товарищ майор! — Ну что ж, тогда молодцы, — сказал майор и пошел к своей машине, давая этим понять, что для него этот инцидент исчерпан, однако все солдаты знали, что этим дело не закончится: еще будет официальное расследование, в какой бы форме оно ни проводилось. Не закончился этот инцидент и для лейтенанта Теля, которому не терпелось узнать, почему унтер-офицер Якоб Тесен, отвечая на вопрос комбата, сделал небольшую паузу и даже чуть заметно усмехнулся. Ради озорства? Возможно, но возможно также, что в остановившемся под водой танке произошло что-нибудь…24
Так что же на самом деле произошло под водой после того, как Бергеман выкрикнул: «Я хочу выбраться из этой коробки! С меня хватит!»? Услышав выкрики Бергемана, унтер-офицер на миг растерялся. Он понимал, что в данный момент сам Бергеман представляет для танка большую опасность, чем вода, которая каждую минуту могла просочиться в танк. Унтер-офицеру хотелось видеть выражение лица каждого своего подчиненного. Немного повернув голову, он увидел Петцинга, выражение лица которого показалось ему наглым, каким оно было у него почти всегда. «Важно узнать, не трусит ли этот, — подумал Якоб. — А его наглое выражение мне сейчас не мешает». Штриглер неподвижно, словно статуя, застыл на своем сиденье. Жаль только, что не видно его лица, по выражению которого можно было бы понять и состояние. Он молчит, а в данной ситуации уже и это хорошо. «Я должен быть доволен тем, что он молчит, — мысленно решил Якоб. — Итак, остается Бергеман, которого даже увидеть невозможно, так как он сидит далеко внизу. Но я слышу тебя, «герой»! Слышу в наушниках твое прерывистое от страха дыхание. Я охотно пересел бы на твое место за рычаги и сам повел бы танк, но сейчас такой замены не сделаешь: ни ты, ни я мимо Штриглера не пролезем». — Сделаем небольшую передышку, — сказал Якоб ефрейтору. — Откинься на спинку сиденья и глубоко подыши. Это успокаивает, только не глупи. — Проговорив это, унтер-офицер замолчал. Обстановку разрядил Штриглер, и не только разрядил. Можно сказать, он буквально спас положение, немало удивив этим унтер-офицера. И сделал он это довольно оригинальным способом: отпустил замечание, которое на первый взгляд показалось глупым, так как не имело никакого отношения к тому положению, в котором они оказались. Повернувшись к унтер-офицеру, Штриглер вдруг ни с того ни с сего спросил: — Как ты думаешь, Якоб, удастся ли нам доделать модель танка и вовремя вручить ее твоему мальчугану? Вопрос был столь неожиданным, что Бергеман не выдержал и бросил: — Чудак, у тебя других забот сейчас нет, да? — У каждого свои заботы, — поучительным тоном произнес Штриглер и лукаво подмигнул Якобу. — Один беспокоится о собственном драгоценном здоровье; другой — о том, что слишком медленно приближается очередь на автомобиль; у тебя, Бергеман, полно забот с твоими девушками, ну, а мы с Якобом хотим выполнить данное мальчугану обещание. — Девушками я больше не интересуюсь, — буркнул Бергеман. — Тебе должно быть известно, что вот уже две недели, как я не получаю писем. — Ах, этого я почему-то не знал. Теперь мне понятно, почему у тебя скверное настроение: ты не имеешь того, без чего ты, собственно, и жить не можешь. Выходит, вокруг тебя сейчас вакуум образовался. — Что ты сказал? — Вакуум, я говорю, пустота, значит, вокруг тебя. — А в-вот что… — Бергеман, по-видимому, уже поборол свой страх, это можно было понять даже по его голосу. — А у вас обоих все есть… — Да, у нас есть то, — спокойно сказал Штриглер, — отчего у нас хорошее настроение. — Штриглер немного помолчал, а затем добавил совсем тихо: — Но к нам могут присоединиться и другие… И этот разговор, казавшийся на первый взгляд пустым, моментально изменил обстановку. Немного помолчав, Бергеман хмыкнул. — Нечего хмыкать, ты лучше скажи, будешь ты наконец с нами заодно или нет?.. «Как бы я хотел знать, что сейчас у Бергемана в мыслях, — подумал Якоб. — Дорого бы я за это заплатил». «Нужно что-то делать с собой, — думал в это же самое время Бергеман, — вести себя, как прежде, нельзя, да и Якоб не позволит…» — Ну что же ты не отвечаешь? — не унимался Штриглер. — Не торопи меня: всему свое время! — Это у тебя-то? В этот момент унтер-офицер Тесен понял, что Бергеман уже находится не на стороне противника, а на «ничейной земле». Для того чтобы перетащить его на свою сторону, нужно только немного подтолкнуть его, но без ненужной спешки. — Ну хватит, дискутировать будем потом, а сейчас нам нужно сначала выбраться из реки, — спокойно начал унтер-офицер, а затем твердо приказал: — Включай скорость. Пора бы нам, ефрейтор Бергеман, и солнышко увидеть!Когда комбат уехал, ефрейтор Бергеман подошел к Якобу и спросил: — А почему ты сказал комбату, что у нас хорошее настроение, и умолчал о панике, в которую я чуть было не ударился? «Да потому, — мысленно отвечал ему Якоб, — что я хочу перетянуть тебя на свою сторону, а унижать тебя я вовсе не намерен». Улыбнувшись, он ответил ефрейтору: — А стоило ему сказать об этом? — Пожалуй, не стоило, только… — Что тебя еще беспокоит? — Мне как-то неудобно перед вами… — Не расстраивайся, такое поначалу со многими случается. — Слабое утешение. — Но верное. Как-нибудь поговорим об этом подробнее. — А как же мне быть с другими? — спросил Бергеман. — Ты имеешь в виду Штриглера и Петцинга? — Да. — Не волнуйся, ни тот, ни другой не станет над тобой смеяться и, разумеется, никому ни словом не проболтается, — успокоил его Якоб. — Ты в этом уверен? — Абсолютно. — Это почему же? — А они мне сами обещали. — И что ты за парень… — задумчиво проговорил Бергеман. — Здесь я тебе не парень, а командир танка. — Нет, ты для меня парень. — Ну, пусть будет так, — согласился Якоб, а затем спросил: — Так как ты ответишь на сделанное мною ранее предложение? — С сегодняшнего дня можешь на меня полностью положиться, — ответил Бергеман. — И модель я с вами буду делать тоже…
25
«Вот и третий член экипажа отвоеван, так сказать, для коллектива, — думал Тесен. — Трое из четверых. Теперь очередь за Петцингом». Но невозмутимый и непробиваемый Петцинг никак не желал «прибиваться» к коллективу. Однако на сей раз Якоб, не будучи уверен в собственном успехе, обратился за помощью к своему взводному, лейтенанту Телю. — А я, собственно, ждал, что вы ко мне придете. Меня ваш экипаж очень интересует, в том числе и Петцинг. — Лейтенант повертел в руках линейку, положил ее на лист бумаги. — Что вы вообще можете сказать о Петцинге? — Не так уж много, и не очень радостное. Порой я вообще не понимаю, как в нашем обществе могут быть такие люди. — Не вините его за те поступки, которые он совершил полтора года назад. — За прошлое я его не виню, однако вся беда заключается в том, что он почти ни в чем не изменился. — Ну, не скажите. — Лейтенант засмеялся и погладил рукой подбородок. Как только лейтенант убрал руку с листа бумаги, Якоб невольно заметил, что это рапорт об отпуске, написанный рукой Петцинга. «И у этого человека хватило нахальства подать рапорт об отпуске за несколько недель до начала крупных учений…» — с раздражением подумал Якоб. В этот момент рука офицера снова легла на рапорт. — Кое в чем Петцинг все-таки изменился: он уже не совершает серьезных проступков, за которые его следовало бы отдать под трибунал… — заметил лейтенант. — Нам только этого и не хватало! — не сдержался Якоб. — В части-то! — Следовательно, мы уже не имеем оснований утверждать, что Петцинг нисколько не изменился. — И все-таки я со своей стороны не рискну заявить, что Петцинг слился с нашим коллективом. Лейтенант усмехнулся и сказал: — В подобных случаях мой отец всегда говорит, что к таким людям необходимо относиться с доверием, с социалистическим доверием, так сказать… Теперь настала очередь Якоба усмехнуться. — А вот мой старший брат в подобных ситуациях любит говорить, что доверие дело хорошее, однако бдительность, и особенно революционная бдительность, лучше и надежнее… И лейтенант и унтер-офицер рассмеялись. — Как я вижу, и ваш старший брат, и мой отец — люди одних взглядов. Я интересовался прошлым Петцинга и пришел к выводу, что он, однако, был в той компании не заводилой, а лишь старшим по возрасту… — И какое это имеет значение? — поинтересовался Якоб. — Выслушайте меня до конца, — продолжал лейтенант. Вынув из ящика стола папку с какими-то бумагами, он полистал их, а затем продолжал: — А вот здесь написано примерно следующее: «…Петцинг по складу характера является человеком слабым, придерживающимся мнения коллектива, независимо от того, каково это мнение…» — Лейтенант заглянул унтер-офицеру в глаза и сказал: — Из этого можно сделать вывод: каков коллектив, таков и Петцинг. Плохой коллектив — и Петцинг плох, в хорошем обществе и он достойно ведет себя. Вот так-то… И только так. — Хотел бы я, чтобы вы оказались правы. — Постараемся. — Лейтенант убрал папку в ящик стола, туда же положил и рапорт Петцинга об отпуске. В дни, последовавшие за этим разговором, события развивались так, что слова лейтенанта получили подтверждение. Случай, происшедший с экипажем унтер-офицера Тесена при форсировании водной преграды, стал в части на несколько дней темой для разговора. Обсуждали этот случай и небольшими группами, и на общем собрании личного состава, которое состоялось в кинозале. Многие из выступавших говорили о выдержке экипажа, который не растерялся в аварийной обстановке и действовал слаженно и умело. В заключение командир батальона перед строем батальона объявил каждому члену экипажа благодарность в приказе. Однако краткосрочного отпуска на родину, о чем так мечтал Петцинг, не последовало, так как майор считал, что излишнее злоупотребление отпусками обесценивает другие виды поощрений. Одновременно с благодарностью командование батальона решило написать письма родителям отличившихся солдат или по месту их работы до призыва в армию. После общего собрания и получения благодарности Петцинг безо всякого нажима извне начал проявлять интерес к делу, которым занимались его товарищи в свободное время. Более того, он даже сам стал помогать им, доставая неизвестно откуда дефицитный материал: фанеру, проволоку, краски. И делал все это безо всяких просьб. Придет, положит свои бесценные мелочи на стол и тихо скажет: — Вот я принес для вашей модели… «Нам тебя само небо послало вместе с твоими подношениями», — думал о нем Якоб. Однажды вечером Штриглер прямо из умывальной, с махровым полотенцем через плечо, пришел в комнату и сказал: — Я думаю, кое у кого из нас не хватает в голове. — Кого ты имеешь в виду? — спросил его Бергеман. — Да этого Петцинга: стоит себе в умывальной и драит свои ботинки. — Ну и что же тут такого? — поинтересовался Якоб. — Чтобы Петцинг чистил обувь?! — Знаешь, дружище, мне кажется, что ты прав, — сказал Бергеман, повернувшись к Штриглеру, — с ним что-то случилось. Уж не заболел ли он? Удивление Штриглера было отнюдь не лишено оснований, так как Петцинг никогда не обращал внимания на свой внешний вид: волосы носил длиннее дозволенного по уставу, обмундирование его было в пятнах, каблуки на ботинках почти всегда сбиты. Этим он не раз выводил из себя и старшину роты и самого Якоба. Однако на следующий день Петцинг еще больше удивил своих товарищей, заявив, что идет в парикмахерскую. До этого его всегда приходилось посылать туда почти силой. Теперь Петцинг без напоминаний пришивал к френчу белоснежный подворотничок, а пуговицы так надраивал мелом, что они блестели, как золотые. В пятницу Петцинг долго стоял перед зеркалом и, поливая голову одеколоном, тщательно причесывался. — Нарцисс, да и только! — хихикнул в его сторону Штриглер и тут же пояснил: — Нарцисс — это человек, который влюбился в собственное отражение в воде. — А-а… — лениво протянул Петцинг. — А может, ему еще и карандаш для подкраски бровей потребуется? — ехидно заметил Бергеман. — Неплохо бы, — тихо сказал Штриглер. — Только черного у нас нет, а есть зеленый: им мы хотим покрасить свою модель, — захихикал Штриглер. Ребята начали гадать, к чему Петцингу понадобилась такая тщательная косметическая подготовка, куда и зачем он идет. — А не замышляет ли он какую-нибудь необычную операцию, имеющую отношение к модели? — С этими словами Штриглер ткнул пальцем в сторону стола, на котором стояла недоделанная модель. Тут в разговор солдат вмешался Якоб. — Я думаю, что причина тут может быть одна — женщина. — У Петцинга женщина? — удивился Бергеман. — Подружка? — спросил Штриглер. — Возможно, а почему бы и нет! — Да нет, не может быть! — Еще как может! Тут ефрейтор Бергеман не вытерпел. Вскочив со стула, он подошел к Петцингу и не сказал, а скорее рявкнул ему на ухо: — Не молчи же ты! Выдай нам наконец свой секрет! Петцинг повернулся к нему лицом, загадочно улыбнувшись, обошел Бергемана и направился к Якобу, сказав на ходу: — Никаких секретов я вам выдавать не собираюсь. Могли бы и раньше догадаться. А вот увольнение в городской отпуск, товарищ унтер-офицер, я у вас прошу…26
Унтер-офицер Тесен разрешил увольнение рядовому Петцингу, строго-настрого наказав ему не пить спиртного и без опозданий вернуться в расположение части. А когда солдат хотел уже выйти из комнаты, унтер-офицер как бы мимоходом попросил его: — Раз уж ты у нас такой хороший организатор и все можешь достать, то не забудь, пожалуйста, что нам нужно. После ухода Петцинга в увольнение ребята еще немного повозились с моделью танка, но на этот раз работа у них явно не ладилась. Наконец Бергеман откинулся на спинку стула и, лениво зевнув, сказал: — С меня на сегодня хватит! Пора спать! — Ох и хлебнем же мы с ним горя на дивизионных учениях, — сказал спустя некоторое время Штриглер. — Если нам придется совершать длительный марш, и танковая колонна дойдет до поворота, и вдруг наш танк не свернет, а поедет дальше прямо по целине, то виноват в этом будет только механик-водитель Бергеман. — Солдат кивнул в сторону койки, с которой уже доносился храп заснувшего ефрейтора. В открытое окно доносилось равномерное дыхание морского прибоя. — В голову мне лезут различные мысли, — проговорил Якоб после небольшой паузы. — О Петцинге? — Нет, не о нем. — Якоб кивнул в сторону стола, на котором стояла модель. — Парнишка торопит. — А чего ему приспичило? — Он скоро уезжает, и я уже не могу больше водить его за нос… Между тем стемнело, и Штриглер зажег настольную лампу, а чтобы свет от нее падал только на стол, он прикрыл абажур махровым полотенцем. — Скажи честно, Якоб, ради чего мы этим занимаемся? — неожиданно спросил Штриглер. — Я думал, тебе это и так понятно. Разве нет? — Тебя беспокоит только парнишка или наш экипаж? — К чему тут слово «только»? Мы же давали ему обещание, не так ли? — Обещали… — Ты, должно быть, знаешь, что такое условный рефлекс? — Знаю. Ну, например, если дежурный по роте объявляет подъем, то мне еще на койке становится холодно, хотя утренняя зарядка начнется лишь пять минут спустя. Якоб заразительно рассмеялся: — Пример хорош, ничего не скажешь. У меня до сих пор сохранились кое-какие ассоциации еще с детских лет. Однако так ставить вопрос, как ставишь ты: или — или, нельзя. Коллектив коллективом, а обещание, данное мальчугану, следует выполнить. Сейчас, когда наш экипаж стал более сплоченным, хотелось бы подумать и о нем. Поймите, что в нашем лице он впервые познакомился с армией. Говорю я это к тому, чтобы ты понял: если мы не выполним своего обещания, то у Олафа может выработаться определенный рефлекс, он будет считать, что все военные — болтуны, обещают, но не держат слова. — Так вот что тебя беспокоит!.. — Да, конечно. — Сделаем мы модель: теперь нас уже четверо. — Если и дальше так пойдет… — Якоб пожал плечами. — А зачем ты отпустил Петцинга, пусть бы работал вместе с нами. — Ты забываешь, что он должен нам принести кое-какой материал. — Только поэтому? Унтер-офицер покачал головой: — Нет, конечно. И тебе это известно не хуже меня. Ты же видел, что ему сегодня во что бы то ни стало нужно было уйти в увольнение. В казарме его сегодня и десятком лошадей не удержишь. Через полчаса легли спать. Унтер-офицер погасил свет. — Послушай, Якоб, я сгораю от любопытства. — Из-за Петцинга? — Да, конечно. — Завтра утром что-нибудь да узнаем, — ответил Якоб, отворачиваясь к стенке. Кое-что Тесен узнал даже не утром, а ночью. Известие было отнюдь не из хороших. Бергеман все-еще похрапывал, хотя и не так громко. Штриглер ворочался во сне: видимо, ему снилось что-то неприятное. Вот хлопнуло окошко, и шум прибоя стал более отчетливым. Якоб проснулся и посмотрел на светящийся циферблат своих часов. Стрелки показывали без нескольких минут двенадцать. «А где же Петцинг? — мелькнула у него мысль. — Койка его заправлена». Унтер-офицер выдвинул ящик прикроватной тумбочки, где у него лежал карманный фонарик, который мог понадобиться ему при объявлении тревоги, и в этот момент услышал подозрительный шум возле двери: видимо, кто-то из солдат наскочил на табуретку. Якоб зажег фонарик. Лучик света выхватил из темноты фигуру Петцинга, который одной рукой опирался на стол. Волосы свисали ему на лоб, взгляд был растерянный. Чтобы защитить глаза от света фонарика, он поднял левую руку и, пошатнувшись, сдвинул немного стол со своего места. — Смотри не скинь модель со стола! — тихо предупредил его Якоб. — Плевал я на вашу модель, — пробормотал солдат, но руку со стола все же убрал. — Где ты был? — Это уж мое дело! — Да ты пьян! — Ну и что? Такое со всеми бывает! Петцинг направился к своей койке, Якоб светил ему фонариком. Добравшись, солдат кулем плюхнулся на койку. «Утром придется как следует поговорить с ним, — решил унтер-офицер. — И отчитать так, чтобы другой раз неповадно было». Однако поговорить с Петцингом ни утром, ни днем Тесену не удалось, потому что пришлось идти на занятия для младших командиров. Отрабатывалась тема «Преодоление местности, зараженной радиоактивными осадками, на танках в различных погодных условиях». А экипаж Тесена в это время приводил в порядок ходовую часть танка. И только поздно вечером Якобу удалось накоротке поговорить с нарушителем. — Ну, удалось тебе достать материал для модели? — спросил он Петцинга таким тоном, как будто накануне ничего не случилось. Солдат, однако, не удостоил его ответом, его маленькие глазки смотрели почти враждебно. — Если не удалось, не беда, — заметил унтер-офицер. — Может, в следующий раз достанешь, жаль только, что времени у нас маловато. И тут Петцинга словно прорвало. Он начал кричать, чем не столько удивил, сколько испугал Якоба. — С меня хватит! Я с вами больше не связываюсь, так и знайте! Делайте сами свою идиотскую игрушку для какого-то бродяги! — Ну-ну, успокойся, — попытался утихомирить солдата Якоб, подумав при этом: «Сейчас он ведет себя так, как обычно, он несправедлив и зол». А затем продолжал вслух: — Успокойся, я знаю, что день был тяжелый и ты очень устал: сегодня ты можешь отдохнуть! — Я вообще больше пальцем о палец не ударю для этого бродяжки, так и знайте! Якоб понимал, что без помощи командира взвода ему Петцинга не «обломать», а лейтенант со вчерашнего дня находился в отпуске.27
На следующее утро, это было воскресенье, дежурный по роте подошел к Якобу и сказал: — Товарищ унтер-офицер, вас вызывают в проходную. — Зачем? — удивился Якоб. — Вызывают, а зачем, я и сам не знаю. — Либо кто-то решил меня разыграть, либо… — сказал Якоб. — Я думаю, второе «либо», — многозначительно произнес дежурный. — Ничего больше я сказать не могу. Схватив фуражку, Якоб помчался вниз по лестнице. На КП он прибежал запыхавшись. Часовой, дежуривший у ворот, кивнул головой в сторону улицы, где в тени деревьев стоял голубой мотороллер, а за рулем сидела стройная девушка в брюках, зеленой куртке и в защитном шлеме. — Так это ты! — сказал Якоб тоном, как будто он расстался с девушкой только вчера. — Да, это я, — проговорила она, сдвигая очки на шлем и протягивая Якобу руку. — Ну, здравствуй! — Унтер пожал узкую девичью руку. — Здравствуй, здравствуй… — Грет слегка улыбнулась. Оба немного помолчали. — Ты приехала так неожиданно, даже не предупредила меня, — первым нарушил молчание Якоб. — Так мне больше нравится, — усмехнулась Грет. — Но ведь меня могло не быть в расположении… — Разумеется, могло. — И все-таки ты рискнула. — На дорогу мне потребовался всего час. И снова молчание. Якоб чувствовал себя несколько стесненно, так как заметил, что часовой начал нервничать, а из окон караульного помещения на них с любопытством и завистью поглядывали солдаты из отдыхающей смены. — Я смотрю, ты не очень-то обрадовался моему появлению. — Что ты! Я очень рад, только все еще не могу в это поверить. В это время из-за поворота показалась колонна машин, которая двигалась по направлению к ним. Вот мимо с грохотом проехала головная машина-тягач, таща за собой противотанковую пушку. — Какой шум поднимают ваши машины, да и облако пыли тоже. Пока я здесь стою, проезжает уже третья колонна. Не думала я, что у вас тут так шумно. «Будет еще и не такое, — подумал Якоб, услышав это, — только рассказывать я тебе об этом не стану: не имею права». — А знаешь, — сказал он, — рядом с воротами есть навес, куда ты можешь поставить свой мотороллер, а я тем временем сбегаю переоденусь и вернусь к тебе. — И что тогда? — поинтересовалась Грет. — Тогда? — переспросил Якоб. — Ну, многого я тебе не покажу, так как особых достопримечательностей у нас нет, шикарных магазинов и ресторанов у нас тоже нет, правда, есть скромный ресторанчик с еще более скромным меню… Грет рассмеялась, обнажив мелкие белые зубы. — Не ломай голову, местечко, чтобы перекусить, мы найдем и получше. — Это где же? — спросил Якоб. — Если меня не обманывает мой дорожный атлас, то это здесь, недалеко от моря… — Точно, имеется, — подтвердил Якоб, — и притом там никто не помешает нашему одиночеству. Через несколько минут они пошли к морю, и Якоб, взявший на себя обязанности гида, всю дорогу без умолку что-то говорил. Когда они проходили через большой луг, Якоб рассказал, что на нем они проводят занятия по дезактивации. — А знаешь ли ты, что такое дезактивация? — спросил он девушку. — Разумеется, не знаешь. И очень хорошо, что не знаешь, и будет еще лучше, если ты этого никогда не узнаешь, да и не только ты, но и все мы. Однако, как бы там ни было, нам нельзя забывать о том, что враг коварен и способен пустить в ход самые бесчеловечные средства войны, например атомное оружие. Трагедия Хиросимы и Нагасаки — это горькая действительность, а не пустая фантазия писателей… — Ты лучше скажи, скоро ли мы доберемся до моря? — перебила Якоба Грет. — Мы к нему и идем, еще совсем немного — и ты увидишь море. — Скажи, а в такое время уже можно купаться? — Возможно, только я не пытался. — Побежали! — задорно крикнула девушка. Толкнув парня в бок, она бросилась бежать, и он с трудом поспевал за ней. Они бежали по направлению к дюнам, за которыми лежало море. На сей раз оно было на удивление спокойным. На пляже ни одной живой души. Маленькие волны набегали на берег, но вода была еще очень холодной. — Ух как холодно! — воскликнула Грет, пробежав босыми ногами по воде. «Какая стройная и красивая у нее фигура, — невольно отметил про себя Якоб. — Какая она молодая, свежая». Набегавшись, они улеглись на песке на солнцепеке, положив подбородки на скрещенные перед лицом руки. Слева от них за забором виднелись казарменные здания, а справа тихо и нежно вздыхало море. — Ну как дела, рыцарь? — Почему ты меня так называешь? — Якоб провел рукой по мокрым волосам девушки. — Так просто, — тихо проговорила она. — Ты рыцарь, который совращает девушек! Якоб обхватил обеими руками голову девушки и повернул ее лицо к себе. Грет не сопротивлялась, и он поцеловал ее в полуоткрытые губы. Когда же он выпустил ее голову, она сказала: — А у тебя на бедре большой рубец, так что можно сказать… — А ты прелесть как хороша! — А ты, — Грет шаловливо погрозила Якобу, — а ты не должен подсматривать, это некрасиво. И оба, довольные, рассмеялись. Грет обняла его своими крепкими руками, и Якоб почувствовал прикосновение ее маленьких крепких грудей. «И куда только девалась моя застенчивость! — подумал он. — Меня переполняет чувство восторга и радости».28
Солнце уже клонилось к горизонту. Девушка, лежа на животе, смотрела на бухту, сбоку от которой вдали виднелось несколько домиков. — Смотри-ка, сюда кто-то идет, — заметила девушка. Якоб приподнялся и, опершись на локти, посмотрел в сторону дюн, где виднелась чья-то маленькая фигурка. Приглядевшись повнимательнее, Якоб увидел, что человек медленно идет вдоль моря. «Кто бы это мог быть? Олаф никогда не приходил на берег в такое время!» И Якоб рассказал девушке о своем маленьком друге. — Как только он не боится ходить на безлюдный пляж один? — задумчиво произнесла Грет. — Хотя я понимаю: он открывает для себя мир. — Он уже давно сделал это, — пояснил Якоб. — Ты хорошо знаешь его? Якоб кивнул. — Действительно хорошо? — Думаю, что да. Знаешь, Грет, мне пришла в голову мысль, что он не должен видеть нас вместе. Грет рассмеялась, не выпуская изо рта сухой травинки. — Ты что, стесняешься, Якоб? Ничего нам твой малыш не сделает. — И все же мне не хочется, чтобы он нас здесь увидел. — Уж не намерен ли ты прятаться? — с изумлением спросила она. Хорошее настроение Якоба было испорчено. «И зачем только его принесла нелегкая в столь неурочное время? Что я ему скажу? Я и сам ничего не знаю…» — Ну так что же мы все-таки будем делать? — поинтересовалась Грет. Якоб растерянно пожал плечами. — Я встану и помашу ему, чтобы он подошел к нам, — вдруг предложила она. — А ты, я вижу, упрямая. — Якоб встал и громко крикнул, размахивая руками: — Олаф! Олаф! Мальчик остановился и прислушался: видимо, ветер донес крик до него. Заметив унтер-офицера, Олаф сразу же бегом бросился к нему. На нем были надеты старые штаны, вместо пуловера — темная шерстяная рубашка, а шея повязана шарфом. — А вот и я! — радостно, словно молодой петушок, закричал Олаф. — А что у тебя с горлом? — спросил его Якоб. — Ничего особенного, болит немного. — Ну-ка подойди ко мне! — Унтер-офицер подал мальчугану руку. — Тут кое-кто хочет с тобой познакомиться… Иди, не стесняйся! И тут паренек заметил Грет. От изумления глаза у него стали большими-большими. — У тебя есть невеста! — Пока еще нет, но скоро будет. Это моя подруга, поздоровайся с ней! — Не-ет, — протянул малыш, качая головой, и спрятал руки за спину. — Не-ет… — Не делай глупостей, Олаф! Она хороший человек! — Я не люблю невест и вообще девчонок! — В голосе мальчика прозвучала открытая неприязнь. — Скажи ей, чтобы она ушла отсюда! — Этого я не могу сказать, — отказался Якоб. — Так поступать нельзя, — назидательно проговорил он. — Еще как можно, — настаивал Олаф. На глазах у него показались слезы. — Могла же моя сестра прогнать своего жениха. — А у твоей сестры был жених? — Да. — Ты мне об этом никогда не рассказывал. — Он приходил к ней только один раз, вечером. — Один раз? Тогда это вовсе и не жених был, Олаф! — Жених, как это не жених! — упорствовал паренек. — Но я уже вижу, что ты свою невесту не прогонишь. — Не вижу для этого никакой причины. — Никакой причины! А я вижу: если у тебя будет невеста, ты уже никогда больше не будешь заниматься со мной. Времени у тебя не останется. Или вы уже сделали то, что обещали? — Нет еще, — признался Якоб. — Ну вот видишь! — Но мы уже много сделали… — Это только разговор! — Ну хорошо, если ты хочешь знать точно, — Якоб наклонился к мальчугану, — то через несколько дней закончим. Мальчуган отошел от унтер-офицера на два шага, но затем остановился. — Знаешь, в моем экипаже есть один солдат, который не заодно с нами. Меня это очень злит, должен я тебе сказать, но… — Но ведь ты же командир! Прикажи ему, и все. — Знаешь, Олаф, все это выглядит несколько сложнее, чем ты думаешь. Мальчуган уставился взглядом в землю, носком правой ноги сгребая песок в кучку. Над ними с криком пролетела чайка и скрылась над морем. — Значит, ничего не вышло? — Выйдет, Олаф, выйдет. Подожди еще немножко. — Жаль, что ничего не вышло, — тяжело вздохнул Олаф. — Выйдет, я тебе говорю. — Поздно уже: через неделю мама заберет меня отсюда. — Когда? — спросил Якоб. — В воскресенье, рано утром. Мы на поезде поедем. Унтер-офицер немного подумал, а затем решительно заявил: — Значит, в субботу ты получишь свою модель. Приходи сюда в обед. — Это точно? — Даю тебе слово! — Сделаете, даже если один из ваших не будет вам помогать? — Будет и он. — Ну ладно, — проговорил мальчуган и побежал за дюны, крикнув на ходу: — Значит, договорились! В субботу! Но если и тогда танка не будет, то я ни тебе, ни твоим солдатам больше ни за что верить не буду! Больше мальчуган уже не оглядывался. — Знаешь, Якоб, расскажи мне об этом смешном пареньке поподробнее, — попросила Грет.29
В то же время рядовой Петцинг сидел в небольшой деревенской таверне, которая официально называлась «Чайка», но которую все солдаты из танкового полка почему-то именовали «Сильным бризом». Таверна была небольшой и в основном посещалась рыбаками с дублеными лицами и огрубевшими руками. И на этот раз в помещении было много рыбаков, а в самом углу сидела какая-то парочка — худенькая бледная женщина с блестящими глазами и здоровенный мужчина сполным лицом и редкими волосами. Они тихо разговаривали, и временами мужчина нежно поглаживал худую, болезненную руку женщины. — Машину мы по более дешевой цене приобретем у нашего соседа, — проговорила женщина. — По дешевой, говоришь! А я хочу купить новую машину, — запротестовал мужчина. — Ведь в первый раз покупаем. Женщина бросила на него благодарный взгляд, а он в свою очередь ласково погладил ее еще раз по руке и затем быстро поцеловал, считая, что их никто не видит. Однако незамеченными они не остались, так как сидели напротив большого зеркала, перед которым с кружкой пива расположился Петцинг. Любовная пара раздражала его, так как невольно напоминала ему о его вчерашнем «поражении». Размазав пальцем по столу пивную пену, он громко крикнул: — Двойную рюмку и кружку светлого! В своей вчерашней неудаче он прежде всего винил Бергемана, Штриглера и Якоба, да-да, и его тоже, хотя, после форсирования реки Петцинг и стал смотреть на командира танка несколько иными глазами. Якоб тогда доказал, что он парень смелый. Однако сейчас он снова казался Петцингу нехорошим, такими же казались ему и остальные члены экипажа, которые дружно мастерили модель для какого-то паршивого мальчишки. Вместе с тем Петцинг был недоволен собой и мысленно обзывал себя идиотом. Не везло Петцингу и с женщинами. Никто не поглядывал в его сторону, и происходило это, как ему казалось, из-за его довольно невыразительной внешности. Хотя однажды какая-то девица все же обратила на него внимание. Было это в молодежном лагере. Петцинга назначили на кухню, помогать работающим там девушкам. Они чистили картофель, а Петцинг носил им воду. Девушки вели себя довольно развязно, часто и громко смеялись, а Петцинг густо краснел, опасаясь, что они смеются над ним. Как-то одна из девушек заговорила с ним. Имени ее Петцинг не знал, подружки называли ее Кошечкой. У нее были большие выразительные глаза. Однажды, выбрав удобный момент, она подошла к парню и сказала: — Когда все разойдутся, приходи ко мне. Я покажу тебе кое-какие картины. — Что за картины? — удивленно спросил Петцинг. — Глупый ты, — сказала она, смерив его насмешливым взглядом. — Приходи — увидишь! Однако Петцингу не повезло и на этот раз. Наверное, потому, что он не относился к типу парней, которые нравятся девушкам. Дело в том, что, когда он разыскал наконец дом, в котором жила Кошечка, дверь ему открыл какой-то средних лет мужчина. Из распахнутой на груди рубашки виднелось волосатое тело. — Что тебе нужно, подонок? — злобно спросил он. Когда Петцинг робко объяснил ему, что его сюда пригласили, мужчина грубо крикнул в комнату: — Эй, девка, тут к тебе какой-то тип пришел неизвестно зачем! Петцинга бросило в краску, когда он увидел девушку, которая вышла к нему в незастегнутом халатике и нагло заявила: — Ах, мальчик, вышло небольшое недоразумение. Иди-ка ты домой: ты для меня еще зелен. С тех пор Петцинг еще больше стал робеть перед девицами. Все это он вспомнил, сидя в таверне за кружкой пива. — Эй, хозяйка! — вскоре снова крикнул он. — Моя кружка опять пуста! А в это же самое время из села по направлению к казармам мчался мотоцикл, за рулем которого сидел молодой человек в военной форме. Это был лейтенант Тель. «Только после третьего визита к вам, товарищ майор Брайтфельд, вы наконец-то разрешили мне краткосрочный отпуск, — думал лейтенант. — И хотя, как говорится, на носу дивизионные учения, этот отпуск мне очень нужен: если я сейчас с ней не встречусь, то всему конец…» И он дал полный газ. Мотоцикл затарахтел сильнее и стал еще быстрее глотать километры. Не так давно построенная дорога была гладкой и широкой: ее делали с учетом прохождения по ней тяжелых танков. Елена сама открыла ему дверь, однако радости на лице девушки он почему-то не заметил. Несколько секунд она молчала, затем бросила беглый взгляд на свои золотые часики и уже только после этого произнесла: — Ах, ты опять приехал! Ну входи же. «Будь что будет, — мысленно решил Тель, — отступать уже поздно…» Оба сели. Она — на диван, а он — в кресло напротив. Она откинулась на спинку дивана, отчего расстояние между ними еще больше увеличилось, ноги скрестила. И начала открывать пачку сигарет. Таких холеных рук Тель никогда еще не видел ни у одной из женщин. Сигареты были незнакомые: красивые, ароматные, с длинным фильтром. Она протянула пачку и ему, но тут же спохватилась: — Ах, я совсем забыла, ты ведь не куришь… Или, быть может, начал?.. — Может, нам лучше выйти на воздух? — неожиданно предложил он. — Как хочешь. Она предложила посидеть в ресторане, но он наотрез отказался, решительно заявив, что, кроме нее, не хочет видеть сейчас ни одной души. Молча они вышли из дома и направились в небольшой парк, что был неподалеку. По парку медленно прогуливались старики-пенсионеры из соседнего дома престарелых. Тель и Елена присели на скамейку. — Есть ли смысл продолжать наши отношения? — напрямик спросил Тель. — Вряд ли, — тихо ответила она. — Скажи, почему все так произошло? — Потому, что ты так напорист, — проговорила она раздраженно. — Только не начинай старой песни! — Нужно мне… — небрежно бросила она, доставая новую сигарету. — Будь благоразумен. Что за жизнь нас ждет, если мы поженимся? — Будем жить, как положено супругам… Вместе, разумеется… — Кто же к кому переедет? Лейтенант пожал плечами: — Разумеется, ты ко мне… Все очень просто… — Все очень просто! — перебила она его. — Это у тебя все просто, а у меня нет. Неужели ты не видишь, какой ты упрямый? — По-твоему, выходит, я должен перебраться к тебе? А сначала бросить армию, так?! — Такая возможность не исключена… — Я на это не соглашусь! — А я не собираюсь идти у тебя на поводу! — Холеная рука с сигаретой задрожала, серебристый пепел упал на землю. — Я ни в коем случае не собираюсь увольняться из армии, — холодно произнес лейтенант. — Неужели ты этого не понимаешь? Я нужен в части. Мой уход был бы расценен как предательство! Тем более что в последнее время я работал плохо… Всю эту неприятную сцену Тель еще и еще раз вспоминал на обратном пути в часть. Ехал он на бешеной скорости, так что деревья, росшие по обе стороны дороги, мелькали у него перед глазами, сливаясь в сплошную зеленую полосу. — Ты просто романтик! Идеалист! — с нотками сожаления сказала Елена, когда они прощались. — Ты готов всем жертвовать ради других, а я вовсе не хочу, чтобы пропал мой диплом, не хочу отказываться от своей работы ради того, чтобы поселиться в твоей деревушке…Стемнело, а Грет и Якоб все еще находились на морском берегу. Тихо шуршали, набегая, волны. Ветер доносил со стороны казарм музыку из громкоговорителя. Это были марши, которые не очень-то подходят для расставания с девушкой. Якоб долго не отводил глаз от лица Грет. Положив ей руки на плечи, он тихо сказал: — Я люблю тебя, Грет. Еще ни одна девушка не была для меня такой близкой, как ты! — и подумал: «Всего какой-нибудь час назад я считал, что сегодняшний день для меня безнадежно потерян. А ты, Олаф, пришел как раз не вовремя…» Однако, как только мальчуган скрылся из виду, Грет довольно больно толкнула Якоба локтем в бок и решительно потребовала: — Знаешь, Якоб, если ты немедленно не расскажешь мне об этом мальчугане, я сейчас же уеду отсюда! — Уж больно длинная это история, — хотел было отговориться Якоб. — А я люблю слушать длинные истории. Они стояли друг против друга. Радио в казарме замолкло. «Я с тобой теперь никогда не расстанусь», — думал он, глядя в большие ясные глаза девушки. — У меня в жизни тоже были тяжелые моменты, Якоб. Такие тяжелые, что даже представить трудно. Было мне тогда семнадцать лет, и я попала в одну северную деревеньку, в которой никогда не бывала раньше. Попала не одна, а с группой, в которой был двадцать один парень, а девушка — одна я. Послали нас туда для изучения новой сельхозтехники. Никаких иллюзий, разумеется, мы не строили, потому что понимали: задание нам поставлено ответственное. Однако на самом деле все оказалось намного сложнее. В селе никто не хотел считаться с девчонкой, да еще такой сопливой, какой я тогда была. Квартиры мне не дали, и я в течение нескольких недель была вынуждена спать в старом замке, в кабинете бывшего бургомистра, на старом диване. В комнате всегда было полно народу, столбом стоял сигаретный дым. И хотя я очень уставала за день, спать ложилась поздно. Однако и ночью настоящего покоя не было, так как в кабинете стоял телефон старого-престарого образца, который часто громко звонил по ночам. Я накрывала голову подушкой, чтобы не слышать его, но это мало помогало… Правда, товарищи из районного отдела как-то сказали мне, что, если мне очень трудно, они могут отозвать меня оттуда… Якоб привлек ее к себе и нежно погладил по волосам. — Насколько я тебя знаю, Грет, ты с честью преодолела все трудности… — Я не стала просить помощи… А знаешь, Якоб, — сказала Грет после небольшой паузы, — я пришла к мнению, что доверие много значит для человека. Что же касается тебя, то, как мне кажется, ты не из тех людей, кто отступает от намеченного или задуманного. Именно поэтому ты мне сразу понравился, а теперь нравишься еще больше. Ты преодолел собственные слабости, а это очень о многом говорит. Сначала к тебе присоединился Штриглер, затем — Бергеман… Так неужели ты и последнего, этого упрямца Петцинга, не перетянешь? — Послушай меня, — начал Якоб решительно. — До тебя у меня не было девушки, но я все время ждал именно такую, как ты. Останься со мной. Она коснулась его руки и сказала: — Только не сегодня. — Когда ты еще приедешь? — В следующую субботу, притом это будет предпоследний раз. — Только и всего? — Скоро моя практика заканчивается. — А потом я к тебе буду приезжать. — До меня далеко ехать. — Это не играет никакой роли. — Что же дальше с нами станет? — спросила она. — Мы обручимся. — Когда же? — По мне, хоть сейчас. — Да ты с ума сошел! — Девушка отодвинулась от Якоба. — Ты права: я действительно потерял голову от тебя… На шоссе показался грузовик, свет фар которого мелькал между деревьями. Вот луч света упал на лицо Грет. — Обручиться… И так скоро? — Мой брат Александр сказал бы то же самое… Грет усмехнулась, обнажив два ряда безукоризненных зубов. Снова стало темно: машина промчалась мимо. — Но ведь мы оба очень хотим быть вместе… — Ты слишком агрессивен. — Она немного помолчала. — Ну, до будущей встречи! И при условии, что ты до того времени выполнишь обещание, данное мальчику. — Ты не менее меня агрессивна, — усмехнулся Якоб и, прижав девушку к себе, поцеловал. — А ты меня еще не знаешь. — Девушка тоже засмеялась. Встав на цыпочки, она обхватила шею Якоба руками. — Ты меня понял, мой рыцарь?
30
Лейтенант Тель возвращался в часть поздним вечером. Его мотоцикл мчался по совершенно безлюдной дороге. Окна в домах были черными, и лишь в таверне «Чайка» еще горел неяркий свет. Вот промелькнул последний дом, и лейтенант выехал на дорогу, которая шла параллельно берегу моря. Лейтенант сбавил скорость. «Еще полтора километра, — подумал он, — и я дома». Он устал и замерз. Над морем висел огромный диск луны, как бы надкусанный с одной стороны. Свет фары вырвал из темноты какой-то странный предмет, валявшийся на самой середине шоссе. «Может, кошка бездомная? — мелькнуло у него в голове. — Кто-нибудь задавил по неосторожности…» Подъехав ближе, он увидел, что это не кошка, а фуражка, обыкновенная армейская фуражка. «Интересно, кто же ее потерял?» Тель поднял фуражку, повернул ее внутренней стороной под свет фары и прочел: «1-я рота, рядовой Петцинг». «Раз здесь фуражка, значит, и ее владелец где-то неподалеку…» Лейтенант сбавил скорость до минимума и ехал, внимательно глядя по сторонам, но никого не было видно. Проехав с километр, офицер увидел впереди огонек КПП и в тот же миг на шоссе показалась фигура солдата, который нетвердо стоял на ногах. Лейтенант осторожно обогнал солдата и остановился. — Стойте! — приказал он солдату. — А что такое?.. — начал было Петцинг, ослепленный светом фары. Он не видел, кто остановил его. — Садись ко мне! — приказал лейтенант. — Все равно уже опоздал, — промямлил солдат. — Без меня опоздаешь еще больше. И тут только Петцинг узнал офицера. — А-а… мне теперь все равно… — безвольно промямлил он. «Опять во втором экипаже не все в порядке!» — подумал Тель и приказал: — Не разговаривайте, садитесь на заднее сиденье, когда вам приказывают, да не свалитесь во время езды! Солдат устроился на заднем сиденье, и лейтенант поехал, только уже медленнее и осторожнее. «Любопытно, что же все-таки случилось в экипаже Тесена?» Подъехав к общежитию, офицеров-холостяков, Тель остановил мотоцикл и, выключив мотор, вытащил ключ зажигания. Взяв Петцинга под руку, Тель ввел его в коридор общежития и, подойдя к комнате дежурного, тихонько постучал в окошечко. — Позвоните в первую роту и передайте, что опоздавший рядовой Петцинг у меня в комнате. Комната, в которой жил Тель, находилась на первом этаже. Обставлена она была скромно, как и все комнаты офицеров-холостяков: железная кровать, стол, несколько стульев. И в то же время в ней чувствовался какой-то уют, который создавали толстый красный ковер веред кроватью, настольная лампа с желтым шелковым абажуром, стоявшая на столе, и книжная полка. На прикроватной тумбочке стояло фото в рамке: красивая девушка с коротко подстриженными волосами и загорелым лицом. Лишними в комнате выглядели лишь пузатая фарфоровая безделушка, расписанная пестрыми красками, да модель шхуны под парусом. Лейтенант подошел к стенному шкафчику и, выдвинув один из ящиков, сдвинул в сторону стопку чистого, аккуратно сложенного белья, достал из-под нее стеклянную банку с кофе. — Садитесь, — указал он солдату на стул. Петцинг отошел от двери и с шумом сдвинул стул с места. — Потише, черт возьми! — шикнул на него лейтенант. — Мы ведь в доме не одни! — Ну и тепло же здесь у вас, — пробормотал Петцинг, расстегивая верхнюю пуговицу френча. Лейтенант тем временем наполнил водой алюминиевую кастрюльку и через плечо заметил: — Сейчас погреемся… Вам-то, как я понимаю, и без этого тепло… — Нужно было! — буркнул Петцинг и повалился на стул. Он опустил руки, и они почти достали до пола. — Я хотел бы знать почему? — Просто так. — Солдат непроизвольно зевнул. — Вы меня разочаровали, — сказал офицер, ставя на стол две чайные чашки неодинакового размера, у одной из которых была отбита ручка. — И здорово разочаровали. — Да я не хотел… — Так, может, вы мне все-таки объясните, что же с вами произошло? Лейтенант положил в чашки по ложке растворимого кофе и, наполнив их кипятком, тщательно размешал его. Солдат отпил из чашки несколько глотков и, посмотрев на расписанную пестрыми красками фарфоровую безделушку, спросил: — Что это такое? — Непонятная штука, да? Это дымоуловитель. — Выглядит красиво, — признался солдат. — Но дело в том, что я вообще не курю. — А я курю, — сказал Петцинг, доставая из кармана пачку дешевых сигарет. — Вы разрешите мне закурить? — Нет, не разрешаю. Вот выйдете на улицу, тогда курите сколько хотите. — Ну, ладно. — Солдат спрятал пачку сигарет в карман и спросил: — Если вы не курите, то зачем же вам эта штука? — Это подарок от шефов, в знак благодарности, так сказать. Как-то танком мы на буксире вытащили из воды одну рыбацкую посудину. Вот мне рыбаки и подарили эту безделушку… — Как я вижу, она вам и самому-то не очень нравится. — Вы правы, — согласился лейтенант, подумав: «Пока что я веду бесцельный разговор». Он отодвинул от себя пустую чашку и вслух спросил: — Скажите, после форсирования реки вы прониклись ко мне доверием? — Пожалуй, — ответил Петцинг, держа чашку с недопитым кофе у рта. — Скажите, что произошло в вашем экипаже? — напрямик спросил офицер. — В экипаже?.. — замялся солдат. — А ничего не произошло, все хорошо… — Однако, несмотря на ваше «хорошо», вы не остались в казарме, а пошли и напились, не так ли? — И уже во второй раз, — уточнил Петцинг таким тоном, словно он гордился этим. Допив кофе, он поставил чашку на стол, потом вытер губы рукой и продолжал: — Вкусный у вас кофе. У меня сразу в голове прояснилось. Никогда бы не подумал, что вы можете готовить такой кофе, товарищ лейтенант. Тель уже хотел на этом прекратить свой разговор с солдатом, решив, что ему не удастся вызвать того на откровенность. Однако Петцинг, не догадываясь о намерении офицера, уставился на фотографию женщины, стоявшую на тумбочке, а затем, многозначительно кивнув, произнес: — Во всем виноваты женщины. — Женщины? Какие женщины? — удивился Тель. — А вообще… все женщины… — Попробуйте-ка сказать об этом своей матери, — заметил офицер скорее удивленно, чем протестующе. — Сказал бы, если бы знал, кто это на фото. «Про мать я ему, кажется, напрасно напомнил, — подумал Тель. — Однако если он сейчас отпустит какую-нибудь остроту относительно Елены, я выставлю его вон!» — Дама на фото — это ваша жена? — просто спросил Петцинг. — Нет. — Симпатичная, — откровенно признался солдат. — Если не жена, тогда, значит, невеста? — И это нет. — Лейтенанту стало как-то не по себе. — Интересно: и не жена, и не невеста. На вашу сестру она никак не похожа… Ни малейшего сходства… «Да, дружище, между нами действительно не оказалось ни малейшего сходства, а пропасть такая, какой нет даже между прима-балериной и простым рабочим». — До сегодняшнего дня женщина на фото была моей невестой, но мы расстались с ней, и притом навсегда. У нее своя дорога, у меня — своя. — И у вас такая же история случилась?! — выпалил вдруг Петцинг. — И у меня тоже, — признался офицер. — А почему вас это так удивило? — Да потому, что я тоже очень зол на одну женщину. — Солдат усмехнулся во, весь рот. — Смешно все это, очень даже смешно. Выходит, товарищ лейтенант, мы с вами коллеги по несчастью!31
До сих пор рядовой Петцинг не представлял себе, что кто-то другой может оказаться в положении, в котором находился теперь он сам. В душе Петцинг считал себя круглым неудачником. Первая и главная беда его заключалась в том, что его еще ребенком бросила мать и он до сих пор не имел ни малейшего представления о том, кто его родители и где они находятся. Другая его беда состояла в том, что он с грехом пополам окончил всего лишь шесть классов. Особенно переживал он из-за того, что девушки старались избегать его. Невезения, кругом одни невезения! И вот теперь оказалось, что лейтенанту тоже не повезло в любви. Петцинг был ошеломлен таким признанием. «Непонятно только, почему он до сих пор держит у себя на тумбочке фото этой женщины? Выходит, не мне одному не везет с женщинами». Подумав об этом, Петцинг сразу же почувствовал некоторое облегчение, так как разделенное горе — уже полгоря. Он невольно вспомнил всю историю своего знакомства с девушкой по имени Хельга, с которой познакомился по письму, присланному на объявление молодежного журнала. Он не имел ни малейшего представления о том, кто она, чем занимается, как выглядит. Когда ее письмо принесли в подразделение, он, сам не зная почему, уставился именно на него. «И везет же этому Бергеману, — с завистью подумал он тогда, — стоило ему только поместить в журнале коротенькую заметку о том, что «молодой человек… желает познакомиться с девушкой…», как письма буквально посыпались на него градом. Одну из девушек я у него обязательно отобью», — решил тогда про себя Петцинг. Выбор Петцинга пал на Хельгу, и совсем не потому, что ее письмо было написано красивым ровным почерком. Нет, конечно. Почерк его нисколько не интересовал. Просто он обратил внимание на приписку в самом конце письма, которая и повлияла на его выбор. «…А живу я совсем недалеко от вас…» — написала девушка. Она и на самом деле жила неподалеку от казармы. Если идти берегом моря, то до ее дома можно добраться за полчаса. В самом конце бухты за дюнами уютно расположилось несколько небольших домиков, в одном из которых и жила Хельга. Беленький домик был похож на игрушечный. Низкие окошки закрыты светлыми занавесками. Вдоль стены дома клумба с яркими тюльпанами. Увидев цветы, Петцинг мысленно выругал себя за то, что явился на свидание к девушке без букета. Не рвать же теперь цветы здесь, тем более что хозяйка сразу же узнает их. Он остановился перед зеленой дверью. Из одного окна пробивался оранжевый свет. «Все идет хорошо», — мысленно подбадривал себя Петцинг. Набравшись мужества, он постучал в дверь, и через минуту за дверью послышались тихие шаги. Дверь приоткрыли. — Добрый вечер, — поздоровался Петцинг и отвесил низкий поклон, как он видел в фильмах. — Вечер добрый, — ответила на его приветствие девушка. Потом он разглядел девушку: она была крепко сложена, со слегка полным широкоскулым лицом, обрамленным гладко зачесанными назад волосами. Вся она излучала спокойствие и доброту. — Что вам угодно? — Мне нужно поговорить с вами… — Пожалуйста, — пригласила она, — проходите в комнату. Петцинг вошел в комнату с низким потолком. Девушка показала рукой на стул, а сама уселась напротив Петцинга на софе. У ног девушки лежал клубок шерсти. Она тут же подняла его и положила на стол, на котором лежал детский свитерок, но еще без рукавов. — Я вас слушаю, — тихо произнесла она и положила руки на колени. — Фрейлейн, я пришел к вам по объявлению. — По объявлению? — переспросила девушка, и на ее щеках появились красные пятна. — Неужели вы не помните объявление в молодежном журнале под броским заголовком «Где ты, прекрасная незнакомка?»? В ответ на него мы и получили ваше письмо, написанное на желтой бумаге. — О, это было так давно, что на ответ я уже не рассчитывала… — смущенно проговорила она. — А я вот пришел, — Петцинг радостно заулыбался и кивнул. Девушка растерялась, а лицо ее стало строгим. — Вы, может быть, пить хотите? — спросила она. — Я сейчас вскипячу чай… — Чай? — переспросил Петцинг. — Не-ет… Может, у вас пиво есть?.. — Пива у меня нет, — призналась девушка. — Очень жаль. Пиво — самый стоящий напиток для мужчин. — Солдат протянул ноги под стол и, засунув обе руки в карманы, вытащил зажигалку и помятую пачку сигарет. Бросив зажигалку на стол, он встряхнул пачку и вытащил губами сигарету. Разрешение закурить он спросил только тогда, когда уже щелкнул зажигалкой.32
Сначала лейтенант Тель слушал рассказ рядового Петцинга не очень внимательно, но, чем дальше тот рассказывал о себе, тем внимательнее становился офицер. Когда рассказ подошел к концу, лейтенант сказал: — Значит, вас постигла неудача? — Да, этот парнишка все мне перепутал. — Какой еще мальчишка?! — Олафом его зовут. Тель на миг задумался, а затем, словно вспомнив что-то, проговорил: — Это, наверное, тот самый паренек, для которого ваш экипаж мастерит модель танка? — Он и есть. Во всяком случае с того самого времени я перестал ладить с ребятами. — Так сразу и перестали? — Да… Потому что этот мальчишка испортил мне все. Если бы он в тот день не появился, девушка не отослала бы меня в казарму…— Отвечая на объявление в журнале, — продолжала девушка, — я представляла себе все несколько иначе… Не так неожиданно, что ли… — А это же тактика, — сказал Петцинг, — эффект внезапности, так сказать… Проговорив это, солдат начал неторопливо осматривать комнату, размышляя при этом, может ли эта девушка хорошо и вкусно готовить. И вдруг дверь из соседней комнаты отворилась и на пороге появился мальчик. На нем была длинная ночная рубашка, а шея завязана теплым платком. «Боже мой, — мысленно ужаснулся солдат, — мне сейчас только этого и не хватало!» Мальчик, видимо, только что проснулся. Он поморгал заспанными глазами, а затем спросил: — Хельга, кто этот человек? — Солдат, — ответила девушка, — но зачем ты встал из кровати? — Вы тут так кричали! — И, показав рукой на Петцинга, он спросил: — Это он, да? — Олаф, так невежливо, — упрекнула мальчугана девушка. — Здесь никто не шумел, просто у товарища на стол упала зажигалка. — А зачем он к нам пришел? — Просто он заблудился. — Нет, — запротестовал парнишка, — я не верю этому. — Чему ты не веришь? — Он не просто так здесь, он к тебе пришел. — Ничего ему не нужно. — Я же все слышал за дверью… — Выходит, ты еще и подслушиваешь?! — Да, — признался Олаф. — Солдат пришел, потому что он твой жених. Девушка покраснела и после долгой паузы решительно заявила: — Ты ошибся, Олаф. Этот солдат никогда не будет моим женихом. — Правда? — спросил малыш. — Да. — И она повела Олафа в спальню. Вскоре она вернулась, но на софу не села. Одернув на себе платье, она строго сказала: — Будет лучше, если вы сейчас же уйдете. — А как же письмо? — спросил Петцинг. — Уходите, так будет лучше для вас и для меня…
В этот момент лейтенант перебил Петцинга вопросом: — И только поэтому вы сердиты на мальчугана, да? Петцинг молча кивнул. — И поэтому вы напились? — Точно. — Обижаться на мальчугана вы не имеете права, — сказал лейтенант. — Он ни в чем не виноват! — А-а… — Солдат безнадежно махнул рукой. — Почему же тогда она меня прогнала? — А вы как следует подумайте, товарищ Петцинг! — Голос лейтенанта стал твердым. — Виноват не мальчик, а кто-то другой. — Выходит, я сам? — Да, вы. — Понятно. — Это хорошо, если понятно. Петцинг нахмурился, через весь лоб у него пролегла глубокая морщина. — По-вашему, выходит, что во всем виноват я сам? — Только вы. — Если так, то мне все ясно. — А что именно вам ясно? — Что я неудачник и что меня никому нисколько не жаль… Лейтенант рассмеялся: — Жалеть вас пока не за что. И уж если вы ищете сочувствия, то не ищите его у меня. Вы во всем неправы, а анализировать собственные поступки не способны. — Вы сейчас говорите, как следователь. — Разумеется, защищать вас я не могу. — Однако преступления я никакого не совершил. Лейтенант сделал непроизвольный жест рукой. — Вас не в этом упрекают. Просто нужно уметь смотреть правде в глаза. Ценность каждого человека заключается в том, на что он способен, чем он полезен. Хотите выслушать мое личное мнение о вас? — Да, пожалуйста. — Еще учась в школе, вы несколько раз оставались в одном и том же классе на второй год, и вовсе не потому, что не могли хорошо учиться, нет… Просто вы ленились. Потом вы решили приобрести специальность металлиста, но, не получив ее, стали учиться на строителя, однако, не закончив учебы, взялись за другое. Подобным образом вы перепробовали с десяток профессий, и все это за полтора года… С вами занимались десятки людей, учили вас, наставляли. Последним вашим наставником стал унтер-офицер Якоб Тесен. И после всего этого вы еще осмеливаетесь заявлять, что вас некому в чем-либо упрекнуть! А как вы жили до сих пор? Чем интересовались, кроме удовлетворения своих жизненных потребностей? Скажите, когда вы в последний раз читали какую-нибудь книгу? Да и вообще, вы хоть одну книгу по собственному желанию прочитали? Я пытался разыскать вашу абонементную карточку в библиотеке, но не нашел ее, так как вы в библиотеку и не записывались вовсе. Вы хоть раз видели, как выглядит театр изнутри? Или концертный зал? Или музей? Скажите, каково ваше представление о жизни вообще? Где вы хотите жить, чем заниматься? Что происходит в вашей душе, когда вы слышите слово «Бухенвальд» или узнаете о применении американцами напалма во Вьетнаме? Вы хоть знаете, где находится этот самый Вьетнам? А как вы представляете себе такие понятия, как «рабоче-крестьянская власть», «дружественная страна», и тому подобное? Есть ли у вас друзья или друг? Способны ли вы любить? Можете мне поверить, товарищ Петцинг, вы в нашем коллективе непопулярны. Именно это и разгадала в вас с самого первого момента эта девушка!.. Лейтенант замолчал, чтобы перевести дыхание. — Вы удивляетесь, что девушка вас выставила, — продолжал он после долгой паузы, — а я этому нисколько не удивляюсь!
33
Лейтенант Тель ошибался, думая, что попусту тратил время на Петцинга, поучая его. Отнесись офицер к солдату с сочувствием и жалостью, это вызвало бы у Петцинга тайное злорадство. Откровенный разговор подействовал на него лучше всего, только Тель сразу не заметил этого. Они все еще сидели друг против друга: лейтенант — на кровати, а солдат — на стуле. Неожиданно Петцинг спросил: — Когда я буду уходить от вас, могу я взять с собой вот эту штуковину? — Он показал рукой на фарфоровый воздухоочиститель. — Вместо этой безделушки я дам вам хороший совет: идите-ка вы в казарму да хорошенько выспитесь. А утром не сторонитесь товарищей, а делайте то же, что делают и они. А если вы все постараетесь как следует, то я уверен, что мальчуган еще успеет получить свою модель. «А почему бы и не попробовать? — думал Петцинг, направляясь в казарму. — Жаль только, что я не подарю эту фарфоровую безделушку мальчугану: он бы наверняка обрадовался…» Ребята в экипаже знали о разговоре лейтенанта с Петцингом, но ни о чем не спрашивали солдата. Вечером Петцинг попросился у командира танка в увольнение под предлогом достать недостающие детали для модели танка. Через полчаса Петцинг уже вернулся в казарму, принеся в обоих карманах всевозможные детальки, чтобы использовать их при сборке модели. Высыпав содержимое карманов на стол, он сказал: — Вот это как раз то, чего вам не хватало. Вчера и позавчера мне не удалось их достать. Дело это не такое простое, должен вам сказать, но Петцинг что хочешь достанет… Теперь наша модель будет как настоящая. — Он так и сказал — «наша». Все ребята из экипажа Тесена поняли, что в жизни их товарища, их нерадивого Петцинга, произошел поворот, поворот к коллективу. Процесс этот будет продолжаться не неделю, не месяц, быть, может, год, а то и более, однако самое важное заключается в том, что он начался. Как только маленькие колесики, без которых никак не обойтись, когда мастеришь гусеницу, оказались на столе, солдат словно парализовало. Однако замешательство их скоро прошло: ефрейтор Бергеман начал что-то привинчивать, Штриглер откинулся на спинку стула и с удивлением уставился на командира танка. Якоб вскочил со своего места и дружески толкнул Петцинга в бок, сказав при этом: — Ну и пройдоха же ты! Что бы мы делали без этих колесиков? — Когда модель должна быть готова? — как ни в чем не бывало, спросил его Петцинг. — В пятницу вечером, ровно пять дней осталось. — Мало, — заметил солдат, подойдя к столу, — очень мало. Ну что же, придется как следует поработать. Все молча принялись за работу, и она, нужно признаться, спорилась у них, так как теперь вокруг стола собралось четверо — весь экипаж. И неважно, что эта работа не имела отношения к их служебным обязанностям, неважно, что она была похожей на забаву, главным было то, что она как бы сплотила этот маленький коллектив, который, будучи сплоченным, мог выполнить любую боевую задачу.34
По залитому солнцем пустынному пляжу медленно бредет мальчик. Справа от него плещется море. Дует легкий ветерок, в воздухе пахнет рыбой и солью. Подойдя к забору, мальчуган останавливается и громко зовет: — Якоб! Но ему никто не отвечает. Правда, малыш не волнуется: он знает, что у него еще есть время в запасе. Отойдя от забора, он пинает сандалиями ракушки, затем снова подходит к забору. На этот раз он становится на перекладину и заглядывает в небольшую дырку в заборе. — Эй, Якоб! — снова кричит он. — Ну где же вы там? Ему опять никто не отвечает, да он никого и не видит во дворе. Двор пуст, как никогда. Соскочив на песок, мальчуган сбрасывает с ног сандалии, затем снимает белые носки и медленно входит в воду. Теперь уж никто не может запретить ему это… «Якоб, Якоб, ну почему же ты не пришел, как обещал?» — мысленно спрашивает мальчик унтер-офицера и прислушивается… Но со стороны казарм не слышно никаких звуков. От дюн к мальчику приближается девушка в коротком голубом платье. Ветер треплет ее волосы. Девушка идет босиком, неся белые туфельки в руках. Вот она подходит к забору, и тень ее падает на мальчика. Он испуганно поворачивается и разочарованно произносит: — А, это ты… — Глаза его мгновенно тускнеют. — Да, это я, — с легкой улыбкой говорит девушка, но глаза у нее тоже печальные. Оба молчат. Мальчуган внимательно смотрит на нее, а затем спрашивает: — А что ты здесь делаешь? — Жду… — Якоба? — Его. — Девушка кивает. — Он не пришел, — говорит мальчик голосом, в котором слышатся едва сдерживаемые слезы. — И давно ты ждешь? Мальчик только кивает, так как говорить он уже не может: боится расплакаться. Девушка подходит к Олафу и, положив свою маленькую ладонь ему на голову, гладит его по волосам. — Милый бедный мальчик, — говорит она ласково. — Мы оба с тобой ждем напрасно. Мне, как и тебе, тоже очень грустно. Но только не плачь. Смотри, я же не плачу, хотя у меня на душе очень тяжело. У меня и твоего друга Якоба сегодня должна была состояться помолвка… — А он мне так обещал… — перебивает ее мальчик. — Говорил, что обязательно придет! — Он не смог прийти, — объясняет Грет. — Этого я не понимаю! — Поймешь, когда подрастешь. Ты еще должен много и прилежно учиться и в школе и у самой жизни, чтобы понять, для чего служат в солдатах. — Наверное, он не сделал модель, — с горечью произносит мальчик, — и испугался… Я ему теперь больше никогда не поверю! — Олаф, как ты можешь так говорить о своем друге! Мальчуган замолкает и опускает глаза. — Разве сегодня рано утром ты не слышал сирены? — Какой еще сирены? — Сирены, по которой солдаты в казарме поднимаются по тревоге. — Не слышал, — признается Олаф. — Я очень крепко сплю, а моя сестра никогда меня не будит. Тем более сегодня, когда я должен… — Не выдержав, мальчуган начинает тихо плакать. — Мама сегодня заберет меня отсюда и увезет домой… «Видимо, ты очень крепко спал, — думает Грет, — раз не слышал гула и лязга танков. Они шли по дороге несколькими колоннами. Я их встретила в пути. Я хотела было вернуться домой, но вдруг подумала: а может, Якоб по какой-либо причине остался в казарме?..» — Все солдаты рано утром уехали на учения, — говорит она мальчугану. — Учения будут длиться несколько дней. — А что они там будут делать? — Точно я этого и сама не знаю, но Якоб и его товарищи находятся сейчас на марше. Они, наверное, очень устали, может, даже проголодались… Их ждут большие трудности… Нужно будет преодолевать много препятствий… Больше я ничего не знаю… Но я должна тебе объяснить, ради чего все это делается. Ради тебя, ради меня, ради нас всех, чтобы все мы могли жить и работать в мирной обстановке… Поэтому давай не будем печалиться… Пойдем, Олаф! — Грет берет мальчугана за руку и ведет к дюнам. — Пойдем, по дороге я тебе все объясню…35
В последний день учений больше всех, даже больше унтер-офицера Тесена волновался рядовой Петцинг: он то и дело вспоминал мальчугана Олафа и надеялся, правда без особой уверенности, что, быть может, тот еще почему-то не уехал домой… Как только полк вернулся с учений и танки были поставлены в парк боевых машин, унтер-офицер Тесен подошел к командиру взвода, который только что вылез из танка и расстегивал верхние пуговицы на комбинезоне, и попросил: — Товарищ лейтенант, разрешите на четверть часа отлучиться на берег моря… Нам очень нужно… — Хорошо, но только чтобы через пятнадцать минут все были в подразделении! — разрешил Тель. Обрадованные солдаты бросились к морю. Первым бежал Петцинг, держа в руках драгоценную модель танка. — Эй, дружище, — на бегу кричал ему вслед ефрейтор Бергеман, — смотри не упади! Когда солдаты прибежали к забору, который отгораживал расположение полка от пляжа, их взорам открылась самая мирная картина: на залитом солнцем пляже лежали сотни людей. Одни загорали, другие купались, третьи играли в мяч. Летний сезон начался… Солдаты словно оцепенели: прошло всего десять дней, пока они были на учении, и безлюдный прежде пляж превратился в столь оживленное место. Однако возле забора, как и следовало ожидать, мальчугана не было и в помине. — Слишком поздно, ребята, — проговорил Бергеман. — Все наши старания оказались напрасными. — А может, мальчуган просто задержался? — неуверенно заметил Штриглер. Унтер-офицер Тесен молча смотрел на пляж. Он думал не о мальчугане, а о своей Грет. — Ребята, смотрите, я что-то нашел! — неожиданно воскликнул Петцинг. Он показал рукой на бутылку с длинным горлышком, которая торчала из песка. Взяв бутылку в руки, он посмотрел сквозь нее на свет и добавил: — Мне кажется, там лежит записка. Спустя минуту Тесен держал в руках чуть подмокшую свернутую в трубочку страницу, вырванную из школьной тетрадки. На листке цветными карандашами был нарисован танк, возле которого стояли четверо танкистов в комбинезонах и шлемах, а под рисунком неровным детским почерком написаны слова:«Грет мне все рассказала. Сохраните мою модель до следующего лета. Я тогда опять приеду сюда. Олаф».Малыш, разумеется, не знал, что на следующий год танкового экипажа унтер-офицера Тесена уже не будет в полку: солдаты демобилизуются и разъедутся по своим домам. Будут переписываться, вспоминать совместную службу, обмениваться новостями из своей жизни. Штриглер напишет о том, что его мечта сбылась — он изучает германистику, Петцинг — о том, что он работает в сельхозкооперативе, где у него есть знакомая девушка. Реже всех будет писать Бергеман, который опять станет моряком и уйдет в очередное океанское плавание, а потом будет присылать остальным товарищам красивые открытки то из Ленинграда, то из Александрии, то из Гаваны или Бомбея. А командир танка унтер-офицер Якоб Тесен будет преподавать в школе младших командиров, обучая курсантов вождению танков. А неподалеку от него будет жить его невеста Грет, и скоро у них состоится свадьба. На следующий год лейтенант Тель будет назначен командиром танковой роты. На столе у окна будет стоять бутылка с длинным изящным горлышком, в ней четыре уже слегка привядшие гвоздики, а рядом модель танка, которую смастерил экипаж унтер-офицера Тесена. А на стенке будет висеть рисунок Олафа. Здесь же, на столике, будет лежать письмо:
«Тем, кто придет на наше место! Дорогие товарищи, мы передаем вам этот рисунок, который вы должны тщательно хранить, так как он приносит счастье. Модель танка принадлежит мальчугану по имени Олаф. В апреле в полдень он будет приходить к забору, что отгораживает пляж от территории полка. Передайте ему модель. Этот мальчуган сплотил наш экипаж воедино. Будьте едины! Этого желаем вам и мы!»
СОЛДАТСКАЯ ЛЮБОВЬ Повесть
1
Вспоминая свою прошлую жизнь, я все время спрашиваю себя: с чего, собственно говоря, все началось? Мне кажется, все началось с того самого вечера, когда я, уставший, вернулся домой после вечерней смены и моя сестра Анна, поймав меня в коридоре, сказала: — Фред, тебе письмо! Ее слова насторожили меня, так как круг моих знакомых в то время был невелик: в основном товарищи по работе, которые могли в любое время увидеть меня на заводе, а с родственниками мы не поддерживали почти никаких отношений с тех пор, как умер мой отец. Кто же мог написать мне? Сестра достала из кармана передника серый конверт и помахала им перед моим носом. — Вот оно! — сказала она, злорадно поглядев на меня. «В письме, очевидно, нет ничего хорошего, — подумал я. Взглянул на обратный адрес, и у меня вдруг бешено заколотилось сердце. — Неужели повестка?» — Ну?.. — спросила Анна, сгорая от любопытства. — Ну? — передразнил я сестру, раздраженный тем, что она шла за мной по пятам. — Ну скажи же наконец, что там? — настаивала Анна. — Не будь такой любопытной! — Мне-то ты можешь довериться! В конце концов, я твоя сестра, и к тому же старше тебя! — Прекрасно, — сказал я сердито, — если уж тебе так хочется знать… вероятно, — при этих словах я многозначительно помахал конвертом, — один молодой человек просит твоей руки, может быть, это сосед — торговец углем или заведующий твоего рыбного кооператива… Позади меня со стуком хлопнула дверь. Значит, мои слова достигли цели. Сестре в то время было двадцать пять лет, а она еще ни с кем не дружила. Я снова и снова перечитывал повестку. Вдруг дверь приоткрылась. Анна просунула голову в щель и издевательски крикнула: — Во всяком случае, свои ботинки ты, слава богу, будешь теперь чистить сам. На этот раз, чувствуя себя побежденным, я промолчал: передо мной лежала повестка с призывного пункта.«Альфреду Беренмейеру, девятнадцати с половиной лет, по истечении трех недель прибыть к месту действительной военной службы в артиллерийский полк, расположенный на северо-востоке республики…»В первую очередь мне следовало сказать об этом Георгу — моему бригадиру. Мы дружили, хотя он был вдвое старше меня. Георг был небольшого роста и щуплый, в волосах у него проглядывали седые волосы, а на макушке намечалась лысина. Георг слегка хромал — из-за ранения в бедро. В общем, ничего примечательного на первый взгляд в нем не было. Но большой морщинистый лоб говорил, что за ним скрывается незаурядный ум. Карие глаза светились спокойствием, но были печальны. Причины этого я тогда не мог понять. Жил он наокраине города, в собственном маленьком домике. Семьи у него не было. Познакомились мы с ним девять месяцев назад, точнее, прошлым летом, когда после окончания учебы меня направили в бригаду Георга. Чтобы скрыть свою неуверенность, я с самоуверенным видом принялся за работу, думая, поладим ли мы с ним. Но мы поладили с Георгом с самого первого дня. Георг помог мне избавиться от излишней самоуверенности самым простым способом: он делал вид, что не замечал ее. Как-то бригадир попросил меня помочь ему ремонтировать пресс. Через четверть часа я понял, что он хорошо разбирается в своем деле. А несколько дней спустя Георг разрешил мне самостоятельно копаться в машинах. Постепенно он давал мне все более и более сложные задания, чему я был рад: видел в этом его доверие. Когда я ошибался, Георг помогал мне найти ошибку, уверяя, что подобное могло случиться и с ним. Через неделю я почувствовал к бригадиру симпатию. Я доверял Георгу, как никому другому, за исключением разве Анжелы — моей подруги. На следующий день я разыскал бригадира в четвертом цехе. Он стоял на помосте огромного кузнечного пресса. Лицо и руки с засученными до локтей рукавами были в масле. Он обратил на меня внимание только тогда, когда я поднялся наверх и присел около него на корточки. — Добрый день, Георг! — Здравствуй, Фред! Нам пришлось почти кричать, так как в цехе стоял невообразимый шум: гул моторов, шипение вентилей, скрежет металла. — Ну как там дела? — Георг кивнул в сторону входной двери, откуда по бетонированной площадке через третий цех можно было пройти в штамповочный. Там перед обеденным перерывом закапризничал пресс. Но я быстро починил его: поломка была несущественной, и потому я крикнул: — Все в порядке, Георг! — Тогда оставайся здесь! Поможешь мне! На кузнечном прессе нужно было заменить клапан — ремонт довольно сложный. Но работа у нас спорилась: мы все закончили к завтраку. Когда гул машин стих, мы пошли в комнату отдыха кузнечного цеха. — Георг, меня призывают! — Знаю. — Что ты знаешь? — Что тебя призывают на военную службу. — От кого ты узнал? — удивился я. — От руководства на производственном совещании перед началом смены. — А остальные тоже знают? — Разумеется. О призыве в Народную армию говорят все. Ведь призывают не только тебя. Многие молодые рабочие получили повестки. Комната отдыха постепенно наполнялась слесарями, кузнецами и грузчиками. Гул усилился. Я сидел на скамье, ел бутерброды, которые мне всегда готовила сестра Анна, и переживал ответ Георга, ответ, казавшийся мне верхом равнодушия. Неужели ему безразличен мой уход? Мои мысли прервал Кезебир, легкомысленный малый, которого я недолюбливал. Он бросил жену и двоих детей, а сам — тогда это было возможно — сбежал в западную зону, где несколько раз менял работу. Потом, раскаявшись, вернулся на родину. Придя на завод, Кезебир обо всем этом рассказал руководству. С тех пор он работает слесарем в нашей бригаде, и у нас из-за него много неприятностей. Вчера он пришел на работу в нетрезвом виде, и Георгу пришлось отправить его домой. А сейчас этот самый Кезебир повернулся ко мне и с ухмылкой сказал: — Ну, юноша, достанется тебе!.. — Оставь меня в покое! — ответил я. Но Кезебир продолжал смотреть на меня и смеяться. Тогда я стал разглядывать его рот, напоминающий темную дыру, с несколькими пожелтевшими зубами. У него все было каким-то желтоватым: и морщинистое лицо, и костлявые руки, и лохматые усы. — Да-да, — не успокаивался Кезебир, — муштра пойдет нынешней молодежи на пользу! Скоро вам выправят кривые ноги! Подошел Георг. — Коллега Кезебир, скажи, когда ты бросишь пить? — вмешался он в разговор. — Еще один такой выход на работу, как вчера, и мы выставим тебя за ворота! Этого Кезебир боялся. Он не хотел уходить из нашей бригады: она была образцовой, и все неплохо зарабатывали. Да и вряд ли его взяли бы в какой-либо другой цех: о нем везде шла дурная слава. Кезебир сразу же переменил тон: — Ну-ну, шеф, не расходись! Очень хорошо, что современную молодежь научат дисциплине. Я не обращал на Кезебира внимания и продолжал есть бутерброды. Когда же он наконец отошел от нас, Георг спросил: — Скажи, Фред, ты хочешь быть солдатом? Я пожал плечами, так как не знал, что ответить. Если бы не долг, я вряд ли пошел бы в армию. Да и зачем? Работой своей я был доволен. Ведь от нашей слесарной работы зависит, будут ли работать машины, выполнят ли товарищи нормы. Заработок у меня приличный. Так рассуждал я в то время. — Ну да… — нерешительно ответил я. — Что значит «ну да»? Настойчивость Георга была мне неприятна. Конечно, я не хотел идти в армию еще и потому, что не имел желания расставаться с Анжелой. Я собирался жениться на Анжеле. Кроме того, я хотел вступить в строительный кооператив, чтобы со временем получить квартиру. Собирался поступить в заводскую вечернюю школу. — Значит, ты не хочешь быть солдатом? — Что меня особенно тянет в армию, что я рвусь туда, этого утверждать не могу. — Это видно, — отрезал Георг. — И ты удивлен? — Нисколько. Тем более что у тебя все распланировано. Ты наверняка скопишь деньги и на телевизор, и на мотоцикл, нет, он у тебя есть. Ну, скажем, на машину. Вдруг — бах! Вмешивается Народная армия и ломает все твои планы. — Но ведь я работаю! — Это верно. — Разве этого мало? — Конечно, мало. Особенно для такого молодого, здорового и сильного парня, как ты! — Ах!.. — воскликнул я и махнул рукой. — Ты говоришь со мной так только потому, что состоишь в партии. — Таких глупостей, Фред, я, откровенно говоря, от тебя не ожидал. И твоя желчность мне неприятна. — А ты, Георг, разве по доброй воле пошел в солдаты? Ведь ты сам иногда ругал военную службу! — Ругал, парень, и правильно ругал! Я служил в другие времена. Теперь все иначе! — Так! — не уступал я. — А что сейчас говорил Кезебир? Что муштра пойдет нам на пользу! Что нас нужно научить дисциплине! Что нам нужно выправить кривые ноги! — Ты что, не знаешь Кезебира? Кезебира я знал. Знал и Георга. Только Георг говорил правду. Поэтому мне всегда делается стыдно, когда я вспоминаю свой разговор с ним. Как я мог поднять такой шум из-за призыва в армию?! Все комфорт, проклятый комфорт… После небольшой паузы Георг неожиданно сказал: — Послушай, Фред, с пятого пресса нужно снять штамп. Постарайся управиться до обеденного перерыва. Поскольку работа трудная, я подошлю к тебе Удо. — Но мы ведь собирались работать вместе до конца смены. — Я передумал, Фред. — Хочешь от меня отделаться? — Не болтай. — Тогда почему ты перебрасываешь меня на другую работу? — Срочное задание. — Не верю. Стоя у кузнечного пресса, Георг сказал: — Итак, договорились: ты остаешься здесь. А Удо я сейчас пришлю. — Георг, — крикнул я ему вслед, — я не это имел в виду. Он обернулся: — Знаю, Фред. — Но ты все еще сердишься на меня? — Нет, Фред. — В самом деле? — Да прекрати же ты наконец. — А когда через полтора года я вернусь из армии, ты возьмешь меня в свою бригаду? — Конечно. Ты снова вернешься к нам. Машины заработали. Тот же гул моторов, то же шипение, тот же скрежет. Снять штамп с кузнечного пресса — в самом деле нелегкая работа. Большинство болтов, которыми крепится держатель штампа, сильно въелись в металл из-за воздействия высокой температуры. Здесь мог помочь только удар тяжелым молотком. Поэтому я был рад, что Георг решил прислать мне в помощь Удо — сильного, широкоплечего парня с веснушчатым лицом. Удо прикрепили к нашей бригаде в качестве разнорабочего два месяца назад с целью обучить его ремонтно-слесарному делу. Чаще всего с ним возился Георг, а иногда я. Несмотря на то что я был гораздо моложе Удо, он беспрекословно выполнял все мои задания. Удо был на редкость застенчив, почти никогда не принимал участия в разговорах, во время перерывов часто сидел в стороне, курил и мечтал. Поэтому тогда я знал о нем очень мало. Во время войны он лишился родителей и вел скитальческую жизнь. Сначала батрачил у крестьянина, потом работал в хлебопекарне, а затем еще где-то. К концу войны попал на шахту в Висмут. Перед тем как перейти к нам, Удо в течение девяти месяцев работал в каком-то управлении, откуда с трудом ушел, потому что стремился к настоящей работе, под которой понимал только тяжелую физическую работу. Кроме всего прочего Удо долгое время служил на флоте. И когда теперь я вспоминаю обо всех этих событиях, мне кажется, что Георг не случайно решил свести меня с Удо. Я сразу же стал просить Удо рассказать, как он служил на флоте. Но нам так и не удалось поговорить, так как в цехе было очень шумно. Болты держателя штампа сидели очень прочно, гораздо прочнее, чем я предполагал. Мы взяли десятикилограммовый молот, установили ударный ключ и принялись за работу. Ослабив половину болтов, вышли из цеха, чтобы передохнуть. Было очень приятно постоять несколько минут на солнце. Я даже решил на следующий день вывести из подвала мотоцикл, чтобы в ближайшую субботу и в два последних мартовских воскресенья, которые оставались до моего отъезда, совершить с Анжелой несколько прогулок за город. Мы смотрели на бетонированную площадку. — Ты долго был в армии? — спросил я Удо. — О-о-о… — Он сделал несколько затяжек. — Без малого пять лет. — Ну и как, тяжело было? — Не-е… — Честно? — В самом деле было неплохо. — Как тебя там приняли? — Нормально. — А остальное? — Да все было хорошо. — А что именно? — Ну, товарищи, техника, работа. — А почему ты там не остался? — Освободил место другому. Я верил Удо. В свободную минуту он наверняка тосковал по кораблю, по товарищам. — В каком роде войск ты будешь служить? — спросил Удо. — Наверняка в артиллерии. — Это вещь. — Почему? — Знаю. Одно время я был заряжающим на стомиллиметровом кормовом орудии нашего «Ганса Баймлера». Больше мне ничего не удалось вытянуть из Удо. Но даже наш короткий разговор в какой-то мере успокоил меня. Мы вернулись в цех. — Ну, в таком случае… — сказал я. В данный момент это означало: будь что будет. У меня, к сожалению, выбора не было, и если Удо прослужил пять лет, то я, пожалуй, выдержу полтора года. Только вот со свадьбой придется подождать.
2
Кто давно знает Анжелу, может подтвердить, что это самый настоящий бесенок. Мы познакомились с ней около трех лет назад на молодежном балу. Тогда я очень любил танцевать. Разумеется, я уже был знаком с несколькими девушками. Целовался с ними в укромных местах, не видя в этом ничего предосудительного. Анжела понравилась мне с первого взгляда. Высокая, стройная, черноволосая. Ее цветастое перлоновое платье удивительно гармонировало с загаром. Она чудесно танцевала самые модные танцы. Ее лицо со вздернутым носиком, маленьким ртом и большими темными глазами говорило о задиристости и своенравии. А эти качества всегда привлекали меня. И я решил: она или никто! Но решать легко. Труднее выполнять. С Анжелой был долговязый и бледный юноша. Приглашая девушку танцевать, он самодовольно оглядывался по сторонам. Казалось, что он беспрестанно что-то жевал. Одним словом, верзилу следовало как-то отвадить. Но долговязый скоро понял, чего я хочу, и вскоре началась борьба за первый круг танцев. Я вышел победителем, но соперник пригрозил, что подкараулит меня около клуба. У меня это вызвало улыбку, так как я по опыту знал, что ребята такого сорта не относятся к храбрецам. С того момента я охранял девушку, как лев. После второго круга танцев я подсел к ее столику, не обращая внимания на ее подруг. Мы пили лимонад и яичный ликер. К одиннадцати часам я уже знал, что девушку зовут Анжелой Петерман, что ей шестнадцать с половиной лет и что она учится на продавщицу тканей. По дороге домой мы успели поссориться. Трамваи уже не ходили, и нам предстояло большое расстояние пройти пешком. В одном месте, чтобы сократить путь, я решил свернуть с улицы налево: там проходила тропинка, которая позже снова выходила на улицу. Но Анжела скомандовала: — Держитесь правее, улицей дойдем быстрее. — Вздор, — сказал я, — пойдем налево. — Нет, направо! — Налево! — Направо! — Можете идти направо, если вам так хочется, — сердито сказал я. — Посмотрим, кто из нас быстрее спустится! Мы расстались. Я зашагал по тропинке, причем не очень быстро, чтобы девушка не упрекнула меня в обмане: я и в самом деле первым подошел к месту, где тропинка выходила на улицу. Но мне недолго пришлось ждать. — Вы устали, — съязвил я, увидев запыхавшуюся девушку. Анжела отвернулась и засеменила дальше. — Теперь вы, вероятно, еще и обижены? — Вот еще!.. — Она еще больше ускорила шаг. «Ну и пусть», — подумал я. Мы разошлись, не попрощавшись и не условившись о встрече… Всю неделю и на работе, и дома я думал о девушке. Обрадовался, когда наступила суббота. Но ее в клубе не оказалось. Я прождал в зале час, потом еще полчаса, но ее все не было. Еще полчаса… Мне уже хотелось уйти, но я все же остался еще на десять минут. Тут вошла она. Оглядела зал и увидела меня. Сразу же направилась ко мне, остановилась около моего столика, озорно улыбнулась и спросила: — Вы меня долго ждали? С тех пор мы больше не расставались.Мы встречались регулярно по субботам и воскресеньям и чаще всего были вдвоем. Анжела умела отделываться от подруг, что было не так-то просто. Особенно назойливой была толстая Герда, которая липла к нам, как репейник. Но, к счастью, она быстро нашла друга — того самого верзилу, которого я отвадил от Анжелы. Сначала я удивился, что Герда выбрала именно его (позднее я уже не удивлялся), но это занимало меня недолго, так как мы с Анжелой были рады, что нас наконец оставили в покое. В будни мы почти не встречались, потому что были заняты учебой. Как это ни странно, но вскоре наша страсть к танцам прошла. Мы часами бродили по улицам и любовались витринами магазинов. Иногда катались на лодке на озере Тон. Но чаще всего гуляли в городском парке (благо, вход был свободный). В квартире вдвоем не оставались ни разу. У нас мешала моя сестра Анна, а Анжела не хотела, чтобы у нее дома знали о наших отношениях. — Неужели твоя тетя так строга с тобой? — спросил я однажды Анжелу. Мать Анжелы, я это знал, умерла вскоре после войны, и я никогда не спрашивал девушку о ней: не хотел вызывать тяжелых воспоминаний. Тетя же вот уже около десяти лет вела хозяйство архивариуса Петермана. — Тетя? — переспросила Анжела. — О, Фреди, тетя очень строга. — И все же она позволяет тебе пропадать по субботам и воскресеньям. — Она всегда узнает об этом потом, — объяснила Анжела, — потому что каждую субботу, сразу же после ужина, уходит на богослужение. А до ее общины очень далеко. — Так, — сказал я, улыбнувшись. — Но что может иметь против нашей дружбы твой отец? — Папа стар, а пожилые люди порой мыслят старомодно: сперва обручение, потом поцелуй. Конечно, только в присутствии старших. — Твой отец, наверное, любит тебя? — Очень. — А что он говорит, когда ты по субботам отправляешься на танцы? — Мы же теперь почти не ходим туда, Фреди. — А если… — Тогда я ему ничего не говорю. — Не понимаю… — Папа всегда очень занят. Придя с работы из городского архива или из краеведческого музея, он читает Гёте, Хёльдерлина, изучает греческую и римскую историю. В таких случаях я просто решаю свои проблемы. Иногда Анжела ставила меня в неудобное положение. Сейчас мне смешно, а тогда было неприятно. Достаточно рассказать одну из таких историй. Мы были знакомы больше года. Довольно часто, особенно летом, мы заходили в кафе-молочную на вокзале. Анжела очень любила лакомства, особенно ананасное мороженое. Разумеется, платил всегда я, а так как Анжела в своих запросах была отнюдь не умеренна, мне не раз приходилось в туалете считать деньги, которых всегда было мало, так как более половины своего ученического заработка я отдавал матери. В то время в кафе-молочной, видимо для привлечения молодежи, стоял музыкальный автомат. В тот день, еще до того как мы заняли места, Анжела подошла к автомату и опустила две монеты. — Послушай, Фреди, сейчас услышишь мою любимую песню! — сказала она мне. Через несколько секунд я услышал популярную тогда песенку о невесте, напрасно ожидавшей жениха… Анжела несколько раз подходила к автомату, опускала монету, возвращалась к столику, подпирала подбородок кулачками и плавно покачивалась в такт музыке. — Прекрасно, Фреди! — В этот момент Анжела забывала про мороженое, ананасное мороженое со сливками! Я подумал, что песенка скоро надоест ей, но глубоко ошибся. Я не поверил своим ушам, когда услышал: — Фреди, у меня больше нет мелочи. — Ну и что? — Дай мне сорок пфеннигов мелочью! — У меня нет. — Посмотри получше! К сожалению, деньги нашлись. И кафе снова наполнила музыка. Посетители забеспокоились. Хозяин, стоявший за стойкой, нахмурился. Но Анжела ничего не замечала. А из автомата неслось:
Настойчивость Анжелы доставляла мне много неприятностей. Как-то она сказала мне: — Фреди, у тебя немодная прическа. Кто в наше время носит обычный пробор? Сделай что-нибудь другое! Я сделал вид, что не слышу ее замечания. — Ты что, не слышишь? — донимала она меня. — Что тебе от меня нужно? — Сейчас в моде стрижка под бритву. После этого в конце каждой недели мне приходилось выслушивать: — Фреди, ты еще не постригся?.. К концу месяца я сдался. В понедельник отправился к парикмахеру, где оставил больше четырех марок. Когда в субботу мы снова встретились, я не снискал ни благодарности, ни восхищения, а всего лишь: — Ну наконец, Фреди! Однако настойчивость девушки нередко приносила и пользу. Как-то в субботу Анжела пришла с листом пожертвований. — Люди чаще всего смотрят в сторону, когда видят лист на прилавке, — сказала Анжела. — Но ведь эти деньги для пенсионеров и нуждающихся в уходе. — И что же ты хочешь делать? — осведомился я. — Пойду собирать по домам. — Сколько же грошей ты думаешь собрать? — Грошей? Как бы не так! По меньшей мере сто марок! — Не смеши! — Вот увидишь! — Буду ждать! — Но имей в виду, Фреди, ты будешь первым, кто что-нибудь пожертвует. Ну давай же! Ты же не скряга! Захваченный врасплох, я сунул руку в карман. В нем оказалось две марки. Одну из них я протянул Анжеле. — Итак, — сказала Анжела, после того как я расписался в листе пожертвований, — я постараюсь с завтрашнего дня собрать остальные девяносто девять марок! В следующую субботу сияющая Анжела снова принесла лист пожертвований. — Посмотри! — попросила она меня. Девушка собрала девяносто девять марок. Этого я не ожидал. — Но девяносто девять — это не сто. Ты же хотела собрать сто марок! — Погоди-ка, Фреди, — ответила Анжела. — У тебя наверняка сохранилась та марка, которую ты на прошлой неделе положил обратно в карман. Добавь ее сейчас, и станет ровно сто. А мороженым мы полакомимся в следующий раз, когда ты получишь деньги. Я беспрекословно подчинился, потому что противиться не имело смысла. — Видишь, Фреди, теперь твоя фамилия дважды красуется в списке — в начале и в конце. А я свое обещание выполнила. Вечером мы гуляли по городу, и, хотя ни я, ни Анжела не имели ни одного пфеннига, вечер был таким же прекрасным, как и многие прошедшие. Нетрудно догадаться, что мы с Анжелой, вероятно из-за наших характеров, часто ссорились. И причина чаще всего была одна — Анжела почти всегда опаздывала на свидания. Иногда она заставляла меня по полчаса и больше ждать ее где-нибудь на улице. Тогда я не выдерживал, шел к ее дому и свистел. Я не сомневался, что она стоит еще перед зеркалом с губной помадой в руках. Выйдя на улицу, Анжела могла с невинным выражением лица спросить: — Фреди, надеюсь, ты не долго ждал? Однако мне не всегда удавалось заставить себя произнести: — Да нет же, Анжела. В день сдачи последнего экзамена мы, казалось, поссорились не на шутку. Произошло это так. Мы, новоиспеченные специалисты завода, решили отпраздновать успешное окончание учебы в Доме культуры нашей заводской профессиональной школы. Я радовался предстоящему торжеству. Хотел привести с собой Анжелу, которая среди других девушек, несомненно, была бы самой красивой. Однако в ответ на мое приглашение Анжела сделала кислое лицо и сказала: — Я не могу пойти, Фреди. — Почему же? — Потому что в то же самое время мы устраиваем вечер у себя. — Тогда оставь своих праздновать, извинись и приходи к нам. — А равноправие? — Как так? — То же самое я могу потребовать и от тебя. Девушка упорствовала. Упорствовал и я. В конце концов я предложил решить спор жребием. — Орел или решка? — спросила Анжела. — Решка, — ответил я. Анжела подбросила пфенниг. Выпал орел. — Ты проиграл, Фреди! — ликовала девушка. — Теперь ты должен пойти со мной! Я был зол, но покорился. Мой гнев усилился, когда я узнал, где Анжела собирается праздновать. — Что?! — воскликнул я возмущенно. — На квартире твоей подруги? У этой толстой Герды, которая все время портила нам нервы? — А что здесь плохого? — спросила Анжела. — У нас нет такого красивого Дома культуры, как у вашего завода; кроме того, нас не так много. Ну успокойся, Фреди, все будет хорошо. Родители Герды оставят нас одних.
Вечер начался с того, что меня осмотрел десяток, если не больше, пар глаз. Зоологическая редкость!.. Все ребята были одеты по-будничному: штопаные брюки, спортивные и пестрые-рубашки. Я же явился в хорошем темном костюме. На мне была накрахмаленная белая рубашка и черный галстук с позолоченной булавкой. Я стоял и оглядывал всех. Они же уставились на меня. Через полуоткрытую дверь из соседней комнаты лилась веселая музыка, записанная, видимо, на магнитофон. Наконец поднялся один из парней. Это был тот самый верзила, который встречался с толстой Гердой. Внешне он мало изменился, только теперь носил всклокоченные бакенбарды, которые доходили ему почти до подбородка. Верзила, как хозяин дома, подошел к нам. Пожал руку Анжеле, причем, как мне показалось, несколько дольше, чем полагается, а меня стукнул по плечу, словно мы были старыми друзьями. И тут началось! Был проигран километр магнитофонной ленты, причем настолько громко, что с трудом можно было услышать собственный голос. Все пели и кричали. Никто никого не слушал. Мы с Анжелой скрылись в соседней комнате и танцевали. «Танцевали» не то слово! Это было какое-то нервное подергивание. К десяти часам, когда появились первые пьяные, мне все надоело. Я удрал в другую комнату. Но там на кушетке сидел верзила вместе с толстой Гердой. Они лениво потягивали шампанское. Герда во что бы то ни стало хотела выпить со мной на брудершафт. Но, на мое счастье, пришла Анжела и позвала меня танцевать. Я не понимал, как она могла еще танцевать. Но я все-таки пошел с ней, чтобы избавиться от брудершафта. А магнитофон гремел и гремел. Снова и снова — уже, наверное, в сотый раз — слышалась ковбойская эстрадная песенка. Хриплый голос орал о том, как шериф Рой прибыл в Техас и начал драться с гангстером, как между ними началась стрельба и как гангстер застрелил шерифа… Вдруг из ванной послышались крики. Толстой Герде стало дурно. Она уселась на край ванны, наполовину наполненной водой (в ней охлаждались бутылки с вином), и неожиданно очутилась в воде. — На помощь! На помощь!.. Верзила взял на себя роль спасителя. И хотя это было совсем не нужно, он потащил промокшую и визжащую Герду в спальню. Следом за ним ринулись подвыпившие ребята и девушки. Анжелу я успел вовремя схватить за локоть. — Ах-ах!.. — воскликнула она. — Как это забавно, Фреди! — У Анжелы, видимо, тоже кружилась голова. — Нам пора идти, Анжела! — сказал я. — Что ты! Уйти теперь, когда стало так весело? У меня не было настроения долго объясняться. — Не болтай, пойдем! — Нет, — ответила она и выдернула руку. — Я уйду без тебя! — пригрозил я. — Как хочешь. Я остаюсь!.. Она сделала несколько неуверенных шагов по направлению к спальне, откуда доносился дикий хохот. — Анжела! — позвал я. Она даже не оглянулась. Я ушел. На следующий день было воскресенье. Я купил билеты на фильм «Баллада о солдате». Анжела мечтала посмотреть этот фильм. Но она не пришла! В течение пятнадцати минут я взволнованно ходил взад и вперед перед кинотеатром. Когда кончился журнал, я разорвал билеты и, расстроенный, пошел домой. Всю неделю работа валилась у меня из рук. Я лишился аппетита. И все же я решил не ходить к Анжеле. Но моя победа была неполной, так как Анжела тоже избегала меня. Так прошла еще одна неделя… Смог бы я выдержать дольше? Но мне и не понадобилось выдерживать это испытание, потому что в, следующую пятницу после смены Анжела ждала меня у заводских ворот. Не обращая внимания на людей, она, рыдая, бросилась мне навстречу. — Ну вот, все опять хорошо, — утешал я ее. — Фреди! Я больше никогда не буду так делать. — Я тоже виноват. Не будь я таким упрямым, ничего бы не случилось!.. Наступил февраль. Теперь мы проводили вечера в пригороде, в небольшом прокуренном кафе за стаканом глинтвейна. За окнами бушевала метель. В один из таких вечеров Анжела была особенно молчаливой. По дороге домой она продолжала молчать. После того как мы некоторое время постояли перед дверью ее дома, Анжела взяла мои руки в свои и едва слышно сказала: — Они же совсем холодные, Фреди! Ты замерз? — Немного, — ответил я. — Поднимемся ко мне. — А можно? — Да. — А твой отец, тетя? — Мы же все-таки взрослые, Фреди. — Все же… — Папа и тетя на неделю уехали… Я пошел за ней. Приходил к ней и в последующие вечера, а рано утром тихо спускался по лестнице, стараясь не шуметь. С этого времени Анжела стала для меня не просто другом. Теперь я всем сердцем полюбил эту девушку. И вдруг через месяц призвали в армию.
3
Вот тогда-то и стали происходить странные вещи. Как-то вечером через несколько дней после объяснения с моим бригадиром Георгом я отправился в центр города, чтобы зайти в магазин за Анжелой. В последнее время я часто так делал. Иногда я появлялся за полчаса до закрытия магазина: мне доставляло удовольствие смотреть на Анжелу во время работы. Она была необыкновенно проворна. Когда магазин был переполнен, Анжела могла одновременно обслужить трех, даже четырех покупателей. Поэтому не удивительно, что Анжела часто получала премии. В тот вечер, когда я зашел за ней, между нами с самого начала возникло какое-то отчуждение, что мне бросилось в глаза, к сожалению, лишь тогда, когда уже было поздно. Мы некоторое время молча шли по улице. — У Герды дела плохи, Фреди, — начала вдруг Анжела. — Да? Что же могло приключиться с толстушкой? — Фреди! Ты не должен так говорить! Молчание. — Ну что же все-таки с ней, с твоей подругой Гердой? — Последние слова я умышленно растянул. — У Герды будет ребенок. — Что-о-о?.. — У нее будет ребенок. — От верзилы? Анжела кивнула. — Ну и что здесь особенного? Через определенное время у всех появляются дети. Анжела стала смотреть в сторону, сделав вид, что рассматривает витрину магазина. — Он бросил ее… — пробормотала она. В другое время такое известие наверняка привлекло бы мое внимание. Я даже предложил бы навестить Герду. Но в тот вечер мне предстояло сообщить Анжеле, что мы должны расстаться на долгое время. Поэтому я сказал: — Ну и поделом ей! Надо быть осторожнее! Анжела побледнела и оттолкнула меня. — Фред! Конечно, мне не следовало говорить таких слов. Но я обычно начинал горячиться, когда что-либо расстраивало мои планы. Поэтому-то я и произнес роковые слова: — Твоя подруга Герда, должно быть, вообразила, что выйдет замуж, если будет принимать у себя верзилу. Да? Этими словами я испортил все. До самого угла, за которым находился дом Анжелы, мы не проронили ни слова. Около столба для объявлений молча постояли несколько секунд. Потом Анжела пошла, не попрощавшись. — Анжела! — закричал я в испуге. — Что тебе нужно? — спросила она и остановилась. — Анжела, если я сказал глупость… — Ничего, Фреди, — холодно ответила она, не поворачивая головы. — Я беру свои слова назад, Анжела! — Не надо, Фреди, оставь… — Что с тобой, Анжела? — Ничего… В самом деле ничего. Она собиралась уйти, но я удержал ее. — Я должен сказать тебе что-то очень важное. — Что ты мне можешь сказать? — Ты непременно должна это знать. — Должна?! — Да. Непременно. Я буду солдатом! — Тебя призвали? — Да. — Ну, тогда иди. — После этих слов Анжела медленно пошла к дому. «Надо поскорей помириться с ней. До моего отъезда больше не должно быть никаких ссор, — решил я и заторопился в молодежный клуб. Там в субботу должен выступать эстрадный оркестр радиовещания. Мне с большим трудом удалось достать два билета. — Анжела будет рада», — подумал я. Когда на следующий день я показал Анжеле билеты, ее глаза действительно загорелись, но лишь на мгновение. — Меня все это больше не интересует. И на танцы я больше не пойду. «Что за капризы? Только бы не сказать теперь чего-нибудь лишнего», — заклинал я себя. Мы пошли в кино. Шел очень веселый советский фильм: пароход в открытом море, на палубе клетки со львами и тиграми, матросы в страхе… В середине сеанса, в том месте, где львы и тигры начинают выходить из своих клеток, Анжела толкнула меня. — Что тебе? — Я хочу выйти! — Почему именно сейчас? — Пропусти меня! — Куда? — Не твое дело! Зрители впереди и позади нас стали волноваться. Какой-то мужчина ехидно сказал: — Ну выпусти же наконец свою куклу. Ты что, не видишь, ей надо… Анжела оттолкнула меня и стала пробиваться к выходу. Я пошел за ней. На улице я сердито спросил: — Какая муха тебя укусила? — Если тебе со мной неинтересно, можешь идти своей дорогой. — Что же все-таки случилось? — Ах, Фреди, фильм такой наивный, и вообще… — Что значит «вообще»?.. — Ты так громко смеялся, Фреди. — Ну и что? Анжела ничего не ответила. — Ах, оставь меня наконец в покое! — сказала она, помолчав, и ушла. Я забеспокоился. «Что с ней происходит? Откуда такой тон?» — спрашивал я себя. У меня даже появилась мысль: может быть, Анжела хочет от меня отделаться?..Оставшиеся дни были окутаны печальной неопределенностью. Вдруг до меня дошло, что остается только одно воскресенье. Не долго думая, в воскресенье после обеда я подъехал на мотоцикле к дому Анжелы и свистел до тех пор, пока она не выглянула. Я дал ей понять, что хочу с ней прокатиться. Анжела согласилась. Вскоре город остался позади. Солнце уже садилось, и наши тени, обгоняя, нас на асфальте, стали длиннее. — Быстрее! — приказала Анжела. Дорога впереди была свободна. Лишь на горизонте, где шоссе, сворачивая в лес, исчезало, полз красноватый автобус. Я дал газ. Стрелка тахометра заколебалась: пятьдесят, пятьдесят пять… Деревья проносились все быстрее. — Быстрее! Я продолжал ехать со скоростью шестьдесят километров в час. — Ты что, не можешь ехать быстрее? — съязвила Анжела. — Не хочу! — прорычал я в ответ. Анжела судорожно обхватила меня. Я чувствовал ее гибкое тело, и у меня было такое ощущение, будто Анжела раздета. Сегодня все будет хорошо!.. За сто метров до соснового леса, на повороте шоссе, где проходил акведук, я свернул влево на песчаную дорогу и поехал вдоль берега. В том месте, где канал подходил к озеру Тон, остановил мотоцикл. Неподалеку находился небольшой, поросший травой косогор, надежно укрытый соснами и березами, — одно из наших любимых мест. Я знал этот косогор с детства. Однажды я здесь чуть не погиб. Стояла суровая послевоенная зима. Мы с сестрой Анной приехали сюда, чтобы набрать сосновых шишек. Я украдкой отважился пробраться на тонкий лед озера, чуть ниже косогора, и, естественно, провалился в воду, но сумел вовремя ухватиться за кромку льда. На мой крик прибежала Анна. Пересилив страх, сестра бросилась к акведуку, откуда вскоре вернулась с водителем грузовика. Мужчина бросил мне цепь и вытянул меня. Спустя три года, в девятилетнем возрасте, я рискнул на том же месте научиться плавать, хотя держался на воде не лучше, чем три года назад. Здесь, на озере, куда мы с Анжелой приезжали купаться в летние вечера после работы, случалось и так, что мы оба заходили в воду совсем раздетыми. В первый раз это получилось совершенно случайно. Мы оба захотели искупаться, а купальных костюмов с собой не захватили. Поэтому Анжела пошла налево, а я направо, за куст. В воде мы встретились. Сейчас мы молчали. Озеро величаво поблескивало. Я бросал в воду камешки и делал вид, будто это занятие полностью захватило меня. Через некоторое время я почувствовал, что с Анжелой что-то творится, и, не сводя глаз с кругов на воде, сказал: — Завтра я уезжаю. Анжела молчала. Я искоса посмотрел на нее. Она сидела в стороне, слишком далеко, чтобы можно было достать до нее рукой. Выглядела уставшей, будто не выспалась. — У тебя неприятности? Анжела покачала головой. — А все-таки? В магазине? С отцом? Или с тетей? — Нет. Я подошел к ней и обнял ее за узкие плечи. Она не противилась. Я притянул ее к себе, но она раздраженно отстранилась. — Да что с тобой? — спросил я с горечью. Анжела продолжала смотреть на воду. На плече у меня висел портативный радиоприемник. Я взял его с собой специально для Анжелы. Не зная, что делать, включил радио. Приторный голос певца воспевал белый морской пляж на Гавайских островах, где прелестные девушки-туземки целыми днями танцуют, поют и ждут молодых матросов, чтобы вскружить им голову. Я коснулся плеча Анжелы и показал на озеро. — Анжела, помнишь, как мы здесь купались? Жаль, что сейчас холодная вода. Но когда я в первый раз приеду в отпуск, она будет теплее. Тогда мы снова приедем сюда и поплаваем, как прежде. Да? — Выключи радио, — приказала Анжела. Я содрогнулся. — Ну скажи же наконец, что тебя волнует? — Ах… ничего. — Ты, может быть, хочешь отделаться от меня? Тогда скажи прямо. — Какой ты глупый, Фреди… — Она сморщилась. Пока еще не все было потеряно. Мне следовало сдерживаться и больше молчать. Но ни того, ни другого я не сделал. Неожиданно мне пришла в голову мысль, что сегодня наш последний вечер, который снова испортила Анжела. Поэтому я начал говорить всякий вздор. Критически осмотрев Анжелу, я сказал: — Ты сегодня снова вырядилась и похожа на накрашенную обезьянку. — Ты это только сейчас заметил? — Недавно в кино тебе не понравился мой смех. — Подумаешь! Я продолжал донимать ее: — Мне не нравятся твои накрашенные губы, ногти! — Хожу, как мне хочется. — Ага! — воскликнул я многозначительно. — Что?.. — Я так и предполагал. — Что именно? — Ты хочешь от меня отделаться! — Дурак! — Ты определенно хочешь от меня отделаться! Вполне возможно, что ты уже нашла другого. — Ты свихнулся! — Спасибо… — Точно, у тебя не все дома! — Послушай!.. — В моем голосе чувствовалась угроза. В этот момент Анжела решительно поднялась и сказала: — Ну хватит! Сегодня ты невыносим! — А ты? — Ах… — Она махнула рукой. — Бог мой, до чего же ты глуп, Фреди!.. «Неужели мы оба сошли с ума? Завтра я буду уже далеко-далеко отсюда». Я посмотрел Анжеле вслед. Она с трудом шла по песку. Может быть, она еще обернется и все снова будет хорошо? Но Анжела продолжала идти и не оглядывалась. Я взял себя в руки, подошел к мотоциклу и поехал. Попытался ехать на первой скорости рядом с девушкой. Но все же я двигался быстрее. Я снова и снова останавливался, чтобы далеко не уехать. Так мы достигли шоссе. Я посмотрел на туфельки Анжелы и шутя спросил: — В этих лодочках ты хочешь добраться до города? — Может быть, ты думаешь, что я попрошу тебя взять меня с собой? — Не упрямься, Анжела, садись! — Нет! К тебе я не сяду! — Хорошенько подумай! — пригрозил я. — Если ты сейчас не решишься, уеду без тебя! — Подумаешь! — ответила она. — Поезжай! — Это вполне серьезно? — Убирайся! Я дал полный газ и быстро поехал. Метров через триста я затормозил и оглянулся. Анжела в своем цветастом платье плелась по дороге. «Когда она приблизится, наверняка попросит меня взять ее с собой!» — подумал я. Вдруг Анжела остановилась и стала смотреть назад, в сторону акведука. Из-за поворота показалась машина. Небесно-голубой «Вартбург». Я испугался. Анжела, конечно, не… Она подняла руку. «Вартбург» остановился. Перед Анжелой открылась дверца. Она села — и дверца закрылась. Когда «Вартбург» пролетел мимо меня, я увидел водителя — пожилого, седого мужчину. Анжела сидела рядом с ним. Она даже не посмотрела на меня. Я поехал домой…
4
В дверях я столкнулся с сестрой. — Опять опаздываешь, — упрекнула она меня. Я проскользнул в кухню и умылся. Потом прошел в комнату и, сев за наш старенький обеденный стол, стал ждать ужина. Мне, конечно, хотелось побыть одному, но я не имел права в последний вечер огорчать мать, которая меня очень любила. Почему она так любила меня? Этого я не знал. Возможно, имело значение, что я был самым младшим в семье. Когда-то у меня был брат, которого я знал лишь по фотографии. Звали его Карлом. Он был на двенадцать лет старше меня. Его разорвало на куски гранатой на окраине нашего города. Выполняя преступный приказ нацистов, он вместе с другими подростками и несколькими пожилыми мужчинами, вооруженными четырьмя-пятью фаустпатронами, должен был сдерживать натиск наступающих советских солдат. Моя мать до сих пор не могла забыть трагической гибели старшего сына. Может быть, мать любила меня за то, что я был очень похож на отца. Такой же высокий и худой, такие же задумчивые темные глаза, такой же высокий лоб с чуть сросшимися бровями и такие же мягкие темно-русые волосы. Наверно, поэтому мать часто говорила мне: — Сынок, ты такой же упрямый, как твой отец! Но я плохо помнил отца. Он умер, когда мне было восемь лет. Токарь Вильгельм Беренмейер работал на том самом заводе, где теперь работаю я, до того дня, когда рак желудка приковал его к постели. Отца дважды оперировали, и он прожил еще три года. После смерти отца в нашей квартире стало тихо. …Из спальни вышла мать с небольшим, покрытым пылью чемоданом. Увидев меня, она покачала головой и сказала: — Очень мило, мой мальчик, что ты дома. Она медленно подошла к темной потертой софе, где были разложены мои вещи. Мама была маленькая, худощавая, уже седая женщина. Хотя не было никакой необходимости (мы с Анной неплохо зарабатывали), мама продолжала работать в доме для престарелых, где убирала комнаты, а иногда дежурила в ночную смену. Что происходило в душе матери в тот вечер? Грустила ли она? Или вспоминала о погибшем сыне? Во всяком случае, я был рад, что внешне она была спокойной. Упаковав чемодан, мама поглядела на меня поверх очков и сказала: — Я тебе специально положила еще две пары носков, мой мальчик. Наверное, ты не раз промочишь ноги. И если ты когда-нибудь простудишься, не забудь попарить ноги. Вошла Анна. Подавая ужин, она пожурила меня: — По крайней мере сегодня ты мог бы прийти к ужину вовремя! Я склонился над тарелкой супа. К подобного рода придиркам я привык. С тех пор как умер отец, сестра чувствовала себя главой семьи. Она работала продавщицей в рыбном кооперативном магазине напротив нашего дома, а в свободное время занималась домашним хозяйством. Снова вошла Анна. В руках у нее была тарелка с бутербродами. Когда она наклонилась, чтобы налить мне кофе, я украдкой посмотрел на нее. На ее широком, полном лице с большими, широко посаженными глазами лежала печать жестокости. «И почему она всегда такая ворчливая и неприветливая?» — думал я. Даже когда Анна улыбалась, мне все равно не хотелось попадаться ей на глаза. Стоя в дверях кухни, она сказала: — Фред, ты никогда не отличался аккуратностью. Я стиснул зубы и промолчал. «Только не волноваться, — успокаивал я себя. — Неприятностей сегодня было достаточно». — Ты уже со всеми попрощался? — спросила мать. — Да, мама, — тихо ответил я. — Мы ждали тебя к ужину, мой мальчик, но ты не пришел. Вот мы и поужинали без тебя. — Я не мог прийти раньше, мама. — Когда есть невеста, для матери времени не остается! — крикнула из кухни слышавшая наш разговор Анна. Какое-то время было тихо. Только на кухне Анна гремела посудой. Мать склонилась над вязаньем. Я пил не спеша кофе. Проходя мимо меня, Анна неожиданно заметила: — Не чмокай так, Фреди! — Могу я пить, как мне хочется? — Ты должен прислушиваться к моим замечаниям. — Оставь меня в покое хотя бы сегодня! Мать с упреком посмотрела на нас: — Дети, ну что вы опять ссоритесь! — Мне надоели придирки Анны! В конце концов, я уже взрослый! — Ты еще ребенок, — ответила Анна. Этого только не хватало. Ребенок! Я каждый день ремонтирую кузнечные прессы мощностью до трех тысяч тонн, работаю наравне со взрослыми, зарабатываю, как взрослый, скоро буду солдатом, а здесь, дома, ко мне относятся, как к ребенку. Это уж слишком! Я стал думать, как лучше отомстить сестре. И вдруг меня осенило. Когда Анна еще раз прошла мимо меня, чтобы убрать со столаоставшуюся посуду, я стал принюхиваться. — Боже, какой у нас сегодня запах! Анна вздрогнула: — Запах? — Да. В комнате чем-то пахнет. — Я старался сохранить каменное выражение лица. — Да чем здесь может пахнуть? — Чем?.. Постой-ка, пахнет рыбой… Анна побледнела. — Какой рыбой? — пролепетала она. — Ну да, рыбой. Селедкой и так далее… — Анна стала еще бледнее. — Ты, наверное, опять притащила домой весь рыбный кооператив? Сестра растерялась и сразу не нашлась, что ответить. Полный злорадства, я видел, что поразил ее в самое сердце, ибо чистоплотность Анны вошла в поговорку. Я до сих пор с ужасом вспоминаю те годы, когда она каждый вечер драила меня в тазу мылом послевоенных лет, содержащим много песка, или жидким мылом, которое отец приносил с завода. Вдруг Анна напустилась на меня: — Так вот твоя благодарность за все то, что я для тебя сделала! Я слишком хорошо к тебе относилась! Кто столько лет содержал твои вещи в порядке? Я! Кто каждый день готовит тебе обед и ухаживает за тобой, как за князем? Я! Кто убирает за тобой? Я! Только я! И, несмотря на все, ты так со мной разговариваешь! Я не жду от тебя благодарности, но неужели я не заслужила чуть больше любви и внимания?! После этих слов она бросилась на кухню и захлопнула за собой дверь. Я услышал ее рыдания. Наступило тягостное молчание. Я почувствовал, что зашел слишком далеко. — Как ты можешь быть таким дерзким со своей сестрой, мой мальчик? — тихо проговорила мама. — Пусть она не пристает ко мне! — не сдавался я. — И все же тебе не следовало бы так разговаривать. Она всегда нежна с тобой. Ты же весь в отца. Он порой тоже был груб. Мне до сих пор неприятно вспоминать, что я тогда ответил матери. — Это невыносимо! Как мне все осточертело: наставления, упреки! Как я рад, что завтра все кончится, что я уеду отсюда далеко-далеко! Какое счастье, что я уезжаю в армию! — И, хлопнув дверью, я вышел. Было темно. Газовые фонари распространяли слабый желтоватый свет. Я остановился в конце переулка возле столба с объявлениями, где обычно прощался с Анжелой. Отсюда до ее дома было всего несколько шагов. Не пойти ли к ней?.. Я сделал несколько шагов по направлению к ее дому. Царила тишина. Только из открытого окна на втором этаже неслись звуки музыки. А с главной улицы время от времени доносилось шуршание проезжающих машин. Неожиданно я оказался перед знакомой дверью. Перешел на противоположную сторону, где было темнее, и посмотрел наверх. На третьем этаже, где жила Анжела, горел свет. На душе у меня было тяжело. И почему все так получилось? Правда, мы и раньше часто ссорились, но в основном все же ладили. И сегодня, на озере, мы должны были помириться, но не помирились. Почему? Может быть, Анжела хотела, чтобы наши пути разошлись?.. Не виноват ли здесь ее отец? Или тетя? Отец Анжелы архивариус, а я простой слесарь. А что, если отец сказал Анжеле: «Послушай, дитя мое, ты же из приличной семьи. Надеюсь, ты не свяжешься с пролетарием…» Мне хотелось подняться на третий этаж, ворваться в ярко освещенную комнату, предстать перед господином архивариусом, ударить кулаком по его пыльному письменному столу и громко сказать: «Добрый вечер, господин Петерман. Я — Альфред Беренмейер, друг вашей дочери! Я люблю вашу девочку и хочу на ней жениться. Если вы станете возражать — сделаете нас несчастными. А этого вы наверняка не хотите, господин Петерман! Ведь вы же культурный человек. К тому же на карту поставлено счастье вашей единственной дочери. Вы ведь тоже когда-то были молодым, господин Петерман!..» Может быть, моя любовь к Анжеле не была достаточно глубокой? Может быть, мне не хватило смелости? Во всяком случае, я не пошел наверх к господину Петерману. Вместо этого я сунул два пальца в рот и подал условный сигнал — два коротких и два длинных свистка. Тюлевая занавеска не шелохнулась. Я свистнул еще раз. Потом через короткие промежутки времени еще и еще. Ничего. Почему Анжела не подошла к окну? При очередном свисте на первом этаже с силой распахнулось окно. Я различил силуэт лысого старика, который, отодвинув занавеску, высунулся из окна и заорал во всю глотку: — Ты, хулиган проклятый! Убирайся подобру-поздорову, а то позову полицейского! Что только позволяют себе нынче мальчишки! Вас, стиляг, пора заставить работать! Я поплелся домой. Что знают такие люди о юношеской любви, о наших надеждах и переживаниях?..5
Через семь часов я уже шел к вокзалу. Меня провожала Анна. Утро было сумеречное и прохладное. На улицах — ни души. Неподалеку от вокзала нам стали встречаться рабочие, идущие на утреннюю смену, разносчицы газет, железнодорожники. На вокзале в одиночку и группами стояли юноши моего возраста. Многих провожали родители или девушки. Нетрудно было догадаться, что все юноши ехали туда же, куда и я. На миг во мне вспыхнула надежда: а вдруг среди провожающих будет и Анжела? Но ее не было. Может быть, она еще придет?.. Мы с Анной уже несколько минут молча стояли на перроне. Вдруг я почувствовал, как кто-то ударил меня по плечу, и услышал знакомый мужской голос: — Вот и наш вояка! Это пришел Георг, мой бригадир, и не один. Рядом с ним, приветливо улыбаясь, стоял Удо, мой бывший ученик. — Я рад, что вы вспомнили обо мне, — сказал я. — Здравствуй, Георг. Здравствуй, Удо. Познакомьтесь. Моя сестра Анна. Сестра смутилась. Смутился и Удо. И пока мы с Георгом обсуждали будничные дела, они держались несколько в стороне. — Не забудь, что в третьем цехе на втором прессе сломался болт цоколя. Поэтому машина немного вибрирует, — напомнил я Георгу. — Исправим, не волнуйся, — успокоил меня Георг. — Когда начнете капитальный ремонт? — В следующий понедельник. — Справитесь? — Ну и скажешь же ты! — воскликнул Георг и повернулся к Удо. — Нет, ты слышал, о чем спросил меня этот юнец? Он вообразил, что без него здесь все остановится. Как ты думаешь, Удо, справимся мы с ремонтом без Фреда? — Разумеется. Георг посмотрел мне в глаза. — Слыхал? Итак, о нас не беспокойся. Завод без тебя не развалится. Удо заменит тебя. А ты в свою очередь постарайся стать хорошим солдатом. — Буду стараться, — заверил я. Я время от времени поглядывал на большие вокзальные часы. До отправления поезда оставалось десять минут. Десять минут надежды! Может, Анжела еще придет?.. Георг продолжил наш разговор. — Итак, ты хочешь стать настоящим солдатом. Мой тебе совет: не разочаровывай нас. Нам хочется, чтобы твой командир отзывался о тебе только хорошо. Но смотри, если на тебя будет хоть одна-единственная жалоба! Ну и влетит же тебе от нас! — Жалоб не будет. — Будем надеяться. К перрону медленно подошел поезд. Я занял свободное купе, открыл окно и покосился на часы. Если Анжела все-таки придет, то только в ближайшие три минуты. Потом будет поздно. По платформе уже шагал дежурный в красной фуражке. Неприятны подобные минуты расставания на вокзале. Так много важного еще надо сказать!.. Анна, казалось, вот-вот заплачет. И действительно, по ее полным щекам уже покатились первые крупные слезы, точно такие же, как много лет назад, когда в такое же утро она провожала меня в Галле на слет пионеров. «Анна, милая сестренка, если бы ты сейчас могла помочь мне! Но ты, к сожалению, даже не догадываешься о моем горе», — думал я. Дежурный в красной фуражке подал сигнал к отправлению. Паровоз свистнул. — Привет товарищам! — крикнул я из окна купе. — Передам, Фред, передам! — ответил Георг. — А тебе, Удо, желаю успешно выдержать экзамен. — Сдам! Анна разрыдалась: — Будь здоров, Фред! — Не беспокойся за меня, сестренка! Целуй маму! Поезд тронулся. Итак, Анжела не пришла… Георг, Удо и Анна медленно шли за поездом. Вдруг Георг схватился за голову, словно что-то забыл, и крикнул: — Послушай, Фред!.. — Он, прихрамывая, подбежал к окну моего купе и протянул мне небольшой сверток. — Вот, возьми на память! Через несколько минут поезд был уже за городом. Только теперь я вспомнил о свертке. Развернул его и увидел коробочку. В ней были плоские мужские часы и браслет. На крышке часов было выгравировано:«Нашему коллеге. От товарищей по ремонтной бригаде».Держа часы в руках, я подумал: «Ты, Фред, должен забыть Анжелу. Только тогда ты сможешь по-настоящему служить и строить свое будущее. Этого от тебя ждут твои товарищи по работе, твои друзья».
6
Из комнаты рядового состава была видна половина территории военного городка: большой прямоугольный плац, поросший после частых весенних ливней сочной травой; приземистые одноэтажные и только что оштукатуренные казармы с плоскими просмоленными крышами; чистые асфальтированные дорожки, самая широкая из которых вела к воротам, где помещался контрольно-пропускной пункт и откуда начиналась высокая, высотой в рост человека, тянущаяся на несколько километров каменная ограда, которая окаймляла всю территорию военного городка. Так выглядели Три Ели — место расположения нашего артиллерийского полка. Три Ели. Странное название. Когда-то здесь было лесничество. Как раз на том самом месте, где позднее поднялась пожарная вышка городка. Лесничество называлось Три Ели из-за трех стройных деревьев, стоявших перед домом. На рубеже столетия лесничество сгорело. Красивые высокие деревья состарились и попали под топор. Но жители поселка Рагун и окрестных деревень по-прежнему называли это теперь уже не таинственное место прежним именем. В пятидесятых годах сюда прибыл строительный отряд. Строители проложили в лесу просеки, провели электричество, водопровод и построили несколько казарм для будущего военного городка. Позднее появились жилые дома, нехитрые деревянные домики для членов семей офицеров и унтер-офицеров. Около трех лет назад выстроили Дом культуры, кафе, школу и детский сад. Так возник новый населенный пункт, еще не обозначенный ни на одной географической карте. Историю возникновения городка и прилегающего к нему поселка Три Ели я узнал от командира нашего учебного отделения унтер-офицера Виденхёфта — сильного парня. Он был сыном рыбака с побережья Балтийского моря. В прошлом сам рыбак, Виденхёфт жил в этих краях уже пятый год и считался старожилом. Кругом был лес: лиственный, смешанный, а больше всего хвойный. Лес начинался сразу за оградой городка. За лесом, в нескольких километрах, была пустошь, песчаная или поросшая вереском. В двух часах ходьбы к северу от Трех Елей начиналось болото, которое тянулось до самой границы. А в непроходимых лесах вас подстерегали коварные черные озера. Прошло три недели с тех пор, как мы высыпали из вагонов на маленькую станцию поселка Рагун. На грязной привокзальной площади нас построили в колонну. Когда мы во главе с военным оркестром проходили мимо ветхих домишек поселка, нам было весело. Но уже тогда эта веселость показалась мне какой-то подозрительной. Мы в тот момент были похожи на маленьких детей, которые не хотят показывать, что им страшно. Офицеры и унтер-офицеры, которые сопровождали нас, снисходительно улыбались. Они даже предоставили нам известную свободу действий, понимая, что для нас здесь все ново. На узкой ухабистой проселочной дороге, прямиком ведущей через сосновый лес к Трем Елям, мы притихли: долгая ходьба в строю утомила нас. Прошли КПП городка и окончательно умолкли, когда за нами закрылись обитые железом ворота. Да, здесь была совсем другая жизнь! Дорогая сестренка Анна, лучше бы ты обо мне так не заботилась! Как мне было тяжело первые дни! Утренняя зарядка, частые построения и маршировки, постоянные поверки, распределение на различные работы, не говоря уже о самих военных занятиях! И все же я постепенно привыкал к новой жизни. Учился жить по распорядку, застилать кровать (что для меня было, пожалуй, самым трудным), ходить строевым шагом, отдавать честь. Изучал воинские уставы. Узнал, какие знаки различия у ротного фельдфебеля и генерала, как вести себя в увольнении и на посту, как оберегаться от обмораживаний и потертостей при продолжительных маршах. Вскоре я с завязанными глазами мог разобрать и собрать автомат Калашникова, а также начистить ведро картошки меньше чем за пятьдесят пять минут. Раньше я за год так не менялся, как за эти несколько недель. Я стал настоящим солдатом и ничем не отличался от других, только… Остальные веселились и шутили. В свободное время читали, занимались спортом, пели в полковом хоре или играли в любительском эстрадном оркестре. Я же держался как-то в стороне ото всех. Почему? Почему только у меня было подавленное настроение? Мог ли я сказать, что мне здесь плохо?.. Занятия были тяжелые, интересные. Еда? Конечно, Анна готовила вкуснее. Но она варила только на трех человек. А здесь кормили более тысячи. И все же при всей своей простоте пища была разнообразной и питательной. Не могу пожаловаться и на то, как нас разместили. У меня была своя кровать, тумбочка. Белье регулярно меняли. Сначала, правда, мешали спать несколько человек, которые сильно храпели, но и к этому я со временем привык. С начальниками мне повезло. Культурное обслуживание было на высоте. Раньше я никогда так часто не бывал в кино — два, даже три раза в неделю, и все бесплатно. Кроме того, в нашем распоряжении был полковой клуб с его читальным залом, бильярдной и комнатой для игры в шахматы. А в комнате культпросветработы нашей батареи каждый вечер работал телевизор. Нет, жаловаться мне было не на что. Что же в таком случае угнетало меня? Тоска по дому, тоска по Анжеле! Я старался скрывать свою печаль от товарищей по комнате, от командиров, что мне удавалось, так как пока еще мы мало знали друг друга. Лишь однажды в субботу, когда мы занимались уборкой комнат, один из многих товарищей попытался поговорить со мной по душам. Я стоял на подоконнике и протирал оконные стекла. Вдруг кто-то окликнул меня: — Эй, Фред, ты скоро кончишь? Это был Петер Хоф, такой же солдат, как и я. И он и я были в учебном отделении унтер-офицера Виденхёфта. По профессии он был чертежником. Я случайно узнал это уже на второй день нашего пребывания здесь, когда он получал от старшины батареи задание написать крупным шрифтом для всех товарищей именные бирки. Потом эти бирки прикреплялись к кроватям, тумбочкам и к пирамидам для оружия. Я поглядел вниз и сказал: — Скоро, Петер. — Ты не мог бы закончить побыстрее? — Зачем? — Пока ты не закончишь, я не смогу натирать пол! Таким Петер Хоф был с самого начала: все старался сделать побыстрее. И, несмотря на это, любую работу он выполнял аккуратно. Даже там, где мне казалось, что все сделано, он всегда что-нибудь поправлял, будь то оборудование позиции, маскировка дота или рыхление граблями земли в спортивном городке батареи. Петер Хоф обладал и организаторскими способностями. Он проявил их уже в первую неделю нашего пребывания здесь: добился создания в учебной батарее бюро Союза свободной немецкой молодежи (ССНМ), секретарем которого избрали его самого. — Влезай сюда и помоги мне, тогда я скорее кончу и потом помогу тебе. — Подвинься, — попросил он и встал рядом со мной. Внешне Петер был очень симпатичным. Тонкие черты лица, чуть выдающийся вперед подбородок, что говорило о силе воли и выдержке. Он настолько энергично тер газетой стекло, что от усердия его гладкие каштановые волосы растрепались. Неожиданно Петер спросил: — Фред, почему ты всегда держишься в стороне? — Такой уж у меня характер… — уклончиво ответил я. — А-а-а. — Что «а-а»? — спросил я. — А я думал, что тебя гложет какая-то забота. — Нет. Дома у меня все в порядке. — А почему у тебя все время такой удрученный вид? — С чего ты взял? — В столовой ты всегда отсутствующим взглядом смотришь в тарелку, а в свободное время лежишь на кровати, уставившись в потолок. Я еще ни разу не слышал, чтобы ты смеялся. — Я всегда такой, Петер. Такая уж у меня натура. — Ну, в таком случае ничего не поделаешь. А я решил, что у тебя горе. Позже я понял, что дальше так продолжаться не может. Даже несмотря на горе, нельзя стоять в стороне от людей. И взял себя в руки.7
После этого разговора мы с Петером Хофом сблизились. Позднее дружба с ним во многом помогла мне. Согласно учебному плану инженерной подготовки мы отрабатывали тему «Отрывка одиночной стрелковой ячейки». Сразу же после завтрака наше отделение двинулось по намеченному маршруту. Стоял теплый день — первый после многих холодных, дождливых недель. Мы остановились на небольшом, поросшем лесом холме. — Вам дается пятьдесят минут для отрывки одиночной стрелковой ячейки, — сказал командир отделения унтер-офицер Виденхёфт. Мы уже знали, что это время намного больше нормативного, но мы также знали, что унтер-офицер дал нам больше времени только потому, что мы еще неопытны. Все мы понимали, что в дальнейшем командир отделения постепенно будет уменьшать время до тех пор, пока мы не будем укладываться в норму, не снижая качества работы. Расставив нас по склону, унтер-офицер приказал приступить к работе и включил секундомер. Лежа на животе, я аккуратно срезал дерн и осторожно откладывал его в сторону. Потом начал углублять ячейку. Сначала шел белый песок, потом желтоватый; кое-где он был пронизан буроватыми жилками. После тридцатисантиметрового слоя глины я натолкнулся на гравий. Потом снова пошел желтоватый песок. Когда я нагибался, меня не было видно. В ячейке было прохладно, и я с удовольствием подольше побыл бы в этом положении, но времени не было. Я продолжал углубляться, вынимая и укладывая землю на бруствер. — Осталось тридцать минут! — объявил унтер-офицер Виденхёфт. Он был от меня в третьей или четвертой ячейке. Несмотря на то что командир отделения тоже отрывал стрелковую ячейку, он успевал следить за нами. — Рядовой Шлавинский! Не поднимайтесь так высоко! На секунду я приподнялся и осмотрелся. Унтер-офицер Виденхёфт, закончив отрывку и маскировку своей ячейки, залез в нее, держа автомат в положении наготове. «Черт возьми, — подумал я, — а ведь он уложился во время! Прошло только двадцать пять минут, а он уже в боевой готовности!» Маленький Дач, в пяти метрах левее меня, — тоже обогнал, он уже посыпал светлую землю темным песком и покрывал бруствер срезанным дерном. Через десять минут я встал в своей ячейке, взял автомат на изготовку и перевел дух. — Осталось двенадцать минут! — крикнул унтер-офицер Виденхёфт. А где же Петер Хоф? Я стал смотреть по сторонам. Петер был шагах в пятнадцати от меня. Как он отстал! Пока командир отделения смотрел в другую сторону, я вылез из своей ячейки и пополз к Петеру. — Ползи в мою ячейку, она закончена, — приказал я. — Нет, — с раздражением ответил Петер. Я решил, что ослышался, и поэтому сказал: — Петер, я ведь хочу тебе помочь! Ну быстрее! Я быстро закончу твою ячейку, и все будет в порядке. — Нет. — Болван! — прошипел я. — Почему ты не хочешь воспользоваться помощью товарища? Петер молчал. В этот момент позади меня раздался повелительный голос командира отделения: — Рядовой Беренмейер! Сейчас же отправляйтесь в свою ячейку! После обеда, когда мы отдыхали, я потребовал у Петера объяснений. — Почему ты не послушался меня? — спросил я. — А кто поможет мне в бою? — спросил в свою очередь Петер. Я молчал, так как не знал, что ответить. — Послушай, Фред, для чего мне была нужна твоя помощь? Разве благодаря ей я научился бы укладываться во время? Никоим образом! Значит, я должен рассчитывать только на себя. Мне ничего другого не остается, как тренироваться и еще раз тренироваться. Понятно? В дальнейшем я понял, что Петер слов на ветер не бросает. Через несколько дней я пригласил Петера пойти в полковой буфет выпить по кружке пива, но он отказался: — У меня дела. — Какие же, если не секрет? — Пока секрет. В буфете я спросил маленького Дача и толстого Шлавинского, не знают ли они, чем занимается Петер Хоф. — Петер? — переспросил Шлавинский. — Я его только что видел. Товарищ секретарь Союза свободной немецкой молодежи тренируется. — Как тренируется? — На штурмовой полосе. Тут я понял все. При преодолении штурмовой полосы Петер Хоф всегда отставал, потому что не мог преодолеть штурмовую лестницу с первого, а иногда и с четвертого раза. Только теперь я понял, куда он уходит каждый вечер, а через полчаса возвращается весь мокрый от пота. Через неделю, когда мы собирались ложиться спать, Петер подошел к моей кровати и сказал: — Отныне вам больше не удастся обогнать меня на штурмовой полосе. Да, таким был Петер Хоф. И сегодня я могу признаться, что во многом брал с него пример. На штурмовой полосе впервые привлек мое внимание Дач. Ему было восемнадцать лет, но выглядел он совсем школьником: худой, небольшого роста, большая угловатая голова, широко раскрытые глаза. Гладкий подбородок говорил о том, что к нему еще не прикасалась бритва. Голос его звучал по-мальчишески звонко. Дач был приветлив и всегда всем помогал. Однако, несмотря на маленький рост, Дач был очень вынослив и ловок. Его время преодоления штурмовой полосы было чуть хуже, чем у унтер-офицера Виденхёфта, чего от него никто не ждал. Занятия подходили к концу. Мы сидели на краю штурмовой полосы. Сняли стальные каски и расстегнули поясные ремни. Вдруг унтер-офицер спросил: — Товарищ Дач, как получается, что вы всегда отстаете от меня ровно на пять секунд? Дач чертил палочкой на песке. От смущения его большие уши порозовели. — Каждый раз, — продолжал командир отделения, — я думаю: ну, сегодня Дач обгонит меня. Неужели вы не можете поднажать? — Можно было бы… — пробормотал Малыш. — В чем же дело? — Я не хочу. — Вы хотите сказать, что умышленно отстаете? — Да. — Объясните! — Это обязательно? — Да. Мы все обратились в слух. Дач покачал кудрявой головой и почти нараспев сказал: — Только из-за авторитета. — Какого авторитета? — спросил унтер-офицер Виденхёфт. — Вашего, товарищ унтер-офицер. — Моего?! — Так точно, вашего авторитета. — Но почему же? — Да я, товарищ унтер-офицер, решил, что командиру будет неприятно, если подчиненный окажется лучше его самого. К тому же я подумал, что наш командир будет рад, если останется лучшим в преодолении штурмовой полосы… Мы рассмеялись, а толстый Шлавинский сказал: — Малыш, тебе придется сначала доказать, что ты лучший! Виденхёфт тотчас же встал, пошел к штурмовой полосе и приказал: — Рядовой Дач, за мной! — Бедный Малыш! — Шлавинский засмеялся. — Тебя поймали на слове! Через минуту унтер-офицер и маленький Дач, как две борзые, выскочили из окопа и устремились к первому препятствию — проволочному заграждению. Виденхёфт оказался там первым, но за тридцатиметровым заграждением первым поднялся маленький Дач! Как ласка, понесся он дальше. На бревно они влезли одновременно, а перед штурмовой лестницей унтер-офицер снова был впереди. — Наш командир бегает лучше, — заметил Петер Хоф. — Зато Малыш лучше преодолевает препятствия, — возразил я и оказался прав: Дач перепрыгивал через окопы, заборы, стенки, как маленькая пантера. Перед стеной дома он опередил Виденхёфта почти на пять метров. Потом мы обоих потеряли из виду. — Дело ясное, — сказал Петер Хоф, — победителем будет Дач. — Да, — добавил я, — он лишил нашего командира пьедестала почета. Время, зафиксированное двумя секундомерами, говорило само за себя: Малыш на две секунды опередил унтер-офицера. — Дружище, — обратился немного погодя Виденхёфт к Дачу и, обессиленный, бросился на траву, — ну скажите, как вам это удалось? — Сам не знаю, товарищ унтер-офицер. Я срываюсь как с цепи и успеваю опомниться лишь у цели. Унтер-офицер вытер лоб носовым платком и причесал волосы. — Вы, наверно, всю свою жизнь лазали и бегали, — сказал он. Все засмеялись. — Товарищ Дач, кто вы по профессии? — Я ухаживал за животными, товарищ унтер-офицер. — А если точнее? — Работал в зоопарке с пони и ослами. Чистил, кормил и тому подобное… — А в свободное время, наверное, занимались допризывной подготовкой? — Нет. Я никогда ничем подобным не занимался. — Тогда вы для меня загадка. На другой день все прояснилось. Во время перерыва между занятиями Виденхёфт потребовал от Дача: — Расскажите-ка товарищам, где вы работали до того, как стали ухаживать за животными. Наступило молчание. Все с нетерпением ждали ответа. — Раньше? Раньше я был в цирке! — И пока мы, разинув рты от удивления и восхищения, рассматривали его, Дач произнес: — Ну что вы уставились на меня? Итак, мы узнали, что наш Дач, этот милый и скромный юноша, работал в бродячем цирке, где был и конюхом, и клоуном, и канатным плясуном, и наездником на слоне, и акробатом, пока предприятие не лопнуло и он не нашел постоянной работы в зоопарке. — Ну, тогда не удивительно, что Малыш умеет лазать, как обезьяна, — прокомментировал Шлавинский. Теперь несколько слов о Шлавинском. Шлавинский, в сущности, не был толстым. Просто он был очень неуклюж. И в этом нет ничего удивительного: до призыва в армию Шлавинский работал на почте, где целыми днями сидел за окошком. Он был медлительным и спокойным человеком. При малейшем физическом напряжении потел. Любил поспать. На первый взгляд он производил впечатление неинтересного и безобидного увальня, что, однако, не соответствовало действительности. Он умел подмечать и с сарказмом выставлять напоказ недостатки товарищей, за что его многие недолюбливали. Моя ошибка состояла в том, что я, судя только по внешнему виду, недооценил в нем этого качества. И поэтому мне было не до шуток, когда объектом его насмешек в нашей комнате стал я. Шлавинский задевал меня лишь по мелочам, но и этого было достаточно, чтобы я выходил из себя. Например, если в строю я шел не в ногу, что случалось редко, Шлавинский не упускал возможности заметить: — Вся братия идет не в ногу. Только Беренмейер идет в ногу. На занятиях по топографии, когда мы с помощью стереотрубы измеряли углы на местности, я однажды ошибся на целых сто делений. Шлавинский тут же с серьезным выражением лица Заметил: — Да, Беренмейер, ничего не поделаешь, если здесь пусто. — При этом он постучал себя по голове. Но больше всего Шлавинский потешался над моей фамилией. Он с особым удовольствием искажал ее, так как в первое время я имел глупость рассердиться на его шутку, после чего он со злорадством называл меня Мейербером или даже Мейерберхеном. Все это, естественно, обостряло наши отношения. Я в свою очередь торжествовал, когда Шлавинскому в чем-нибудь не везло, как, например, на двадцатикилометровом марше. Около четырех часов утра мы выступили с полной выкладкой: автомат, каска, противогаз и набитый до отказа вещевой мешок. Пройдя десять километров, сделали привал. Я очень удивился, когда увидел, как Шлавинский, хромая, отошел в сторону, чтобы его не увидел командир взвода, снял сапоги и стал рассматривать стертые ноги. «Это тебе так не обойдется, толстяк», — со злорадством подумал я. И действительно, уже на двенадцатом километре Шлавинский с перекошенным от боли лицом вышел из колонны и забрался в грузовик, предназначенный для таких, как он, пострадавших. После происшествия на марше Шлавинский на два дня оставил меня в покое. Я никогда не забуду состязания с ним на стрельбище в один из последних дней прохождения курса одиночного солдата. Был момент, когда мы впервые должны были стрелять из автоматов. Стрельбище, куда мы пришли в тот день до восхода солнца, располагалось сразу за нашим городком, в том месте, где начинался кустарник. Мы остановились на огневом рубеже; далеко впереди, едва различимые невооруженным глазом, стояли зеленоватые грудные мишени. Должен признаться, что перед стрельбой я волновался, хотя и считал, что теорией стрельбы овладел неплохо. У меня была твердая рука и верный глаз; и то и другое я испытал на ярмарке, когда из пневматического ружья стрелял для Анжелы по бумажным цветам и мишкам. Но разве можно сравнить пневматическое ружье с автоматом Калашникова! Стрельбой руководил капитан Кернер, командир нашей батареи, — высокий, стройный пожилой мужчина. Он был строг, но мы его любили. Именно за строгость. Кернер умел коротко, но в то же время ясно и понятно выражать свои мысли. Когда мы находились на исходном рубеже, капитан Кернер взял у одного солдата автомат и, обращаясь к личному составу батареи, сказал: — Солдат должен верить в свое оружие. Мне хочется доказать вам, что вы вполне можете доверять своему оружию! После этих слов он отделил магазин, не глядя, ловко и уверенно снарядил и присоединил его, потом подошел к огневому рубежу и, прежде чем мы успели опомниться, вскинул автомат, затем дал три короткие, гулко прозвучавшие очереди. Почти в то же мгновение мы увидели, как впереди упали три зеленоватые мишени. — Черт возьми! — воскликнул кто-то позади меня. Возвращая оружие солдату, капитан Кернер сказал: — Итак, товарищи, вера в оружие и вера в самих себя! Он пожелал нам успеха в стрельбе и пообещал лучшему стрелку добавить к очередному отпуску один день. Однако попасть в мишени было не так-то просто. Лишь немногие из нас поразили все три мишени. Поскольку мы стреляли тремя очередями по три патрона, то принималось во внимание и общее число попаданий, в силу чего многие претенденты на первое место сразу же отсеялись. Подошла моя очередь. У меня сильно билось сердце, когда я лежал на огневом рубеже. Была подана команда «Огонь!». Мне хотелось быстро прицелиться и, затаив дыхание, нажать на спусковой крючок. — Не торопитесь, товарищ Беренмейер, — услышал я голос капитана Кернера. Я вздохнул, слегка выдохнул и затаил дыхание. Прицелившись в первую мишень, медленно нажал на спуск. Послышался резкий звук. У меня даже зазвенело в ушах. Впереди упала первая мишень. — Хорошо, — заметил капитан Кернер. Похвала командира подбодрила меня. Покинув огневой рубеж, я, гордо выпятив грудь, доложил: — Рядовой Беренмейер поразил три мишени, восемь попаданий из девяти возможных! Пока это был лучший результат, и, ликуя, я думал: «Кто же меня опередит?» Но меня никто не опередил. Толстый Шлавинский, уйдя одним из последних с огневого рубежа, доложил унтер-офицеру Виденхёфту: — Рядовой Шлавинский поразил три мишени, восемь попаданий из девяти! У Шлавинского и у меня было одинаковое количество попаданий. — Ну, Мейербер, — сразу начал подсмеиваться Шлавинский, — ты рано начал радоваться. Тебе хотелось одному насладиться славой, а ее нужно делить пополам. Я подумал, что было бы лучше, если бы победил кто-нибудь третий, один, а не мы со Шлавинский. В этот момент к нам подошел капитан Кернер. — Ну, товарищи, что же делать? Я обещал лучшему стрелку дополнительный день отпуска. Кто же из вас лучший? — Кернер пожал нам руки. — Пусть они перестреляют, товарищ капитан, — предложил Виденхёфт. Все в знак одобрения зашумели. Итак, мне и Шлавинскому пришлось еще раз выйти на огневой рубеж. Однако теперь условия стрельбы были сложнее: расстояние оставалось прежним, но мы стреляли не лежа с упора, а стоя без упора. Должен признаться, что во второй раз я волновался еще больше. А так как условия стрельбы были усложнены, я стрелял отнюдь не самым лучшим образом: поразил только две мишени — четыре попадания. Шлавинский, выйдя на огневой рубеж, сначала протер очки, затем, уже изготовившись к стрельбе, вдруг опустил автомат и почесал шею. Потом выстрелил. Его результат был гораздо лучше: три мишени и пять попаданий. — Итак, Мейерберхен, — небрежно бросил он, — все-таки я тебя опередил. Мне не оставалось ничего другого, как приветливо улыбнуться и поздравить его, хотя, в сущности, своим результатом я тоже мог гордиться. Вечером перед строем батареи было объявлено: Шлавинскому — дополнительный день отпуска, а мне — увольнение в городской отпуск до подъема. Потом Петер Хоф спросил меня: — Фред, ты не злишься, что у тебя уплыл лишний день отпуска? — Нет, Петер, — спокойно ответил я, — что мне с ним делать? У меня все равно пока нет особого желания ехать домой. Кстати, на увольнение до подъема мне тоже наплевать. Ну скажи, куда в этой глуши можно пойти? — Ну-ну, Фред, как знать, — с улыбкой заметил Петер. И он оказался прав! Увольнение до подъема мне было кстати.8
Первые недели в городке Три Ели пролетели незаметно. И чему мы только не научились за это время! Научились читать карту и ходить по компасу, вести ближний бой, в совершенстве владеть всеми видами оружия — от ручного пулемета до противотанкового ружья, короче говоря, мы научились всему тому, что необходимо солдату в современном бою. Наши занятия в учебной батарее вскоре окончились, и наступил день принятия присяги. Момент, когда мы перед строем полка давали клятву Германской Демократической Республике, когда под полковым знаменем многократно прозвучало «я клянусь», был очень торжественным. Теперь мы стали полноправными солдатами Национальной народной армии. После обеда мы всем отделением в первый раз пошли в увольнение. Остаток дня провели с нашим командиром унтер-офицером Виденхёфтом в поселке Рагун. Вечером зашли в бар, где отпраздновали окончание первого этапа нашей службы. — А все-таки здорово было в учебной батарее, — заметил Петер Хоф, сидевший рядом со мной. — Настоящая служба только начинается, — возразил унтер-офицер. — Надеюсь, будет не слишком тяжело, — проронил толстый Шлавинский. — Нагрузки хватит, — произнес унтер-офицер Виденхёфт, — вот подождите, скоро начнутся большие учения. — Я давно их жду, — чистосердечно признался маленький Дач. В нише за колонной играл плохонький оркестр. На крошечной квадратной площадке танцевали три-четыре пары. Выпив немного вина, я окинул взглядом танцующих. В этот момент я услышал голос Петера Хофа: — Товарищ унтер-офицер, вам известны подробности о нашей дальнейшей судьбе? — Мы так и будем вместе, товарищи. — Вот хорошо, — заметил я, — но куда нас назначат? — Все вы останетесь в Трех Елях, в нашем артиллерийском полку, а именно в батарее капитана Кернера. Сегодня после обеда он принял командование своей прежней батареей. Лейтенант Бранский временно исполнял обязанности командира батареи. Это первая батарея, лучшая в полку. Вас, товарищ Хоф, очевидно, назначат вычислителем: вы сильны в математике. Товарищи Дач, Шлавинский и Беренмейер будут в третьем расчете, то есть у меня. — Значит, вы, товарищ унтер-офицер, останетесь командиром нашего орудия? — поинтересовался я. — Да, товарищи. — Ну тогда за ваше здоровье. — Я улыбнулся и поднял рюмку. В этот момент я был почти счастлив. А почему не совсем? В Трех Елях я уже акклиматизировался, приобрел друзей и товарищей. Тоска по дому давно прошла. Верно! Все верно. Но Анжела!.. Я каждую неделю писал ей длинные письма. Первое письмо было примирительным, второе ласковым, третье нетерпеливым, четвертое… А ответа все не было!.. Когда мы строились около казармы на обед и старшина батареи, стоя перед строем с толстой пачкой писем, выкликал фамилию за фамилией, я лелеял надежду. И каждый день понапрасну.9
С первого дня службы в третьем расчете первой батареи у меня возникли осложнения, которых я не ожидал. Они начались буквально с первой минуты, даже секунды, когда я со всем своим имуществом переступил порог моей новой комнаты. — Ну, ты, закрой дверь! — закричал кто-то громко. Я бросил вещи на кровать и посмотрел на крикуна. Он лежал на кровати в глубине комнаты. Длинный, мускулистый парень с короткими рыжеватыми волосами, небольшим приплюснутым, как у боксеров, носом и огромными, как тарелки, ладонями. Нахмурив мохнатые брови, парень быстро посмотрел на меня своими серыми глазами и пробурчал: — Тебя что, за полтора месяца не научили, как себя вести, а?.. — Лучше бы помог мне! — огрызнулся я в ответ. Тут долговязый обозлился еще больше: — Вот зелень, только пришел и уже поднимает шум! У меня на языке вертелся едкий ответ, но я сдержался, потому что не хотел ссор, тем более с самого начала. Стал спокойно раскладывать свои вещи. Тем временем вошли маленький Дач и толстый Шлавинский. На этот раз грубиян промолчал, вероятно, потому, что лежал на животе и ему было лень повернуться. Потом вошел еще один солдат — широкоплечий, загорелый парень с большой угловатой головой и короткой толстой шеей. Солдат приветливо поздоровался с нами и сел на табуретку. Насвистывая песенку, я стал укладывать в тумбочку вещи. Вдруг долговязый повернулся на бок и крикнул: — Как же шумят эти салаги! — А что тебе мешает? — спросил я. — Твой глупый свист! — Ты не болен? — с издевкой спросил я. — Откуда ты взял? — обозлился долговязый. — То ты не можешь видеть открытую дверь, то тебе не нравится мой свист. У тебя определенно не в порядке желудок или еще что-нибудь. Обязательно сходи в санчасть! Долговязый на мгновение лишился речи. Наконец он угрожающе прорычал: «Ну ты-ы-ы!..» — и вернулся в прежнее положение. Между тем Дач и Шлавинский завязали разговор с солдатом. — Ты давно в армии? — услышал я голос Дача. — Полгода. — И он тоже? — полюбопытствовал Шлавинский, показав на лежавшего на кровати гиганта. — Да. — А где остальные? — Демобилизовались. — Когда? — На прошлой неделе. — Нас в расчете только пять человек? — Пять. — Маловато. — Да. — А как тебя зовут? — Кольбе. Пауль Кольбе. — Из деревни? — Из деревни. Потом Дач представил нас троих. — А как зовут того, длинного? — Эрмиш. Руди Эрмиш. — Он всегда такой? — Какой такой? — Ну, такой шумный. — Нет, иногда. — Почему? — Да я и сам не знаю. — Может, влюбился? — вмешался я. Услышав мой вопрос, долговязый приподнялся и неожиданно для всех обронил: — Чтобы у меня здесь был порядок! — Вряд ли мы насорим больше, чем ты, — заметил я. Долговязый замолчал. Но я не успокаивался: — Ты чего вообще добиваешься? Мы еще даже не познакомились, а ты уже ворчишь! Тебе хочется подраться? — Я хочу, чтобы вы, салаги, слушались! — Тогда попридержи язык. Кто ты такой? Строишь из себя старшину, а сам такой же солдат, как и мы. Тут, на мое счастье, в комнату вошел унтер-офицер Виденхёфт. — Смирно! — скомандовал Пауль Кольбе. Мы вскочили и встали по стойке «смирно». Только длинный Эрмиш, поднимаясь с кровати, несколько замешкался. — Рядовой Эрмиш, — строго сказал унтер-офицер, — вам, конечно, известно, что лежать на кровати в сапогах не разрешается? — Так точно, товарищ унтер-офицер! — Тогда почему вы нарушаете порядок? Эрмиш уставился в пол. — Если подобное повторится, я наложу на вас дисциплинарное взыскание! — Есть, товарищ унтер-офицер! Командир орудия проверил наши тумбочки и вышел из комнаты. — Ха-ха-ха!.. — громко рассмеялся я. — Чего ты смеешься? — проворчал Эрмиш. — Тоже мне вояка, сам лежит в сапогах на кровати и еще хочет учить других! Итак, начало службы в третьем расчете унтер-офицера Виденхёфта не было хорошим. К сожалению, мы с Руди Эрмишем поначалу никак не могли поладить. По любому самому незначительному поводу между нами возникали разногласия. Однажды на занятиях мне не удалось сразу заменить ударник в затворе полевой гаубицы. Во время перерыва Эрмиш не удержался: — И он еще уверяет, что был слесарем. — Слесарем-ремонтником, — поправил его я. — А кто знает, что ты ремонтировал. Может, кофейные мельницы! — Ошибаешься, мы ремонтировали кузнечные прессы мощностью в три тысячи тонн и больше! Мои слова не произвели на Эрмиша никакого впечатления. Несколько дней спустя на занятиях я увидел, как для установки взрывателя Эрмиш взял из оружейного ящика не тот ключ и начал орудовать им в головке учебного снаряда. Когда я указал ему на ошибку, он с презрением произнес: — Буду я слушать какого-то жестянщика, ремонтировавшего кофейные мельницы! Дни шли, а наши отношения все не налаживались. Сначала я возлагал надежды на Дача и Шлавинского, думал, что, если мы трое будем держаться вместе, все наладится. Пауля Кольбе мы привлекли бы на свою сторону, и тогда Руди Эрмишу оставалось бы только присоединиться к нам. Но все портил толстый Шлавинский. Ему ни до чего не было дела. Длинного Эрмиша он не трогал: вероятно, побаивался его. В свою очередь Эрмиш не приставал к Шлавинскому, признав, видимо, его умственное превосходство и боясь его насмешек. Дач был слишком добродушен и слаб, чтобы примирить нас, а спокойный Пауль Кольбе придерживался нейтралитета. В комнате царило спокойствие лишь тогда, когда не было Руди Эрмиша. К сожалению, так бывало только два раза в неделю, когда Эрмиш тренировался в спортивном зале полка (он входил в команду боксеров). Однажды Эрмиш вернулся с тренировки в особенно радостном настроении: он по очкам выиграл у одного из своих противников. Его хвастовству не было конца. — Да, дорогой мой, — громко проговорил Эрмиш и склонился над моей кроватью, — парень попробовал настоящих кузнечных крюков! — Какие кузнечные крюки? — Я сделал вид, что ничего не понимаю. — Как, ты не знаешь кузнечных крюков? — Нет, не знаю. Знаю одежные, бельевые, рыболовные крючки. Но кузнечные… Эрмиш не растерялся: — А ты разве не знаешь, что я по профессии кузнец? Я знал, что до призыва в армию Эрмиш работал в МТС кузнецом-ремонтником. Его хвастовство разозлило меня, и я выпалил: — Ты кузнец? Да ты сам не веришь тому, что говоришь! — Я пять лет работал с раскаленным железом! — Не смеши! Ты — и раскаленное железо! — Не веришь? — Нет, — серьезно ответил я. — Я верю тебе так же, как ты мне, что я ремонтировал трехтысячетонные кузнечные прессы! — А-а!.. — отмахнулся Эрмиш. Я не отступал. Мне хотелось отплатить ему за все оскорбления, которые он нанес мне. Поэтому, когда Эрмишотвернулся, я добавил: — Тебе, наверное, разрешили однажды заглянуть в кузницу… — Что-о-о?.. — вскипел он. Все подняли головы. Шлавинский ехидно ухмыльнулся. Почувствовав, что товарищи по комнате на моей стороне, я осмелел: — Возможно, мастер разрешал тебе подносить кузнечный молот, да и то самый маленький, чтобы он не очень больно ударил тебя по большому пальцу ноги, если бы ты уронил его. Возможно, тебе доверяли вытаскивать и выпрямлять ржавые гвозди, да и это у тебя не всегда получалось… Мне не дали договорить. В этот момент раздался дружный хохот, который спас меня, так как Эрмиш, вместо того чтобы вспылить еще больше, вдруг махнул рукой и пренебрежительно сказал: — Болтун, что ты понимаешь в кузнечном деле! С тех пор он почти оставил меня в покое. И все-таки у меня было предчувствие, что наши отношения наладятся не скоро. Я каждый день ждал разрядки в наших отношениях, носивших характер «неустойчивого равновесия», но она все не наступала.10
К сожалению, получилось так, что «неустойчивое равновесие» нарушил я. В одно из воскресений мы с Петером Хофом получили увольнение. Мы ушли из городка сразу после обеда и, пока было светло, гуляли по лесу. Когда начало темнеть, вспомнили про новое кафе в центре поселка Три Ели и направились туда, так как сильно проголодались. В просторном, оборудованном по-современному зале было уютно. Мы заказали свиной шницель в сухарях с жареной картошкой и пиво. Когда мы уже собирались рассчитываться, заметили объявление, приглашавшее на вечер танцев. Решили остаться. Играл самодеятельный оркестр солдат и офицеров нашего полка. Настроение у нас поднялось. В зале начали появляться девушки из поселка Рагун и окрестных деревень. Заиграла музыка, и большую танцплощадку заполнили пары. — Вон танцует Эрмиш! — заметил Петер Хоф. — Где? — оживился я. — Там, рядом со сценой. Вскоре и я увидел Эрмиша, так как он на целую голову возвышался над другими танцующими. Только его партнерши не было видно в толпе. — Ну как, отношения у вас наладились? — поинтересовался Петер. — Ах, оставь, — ответил я и отпил глоток пива. — А что, опять что-нибудь произошло? — То же самое… — Опять ссора? — Да. — Предай дело огласке. — Не стоит. — Даже не хочешь рассказать на бюро Союза свободной немецкой молодежи? — Нет, Петер. — А если я сам это сделаю? Хоф задал этот вопрос не случайно. Два дня назад на собрании членов Союза свободной немецкой молодежи батареи было избрано бюро, куда вошел и Петер. Он, конечно, не станет тянуть и на следующем же заседании бюро поставит вопрос о моих отношениях с Эрмишем. Но мне не хотелось поднимать шум из-за мелочи. Поэтому я сказал: — Оставь, Петер, у вас есть заботы поважнее. Первый танец кончился. Пары устремились на свои места. Наконец я смог рассмотреть партнершу Эрмиша. Среднего роста, чуть полная и все же изящная. У нее были длинные слегка волнистые каштановые волосы. Я никогда в жизни не видел таких волос. Руди Эрмиш проводил девушку к столику, где сидел со своей женой наш командир батареи капитан Кернер. Так вот он какой, Эрмиш, подумал я. Хочет привлечь к себе внимание командира и поэтому танцует с той девушкой, вероятно случайно севшей за этот стол! И в тот миг во мне всколыхнулась вся горечь, накопившаяся с утра. Утром снова произошла ссора. Эрмиш хотел увильнуть от уборки комнаты. — Я сейчас отплачу этой каланче! — заявил я Петеру. — Что ты собираешься делать? — Сейчас увидишь! Музыканты перелистывали ноты. — Смотри, Петер! Сейчас начнется! Прозвучали первые такты — и я поспешил к девушке с каштановыми волосами. Поздоровавшись с капитаном Кернером и его женой, пригласил девушку танцевать. Она, казалось, удивилась моему неожиданному появлению. Ее большие светлые глаза серьезно и внимательно посмотрели на меня. Потом она кивнула. Как глупо выглядел Эрмиш! Растерянный и смущенный, он не знал, что делать. А я от души радовался. Да, мой дорогой Эрмиш, ты опоздал! Девушка с каштановыми волосами танцевала очень легко, почти как Анжела. Вначале она дичилась, но уже через несколько минут, когда наши взгляды на мгновение встретились, я заставил ее улыбнуться. На левой щеке у нее была симпатичная ямочка. И во второй раз я опередил Руди Эрмиша. Он снова ушел несолоно хлебавши. Я торжествовал. — Ну как? — спросил я Петера Хофа, вернувшись к нашему столику. — Видел, как я с ним рассчитываюсь? — Что за глупости, Фред! — Почему глупости? Я хочу досадить этой дылде! — А девушка? — Раз она танцует со мной, значит, ей нравится. — Все-таки нечестно! — Ах, дай повеселиться. Мне надо было быть начеку. Эрмиш на этот раз обязательно постарается опередить меня. Из предосторожности я встал заранее и незаметно приблизился к девушке. Теперь уже длинный не сможет опередить меня! И снова мне повезло. В следующий перерыв я направился к входной двери: оттуда до ее столика было рукой подать и к тому же был виден весь зал. Я заметил, как капитан Кернер и его жена встали и простились с девушкой. Когда отзвучали первые четыре такта, я вошел в зал. Мне снова сопутствовал успех. Наш поединок принимал все более жесткие формы. Я решил не отходить от столика девушки и стал разглядывать люстру. И на этот раз я не опоздал. Наконец Эрмиш сдался. Он погрозил мне кулаком, а я весело ему, но он, к счастью, смотрел в другую сторону. Я уже было собрался пригласить девушку к нашему столику, когда увидел, что Петер Хоф поднялся и решительно вышел из зала. Неужели он хочет оставить меня одного? Когда я подошел к нашему столу, увидел записку. Прочитал ее:«Фред! Ты так глупо ведешь себя, что я больше не могу смотреть на твои выходки! Счет оплачен. Я пошел. Петер».С досады я выпил две рюмки вина. Через четверть часа танцы закончились. Я проводил девушку с каштановыми волосами до гардероба. — Вы далеко живете? — спросил я ее. — В Рагуне, — ответила она. — Ну, тогда идите на автобус.
11
На следующее утро у меня было такое ощущение, будто я совершил очень серьезную ошибку. Вечер танцев! В самом деле, какая величайшая глупость! Как я только мог так вызывающе вести себя с Руди Эрмишем! Голова трещала, и у меня было такое предчувствие, что сегодняшний день будет не из приятных. На физзарядке и в течение тех немногих свободных минут, которые остаются до утренней поверки, Эрмиш просто не замечал меня, а когда я подходил к нему, он отворачивался. Когда мы шли в артиллерийский парк, где стояли наши пушки и гаубицы, он по-прежнему не замечал меня. В тот день по плану у нас была огневая подготовка на большом полигоне. Огневую подготовку проводил заместитель командира батареи лейтенант Бранский, невысокого роста и щуплый. Выглядел очень молодо. Он наверняка был ненамного старше меня. Свои черные как смоль волосы стриг коротко. Весна еще только вступала в свои права, а он уже успел загореть, как на юге. Насколько мне было известно, все командиры орудий, не говоря уже о рядовых артиллеристах, уважали Бранского. Поначалу я пытался объяснить это его громким и строгим голосом, но вскоре мне удалось выяснить, что молодой лейтенант снискал авторитет другими качествами: знанием дела, принципиальностью и добросовестностью. На занятиях Бранского было нелегко. Лейтенант никому не давал спуску. Я никогда не забуду одного двадцатикилометрового марша. Стояла сильная жара. После пятнадцати километров некоторые солдаты начали сдавать. Им захотелось выпить холодного кофе из фляги, но пить не разрешалось. — Солдат должен с самого начала учиться владеть собой. Он обязан стойко переносить все трудности военной службы, — не раз заявлял Бранский. Но когда офицер увидел, что некоторые солдаты пытаются тайком добраться до своих фляг, он остановил колонну. Вышел вперед, молча отстегнул свою флягу, отвернул крышку и вылил кофе на песок. Стряхнув с крышки последние капли, лейтенант сказал: — Я отменяю свой приказ. Кто хочет, может пить! — И он отвернулся. Мы молча смотрели на влажное овальное пятно на песке. Потом один за другим вслед за унтер-офицером Виденхёфтом и Петером Хофом отстегнули свои фляги и последовали примеру командира. Оставшиеся километры прошли мужественно. Да, он был таким, наш лейтенант! В раскаленном воздухе — ни ветерка. По выжженной солнцем земле впереди нас двигались тягачи первого и второго артиллерийских расчетов. Они оставляли после себя темно-коричневое облако пыли. Пыль оседала на наш тягач, на гимнастерки и снаряжение, садилась на лицо и руки. Руди Эрмиш сидел напротив меня. Он был похож на какое-то чудовище: покрытая толстым слоем пыли гимнастерка, темно-коричневое лицо. Только красные губы да белки глаз говорили о том, что передо мной сидит живой человек. Вдруг впереди подали сигнал: «Танки справа!» Занятия начались. Тягачи с гаубицами свернули влево и остановились у кустарника. Мы тотчас же спрыгнули, отцепили гаубицу, раздвинули станины и сгрузили ящики с боеприпасами. «Готов!» — доложил маленьким сигнальным флажком унтер-офицер Виденхёфт. Наша гаубица была готова к открытию огня. — Расчет третьего орудия поработал хорошо, — донесся до нас голос Бранского. — Он показал лучшее время! — И лейтенант назвал секунды, которые нам понадобились, чтобы привести гаубицу в боевое положение. — Третьему расчету за отличное выполнение нормативов пятнадцать минут перерыва! — Ну, Руди, — обратился Шлавинский к Эрмишу, — мы заслужили отдых. — Да, — ответил Руди Эрмиш. Мы бросились на траву и стали смотреть, как тренируются другие расчеты. — Смотреть хорошо, — заметил Шлавинский. — Я бы мог целый день вот так лежать и смотреть. — Хорошо, когда работа спорится, — проговорил маленький Дач. Он, казалось, совсем не устал. — Если мы будем полагаться друг на друга, она у нас всегда будет спориться, — добавил Пауль Кольбе. В разговор вмешался командир орудия унтер-офицер Виденхёфт: — После перерыва будет труднее: начнем отрабатывать взаимозаменяемость номеров расчета. И он объяснил, как мы должны действовать в случае выхода из строя одного из артиллеристов. — Справимся, — заверил Дач. Остальные в знак одобрения кивнули. Только я продолжал лежать на спине и смотреть на синее небо. Надежды маленького Дача не сбылись. Мы не справились с заданием, потому что в нашем расчете двое не терпели друг друга: Руди Эрмиш и я. Паулю Кольбе пришлось уступить свое место мне, я встал у левой станины рядом с Руди Эрмишем. Когда мы оба подняли станины на плечи, чтобы выкатить орудие на несколько метров вперед, тяжелый груз вдавился мне в плечо. Перед глазами у меня поплыли красные круги, а гул в голове усилился. Вдруг Эрмиш закричал на меня: — Послушай, держи как следует! Ты думаешь, я один потащу весь груз? Я напряг все свои силы. — Нет, вы только посмотрите! — Эрмиш с трудом перевел дыхание. — Уводить чужих девушек на танцплощадке он умеет! А здесь сачкует! — Прекратить разговоры, — приказал Виденхёфт. Кряхтя, метр за метром тащили мы по песку гаубицу. Справа и слева от меня, согнувшись, подталкивали колеса Дач и Шлавинский. Я видел их загорелые потные шеи, выцветшие гимнастерки, стоптанные сапоги, а станина тем временем все больше соскальзывала с моих плеч. Я успел заметить, как Виденхёфт подскочил ко мне, но уже было поздно! Даже Эрмиш, сильный, как медведь, не смог выдержать удвоившейся нагрузки. Он быстро отскочил в сторону, чтобы не попасть под удар станин. И все же Руди задело по лодыжке лафетом. — А все из-за этого бабника! — прорычал он и потер ушибленную ногу. — Проклятый жестянщик! — Не все такие сильные, как ты! — крикнул я. — Тогда нечего было рисоваться вчера! — И не собирался! Старый склочник!.. Тут началась словесная перепалка. — Трепач! — крикнул Эрмиш. — Крикун! — ответил я. У Виденхёфта заходили скулы. Дач с удивлением уставился на нас, Пауль Кольбе сделал несколько судорожных движений, а Шлавинский злорадно ухмылялся. Когда мы накричались до хрипоты, позади нас раздался голос Бранского: — Товарищ унтер-офицер Виденхёфт! Вы показали отличное время, но у вас в расчете плохой коллектив. После ужина мы по его приказанию собрались в нашей комнате. — Так дальше продолжаться не может, — заявил Бранский. — Какой толк от ваших показателей, если у вас нет дисциплины? С таким орудийным расчетом я не могу поехать на боевые стрельбы! Мы молчали. — Я не думал, что в моем расчете дела так плохи, — произнес унтер-офицер Виденхёфт, откидывая назад упавшие на лицо волосы. — Мне всегда казалось, что у нас полнейший порядок… — Вы мало занимались воспитанием своего коллектива, — сказал Петер Хоф (он участвовал в беседе в качестве члена бюро ССНМ батареи). Теперь очередь была за нами. — Мне никогда не нравилось, что у нас часто бывали ссоры, — сказал маленький Дач. — Мне тоже было не по себе, когда они сцеплялись, — заметил Пауль Кольбе. — Но мы же это допускали, — проговорил Шлавинский. — Все мы только смотрели. — А почему ты ничего не предпринял? — спросил Шлавинского Петер Хоф. — Считал эти ссоры их личным делом. А по совести говоря, мне было весело наблюдать за их словесной перепалкой. Эрмиш молчал. Он сидел на своей койке, широко расставив ноги, и смотрел в пол. — Я никогда не имел желания ссориться! — заметил я. — И тем не менее ты тоже виноват, — сказал Петер Хоф. — В ссоре всегда виноваты оба — и тот, кто начинает, и тот, кто позволяет втянуть себя в нее. Поэтому твоя вина не меньше! Мне хотелось возразить, но Бранский, считая беседу законченной, сказал: — Итак, товарищи, у вас нет объективных причин для ссор, поэтому рассудите все сами. Помните о моем требовании: мне нужен боеспособный орудийный расчет! Выйдя из комнаты, я остановил Петера Хофа: — Почему ты меня не поддержал? — А разве ты сам не видишь, что ты тоже неправ? — Ты так говоришь из-за вчерашнего вечера. — При чем тут вчерашний вечер?.. — Ну хорошо, — ответил я. Это «хорошо» прозвучало так: мы не можем быть друзьями, если у нас нет единого мнения. — Кстати, — Петер Хоф задумался, — мне кажется, что ты мучаешься от безделья. — Как прикажешь это понимать? — Очень просто: почти каждый из нас чем-то занят. Дач занимается в кружке гимнастов, Эрмиш тренируется в команде боксеров, Кольбе собирается петь в полковом хоре, Шлавинский записался в шахматный клуб. Только ты предпочитаешь оставаться в стороне. — Что же я должен делать? — Тебе лучше знать. Тем и кончился наш разговор. После этого мы много дней не виделись: Петер Хоф был очень занят: он замещал секретаря бюро ССНМ, потому что того неожиданно откомандировали на несколько недель на курсы, к тому же у него отнимали много времени партийные поручения, так как его недавно приняли кандидатом в члены Социалистической единой партии Германии. Однажды Петер зашел ко мне и спросил: — Фред, у тебя есть мотоцикл? — Да. «Ява-двести пятьдесят». — Значит, у тебя есть и права водителя? — Конечно. — Ты хорошо знаешь правила уличного движения? — Отметок о нарушении у меня нет. — Ну тогда прочти. — Петер протянул мне отпечатанное на машинке письмо, полученное из политехнической средней школы поселка Три Ели. Учительница Софи Вайнерт просила командование артиллерийского полка о помощи: школе нужен товарищ, который один раз в неделю вел бы кружок юных автомобилистов. — Ну? — спросил Петер Хоф. — Как раз для тебя, не так ли? — Гм… — произнес я без особого восторга. — Боишься, что не справишься? — Ладно, — ответил я, недолго думая, — давай сюда письмо. Почему не справлюсь? Да ведь и ты не отстанешь от меня!12
В следующий четверг после обеда я отправился в среднюю школу поселка Три Ели. Школа, расположенная неподалеку от кафе, представляла собой светлое здание с высокими окнами. Все в ней радовало и привлекало: бледно-розовый кирпич, приятная окраска стен, просторный, усыпанный галькой школьный двор и пышный газон вдоль дороги, ведущей к входу. К школьному двору примыкали спортплощадка и большой пришкольный участок, где росли кукуруза, рожь, овес, ячмень, пшеница различных сортов, а также овощи. На участке, в центре группы пионеров, с мотыгой в руках стояла девушка в голубом тренировочном костюме и цветастом платке. Очевидно, пионервожатая, подумал я. Она стояла ко мне спиной и показывала детям, как надо выпалывать сорняки. Я уже было собрался обратиться к девушке, как вдруг она повернулась. — Вы?.. — Смотри какой быстрый! — Девушка выпрямилась и спрятала под платок каштановую прядь. — Какая неожиданность! — В самом деле сюрприз, — сказала она. Некоторое время мы молчали: не знали, о чем говорить. Наконец девушка спросила: — Вы кого-нибудь ищете? — Да. — Кого же? — Мне нужна учительница, фрейлейн Вайнерт, Софи Вайнерт. Вы ее знаете: — Знаю. — Пожалуйста, проводите меня к ней. — А что вас интересует? — У меня к ней дело. — Ах, так!.. — Я думаю, что учить меня ей вряд ли придется. — Как знать. — Почему? — Потому что вам это необходимо хотя бы для того, чтобы усвоить правила хорошего тона. Например, как следует расставаться с девушкой после танцев, если не хотят проводить ее домой. — Ого!.. Так вот на что вы намекаете!.. Дав детям задание, она проводила меня в школу. Под ногами у нас скрипела галька. Я посмотрел на свои сапоги, потом на изящные ножки моей спутницы. — А что представляет собой фрейлейн Вайнерт? — Увидите. — Она мила? — Все зависит от вашего вкуса. — Она молода? — Да. — Это опасно! К тому же она, наверно, еще не замужем? — Разумеется. — И строгая? — Когда как. — Лучше, если бы ей было лет под сорок пять. — Но почему же? — В таких случаях, не бывает никаких осложнений. В молодую же можно влюбиться. — Разве это так страшно? — Иногда да. Мы шли по просторному вестибюлю. Перед дверью с надписью «Учительская» я остановился. Но моя провожатая, не постучавшись, вошла. Я последовал за ней. Внутри никого не было. — Не повезло, — сказал я с облегчением, — никого. — Но почему же? — Она села за письменный стол. — А я разве не в счет? — Как вы?.. — Да, я! — Вы учительница? — Да. — Фрейлейн Софи Вайнерт? — Ну да. — Ха-ха-ха!.. — рассмеялся я. — Вы шутите! — Что вам угодно? — серьезно спросила девушка. Только сейчас я осознал всю странность своего положения. Я достал письмо и протянул ей. — Значит, вы собираетесь вести у нас в школе кружок по изучению правил уличного движения? — Да, выбор пал на меня. Позвольте представиться: Беренмейер, рядовой Альфред Беренмейер. — Благодарю вас, — сказала она и мило улыбнулась. Я снова увидел на ее левой щеке ямочку. — Дело вот в чем, товарищ Беренмейер. У многих наших учеников есть мотоциклы. Пока они ездят здесь, в поселке, еще ничего. Но некоторые ездят дальше, вплоть до Рагуна и даже до районного центра. А это, при оживленном уличном движении, опасно, особенно сейчас, летом. Многие школьники не знают даже элементарных правил уличного движения. На пешеходном переходе в Рагуне из-за незнания правил чуть не произошла катастрофа. — Понимаю. — Поэтому-то я и просила помочь нам. Все наши ученики — пионеры. Вы когда-нибудь работали с пионерами? — Нет. Но сам был пионером лет пять или шесть назад. — А вы справитесь с этим поручением? — А почему бы нет? — ответил я. А что я мог еще сказать? Не срамиться же перед девушкой, которая была моложе меня. — Ну хорошо. — Она встала. — Желаю успеха. Я здесь преподаю в шестых и седьмых классах и, кроме того, пионервожатая, потому что эта должность у нас пока не занята. Я попрошу вашего командира, товарища Кернера, чтобы он по возможности отпускал вас один раз в неделю после обеда. Если вам понадобится моя помощь, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. — Спасибо. По дороге в полк я проклинал Петера Хофа, навязавшего мне такое необычное поручение.13
В следующий четверг я снова отправился в школу. Там меня ждали мальчики и девочки, всего человек пятнадцать. Софи Вайнерт представила меня членам кружка и ушла. Я достал из кармана книжечку правил движения транспорта по улицам и автострадам и, прочитав первый параграф, объяснил его. Но дети ничего не понимали. Их взгляды беспокойно переходили с одного предмета на другой. Наконец все стали следить за полетом большой мухи, влетевшей в окно и описывающей сужающиеся круги вокруг лампочки. Тут встал один малыш, толстяк в очках, и сказал: — Ох, товарищ солдат, как скучно! Я начал волноваться, однако старался держать себя в руках. — Послушайте, друзья, — начал я. — Тяжело только сегодня. В следующий раз будет легче! «Но как, черт возьми?..» — думал я про себя. В тот момент я и сам не знал. И снова я проклял все: и эту школу, и Софи Вайнерт с ее просьбой. — А что мы будем делать в следующий раз, товарищ солдат? — продолжал допытываться толстяк в очках. — Сейчас я не могу сказать вам этого, друзья. Приходите в следующий четверг — увидите. К моему ужасу, у школы меня ждала учительница. — Вы еще не ушли? — спросил я приторно любезно. — У меня был разговор с матерью одного ученика. — А-а. Я думал, как бы мне избежать излишних расспросов. Но Софи не позволила мне долго думать. — Ну как? Понравилось? — Да. — Дети очень восприимчивы. — Это верно. — Но поменьше занимайтесь с ними теорией. Побольше практических занятий. Сначала простое, потом сложное. — Но как все это осуществить? Если бы смастерить необходимые модели, тогда… — Ну и сделайте! — Нужны инструменты… — В школе есть мастерская. Вы можете ее использовать. А если вам что-нибудь понадобится, приходите ко мне. Во мне зародилась надежда. Может быть, мне все-таки попытаться в следующий четверг еще раз? Мы стояли на остановке автобуса. Софи протянула мне загорелую руку. — До свидания, — сказала девушка. — До свидания! К сожалению, к ужину мне нужно быть в городке, а то бы я проводил вас… — Ну что вы! Я ведь могу добраться на автобусе. Так, кажется, недавно мне кое-кто сказал.14
В следующий четверг на мое занятие пришли все члены кружка. Их наверняка привело ко мне любопытство, потому что на лицах у всех было написано выжидательное и в то же время требовательное «Ну?». Я послушался совета учительницы и пошел с ними в мастерскую. Там показал детям простейшие дорожные знаки. Потом достал картон, разноцветную бумагу и краски и попросил детей нарисовать, вырезать и наклеить на картон только что показанные дорожные знаки. Нескольким мальчикам, в том числе и толстяку в очках, которого звали Робертом, я показал, как из дерева можно вырезать лобзиком кружок и укрепить на нем стояк с нарисованным дорожным знаком. Это вызвало всеобщее восхищение. Роберт спросил: — Товарищ солдат, мы все дорожные знаки будем так делать? — Разумеется, если вам нравится. — Очень нравится. Вообще дети оказались очень изобретательными. Одна девочка с толстой длинной иссиня-черной косой спросила меня: — Товарищ солдат, а что, если нам построить целый город с домами, мостами и деревьями, где мы потом расставим дорожные знаки? А Роберт добавил: — И автомобили из дерева! И тогда станем изучать правила уличного движения! В душе я был благодарен детям за помощь. Когда мы выходили из школы, Софи сказала: — Сегодня у вас совсем другое настроение. А в прошлый раз я побоялась, что вы больше не придете. — У меня действительно была такая мысль, — признался я. — И что же? — Теперь я больше так не думаю. — Мы шли к автобусной остановке. — Сегодня вы опять задержались? — И так почти каждый день. — А что вы делаете вечером? — Тут, — она показала на свою корзинку, — лежит работа — восемнадцать тетрадей, восемнадцать сочинений на тему «Впечатления о посещении сельскохозяйственного кооператива «Единство» в Рагуне». Вот чем я буду заниматься сегодня вечером. — А что вы делаете, когда у вас бывает свободное время? — Занимаюсь домашними делами, читаю, слушаю музыку. Иногда хожу в кино. Мы стояли на остановке и ждали автобуса. — Вы сегодня не торопитесь? — неожиданно спросила Софи. — Сегодня нет. — У вас увольнительная? — Да. — В самом деле? — Конечно. Командир взвода дал мне увольнительную до двадцати двух часов. — Тогда вы могли бы меня проводить? — Она вопросительно посмотрела на меня. — Проводить вас? С удовольствием. — Но только сегодня, — добавила Софи, — мы пойдем другой дорогой — через лес. Я живу на окраине Рагуна. Дорога эта по длине такая же, но гораздо приятнее. Должен признаться, что приглашение Софи не только удивило, но и обрадовало меня. Когда мы шли по тенистому, пахнущему смолой сосновому бору, девушка спросила: — Как у вас идет служба? — Вам лучше спросить об этом моих командиров, — ответил я. — Это не ответ! — А что вас интересует? — Как вы сами себя оцениваете? — Я, так сказать, твердый середняк. — Выпиваете? — Нет. — А несколько недель назад на танцах? — Тогда был особый случай. Я выпил с досады. — Даже с досады нельзя пить. — Не беспокойтесь. Это больше не повторится. — У детей глаза зоркие. — Да-да… Я все понимаю. — Вы любите детей? — Конечно. — Так и должно быть! Только тот, кто действительно любит детей, может дать им что-то в жизни. Вначале расспросы Софи забавляли меня. Как на экзамене, подумал я. Но в то же время они заставили меня задуматься. — Вы, видимо, очень любите свою профессию? — спросил я. — Да. — И хотите навсегда остаться здесь? — Пока да. Я здесь всего девять месяцев. — Вот как! — удивился я. — Так вы не здесь родились? — Нет, я из Тюрингии. — Это далеко отсюда? — Почти день езды на поезде. — Вы сами захотели поехать сюда? — Мне сказали, что я здесь нужна. Скоро дорога вывела нас из леса. Мы пересекли большую, поросшую травой низину и поднялись на железнодорожную насыпь. — Вот там я живу. — Софи показала на старое серое здание. Когда-то это был трактир под названием «Железный канцлер». Мне удалось разобрать остатки букв. — Неужели община не могла предоставить вам лучшего жилья? — Ничего другого не было, — ответила Софи, — но скоро я перееду в поселок Три Ели, в дом вашего командира товарища Кернера. Там должна освободиться мансарда. — Тогда вы будете ближе к школе. Мы подошли к дому Софи. Постояли немного, наконец она сказала: — Ну пока… — Пока.15
Тем временем в нашем орудийном расчете произошли изменения: Руди Эрмиш и я перестали ссориться. На нас подействовали слова командира взвода лейтенанта Бранского. Если намечалась хотя бы небольшая ссора, тут же вступали остальные. Даже толстый Шлавинский не оставался в стороне. — Спокойно, дорогие детки, спокойно! — обычно говорил он. — Иначе придет добрый дядя Бранский и всыплет по первое число. Командир орудия унтер-офицер Виденхёфт тоже старался улучшить наши отношения. Последовав совету Петера Хофа, он стал чаще заходить к нам в комнату. Решительный сдвиг в отношениях между Руди и мной произошел в тот день, когда лейтенант Бранский отдал весьма необычный приказ. — Вы умеете плавать, товарищ Беренмейер? — спросил он меня. — Так точно, товарищ лейтенант. — Хорошо? — Сдал экзамен по спасению утопающих. — Так-так. — Бранский подошел к окну и стал смотреть на плац, где мы занимались строевой подготовкой. — А товарищ Эрмиш плавать не умеет. — Я этого не знал, товарищ лейтенант. — Но теперь вы знаете. — Так точно. Я начал догадываться, к чему клонит лейтенант. И не ошибся. — Товарищ Беренмейер, вы сможете научить товарища Эрмиша плавать? — Конечно, но… — Что «но»? — Товарищ лейтенант, вам ведь известны наши отношения с товарищем Эрмишем… — И вы ставите личные отношения выше служебных? Я молчал. — Мы не можем мириться с тем, что у нас в батарее есть товарищи, которые не умеют плавать. Таких у нас почти двадцать процентов. Значит, при форсировании даже небольшой водной преграды мы потеряем пятую часть нашего подразделения. Вы представляете? — Да. — Итак, решено. Вы, не откладывая, начнете обучать товарища Эрмиша плаванию на реке Рандов два раза в неделю. — А если товарищ Эрмиш не захочет, чтобы я его учил? — Об этом позабочусь я. Конечно, выполнить такое задание мог бы и кто-нибудь другой, например Шлавинский или Пауль Кольбе. Но я понимал, почему командир взвода выбрал меня. И он, кажется, не ошибся в своем выборе. Каждую среду и пятницу мы оба, Руди Эрмиш и я, после занятий отправлялись на речку. Поначалу мы больше молчали. Потом стали разговорчивее. В одну из пятниц, когда мы, добросовестно потрудившись, шли домой, я спросил Эрмиша: — Скажи, Руди, нужны были все эти ссоры? — Нет, — ответил он. — Почему же ты на меня напустился, когда я с вещами первый раз вошел в комнату? — У меня тогда было плохое настроение. — А позже? — Тоже… — Какая же муха тебя все время кусала? — Теперь все это позади. — Руди махнул рукой. — Давай, Руди, больше не ссориться. Эрмиш в знак согласия кивнул. Однако в следующую среду Эрмиш потребовал от меня объяснений. — Послушай, Фред, ты ходишь с Малышкой? — Он всех девушек называл малышками. — Ты имеешь в виду ту девушку с каштановыми волосами? — Да, именно ее, учительницу. — А откуда тебе известно, что она учительница? — Я же нахожусь здесь дольше, чем ты. — Руди, ты с ней встречался? Он отрицательно покачал головой. — Но вы знакомы? — Нет. — Будь откровенным, Руди! — Честно! Я с ней ни разу не говорил. — А она тебя знает? — Тоже нет. — Тогда почему ты о ней спрашиваешь? — Просто так… В какой-то момент мне показалось, что Руди неприятен дальнейший разговор о Софи. Чтобы кончить его, я сказал: — Во всяком случае, я за ней не ухаживаю. — Да ну? — усомнился Эрмиш. — Но ведь ты каждую неделю бываешь в школе. Вы наверняка потом остаетесь. Ведь ты берешь увольнительную именно по четвергам. Тебе она нравится? — Да, но, поверь мне, между нами ничего не было. Больше мы о ней не говорили.16
Между тем проходили недели. Работа с детьми в политехнической средней школе поселка Три Ели медленно продвигалась вперед. Мы уже начали делать из дерева, картона и бумаги маленькие домики, мосты, гаражи, вокзалы и крошечные уличные фонари. Старая, пришедшая в негодность классная доска, которую мы с помощью Софи нашли на территории школы, послужила нам основанием, на котором мы сначала обозначили мелом улицы, железнодорожные пути и каналы, а затем каждый раз строили новый маленький город. Мы тренировались в разводке транспорта из самых различных положений. Я никогда не думал, что дети так заинтересуются этой игрой. Так проходили наши четверги. Софи тоже замечала наши успехи. Однажды, когда я провожал ее домой, она сказала: — Фред, на переменах дети говорят о тебе с восхищением. — Да? Кто же именно? — Ну, Карин… — А! Малышка с черными как смоль косами? — Да, она. И еще Роберт. — Очень сообразительный парнишка. Я задаю ему самые замысловатые задачи — и он со всеми справляется. — Роберт весь в отца. Тот такой же умница. — А кто его отец? — заинтересовался я. — Мальчика зовут Роберт Кернер. Кто же может быть его отцом? — Капитан Кернер, командир нашей батареи? — Он самый. Он интересуется всеми делами школы и состоит в родительском совете. Я нисколько не удивилась, когда он недавно поинтересовался, как у тебя идет работа в школе. — Ну и пусть, — весело сказал я. — Пусть даже приходит на занятия кружка. Возможно, он нам поможет. Нам хотелось бы на школьном дворе построить уголок уличного движения. По моим расчетам, мы могли бы начать работу недели через две. — Но Фред… Ведь скоро начинаются летние каникулы. — Когда же? — Школа закроется через две недели. — Ах так… — Да, Фред, тебе придется на полтора месяца прервать работу в кружке. — А ты, что ты будешь делать во время каникул? — Поеду со своим классом в летний лагерь на Балтийское море. Потом собиралась дней на десять съездить к родителям. А там снова нужно готовиться к занятиям…Каникулы наступили. Мы стояли перед домом Софи. Я протянул девушке руку, чтобы попрощаться. — Я хотела пригласить тебя к себе, Фред… — неожиданно проговорила Софи. — Это правда? — Да, — подтвердила она. — Мы хорошо поработали эти два месяца. — И ты решила пригласить меня к себе? — Если хочешь. — С удовольствием, Софи. — И я пошел за ней. Софи жила под самой крышей, в квадратной комнатушке с низким потолком. Из окна были видны железнодорожная насыпь, большая, поросшая травой низина и темный сосновый лес. Комната была обставлена скромно. Старый гардероб, по форме напоминающий ящик, тяжелый стол, два разных стула, допотопный радиоприемник. Новыми были только широкая кушетка и две книжные полки, одна из которых стояла у окна, а вторая висела на стене. Над кушеткой был портрет молодой красивой девушки. — Тебе нравится этот портрет? — спросила Софи. — Очень. Эта девушка не похожа на тебя, но я, глядя на нее, почему-то думал о тебе. — Почему? — Вероятно, потому, что она такая же самоуверенная, умная и… красивая. Софи порозовела. Потом вдруг открыла шкаф, достала новую скатерть и постелила ее. На столе появились цветы и два прибора. На стуле рядом с дверью дружелюбно шумел чайник. Пока она молола кофе, я разглядывал книги. Их было много. Здесь были книги немецких, русских, английских, французских и американских авторов. Я подошел к окну и сказал: — У тебя очень уютно. — Конечно, — Софи отставила мельницу в сторону, — у комнатушки есть своя прелесть: она такая уединенная. Приятно, когда идет дождь и капли стучат по крыше. Только она протекает, вот посмотри. — Она показала на большое пятно на потолке, как раз над нами. — Да и мебель здесь не в моем вкусе, — продолжала Софи, — как перееду, куплю собственную. Кроме кушетки, книжных полок и картины, все не мое. — Она нарезала хлеб, сделала бутерброды, а мне поручила открыть банку сардин. — И с водой, — заметила она, — мучение. За каждой каплей нужно бежать вниз, к колонке. А прошлой зимой она замерзла, и мне пришлось ходить к другой колонке, метров за двести. Раздался свисток вечернего поезда. Пыхтя, он промчался мимо. Мы сидели на кушетке, так как стол оказался мал и тарелки пришлось поставить на стулья. Когда мы поужинали, на столе появились две рюмки и бутылка токайского. Из старомодного приемника лилась музыка. Софи достала альбом, и мы стали смотреть фотографии. С одной из фотографий на меня смотрела худенькая девочка. Тоненькие ножки в деревянных башмачках, косички, как крысиные хвостики, короткое платьице, в руках дешевая матерчатая кукла. — Неужели это ты, Софи? — Да, Фред, это я. В день рождения. Мне как раз исполнилось пять лет. Через год после войны. — Ты здесь совсем не похожа на себя. — Что же тут удивительного? Нам тогда приходилось туго. Дом наш разбомбили, и мы скитались по чужим углам. Мама и я. Отец в то время лежал в больнице. — Он был на войне? — Нет. — Но ведь он был ранен? — Не там, Фред. Нацисты сослали его на каторгу, а потом отправили в концентрационный лагерь. Я умолк, устыдившись своего любопытства. Потом тихо спросил: — А как у него сейчас со здоровьем? — Сейчас он более или менее здоров. Ты увидишь его на поздних фотографиях. Перед моими глазами проходила вся жизнь Софи: Софи с длинными волосами в пионерской форме вместе с другими пионерами у ручной тележки во время сбора макулатуры; Софи в синей форме члена ССНМ на майской демонстрации; Софи в комбинезоне на восстановительных работах после войны; Софи в купальном костюме среди детей на побережье Балтийского моря; Софи на курсах районной партийной школы… — Тебе не надоело смотреть? — Что ты… На одной фотографии я увидел Софи с седым мужчиной у красивой черной машины. — Твой отец? — спросил я. Она кивнула. — А сзади ваша машина? — Да. «Татра». Мы тогда только вернулись из Праги. — Отличная машина. Кем работает твой отец? — Он партийный работник. — Что же он сказал, когда ты решила поехать сюда, в захолустье? — Ничего не сказал. Он только погладил меня по голове и улыбнулся. Мне бросилось в глаза, что на более поздних фотографиях, когда Софи была уже студенткой, все время мелькала фигура молодого интересного мужчины. Мне уже давно хотелось спросить, кто он, но я сдерживался. Однако Софи, казалось, угадала мои мысли. — Почему ты вдруг притих, Фред? — Так… — Ты имеешь в виду его? — И Софи показала на молодого мужчину. — Да. — Это глупая, давно забытая история. — Тебе он нравился? — Да, Фред. У меня начали гореть уши. Я уже собрался листать дальше, когда Софи еще раз показала на фотографию и сказала: — Математик. У него была необыкновенная память, и все экзамены он сдавал только на «отлично». А теорию марксизма знал лучше преподавателей. К тому же умел показать себя в выгодном свете… — А потом? — Потом? Он был хитрым, но не умным. Скоро я увидела, что он ведет двойную жизнь: на занятиях и собраниях он один, а со мной — другой. Когда мы оставались одни, он часто говорил мне, что мы — он имел в виду немцев из ГДР — слишком односторонни, догматичны, что у нас мало интернационализма, что нам нужно больше ориентироваться на Запад. Вначале я думала, что это скоро пройдет. Но однажды он исчез. Ушел на ту сторону. Долгое время я ничего о нем не слышала. Потом, несколько месяцев спустя, он написал мне, что у него все хорошо, при случае он продолжит учебу, а пока работает в Дюссельдорфе на почте, надеется получить лучшую работу, а мне следует, не задумываясь, ехать к нему. — И ты не поехала, Софи? — Как я могла, Фред! Мне пришлось бы отказаться от всего: от родителей, от родины! — Софи, ты изумительна. Вначале я думал, что самое прекрасное у тебя — волосы. Но твоя настоящая красота в другом — в тебе самой! Софи покраснела и улыбнулась. — Как ты красиво говоришь, Фред! — Я должен тебе сказать, Софи… Стемнело. Был десятый час. За окном тащился товарный поезд. Софи посмотрела на часы. — Бог мой! Фред, тебе пора. — Софи, мы провели чудесный вечер. — Я рада, Фред. — Но полтора месяца — долгий срок… — Я напишу тебе. — Правда? — Да, Фред. Мы стояли друг против друга. Вдруг — не знаю, откуда у меня взялась смелость, — я прижал Софи к себе, погладил ее волосы и поцеловал в лоб. Потом вышел.
17
На следующий день, в пятницу, на занятиях по установке и извлечению противопехотных мин я все делал неправильно. Установив мину, я или оставлял много земли — заметный бугорок, или плохо маскировал место установки мины. Но если бы только это! К тому же неосторожно обращался со взрывателем. Шлавинский съязвил: — Это была последняя ошибка Беренмейера! Унтер-офицер Виденхёфт проявлял неистощимое терпение: — Следите за каждым моим движением, товарищ Беренмейер! Вытянувшись на песке, он вырыл малой лопатой прямоугольную яму, положил туда мину, осторожно ввинтил учебный взрыватель, все тщательно засыпал землей и замаскировал. — Видели, как нужно делать? Я кивнул. — Вопросы есть? — Нет. — Тогда попытайтесь еще раз, совершенно самостоятельно, но без ошибок. Но Виденхёфт понапрасну усердствовал. У меня все равно ничего не получалось. А Шлавинский снова сострил: — Это была самая последняя ошибка Беренмейера! В конце концов Виденхёфт начал терять терпение: — Да что с вами в самом деле? Куда делась ваша ловкость? Я опустил голову. — С вами определенно что-то стряслось! — Нет, нет… у меня все в порядке. Но Виденхёфт был прав. Я все время думал о Софи. Неужели я полюбил ее? А она меня? Я попытался убедить себя, что никакой любви нет, между нами дружба, всего лишь дружба. Но все меньше и меньше верил в это. Со временем я успокоился. Софи обещала написать мне, и обязательно напишет. Ее первое письмо скажет обо всем.18
В середине августа все ждали приезда командира дивизии генерал-майора Вернера. Он должен был инспектировать наш полк. Вернер прибыл около девяти часов утра (мы даже не знали об этом) и сразу же направился в один из дивизионов, где до двенадцати часов проверял боевую подготовку батарей. Незадолго до обеда, когда мы уже перестали надеяться, что генерал зайдет к нам, стало известно, что он все-таки собирается прибыть в нашу батарею. И тут началось! Я, как и всегда, чистил окна, а Дач и Шлавинский натирали пол. — Поторопитесь, товарищи! В нашем распоряжении остается один час! — воскликнул Дач, чтобы привлечь к себе внимание. И правда, все посмотрели на него: Шлавинский, Пауль Кольбе, только что вошедший с пустой урной, и Руди Эрмиш, который мыл кафельную печь. Пока мы смеялись, вошел батарейный писарь и крикнул: — Почта! — Давай сюда! — крикнул Эрмиш и выхватил у него из рук пачку писем и небольшой пакетик. Начал раздавать: — Тебе, Пауль, конечно, от матери. Тебе, Шлавинский. Мне. Да, толстяк, тебе еще одно. Тебе, Малыш, одно и плюс пакетик. Все! Мне и на этот раз ничего не было. Вот уже три недели ни слова от Софи! Пауль Кольбе, когда читал, всегда шевелил губами. Он наверняка получил письмо от жены, которая писала ему два раза в неделю. «Дорогой Пауль и папочка!» — так начиналось каждое письмо. Иногда отдельные отрывки он зачитывал нам вслух, особенно если в них сообщалосьчто-нибудь интересное о его трехлетней дочурке. Я ожесточенно тер стекло. Вдруг батарейный писарь крикнул мне: — Эй, Беренмейер! Тебе тоже письмо! — Что же ты молчал? — Я спрыгнул с подоконника. — Давай его сюда! — Мне его не дали, — ответил писарь. — Оно такое толстое, к тому же доплатное. Я бы заплатил за тебя, но у меня с собой не было денег. — Эх и задал бы я тебе! — вырвалось у меня. — Ты не можешь себе представить, как я уговаривал эту мелочную душонку за окошком. И ты думаешь, он дал мне письмо? Ничего подобного. А ведь он хорошо меня знает: я каждый день бываю на почте. Я быстро натянул гимнастерку и бросился к двери. — Ты на почту? — спросил Руди Эрмиш. — Само собой. Не ждать же мне до понедельника! — Тогда спеши. Окна мы за тебя вымоем, но помни, еще нужно вымыть противогазы. На почте мне не повезло: там было полно народу. У окошка стояло человек двадцать. Я попытался было протиснуться вперед, но кто-то сзади взял меня за руку и сказал: — Становись в очередь, как все. — Мне нужно только взять. — Каждый может так сказать. Но я все же добрался до окошка. За ним виднелась лысая голова пожилого мужчины, который без конца снимал и надевал свои очки с толстыми стеклами. Когда я обратился к нему, он проворчал: — Соблюдайте порядок, молодой человек. Здесь всем что-то надо. Вставайте в очередь. Взбешённый, я встал в очередь. Через четверть часа прошло только десять человек. Я уже собрался уходить, но тут один солдат, стоявший рядом с окошком, сказал: — Давай квитанцию, товарищ. Зачем тебе из-за пустяка так долго ждать. Я поблагодарил его. Письмо было от Софи. Я побежал мимо огромного прямоугольного плаца и устремился в казарму. Прошло уже более получаса. Может, генерал запоздает, подумал я. Открыв дверь комнаты, я отпрянул. Вокруг стола сидел наш расчет. И унтер-офицер Виденхёфт был здесь. А в центре на табуретке сидел коренастый широкоплечий седой мужчина с морщинистым лицом и темными внимательными глазами — генерал. Я робко доложил. Генерал промолвил: — Садитесь, товарищ рядовой! Я спрятался за широкой спиной Руди Эрмиша. Так вот как выглядит генерал, думал я, тайком разглядывая его позолоченные, с большой звездой погоны, ярко-красные петлицы, широкие лампасы на брюках. Речь шла о выполнении распорядка дня. Шлавинский по знаку генерала продолжал: — В первые дни нам, новичкам, приходилось нелегко — утренняя зарядка, большая нагрузка на занятиях. Я, например, к этому не привык, товарищ генерал, так как до призыва работал на почте. — А теперь справляетесь? — спросил генерал. — В какой-то мере да, — ответил Шлавинский. — Вероятно, потому, что за последнее время потерял целых четыре килограмма. Лишнего жира больше нет! Все засмеялись, а генерал усмехнулся. — Я был немного разочарован, — заявил маленький Дач. — Представлял себе армию иначе. — Да? — спросил генерал. — А как именно? — Когда меня призывали, я думал, что в артиллерии будут лошади. Старый служитель зоопарка рассказывал мне о конной артиллерии. Но ее уже нет. Нигде ни одной лошади. Одни грузовики и гусеничные тягачи для орудий. Я бы с удовольствием работал с лошадьми… — Вы, вероятно, до призыва ухаживали за животными? — Так точно, товарищ генерал! — Тогда я должен вас разочаровать, товарищ рядовой, — заметил генерал. — Что бы мы сделали в наши дни в боевых частях с лошадьми? Лошади слишком медлительны. Кроме того, они требуют большого ухода. Нет, лучше полагаться на нашу технику — на тягачи. Они быстрее, мощнее. — А вы знаете лошадей? — спросил генерала Руди Эрмиш. — Раньше мне часто приходилось иметь с ними дело, — пояснил генерал. — Значит, вы были крестьянином или работали в сельском хозяйстве? — Нет, — ответил генерал. — Я был кузнецом. Сельским кузнецом. — Так мы почти коллеги, — оживился Руди Эрмиш, — и я кузнец, работал в МТС. Ремонтировал тракторы и сельскохозяйственные машины. Иногда имел дело с лошадьми — когда нужно было выковать или подобрать подкову. — Я когда-то тоже умел подковывать лошадей. Но это было давно, — признался генерал. — Почти тридцать лет назад. Вот вы станете хорошими солдатами, а после службы вернетесь к своей работе. — Стараемся изо всех сил, — вставил маленький Дач. — И есть успехи? — Огромные! — Вы рационально используете каждый час занятий? — Так точно! — Занимаетесь строго по плану? — Мы занимаемся только по плану, — доложил унтер-офицер Виденхёфт. — А в нормативы укладываетесь? — Почти всегда, товарищ генерал! — Товарищ Виденхёфт, а вы мне не рассказываете сказки? — спросил генерал. — Никак нет. — А если я проверю ваш расчет? — Мы готовы в любое время, товарищ генерал! — Отлично, товарищ Виденхёфт, так, может, сейчас и приступим? — Пожалуйста, товарищ генерал. Я начал волноваться. Остальные тоже притихли. Не слишком ли дерзким было заявление нашего унтер-офицера? Генерал приказал: — Постройте расчет с противогазами здесь, у стола. Мы бросились к пирамидам и достали брезентовые сумки с противогазами, перчатки, прорезиненные чулки и плащ-палатки. Через мгновение мы построились. — Я проверю надевание противогазов в каске и без каски, — сказал генерал и посмотрел на часы с секундомером. Внезапно он скомандовал: — Газы! Нам понадобилось всего несколько секунд, чтобы вытащить и надеть на себя маски. Время, по-видимому, было отличное, так как генерал улыбнулся и сказал: — Я доволен. Тот малыш, — он показал на Дача, — уложился даже за семь секунд. Проверка продолжалась: замена коробки, задержка дыхания и другие приемы… — В самом деле, — признался генерал, — вы укладываетесь в нормативы. — Затем он обратился к командиру отделения: — Вы хорошо обучили солдат, товарищ Виденхёфт. А за противогазами солдаты следят? Они в удовлетворительном состоянии? — Так точно, товарищ генерал! Мы должны были по очереди подойти к генералу с вывернутой маской в руках. Я был третьим после Руда Эрмиша. Когда я подходил, у меня дрожали колени. Дело в том, что после утренних занятий моя маска осталась грязной. К тому же на клапане образовалось пятно ржавчины величиной с горошину. Но ничего не случилось, генерал пропустил меня. — Я вами доволен, товарищи, — сказал генерал. — Надеюсь, вы не разочаруете меня и на маневрах. Во всяком случае, я постараюсь обратить на вас внимание, когда ваш полк будет вести огонь. Третий выстрел первой батареи будет произведен из вашего орудия. Итак, до встречи на маневрах. Желаю успеха! — У двери он на мгновение задержался, как бы что-то припоминая. Вдруг, кивнув в мою сторону, добавил: — Вам, товарищ рядовой, нужно почистить свою маску, она у вас грязная. Да и пятно ржавчины на клапане не делает вам чести. Вот, пожалуй, единственная претензия к вашему расчету. До свидания, товарищи! Первым нарушил молчание Шлавинский: — Беренмейер не может без того, чтобы не отличиться. Унтер-офицер Виденхёфт, проверив мою маску, потребовал объяснений. Когда я рассказал ему про историю с письмом, он сердито сказал: — Я недоволен вашим поведением, товарищ Беренмейер. — Долг прежде всего! И с этими словами он отошел от меня.19
Письмо Софи на шестнадцати страницах. Она писала о лагере, о красоте острова Рюген, о чудесной погоде и о детях. Она рассказывала о веселых происшествиях, о романтике лагерной жизни, как заправский репортер. После отдыха с детьми она, к сожалению, должна ехать на курсы, читал я дальше. А оставшиеся две недели собирается провести у родителей в Тюрингии. Ей хотелось немного отдохнуть, почитать, походить в театр и на концерты… Я несколько раз перечитывал письмо в надежде найти хотя бы намек на симпатию, но каждый раз, дочитав письмо до конца, где стояло скромное «Софи», я убеждался, что надеялся напрасно. После письма Софи я много дней не находил себе места. «А чего ты ждал, — спрашивал я себя, — уж не вообразил ли ты, что она объяснится тебе в любви? С какой стати? Она учительница, любящая свою профессию, а ты солдат, случайно попавший в ее школу; там вы познакомились, подружились… Значит, только дружба?» Я ответил ей довольно сухо. И мое письмо не было таким длинным. С того времени я стал очень молчаливым. Однажды меня встретил Петер Хоф. Он все еще замещал секретаря ССНМ нашей батареи, поэтому в последнее время мы встречались очень редко. — Через три недели опять начнется, — сказал мне Петер. — Ты имеешь в виду занятия в школе? — Да. — Я с нетерпением жду того дня, когда наконец смогу снова работать с детьми, — ответил я. — Капитан Кернер на последнем совещании партгруппы отметил твою работу в школе. — Петер Хоф немного помолчал, потом вдруг сказал: — Бюро ССНМ отменило прежнее решение о твоей работе в школе. — Что?! — воскликнул я. — Вы меня туда больше не пустите? Петер Хоф рассмеялся. — Ну что ты надо мной потешаешься! — напустился я на него. — Так и знай: если вы меня больше не пустите к детям, я сам буду ходить в школу каждый четверг вечером. Если понадобится, использую увольнительную и даже отпуск! — Напрасно волнуешься. — Да?.. — спросил я недоверчиво. — А что вы задумали? — Мы решили расширить твои обязанности: ты будешь осуществлять связь между Народной армией и всей средней школой поселка Три Ели. Согласен? — Согласен, — сказал я, приходя в себя, — если справлюсь. — Попробуй. А если будет нужна помощь, приходи ко мне. Но ты, конечно, и сам справишься, хотя ответственности будет больше. Ты станешь, так сказать, почетным пионервожатым школы. Это известие ободрило меня, и я уже начал потихоньку строить планы, как начать работу. В заключение Петер Хоф сказал: — Фред, одно небольшое замечание: у тебя со службой не все в порядке. Унтер-офицер Виденхёфт, как командир орудия, отчитывался о работе на партгруппе. Часто упоминал твое имя. По его словам, ты стал заниматься ниже своих возможностей… — Немного есть. Просто цепь глупых случайностей. — Я так и думал. Но все же постарайся взять себя в руки. Итак, мне осталось ждать случая, где я мог бы проявить себя. И через несколько дней после разговора с Петером Хофом такой случай представился. Нам предстояли ночные занятия. Примерно в полночь нас посадили в закрытый грузовик. Какое-то время, минут сорок пять, мы куда-то ехали, сворачивая то налево, то направо. Когда грузовик остановился и нам приказали сойти, мы оказались в глухом лесу. Ночь была теплая и очень темная — хоть глаз выколи. Сложив вещевые мешки и автоматы под деревом, мы легли на траву и стали ждать другие отделения, которые вот-вот должны были подъехать. — Сумеем ли мы отсюда выйти? — услышал я голос Пауля Кольбе. — Мы же не в дремучем лесу, — возразил я, — как-нибудь найдем дорогу. — Но, надеюсь, ту, что нужно, дорогой Беренмейер, — издевался Шлавинский. — Во всяком случае, я вряд ли доверился бы тебе. — Пока мы ехали, я, глядя в щелку брезента, старался запомнить дорогу, но мы так часто поворачивали, что скоро я перестал ориентироваться, — заметил Дач. — Товарищ унтер-офицер, а вы догадываетесь, куда нас привезли? — спросил Руди Эрмиш. — Нет, — ответил унтер-офицер Виденхёфт. — Я тоже не знаю, где мы находимся. — В каком же направлении нам двигаться? — произнес Пауль Кольбе. — Думаю, в том. — Руди Эрмиш посветил карманным фонариком в направлении, куда уехал доставивший нас грузовик, чтобы привезти остальные расчеты. — Будем держаться правее, — объявил унтер-офицер Виденхёфт. Я видел, как он осветил свой компас. Несколько секунд все молчали. — Да, правее, на северо-восток! — Но почему именно на северо-восток? — спросил Дач. — Здесь очень сухо и, кроме того, густой лес. Такая местность может быть расположена южнее и западнее нашего городка; дальше будет болото, а за ним — граница и побережье. Мне стала ясна цель ночных занятий: мы представляли собой разведывательную группу, выполнившую особое задание в тылу противника и возвращающуюся к своим войскам — в городок Три Ели. Каждый расчет выступал самостоятельно с интервалом в десять минут. Я лег на спину и стал смотреть вверх. На небе — ни звездочки, ни облака. Даже кроны сосен были неразличимы. — А на звездах живут люди? — спросил вдруг Дач. — Не думаю, — ответил Пауль Кольбе. — А на планетах? — Вряд ли. — А почему? — Я не знаю. — Слетай туда, Малыш, — вмешался Шлавинский. — Мне бы очень хотелось, — мечтательно произнес Дач, — хотя бы один раз. Это моя самая заветная мечта. — Тогда тебе надо было стать космонавтом. — Возможно, я еще им стану. Меня могли бы взять: я маленький и натренированный. — Но тебе, Малыш, придется долго ждать. — Это, верно. Наверняка пройдут годы, прежде чем наши ученые построят космический корабль для полетов на Марс и Венеру. Но тогда я буду слишком стар. Вот если бы я жил в Советском Союзе, тогда еще можно было бы надеяться. — Успокойся, Малыш, — утешал его Руди Эрмиш, — может быть, тебе еще улыбнется счастье. В наше время все так быстро меняется. — Третий расчет, на старт! — скомандовал Бранский. Мы вскочили. Унтер-офицер Виденхёфт доложил о готовности к маршу. Пока мы, готовясь к маршу, разбирали вещевые мешки и оружие, Бранский дал нам последние указания: — Засчитывается не только время, в которое вы уложитесь, но и то, прибудет ли отделение в полном составе. Мы выступили. Стало чуть светлее. Я смог различить очертания бегущих: впереди всех унтер-офицер Виденхёфт, за ним Пауль Кольбе, потом Дач и Шлавинский, замыкали строй Эрмиш и я. Через полкилометра дорога пропала. Почва под сапогами стала мягкой. Сухой кустарник хлестал по ногам. Однако примерно через полкилометра мы не смогли идти дальше: перед нами стоял густой молодняк. — Проклятие! — выругался Эрмиш. — Давайте посветим на землю, — предложил Шлавинский, — может, обнаружим следы других отделений, которые ушли раньше нас. — Отпадает, — произнес Пауль Кольбе. Подумав, Виденхёфт приказал свернуть влево. Обходить мелколесье пришлось довольно долго. Мы заволновались. — Надеюсь, мы не заблудились, — робко сказал Дач. — Когда-нибудь выйдем на дорогу или даже к деревне, — утешил я его. — А может быть, даже встретим человека в фуражке с надписью «Справка», как на Восточном вокзале в Берлине, — сострил Шлавинский. Я сделал вид, что не слышал. Наконец мы снова вышли на прежнее направление. Но дороги все еще не было. Только кустарник да вереск под ногами. К тому же местность была неровной: канавы, ямы, пни. Внезапно мы очутились у реки. Виденхёфт осветил другой берег. — Метров двенадцать ширины, — заявил он. — Не Рандов ли это? — полюбопытствовал Руди Эрмиш. — Возможно. — Что значит «возможно»? Конечно, Рандов! — выпалил я. — Не шуми, — вставил Шлавинский. — Ты еще сам убедишься! — Рандов или нет — в любом, случае нам надо перебираться на ту сторону, — прервал нашу перепалку унтер-офицер. — Пойдемте направо вдоль берега, — предложил Шлавинский, — и мы обязательно доберемся до какого-нибудь моста. — А вдруг моста не будет? — спросил Пауль Кольбе. — Кто знает, сколько до него идти! — Давайте переплывем, — предложил я. Виденхёфт был того же мнения. — Измерьте глубину реки, — приказал он мне. Я быстро разделся и влез в воду. Она была теплая, как парное молоко. Через три метра мне было по грудь, а еще через два пришлось плыть. На середине реки я достал дно и поднял руки. Вода доходила мне до локтей. — Придется переправляться вплавь! — крикнул я. Когда мы связали вещи в узлы с автоматами сверху, я спросил Эрмиша: — Ну как, переплывешь? — Наверно, — нерешительно произнес он. — Мы же тренировались с тобой. — Ты на себя надеешься? Я могу тебе помочь. — Я справлюсь, Фред, вот только вещи… — Вещи, Руди, возьму я, сплаваю два раза. — А ты не устанешь? — Не волнуйся. Беренмейер плавает, как лягушка, — с усмешкой проговорил Шлавинский. — Оставь свои шутки! — возмутился я. Дальше мы шли по полю, потом по холмистой, заросшей кустарником местности. Уже можно было отчетливо различить деревья и лица товарищей. Я посмотрел на часы: было без десяти минут четыре. — Нам осталось час десять минут! — воскликнул я. Снова пошел густой лес. Обойти его было нельзя. Пришлось пробиваться. Просека. Мы сделали привал. — Рядовой Дач, за мной, — приказал Виденхёфт, и оба пошли отыскивать дорогу. Начало светать. Мы передохнули. Когда я встал, увидел вдалеке высоковольтную линию. Не та ли это линия, которая проходит под Рагуном, пересекая заросшую травой низину у дома Софи? Конечно, это она! — Нам нужно идти вдоль высоковольтной линии. Она ведет прямо в Рагун. Перед Рагуном можно свернуть вправо на проселочную дорогу, ведущую в поселок Три Ели. — Подождем, что скажет командир орудия, — заметил Пауль Кольбе. — Он наверняка согласится со мной, — ответил я. Но Виденхёфт решил иначе. Вернулся маленький Дач. Он указал направление, которое расходилось с моим по крайней мере на девяносто градусов. Произошло то, чего я боялся больше всего: Шлавинский стал громко смеяться! — Ну, ты, хитрец, что скажешь? — Он продолжал смеяться. — Перестань! — возмутился я. — Ах ты… — произнес Шлавинский. — А я ведь верно говорил: в таких делах тебе доверять нельзя. — А если я прав? — Хочешь быть умнее нашего унтер-офицера? — Он тоже может ошибаться! — Прежде чем он ошибется один раз, ты ошибешься десять раз. — Ну пошли, товарищи. Унтер-офицер Виденхёфт ждет нас, — торопил Дач. — Какая ерунда, — возразил я. — Только из-за того, что так хочет командир орудия, мы должны идти не в ту сторону. — Заткни глотку, и пошли, — строго сказал Руди Эрмиш. — В конце концов, приказ не обсуждается, а выполняется. — Все равно ерунда! — не успокаивался я. — Лгун… — издевался Шлавинский. — Замолчи! — в бешенстве крикнул я. Но Шлавинский не унимался: — Беренмейер хочет рассказать нам новую сказку! Ха-ха-ха!.. — Ну, с меня хватит! — взорвался я. — Вы еще увидите, кто из нас прав! — С этими словами я вышел из строя. — Фред, не делай глупостей! — пригрозил Руди Эрмиш. А Дач все торопил: — Быстрее, товарищи. Я отошел на несколько шагов в сторону. — Остановись! — закричал Руди Эрмиш. — Нет! — Ты вернешься! — И не подумаю, — ответил я и побежал. — Фред! — закричал и Пауль Кольбе. Но я уже бежал к первой высоковольтной мачте. — Фре-ед! — Будьте здоровы! — прокричал я в ответ. — У входа в городок я вас подожду! «…Подожду!..» — вторил мне лес. Я остался один. И в ту же минуту мне стало не по себе. Я зашагал по просеке, не отходя от высоковольтной линии. Примерно через километр мачты повернули на юг, туда, откуда мы пришли. Не долго думая, я стал держаться севернее. Пришлось продираться сквозь чащу леса. Мне приходилось вытягивать руки вперед, чтобы не пораниться о сухие сучья и ветви. За лесом должна быть проселочная дорога, подбадривал я себя. Но вместо дороги появилась новая просека. За ней лес! Может быть, мне теперь повезет? Снова просека. Я пыхтел и задыхался. У меня оставалось сорок минут. Я шел все быстрее. Потом побежал. Вещевой мешок давил все сильнее, ремень автомата больно резал плечо. Вперед и только вперед! Неожиданно я очутился перед черным озером. Дальше хода не было, только в обход! Озеро было большое, и я слишком поздно заметил его. Сапоги все больше и больше уходили в трясину. Следы быстро наполнялись черной пахучей водой. Ноги у меня давно промокли. Ко всему прочему я упал. Прошло больше часа, прежде чем мне после долгих блужданий удалось добраться до проселочной дороги, ведущей из Рагуна в поселок Три Ели. В пять минут седьмого я проскользнул через ворота городка. Часовые у обитых железом ворот улыбнулись, что означало: «Проходи. Нам все известно». Перед казармой на физзарядку были выстроены батареи полка. Все с интересом смотрели на меня. Вдруг один из солдат сказал: — Смотрите! Вот идет последний переселенец! Раздался громкий смех. — До чего же он грязный, — сказал кто-то с сочувствием. — А откуда он? — Из первой батареи. У них сегодня были ночные занятия. — Я узнал его, — раздался чей-то звонкий голос. — Это же Беренмейер из третьего расчета! — Как, он?.. — Да! — В самом деле он! Я его не сразу узнал: у него даже лицо в грязи. — Мне кажется, он проходил с нами курс молодого солдата, — сказал кто-то. — Да. — Теперь и я его узнал. Он, как мне помнится, всегда был хвастуном. — Бедняга, мне его жаль. — Теперь ему достанется. Мне бы не хотелось оказаться на его месте. От стыда я готов был провалиться сквозь землю. В нашей батарее царила тишина. Все уже давно спали. Я хотел незаметно проскользнуть в комнату, но кто-то сзади окликнул меня — дежурный по батарее. — Рядовой Беренмейер! Сейчас же идите в комнату просветработы! — приказал он. Там меня ждал унтер-офицер Виденхёфт. Он был еще в полном снаряжении и выглядел усталым. Когда я попытался доложить ему о случившемся, он махнул рукой и тихо сказал: — Идите спать, рядовой Беренмейер! «Этот случай мне так не пройдет», — подумал я и вышел на плац.20
В тот же день после обеда, почистив оружие, я отправился к командиру батареи капитану Кернеру. Робко постучавшись, вошел. На большом прямоугольном столе перед капитаном лежали блокноты, графики, логарифмические таблицы, миллиметровая бумага и чертежные принадлежности. Капитан был погружен в расчеты. Капитан Кернер был хорошим артиллеристом. Насколько мне было известно, он разработал очень практичный способ определения метеорологических условий на различных высотах. Позднее им стали пользоваться в других артиллерийских полках. На боевых стрельбах капитан Кернер заносил в особую тетрадь каждый выстрел, произведенный орудиями его батареи, а также время года и суток, географические условия и многое другое. Затем он составлял таблицы и целыми вечерами что-то считал. Когда я доложил о прибытии, командир батареи отодвинул свои расчеты, откинулся на спинку стула и потребовал, чтобы я подробно доложил о ночном происшествии. — Так-так, — промолвил он, выслушав меня. — Не кажется ли вам, товарищ Беренмейер, что вы оказали плохую услугу своему расчету? Я молча кивнул. — Своим проступком вы свели на нет усилия своих товарищей. — Мне хотелось сделать лучше, — ответил я и опустил голову. — Лучше? Вы во что бы то ни стало хотели доказать свою правоту. Я молчал и смотрел в пол. — Вам известен приказ, который должно было выполнить каждое отделение во время ночного марша, товарищ Беренмейер? — Так точно, товарищ капитан! — Повторите его. — Каждое отделение имело задачу при любых условиях самостоятельно и в полном составе прибыть к цели! — Почему же вы нарушили приказ? В комнате было тихо. «Левой, два-три-четыре», — доносилось с улицы. Я чувствовал себя подавленным. — Садитесь, товарищ Беренмейер, — предложил вдруг командир батареи. Я сел и решительно произнес: — Накажите меня, товарищ капитан, по всей строгости! — Наказать… Наказать всегда легко. Я хочу, чтобы вы осознали свой поступок. — Я уже осознал, товарищ капитан. — А вы подумали, к каким последствиям могло бы привести ваше поведение в боевых условиях, особенно в тылу противника? О последствиях я не думал. — Представьте себе, товарищ Беренмейер, такую ситуацию. Ваше отделение после выполнения особого задания, обойдя сторожевые посты противника, собирается вернуться в свое расположение. Но вы нарушаете приказ, отрываетесь и, двигаясь в одиночку, сталкиваетесь с противником. Завязывается перестрелка. В результате вас или убивают, или берут в плен. Теперь противник будет настороже: там, где появился один, могут появиться и другие! Противник усилит бдительность — и расчету будет вдвое труднее прорваться через его передний край. Возможен вариант, что и расчет натолкнется на противника. Но уничтожить его не так-то просто. В нем по крайней мере полдесятка бойцов, столько же автоматов, ручной пулемет и от трех до пяти гранат на человека. У такого коллектива, если он сплочен, есть свои шансы прорваться. Но вы ушли и тем самым ослабили расчет. Понимаете вы это или нет? Я кивнул. — Тогда считаю наш разговор оконченным. Буду думать, какое взыскание на вас наложить. …В нашей комнате стояла необычная тишина. Дач лежал на кровати и смотрел на натертый пол; Пауль Кольбе стоял у печки; Шлавинский высунулся из окна, и мне была видна только часть его спины; в мое отсутствие произошла ссора между Руди Эрмишем и толстым Шлавинским. Из-за меня. Началась эта ссора так. Шлавинский достал из коробки четыре спички, у трех из них отломил кусочки разной длины, потом зажал все спички в руке так, что были видны только головки. — Ну, парни, тяните по одной! Кто вытянет самую длинную, тот первым понесет еду Беренмейеру на гауптвахту, кто самую короткую — последним! По привычке Шлавинский ухмыльнулся. Он, видимо, был уверен, что мне дадут не меньше четырех суток ареста. Руди Эрмиш вскипел: — Интриган! Мы сами виноваты в том, что отпустили его! Но ты, — при этих словах Эрмиш взял Шлавинского за воротник гимнастерки, — ты подстрекал Фреда. Поэтому слушай меня внимательно, дружок: если ты и в дальнейшем не будешь придерживать язык, то я врежу тебе так, что у тебя навсегда отпадет желание острить! — И он с силой потряс Шлавинского. Я подошел к своей кровати. Никто даже не посмотрел на меня. Через несколько минут Руди перестал ходить вокруг стола и глухо спросил: — Ну и что? Я пожал плечами: — Мне тоже не известно, Руди, что будет. — Не переживай, — утешил он меня, — все пройдет. — Все мы совершаем ошибки, Фред. Главное — не повторять их, — добавил Дач. — Друзья, — сказал я, — не сердитесь, пожалуйста, на меня. Это послужит мне хорошим уроком. На следующий день на вечерней поверке я стоял перед строем батареи. Капитан Кернер коротко рассказал о моем проступке, но добавил, что я еще молодой и неопытный солдат, жалоб на меня до этого не поступало, так что, учитывая все это, командир батареи решил — тут я закрыл глаза — за самоуправство во время ночных занятий объявить мне выговор.21
Я радовался тому, что так дешево отделался, однако мои товарищи по отделению, кроме Шлавинского, который после спора с Руди упорно молчал, одобрили решение нашего командира роты капитана Кернера объявить мне выговор. Петер Хоф, с которым я разговорился на следующий день, сказал: — А почему он должен был посадить тебя на гауптвахту? Он знает, что для тебя и выговора будет достаточно. Но имей в виду, Фред, если ты еще раз провинишься, я лично побеспокоюсь о том, чтобы тебя лишили возможности работать в школе. Мы не имеем права доверять воспитание детей недисциплинированному товарищу. На этом, пожалуй, все и кончилось, если бы не унтер-офицер Виденхёфт, который при малейшей возможности начинал упрекать меня, вспоминая мой проступок. Очень часто он заставлял меня сделать ту или другую работу, которой в то время в подразделении было хоть отбавляй. Правда, он ни разу не возражал против моего увольнения в городской отпуск, хотя я каждую неделю старался получить увольнительную и, встретившись где-нибудь в кафе с Руди Эрмишем, выпить с ним в укромном уголке по кружечке пива. Наоборот, унтер-офицер, казалось, специально делал так, чтобы я чаще бывал в городе. Наконец он предложил мне взять полагающийся недельный отпуск, который я один из всего расчета еще не использовал. Иногда от нашего расчета нужно было выделить солдата для несения патрульной службы, который вместе с офицером и унтер-офицером должен был обойти все населенные пункты, входящие в наш гарнизон, и проверить все пивные. Стоило мне только сказать, что я хотел бы пойти патрулировать, унтер-офицер делал вид, что не замечает меня и не слышит моих слов. Точно так же Виденхёфт вел себя и тогда, когда наш расчет назначали в караул. Он никогда не определял меня на важные посты, как, например, у склада ГСМ или у артиллерийского склада. Одним словом, Виденхёфт не доверял мне. Каждый раз, когда наши взгляды встречались, я читал в его глазах один и тот же ответ: «Ты, Беренмейер, меня уже не раз подводил. Интересно, когда ты снова меня подведешь?» Все это мне не правилось, и я изо всех сил старался добросовестно выполнять свои обязанности. Как раз в это время партийное бюро полка объявило о начале соревнования за звание лучшего батальона, батареи, взвода. При подведении итогов соревнования учитывали не только подготовку подразделения в целом и оценки солдат по различным дисциплинам, но и общественную работу, спортивные показатели, одним словом, абсолютно все, из чего складывается армейская жизнь. Первое подведение итогов соревнования должно было состояться через месяц после окончания батарейных учений, последнее и решительное — после проведения осенних маневров. Это был период, когда весь наш расчет зашевелился. Почти каждый вечер все мы собирались на спортивной площадке полка, чтобы лишний раз потренироваться. Мы решили завоевать переходящий спортивный вымпел. Подобные тренировки проводили с нами Дач и Руди Эрмиш. Когда же Руди научился плавать, он стал считать, что вымпел не может миновать нас. Сначала эти тренировки утомляли меня, особенно бег на километровую и пятикилометровую дистанции. Однако постепенно я так втянулся в бег, что стал показывать неплохие результаты. Скоро меня зачислили в полковую команду легкоатлетов. Однажды вечером в понедельник, когда мы, как обычно, тренировались выбеге на пятикилометровую дистанцию, а я бежал уже пятый круг, к дорожке подбежал Дач, который в тот день почему-то не тренировался, и стал махать мне рукой, в которой держал какую-то бумажку. Но я не остановился и с дорожки не сошел. Когда же, завершая шестой круг, я снова поравнялся с Дачем, он крикнул мне: — Фред, тебе телеграмма! Меня так и подмывало сойти с дистанции. «Кто бы мог послать мне телеграмму? — думал я. — Может, Анна? Нет. Анна обычно пишет письма, в неделю одно письмо, короткое и ничего не говорящее, полное туманных намеков и упреков по поводу того, что я до сих пор не получил отпуска. Анжела? О ней я и думать перестал. Георг и Удо уже давно не пишут мне и изредка передают приветы через Анну. Значит, остается одна Софи». Телеграмма действительно была от нее. «Приезжаю вторник. Софи». Вторник. Значит, завтра. От радости у меня забилось сердце. «Но почему она решила приехать на неделю раньше?»22
Рассчитывая на то, что Софи приедет вечерним поездом, я решил встретить ее на станции в Рагуне. Вспомнил, что за отличную стрельбу из автомата, когда я еще учился на курсах, меня поощрили — дали увольнение в городской отпуск до подъема. Сейчас это увольнение пришлось мне как нельзя кстати. Унтер-офицер Виденхёфт не имел ничего против моего увольнения. Больше того, он даже разрешил мне уйти из расположения до ужина, сразу после осмотра оружия, чтобы я засветло смог добраться до Рагуна. Я шел по тихой в предвечерние часы главной улице поселка к окраине, где находился вокзал, на который мы впервые приехали почти пять месяцев назад. Под мышкой у меня был сверток — симпатичная плюшевая заводная собачка. Песик умел ворчать, отползать назад и шевелить длинными ушами. Я хотел купить Софи цветов, маленький букетик гвоздик или даже роз, но цветочный киоск, к сожалению, был закрыт. За полчаса до прихода поезда я уже ходил взад и вперед по платформе, нетерпеливо вглядываясь в даль, в сторону далекого леса, в котором исчезали рельсы. Кроме меня, встречающих на платформе не было. На грузовой платформе стоял трактор с прицепом, груженным картофелем. Двое мужчин грузили картофель в пустой вагон. Я долго наблюдал за их работой. Наконец за моей спиной засвистел паровоз. Над лесом повисло белое облачко — шел пассажирский поезд. Когда поезд остановился, из вагонов вышли два железнодорожника, офицер с женой и двумя маленькими детьми и трое крестьян. Софи не было. Я стал смотреть расписание поездов. До прихода ночного поезда оставалось почти три часа. Что же делать? «Ну что, Фред, надо как-то скоротать время, — подумал я. — А что, если еще раз пройтись по поселку? Может, Софи уже дома?» Я не спеша дошел до дома Софи. Пересек грязный двор, прошел через широкие обветшалые сени и поднялся по скрипучим ступенькам. Остановился перед дверью ее комнаты и, не надеясь, что там кто-нибудь есть, постучал. — Кто там? — донесся до меня звонкий девичий голос. Это был голос Софи. С нескрываемой радостью я ответил: — Это я, Софи. — Ты-ы?.. — Затем я услышал шаги, удаляющиеся к окну, хорошо знакомый скрип дверки шкафа и наконец снова голос Софи: — Входи, Фред! Софи стояла у открытого окна. На ней был легкий пестрый халатик, доходивший ей до колен. Большие глаза девушки внимательно смотрели на меня. Со стены на нас понимающе смотрела картинная красавица. Она будто радовалась вместе с нами. Я подошел к Софи и взял ее за руки. От Софи пахло душистым мылом. Я поцеловал девушку. Она, неловко вытянув губы, словно ребенок, который целует своих родителей, перед тем как лечь в кроватку, ответила мне. Потом с чувством поцеловала меня в губы, в подбородок, в лоб и в щеку. Мы стояли обнявшись. Неожиданно халатик Софи распахнулся и приоткрыл упругую девичью грудь. — Фред! — с легким испугом в голосе воскликнула она. — Отвернись, пожалуйста, на секунду! Я отвернулся и подошел к двери, остановившись перед гардиной, отделявшей угол комнаты. Там у Софи стоял умывальник. Я слышал за своей спиной шелест платья, а взглянув в висящее передо мной зеркальце, увидел, что Софи переодевается. Когда она надела цветастое платье, я, не поворачиваясь, спросил: — Почему ты вернулась раньше времени? Ведь у тебя еще каникулы. Девушка подошла ко мне и, поцеловав в губы, ответила: — Потому. — Не написала ни слова. — Разве об этом можно писать? — Да, Софи, ты права. Так гораздо лучше. Она заглянула мне в глаза и спросила: — Фред, ты меня любишь? — Очень люблю… В этот момент я незаметно вынул песика, завел его у себя за спиной и поставил на пол. Собачка заворчала, зашевелила ушами и начала пятиться. — Как это мило! — закричала Софи. — С сего момента песик будет жить здесь, на кушетке, и сторожить тебя… Мы сели на кушетку, как в последний раз, перед отъездом Софи, только поближе друг к другу. Потом перекусили и немного выпили. У нас было такое ощущение, будто мы праздновали свою помолвку, только вдвоем, без гостей. — Тебе скоро нужно уходить, Фред? — тихо спросила Софи. — Нет, Софи. Сегодня мне уходить не нужно. — Почему? — У меня увольнительная до подъема. Девушка поняла меня. — Как хорошо, Софи, что все так случилось. — Скажи, Фред, бывает на свете любовь с первого взгляда? — Конечно, бывает. — Ты мне понравился с первого взгляда, — произнесла она. — Да? С каких пор? — С самого первого раза, когда мы были на танцах. — Правда? — Да, олух ты этакий. …С товарной станции доносился стук вагонов и пыхтенье паровоза. В комнату через окно проникал желтоватый свет уличного фонаря. Софи лежала у меня на груди. Я отчетливо слышал стук ее сердца, а ее душистые волосы щекотали мне лицо. Я гладил ее волосы, шею, голые плечи и повторял: — Я люблю тебя, Софи, очень люблю. — И я тебя, Фред. — Так будет всегда. — Да, Фред. Потом наступила тишина. Только от ветра шелестели занавески. — С тобой так хорошо, — прошептала Софи. — Так будет всегда. Софи нашла мои губы и поцеловала. Когда Софи уснула, за окном занимался день. — Спокойной ночи, дорогая, спокойного сна, — шепнул я и поцеловал ее волосы.23
Я любил Софи. Почему? Должен признаться, что на этот вопрос я не смог бы ответить даже сейчас. И вообще, разве можно ответить на такой вопрос? Спросите юношу, почему он любит свою девушку, или девушку, почему она готова ради своего друга пройти через огонь, и вы получите массу самых различных ответов. Анжела!.. Это была моя первая юношеская любовь, полная упрямства, привязанности и уважения, подобная молодому, еще не перебродившему вину. Совсем другой была моя любовь к Софи. Софи очень много читала, и каждый раз, приходя к ней, я замечал на кушетке новую книгу. Она обычно спрашивала мое мнение о той или иной книге или о ее героях. И как правило, я попадал в неловкое положение, так как не читал той книги, о которой она меня спрашивала. Чтобы не казаться полным профаном, я по тону голоса Софи угадывал ее мнение о книге и время от времени отвечал ничего не говорящим «хм» или многозначительным «да, конечно». Однако очень скоро она разгадала мою нехитрую тактику. — Я думаю, Фред, тебе нужно больше читать, — однажды сказала она мне. Для меня эти слова прозвучали так, будто она назвала меня круглым дураком. Во всяком случае, беспокойство Софи передалось мне, и я стал чаще заглядывать в полковую библиотеку. Иногда я просил Софи дать мне почитать ту или иную книгу, что доставляло ей большую радость. Как-то мне в руки попал роман о молодом инженере, уехавшем работать на одну из крупных строек республики. Инженер оказался очень хорошим специалистом, однако его моральный облик оставлял желать лучшего. Неожиданно он влюбился в молоденькую машинистку, которая была уже замужем. Она тоже полюбила инженера, но соединить свои судьбы они не могли. Этому мешал обманутый супруг машинистки. Скоро их любовная связь стала достоянием общественности и у многих вызвала возмущение. В конце концов обоими заинтересовалось партийное бюро… Книга произвела на меня сильное впечатление. Я сделал для себя открытие, почувствовав, как может украсить жизнь человека хорошая книга. С того времени я стал много читать. Софи любила говорить правду в глаза. Она не боялась высказать мне свое мнение, когда я что-то делал плохо. Я упоминаю об этом только потому, что очень часто влюбленные закрывают глаза на недостатки друг друга. Конечно, очень неприятно, когда любимый человек в чем-то упрекает тебя. Однажды Софи упрекнула меня в том, что иногда я бываю слишком строг к ученикам. Как-то я объяснял ребятам, как нужно пользоваться компасом. Один из мальчиков, который уже знал это, пел себя во время моего объяснения довольно дерзко, и мне пришлось отправить его домой. В классе сразу же воцарилась тишина. После этого случая мне пришлось выслушать от Софи лекцию о психологии школьника, которую она закончила следующими словами: — Ведь это дети, Фред, а не солдаты! Я разозлился, хотя и понимал, что Софи права. Очень часто Софи расспрашивала меня о моем детстве, о доме, о работе на заводе и о жизни в полку. Однажды случилось так, что мне пришлось рассказать ей об Анжеле. — Так почему же все-таки Анжела оставила тебя? — тихо спросила Софи. — Неужели это трудно понять? — Она тебе безразлична? — Да. — Но ты же иногда думаешь о ней… Будь откровенен, Фред. Говорят, первая любовь не так просто забывается. — Я уже не вспоминаю о ней, — отвечал я. — Представь себе, как-то, разбирая чемодан, я нашел под вещами ее фотографию и тут же разорвал ее. — Ну и очень глупо сделал. — Но ведь я не люблю ее, Софи. После небольшой паузы Софи с раздражением спросила: — И все же ты объясни, почему она тебя оставила? — Потому что меня забрали в армию и я стал солдатом, — начал объяснять я. — Не всякая девушка, видимо, может ждать. — Может быть, ты и прав…Никогда не забуду одного вечера. Кажется, это была суббота. Софи я застал в очень плохом настроении. — Что с тобой, Софи? — испуганно спросил я. — А ты разве сегодня не читал газету? — Еще не успел, — ответил я. — У нас были полевые занятия. Как только мы вернулись на зимние квартиры, я сразу же взял увольнительную и пришел к тебе. — На, читай, — сказала Софи и показала на снимок, помещенный на первой странице газеты. На снимке был снят молодой солдат. Он лежал на спине. Каска у пояса. Рот полуоткрыт. Это был молодой пограничник, убитый бандитами выстрелом в спину с территории Западной Германии. Несколько секунд мы молчали. Комната вдруг показалась нам тесной. Мы вышли на улицу. Софи первая нарушила молчание: — Как это ужасно, Фред. Я молча кивнул. — Это убийство совершено неподалеку от моего родного села. Я знаю село, в котором жил этот солдат. А несколько дней спустя, все еще находясь под впечатлением этого убийства, Софи спросила меня: — Фред, ты с охотой пошел в солдаты? Помню, я довольно подробно объяснил Софи, почему я в армии, подробнее, чем имел обыкновение объяснять. Кажется, я сказал ей следующее: — Да, Софи, я с охотой пошел в солдаты. Сейчас я сознаю это лучше, чем когда бы то ни было. Представь себе: люди танцуют, веселятся, а в это время где-то на посту стоит часовой; или люди сидят в театре, в концертном зале, а где-то по земле ползет солдат, учась преодолевать препятствия, подрывать танки противника; когда люди мирно спят в своих кроватях, солдаты ночью, в дождь лежат в окопах и ждут условного сигнала ракеты, чтобы подняться и атаковать «противника». Солдаты переносят все тяготы и лишения военной службы. И я очень горжусь тем, что ношу военную форму нашей армии, ибо знаю, что Народная армия нужна всем миролюбивым людям нашей республики, которые работают, дружат, любят, создают семьи. И все они знают, что на западе страны имеются враги, угрожающие нашей республике. Но ты, Софи, не считай, что я всегда так думал. Нет. За год до призыва в армию моя голова была забита всякими глупостями. Мне сейчас даже стыдно вспоминать об этом. — И как же ты это понял? — спросила вдруг Софи. — Помнишь, Софи, перед каникулами я дожидался тебя? Ты была тогда на родительском собрании, которое затянулось. Я присел на ступеньки и ждал тебя. Мимо меня прошла целая стайка детишек из детского сада.Человек тридцать. Они шли такие радостные, громко разговаривали. Вот тогда-то я и подумал, что им тоже нужно, чтобы я был в армии. Армия нужна для того, чтобы эти беззаботные детишки никогда не узнали самого страшного на свете — ужасов войны, чтобы они выросли здоровыми и счастливыми.
24
Как-то в середине сентября вместе с ребятами из седьмого и восьмого классов я возвращался с полевых занятий. Школьники учились ориентироваться на местности по карте и компасу. Во дворе школы меня ждала Софи. — Фред, я переезжаю на новую квартиру. — Так скоро? — Да. В доме товарища Кернера освободилась комнатка. — И когда ты думаешь переезжать? — Завтра. — Ну, это можно быстро сделать. — Быстро? — удивилась Софи. — А я даже не знаю, за что браться. — Не беспокойся, Софи. Я тебе помогу. В нашем расчете хорошие ребята. Ребята в нашем расчете были действительно хорошими и дружными. Что их сделало такими? По мнению Петера Хофа, сколачиванию коллектива способствовало социалистическое соревнование. Я придерживался другого мнения. Разумеется, соревнование в известной степени сплотило расчет. Однако причина нашего коллективного успеха заключалась в самой армейской жизни, регламентируемой уставами и наставлениями. Одиночки волей-неволей примкнули к большинству. Более способные солдаты помогали отстающим. В чем же проявлялась эта сплоченность? Да во всем. Однажды маленький Дач (он выполнял в расчете обязанности наводчика) забыл взять на занятие по огневой подготовке прицел. Когда мы пришли в поле, Дач спохватился и очень перепугался, но громкий смех всего расчета успокоил его. Оказалось, Пауль Кольбе, наш великий молчальник Пауль, всю дорогу тащил прицел сам. Или взять хотя бы этого самого Пауля. Он чаще других хотел получить отпуск, чтобы поехать к жене и дочурке, но очередность есть очередность — нужно ждать. И нередко кто-нибудь из нас добровольно отказывался от отпуска, чтобы дать товарищу возможность лишний раз съездить домой. Или взять хотя бы Шлавинского, который регулярно получал от матери большие посылки с домашним печеньем, копченой колбасой, яйцами, орехами… Каждую такую посылку расчет встречал громким «ура», и Шлавинский не отваживался съесть все это. Сначала он с кислой миной на лице угощал всех нас, а позже стал охотно делить содержимое посылки на шесть равных частей. Унтер-офицер Виденхёфт тоже не был забыт. В расчете не было никаких раздоров. Так, например, всем расчетом мы не пропускали ни одного соревнования по боксу, и причем только потому, чтобы посмотреть, как дерется наш Руди Эрмиш и поддержать его своими аплодисментами. Все вместе ходили в гимнастический зал, чтобы посмотреть на нашего маленького Дача, который, оказавшись на самом верху большой пирамиды из человеческих тел, стоял на голове партнера, почти касаясь ногами потолка. Мы не пропускали ни одного вечера художественной самодеятельности: ведь в полковом хоре пел наш Пауль Кольбе. Когда вечером я вернулся в казарму и предложил ребятам помочь Софи переехать на новую квартиру, маленький Дач первым согласился: — Конечно, поможем, Фред! Пауль Кольбе кивком головы поддержал Дача. И только толстый Шлавинский добродушно процедил сквозь зубы: — Вот во что выливается шефство над школой. — И, рассмеявшись, добавил: — Всеобщее уважение тебе, мой дорогой! Вкус у тебя что надо. Только Руди Эрмиш не прореагировал на мое предложение. Но я заранее был уверен в его согласии. Он стоял возле шкафа, повернувшись ко мне спиной, и о чем-то думал. — А ты? — закричал ему Шлавинский. — Разве ты не пойдешь с нами? Руди повернулся к нам, что-то недовольно пробормотал и, взяв сапожную щетку, вышел из комнаты. — Видели? — спросил Дач. — Ему твое предложение явно не по душе. Наверное, у него на завтра совсем другие планы, — не удержался Шлавинский. Разыскав командира расчета, я объяснил ему, что мы хотели бы всем расчетом помочь учительнице переехать из Рагуна в Три Ели. Подумав, командир не только разрешил нам помочь Софи, но решил и сам пойти с нами. Я спросил, не сможет ли он достать машину. Командир расчета ответил, что с этим вопросом придется обратиться к командиру батареи. Я сразу же пошел к капитану Кернеру. — Я не могу давать машины гражданским лицам, — сказал он, выслушав меня. — И вы это прекрасно знаете, товарищ Беренмейер. — Жаль, — ответил я и попросил разрешения идти. — Подождите-ка, — остановил меня капитан Кернер. — Пойдемте со мной. И он направился в свой кабинет. Убрав со стола книги, таблицы, капитан развернул план занятий батареи на неделю. — Сейчас посмотрим, сможем ли мы помочь учительнице Вайнерт. В какой-то степени она ведь тоже служащая армии: воспитывает наших детей. Во мне ожила надежда. Посмотрев расписание занятий, капитан спросил: — Когда она переезжает? — Завтра, товарищ капитан. — У нее много мебели? — Кушетка, две книжные полки, картина, книги и кое-какие мелочи. — Так-так… Но откуда у вас такие точные сведения, товарищ Беренмейер? — поинтересовался капитан. Я почувствовал, как краска залила мое лицо, а левая нога начала дрожать. — Я несколько раз бывал у нее, — робко начал я. — Софи, то есть товарищ Вайнерт, и я дружим… — Завтра у нас работы на радиостанции, — начал командир батареи. — Я передам вашему командиру взвода, чтобы он назначил ваш расчет в населенный пункт Рагун на радиостанцию. Машину вы получите. После занятий заедете в Рагун, быстро погрузите вещи учительницы и перевезете их на новую квартиру. На следующий день мы действовали строго по плану. Когда мы приехали в Рагун, Шлавинский отвел меня в сторону и шепнул на ухо, что будет очень неудобно, если мы нарушим древний обычай — не обмоем новую квартиру учительницы бутылочкой вина. Обычаи, как известно, имеют над нами силу, и их нужно соблюдать. Унтер-офицер Виденхёфт вначале что-то недовольно пробормотал, но потом все же согласился. Дач и Пауль Кольбе согласились сразу. И только один Руди Эрмиш, у которого весь день было плохое настроение, заявил, что ему все равно. Мы начали считать наши деньги, но их не хватало даже на бутылку вина. Занимать деньги у Софи было неудобно. Неожиданно Шлавинский увел меня за угол дома и сказал, что есть одна возможность достать вино. При этих словах он показал рукой на площадь, где красовались несколько ярких киосков и детская карусель. Там же находился и тир, в котором можно было выиграть букет бумажных цветов, плюшевого мишку или бутылку вина. Мы со Шлавинским решили испытать свое счастье в стрельбе из духового ружья. Уплатив три марки, мы получили восемь десятков пулек. Расстреляв их, выиграли бутылку вина. После того как вся мебель и вещи Софи были перенесены в скромный деревянный домик, мы разлили вино по чашкам и стаканам. Шлавинский произнес тост: — Я предлагаю тост за очаровательную и счастливую хозяйку этого тихого домика, в котором ей суждено пережить много радостных и незабываемых часов… — При этих словах Шлавинский бросал то на меня, то на Софи многозначительные взгляды. — Каждый живет, как умеет, — шутливо заметил я. Мы чокнулись с Софи, а Руди, на котором лица не было, так стукнулся своей чашкой, что чуть не разбил ее. Но в тот вечер я был так счастлив, что не придал этому никакого значения.25
«Тревога!» — услышали мы следующей ночью. Я уже настолько привык к солдатской жизни, что стоило мне положить голову на подушку — как я уже спал мертвым сном. А ведь еще совсем недавно я подолгу ворочался в постели: то мешал свет, то какие-то шорохи. Но со временем я привык к условиям нашей жизни и мог отдыхать в самых различных положениях: сидя на табуретке, склонившись над столом, на скамейке в трясущейся по ухабам грузовой машине или в окопе. И только одно-единственное слово «тревога», независимо от того, выкрикивали его или произносили шепотом, способно было поднять меня с постели в мгновение ока… Тревога! Дежурный по батарее, казалось, еще не успел закрыть рта, как я уже вскочил с койки и стоял на холодном полу. Казарма вмиг ожила, но света не зажигали до тех пор, пока не затемнили окна. На что мне раньше требовалось не меньше получаса, сейчас я делал за несколько минут. Я оделся, обулся и уже бежал к пирамиде. Шесть месяцев армейской жизни, шесть месяцев бесконечных тренировок, упорной борьбы за каждую минуту — и результат не заставил себя ждать: в строй я встал одним из первых. Зажгли свет. Что-то покажет эта тревога? Ведь не за горами подведение итогов социалистического соревнования в масштабе полка, а еще раньше проверка боевой готовности батареи. Удастся ли нам получить почетное звание «лучшая батарея»? Может быть, эта тревога — очередная проверка нашей боевой готовности? Подобные тревоги устраивались и раньше, особенно в первые месяцы службы. Проходили они, правда, довольно однообразно: после того как взвод выстраивался, засекали время и смотрели, уложились ли мы в норму; затем проверяли обмундирование, снаряжение и распускали. Мы построились в коридоре. Перед строем — командиры взводов и командир батареи капитан Кернер. Светя карманным фонариком, он изучал вложенную в планшетку карту и отдавал офицерам указания. На лице — выражение сосредоточенности. Старшина принимает от командиров расчетов доклады о готовности. Через несколько минут следует команда: «По машинам!» — Значит, это только начало! — шепнул я Руди Эрмишу. — Да. Наверно, батарейные учения, — ответил он. Строем мы пересекли плац и подошли к артиллерийскому парку. Взревели моторы тягачей, — и через несколько секунд наши гаубицы были готовы выступить. — Который час? — спросил я Руди. — Скоро четыре. Мы двигались около часа. В одном месте съехали с шоссе и обогнули сосновый лес: мост на шоссе по вводной оказался разрушенным. Затем малый привал, осмотр техники — и снова в путь. Тишину ночи разорвали тяжелые тягачи. В предрассветных сумерках впереди вырастало здание вокзала. Навстречу нам вышел заспанный железнодорожник. Он долго с удивлением смотрел на нашу колонну. Потом я увидел убогий домишко, в котором до вчерашнего дня жила Софи. За день до переезда Софи на новую квартиру я взял увольнительную и пошел к ней. Девушка собиралась мыть пол. Я принес воды. На стене, где несколько часов назад висела картина, белело пятно. Я обнял Софи и сказал: — Мне сейчас очень грустно оттого, что мы должны покинуть нашу комнатку. — Да, здесь нам было хорошо. — Нужно сделать так, чтобы и в новой квартире нам было хорошо. — Конечно. Мы договорились встретиться на следующий день, но тревога и выезд на учения помешали этому. — Который час? Стало заметно светлее, и я уже мог различать лица товарищей и орудия нашей батареи на тягачах. По обеим сторонам дороги тянулись ряды высоких деревьев и кустарник. — Почти пять, — ответил Руди. Под утро стало прохладнее. Мы замерзли. Чувствовалось, что лето близится к концу. Скоро начнут желтеть деревья. Придет пора осенних туманов… Мы пересекли большое поле, потом спустились в овраг, и наконец вся колонна въехала в лес. В лесу было теплее, и нас стало клонить ко сну. Но спать было нельзя: приходилось следить за тем, чтобы ветки деревьев не хлестали по лицу. Один раз я зазевался — большая ветвь больно ударила меня. На опушке леса нас ждали две штабные машины. В одной был командир полка и его заместитель по политчасти. У другой стояли несколько штабных офицеров. Один из офицеров делал какие-то пометки в блокноте, другой смотрел на часы. — Ну, — начал Шлавинский, кивнув головой в сторону офицеров, — раз они здесь, быть учению! — Подумаешь, напугал! Сделаем все, как надо, — возразил ему Дач. — Никто и не боится, — перебил его Руди Эрмиш. — Мы должны показать, что наш расчет один из лучших, — вступил я в разговор. — Это само собой разумеется, — поддержал меня Дач. Не стану подробно рассказывать обо всех событиях, которые произошли в тот день, хотя и есть о чем вспомнить. Так, был момент, когда одно из орудий нашего первого взвода вместе с тягачом застряло на краю болота, преградив минут на двадцать путь всей батарее, которая из-за этого могла не выйти в назначенное время к пункту сосредоточения. А как мы перепугались, когда наше орудие переправлялось через небольшую речку! Вода поднялась так высоко, что каждую секунду мог заглохнуть мотор тягача. Сколько неожиданностей свалилось в тот день на нашу голову: нападение танков «противника», артиллерийский налет, воздушная тревога… По лицам офицеров, проверяющих нашу батарею, было видно, что они довольны нами. А лейтенант Бранский время от времени подбадривал нас: — Так держите, товарищи! Правда, мы и без этих слов понимали, что нужно стараться вовсю. К обеду мы прибыли на полигон. Солнце палило нещадно. Мы выбрали огневую позицию, замаскировались, отрыли ниши для боеприпасов и убежище для расчета. Потом заминировали участок местности и поставили препятствия. Получили боевые снаряды, на каждое орудие по две осколочные гранаты. Настало время обеда. — Ха-ха, горох! — съязвил Шлавинский. — Мы его так давно не ели! Последнее время нам действительно довольно часто давали горох. Однако, несмотря на это, каждый из нас принес по полному котелку. — Рядовой Беренмейер! — неожиданно раздался чей-то голос за спиной. Я обернулся. У продуктовой машины стоял наш старшина и махал мне белым конвертом: — Вам письмо! Я подбежал к нему и взял письмо. Оно было от сестры Анны. «Опять то же самое, — подумал я. — Придется мне все-таки взять отпуск. Ведь другие успели за это время дважды побывать в отпуске. Дома об этом знают: мои земляки уже не раз были там. Мать и сестренка, конечно, хотят увидеть меня в военной форме и похвастаться перед соседями…» Не распечатав письмо, я сунул его в карман и прямо через кусты направился к окопу, где находился вычислитель батареи. Там я надеялся отыскать Петера Хофа. Он лежал в своей ячейке за прибором управления огнем и что-то наносил на огневой планшет. Около него лежали справочники, которые я не раз видел в канцелярии нашего командира батареи, какие-то графики, таблицы стрельб… Увидев, что Петер занят, я уже было повернул обратно, но он заметил меня и закричал: — Фред, подожди, не уходи, раз уж ты меня разыскал! Я лег рядом с Петером. Вдвоем здесь было тесно. Положив свой автомат на колени, я стал смотреть, как Петер измеряет расстояние на планшете и с помощью линейки наносит сектор огня. — Трудно быть вычислителем батареи? — Не сказал бы. — Я ни за что не смог бы стать им! — вставил я. Обязанности вычислителя казались мне очень важными и какими-то таинственными. — Не прибедняйся, пожалуйста, — ответил мне Петер. — Не так уж это трудно. Под рукой всегда таблицы и справочники. Нужно только знать, как ими пользоваться. Немного тренировки — и ты тоже сможешь быть вычислителем. — Ты так быстро работаешь… А вдруг ты ошибешься? — Бывает и такое. Тогда снаряд пойдет «за молоком». — И вся батарея будет стрелять туда же? — Туда же? Как бы не так! Батарея стреляет совсем по другим целям. — Да. Все это очень сложно. Поэтому-то я и не хотел бы быть на твоем месте. Ошибись на одну цифру или поставь не там запятую — и пали в белый свет! Прошло несколько минут. Обеденный перерыв тем временем кончился, и я вылез из окопа. — Эй ты! — крикнул мне вдогонку Петер. — Ты что-то потерял! — И он протянул мне конверт. Я сунул письмо Анны в карман и, тяжело ступая, пошел к своим. В нашем окопе Руди Эрмиш объяснял маленькому Дачу действие осколочного снаряда. Делать этого, пожалуй, и не следовало бы, так как Дач и сам знал это: в нашем расчете он исполнял обязанности наводчика. Просто Эрмиш, служивший в армии уже второй год и принимавший участие не в одной боевой стрельбе, хотел показать свои знания. — Смотри, Дач, как нужно заряжать орудие, — объяснял Руди, поднимая тяжелый снаряд, словно игрушку. Я сел на бруствер окопа и стал с любопытством наблюдать за ними. — Смотри, Руди, чтобы снаряд не упал тебе на ногу, а то придется Дачу заменять тебя! — пошутил Шлавинский. — А ты лучше смотри, как нужно правильно делать, — серьезно сказал Руди. — Ты так священнодействуешь, будто тебе за это выдадут диплом! — Шлавинский засмеялся. В это время вернулся унтер-офицер Виденхёфт, который получал указания у командира взвода. — Прекратите игру со снарядом! — строго сказал он, обращаясь к Руди Эрмишу, и приказал нам разойтись по местам. Я пошел к зарядным ящикам, но меня остановил Шлавинский: — У тебя что-то выпало из кармана. — И он показал на конверт, который я уронил. Боясь потерять письмо в третий раз, я решил распечатать его и прочитать. Письмо было написано на небольшом листке бумаги. Развернув его, я увидел всего пять строчек, написанных карандашом неровным почерком сестры. Даже обращении не было. Я прочел следующее:«У нас только что была фрау Петерман, тетя Анжелы. Анжела ждет от тебя ребенка. Анна».
26
— Батарея! Внимание! — раздался громкий голос лейтенанта Бранского. Затем последовала команда на открытие огня. Я достал из зарядного ящика снаряд и тряпкой стер с него тонкий слой смазки. Дач начал наводить орудие в цель. Я передал снаряд в руки Паулю Кольбе, достал картузный заряд, а в голове одна и та же мысль: «У Анжелы будет ребенок!» В этот момент Пауль передал снаряд Руди. Тот послал его в ствол. Потом послал в ствол заряд. Шлавинский закрыл затвор. А у меня в голове та же мысль: «У Анжелы будет ребенок». Унтер-офицер Виденхёфт поднял флажок. Руди Эрмиш дернул за боевой шнур. Земля вокруг нас нервно вздрогнула, в уши ударила тугая волна воздуха, а в голове все та же мысль: «У Анжелы будет ребенок!» Над позицией поднялось облачко дыма и пыли. Вот оно начало оседать на раскаленный ствол орудия, на станины, зарядные ящики и маскировочную сетку… Наконец где-то далеко за лесом раздался глухой звук разрыва. Прошло несколько томительных секунд, прежде чем лейтенант Бранский закричал нам: — Молодцы, ребята! Снаряд лег прямо в цель! Руди Эрмиш дружески ударил Пауля Кольбе по плечу и закричал: — Валяй так и дальше! — Я чувствую, тут попахивает внеочередным отпуском! — заметил Шлавинский. — Откуда командир взвода знает, что мы попали в цель? — с недоумением спросил Дач. — Эй ты, простота, — ответил ему Руди. — Неужели ты не знаешь, что на НП сидит капитан Кернер со своим наблюдателем и следит за каждым разрывом? — А… значит, комбат передал результаты по рации. — Наконец-то дошло! Я сел на зарядный ящик и стал смотреть себе под ноги. «Радуйся и ты вместе со всеми, — пытался я уговорить себя. — Никакого письма от Анны не было. И вообще нет никакой Анжелы… Но ведь письмо существует. Оно шелестит в кармане, стоит только опустить туда руку…» К действительности меня вернул голос лейтенанта Бранского. — Рядовой Беренмейер, к рации! «И нужно же, — подумал я, — послать именно меня». Большими прыжками я побежал в укрытие, где находилась рация. Оказалось, что мне всего-навсего нужно было подменить радиста, которого, по словам посредника, «убили». Я надел на голову наушники и проверил долготу волны. Меня оглушила какофония звуков и помех. Послышалась иностранная речь. Наконец, сначала очень тихо, потом громче, я услышал: — «Колокольчик», я — «Подсолнечник»! «Колокольчик», я — «Подсолнечник»! Как меня слышите? Прием! Я начал крутить ручку настройки. В какой-то момент потерял нужную станцию… Пока искал ее, драгоценные секунды бежали. — Прием! — наконец услышал я голос «Колокольчика». Посмотрел на таблицу позывных. Несколько раз перелистал ее, пока нашел нужную страницу. — …«Колокольчик»! Почему вы не отвечаете? Я глубоко вздохнул и доложил: — «Подсолнечник», я — «Колокольчик»! «Подсолнечник», я — «Колокольчик»! Как меня слышите? Прием! Последовала пауза. Я с нетерпением вслушивался в треск и думал: «Скорее бы все это кончалось. Вернуться бы в казармы, лечь на койку и заснуть…» К действительности меня вернула передаваемая по рации команда. Я записал ее в журнал донесений. Неожиданно передача прервалась. Все, что мне удалось принять, я передал лейтенанту Бранскому. Прошла минута, другая, третья… Наконец была передана вторая часть приказа. Я снова записал все слово в слово в журнал донесений и тотчас же доложил командиру взвода. На какой-то миг я представил себе Петера Хофа, который сидит в своем окопе и вычисляет, вычисляет… На позиции все ожило. Послышались слова команды. Снаряды с лязгом были посланы в стволы… Снова пауза. На этот раз она показалась мне ужасно долгой. Каждую секунду могла последовать команда «Огонь!». Я ждал команду, а в голове сверлило: «Что теперь будет? Что теперь будет?» — Огонь! Все потонуло в грохоте. В воздух поднялись тучи пыли, Настали долгожданные секунды… Наконец я принял следующую команду: — Прекратить огонь! Все в укрытие! «Что случилось? — пронеслось в мозгу. — Неужели мы ошиблись и стреляли не туда, куда нужно?» Лейтенант Бранский собрал весь взвод на полянке. На огневых позициях не осталось ни одного человека. Минут через пятнадцать из-за дальнего леса показались две штабные машины, оставляя за собой длинный шлейф пыли. Из первой машины вышли командир полка и капитан Кернер, из второй — несколько офицеров штаба. Капитан Кернер подошел к нам и сказал: — Товарищи, стреляли вы плохо. Ни одного точного попадания. Перелет почти на тысячу метров. Все мы оцепенели. На несколько минут я забыл все свои беды. «Это ужасно! Как же нам не повезло!» — думал я. Проверяющие тем временем сверяли записи в журнале командира взвода и командиров орудий. Проверяли прицелы на орудиях — тоже все в порядке. Значит, ошибку надо искать в другом месте. Два офицера направились к окопу вычислителя. Петер Хоф пошел за ними. «Бедный Петер, — думал я, — вот и случилось то, чего ты хотел избежать: ты ошибся в расчетах — и вся батарея стреляла с одной и той же ошибкой. Ну и попадет же тебе теперь! Ты ведь еще и секретарь Союза свободной немецкой молодежи…» Прошло несколько минут. Проверяющие посмотрели расчеты Петера. В это время мое внимание привлекла штабная машина, которая ехала в нашу сторону. Из машины вышел офицер. Он подошел к командиру полка и доложил, что снаряды легли на самом краю стрельбища и никакого ущерба не причинили. «Хорошо хоть, что ущерба не нанесено», — пронеслось у меня в голове. Тем временем офицеры, которые проверяли расчеты Петера, вернулись и направились к командиру полка. Один из них громко доложил: — Товарищ полковник, вычислитель никаких просчетов не допустил. Все данные совпадают! На какую-то долю секунды меня охватила радость. «Ну, Петер, на этот раз ты не ошибся!.. Но если не у тебя, то где же тогда, черт возьми, кроется ошибка? Уж не я ли виноват?» В этот момент я услышал свою фамилию: — Рядовой Беренмейер, к рации! Я подошел к офицеру. — Какие команды вы принимали с НП, товарищ рядовой? Я перелистал журнал радиограмм и показал свои записи. Офицеры склонились над журналом. Нахмурились, но ничего не сказали. — Скажите, все, что вам передавали с НП, вы записывали слово в слово? — Так точно! — ответил я. — Сейчас проверим. — Офицер сел к рации, вызвал НП и приказал повторить все команды, которые были переданы мне. Меня охватила дрожь. — У вас в журнале записаны все команды? — спросил офицер радиста с НП. В наушниках послышался утвердительный ответ. — Этот радист здесь, — проговорил офицер и посмотрел в мою сторону. — Вы верно записывали команды? Снова утвердительный ответ. — Спасибо! У вас все в порядке. Конец! Офицер положил микрофон и выключил рацию. — Ошибку надо искать здесь, — сказал он своему коллеге и показал рукой на журнал, который он только что закрыл. — Товарищ рядовой правильно принял команды и записал, но перепутал дистанцию до цели. Вместо тысячи двухсот метров, принятых от радиста с НП, он передал вычислителю цифру две тысячи сто. Вот почему вся батарея стреляла с перелетом на тысячу метров. Из-за вашей невнимательности, товарищ рядовой, вся батарея получит плохую оценку по стрельбе!27
Сегодня, несмотря на то что эта неприятная история осталась далеко позади, мне все равно тяжело вспоминать о ней. Должен признаться, что тогда моя ошибка показалась мне не такой уж большой. Я не замечал негодующих взглядов товарищей по батарее и командира взвода и даже не знал, что у нас во взводе учений состоялось собрание членов Союза молодежи. Я же думал об одном — какое принять решение: Софи или Анжела с ребенком? Письмо Анны разрушило все мои надежды и мечты. Известие парализовало меня, лишило возможности реально оценивать свои поступки. Вечером меня вызвал к себе лейтенант Бранский. Сегодня я могу припомнить лишь обрывки нашего разговора. — Товарищ Беренмейер, я знаю вас как хорошего солдата. Вы всегда были внимательны на занятиях. Умеете обращаться с рацией, и вам можно доверить установку или поддержание связи. То же самое докладывал мне о вас унтер-офицер Виденхёфт. Поэтому я приказал вам заменить у рации выбывшего из строя радиста. А у вас ничего не получилось. Давайте разберемся, как это могло произойти. Я пожал плечами. — Поймите меня правильно, товарищ Беренмейер, — продолжал лейтенант. — Мы говорим сейчас не только о том, что из-за вашей ошибки пострадала вся батарея, а о том, что ваша невнимательность может привести к подобной ошибке в более серьезной обстановке. Я молчал. — Может быть, товарищ Беренмейер, мы вас перехвалили? — Я очень волновался, товарищ лейтенант, — тихо ответил я. — Почему? Я молчал. — Если не можете сказать сейчас, может быть, напишете обо всем этом к утру? — Нет. Сейчас я понимаю, что был неправ по отношению к лейтенанту. Мне следовало тогда рассказать ему обо всем. Не получив от меня вразумительного ответа, лейтенант разрешил мне идти в подразделение. Через день после моего разговора с лейтенантом Руди Эрмиш, потеряв всякое терпение, набросился на меня: — Ну знаешь, это уж чересчур! Валяешься на койке и молчишь! Если уж мы для тебя не существуем, будь по крайней мере мужчиной и веди себя по-мужски! От одного твоего вида тошнит! На следующий день, когда я в умывальнике мыл маску противогаза, ко мне подошел Петер Хоф и сказал: — Капитан Кернер уехал в командировку. — Ну и что из этого? — Капитана вызвали в министерство. Приедет не раньше чем через неделю. Он, кажется, опять придумал что-то: новый способ определения ориентиров в ночных условиях. Вот он в министерстве и расскажет о своем способе. Ты что, все еще не сообразишь, зачем я тебе все это рассказываю? Я смахнул с маски капли воды и пробормотал: — Нет. — Я вижу, что нет. Так вот, слушай: вчера после учений было заседание актива Союза молодежи, на котором присутствовали и члены партийного бюро полка. Капитан Кернер делал доклад о результатах учений. Он сказал, что из-за твоего проступка мы с первого места в полку переместились на предпоследнее. Ты меня слушаешь? — Да-да. — Капитан Кернер и в известной степени лейтенант Бранский все же настаивали на том, чтобы не спешить с наказанием… — Ну и что? — перебил я его. — Вот тебе «ну и что»! Завтра состоится собрание членов Союза молодежи. Повестка дня о ходе соревнования в нашей батарее. Доклад делает лейтенант Бранский, поскольку капитана Кернера вызвали в министерство. А ты ведь знаешь, что капитан, пожалуй, единственный человек в батарее, который мог бы поддержать тебя. Теперь-то ты понимаешь, чем все это пахнет? Однако я очень быстро забыл слова Петера. Скорее всего, я несерьезно отнесся к ним, так как голова моя была занята совсем другими мыслями. К моему несчастью, случилось так, что я опоздал на это собрание. Когда я вошел в зал клуба и стал пробираться между рядами, отыскивая свободное место, лейтенант Бранский уже заканчивал свой доклад. Взгляды собравшихся пронизывали меня насквозь. А кто-то не выдержал и громко сказал: — Мы старались, а этот разгильдяй все испортил! Я плюхнулся на свободное место в первом ряду и стал разглядывать носки своих сапог. Петер Хоф открыл прения. Первым выступал высокий рыжий ефрейтор, наводчик первого орудия. — Я был уверен, — начал он, — что наша батарея выйдет на первое место: мы столько тренировались… А вот из-за этого разгильдяя, — он показал на меня, — которому чем-то уши заложило, все пошло насмарку! Просто зло берет! — Товарищ, давайте выступать по существу, — перебил ефрейтора Петер. — И прежде всего не допускайте никаких оскорблений. — Если бы это зависело от меня, — продолжал ефрейтор, — то я этого Беренмейера как следует проучил бы! — А как бы ты его проучил? — спросил ефрейтора Петер Хоф. — Как?.. — Ефрейтор немного помедлил и, сделав непонятный жест рукой, добавил: — Наказал бы. Зал оживился. — Конечно, наказать его! — послышались голоса. — Это почему же наказать? — Наказать, и все! Петер с полминуты призывал собравшихся к спокойствию. А когда шум смолк, он предложил: — Может быть, мы послушаем товарища Беренмейера? Все согласились с председателем собрания. — Да-да, пусть сам скажет! — послышалось со всех сторон. Петер Хоф обратился ко мне: — Ну, Фред, товарищи хотят послушать тебя. Теперь все зависело от меня самого, от моего поведения, от моих слов. Я быстро поднялся со своего места и уставился на большое синее знамя с эмблемой Союза молодежи, которое висело на сцене, а сам в этот момент подумал: «Если я сейчас не посмотрю в глаза членам президиума, они сочтут мое поведение высокомерным». Сердце сжалось от страха. Хотелось одного — чтобы собрание поскорее кончилось. — Ну, Фред, — подбодрил меня Петер. Я покачал головой. — Фред, ты должен что-то сказать. — Мне нечего говорить. В зале воцарилась мертвая тишина. Через какое-то время раздался голос Петера: — Фред, подумай, где ты находишься. Ты не имеешь права вести себя так на собрании. — Мне нечего говорить! — закричал я. После этого один за другим стали выступать солдаты. Они говорили о моем недостойном поведении, но я не слушал их. Слова попросил толстощекий солдат, которого каждый вечер можно было застать в пустом классе, где он готовился к экзаменам для поступления на философский факультет после демобилизации. Этого солдата в нашей батарее прозвали Логической Точкой Зрения, так как он без конца повторял эти три слова. Председатель собрания дал ему слово, и «философ» начал разглагольствовать о том, как плохо пришлось бы нашей батарее, если бы подобное случилось в настоящем бою. — Товарищи, посмотрим на этот случай с логической точки зрения, — продолжал наш «философ». — В боевой обстановке мы подверглись бы огромному физическому и психологическому воздействию со стороны противника! После «философа» слово взял невысокий черноволосый разведчик из взвода управления, наверняка берлинец, так как говорил он очень живо и интересно. Во время стрельб он находился на НП и видел собственными глазами, как стреляла наша батарея. Конкретного предложения, как следует поступить со мной, он не внес. Наконец очередь дошла до унтер-офицера Виденхёфта. — Я знаю Беренмейера лучше, чем все вы, и потому имею право строже судить его, — начал он свое выступление. Затем он рассказал, сколько беспокойства доставил я ему в последние месяцы своим поведением. — Товарищи, вы помните, — продолжал унтер-офицер, — как вел себя рядовой Беренмейер во время ночного марша. Он отстал от своего расчета! Все это, вместе взятое, привело меня к мысли, что на Беренмейера нельзя положиться. Последние стрельбы батареи — прямое тому доказательство. Мне и по сей день не ясно, почему командир нашего расчета говорил обо мне тогда именно так. Видимо, раздражение взяло верх. Рыжий ефрейтор, наводчик первого орудия, который выступал первым и назвал меня разгильдяем, вскочил с места и начал говорить: — Что здесь много говорить? Все и так ясно. Солдат он нерадивый — таково заключение командира расчета. Из-за Беренмейера мы теперь на предпоследнем месте. Даже на собрание Беренмейер умудрился опоздать. Я рассматриваю это как оскорбление всех нас. Да и проступки свои он не хочет правильно оценить. Я предлагаю исключить Беренмейера из Союза свободной немецкой молодежи! В зале стало так тихо, что я слышал дыхание соседей, сидящих справа и слева от меня. «Исключить! Вот когда они рассчитаются со мной. Сейчас Петер Хоф попросит поднять руки тех, кто за мое исключение, — и вверх поднимутся десятки рук», — думал я. И тут случилось неожиданное: Шлавинский, этот насмешник, первым бросился в бой. Он вдруг вскочил с места, почесал затылок и начал бить в ладоши, громко крича: — Браво! Браво! Исключить! Вот это предложение! Браво! — И он снова зааплодировал. — Говори понятней! — крикнул ему Петер Хоф. — Понятней? С огромным удовольствием. Исключить товарища Беренмейера из Союза молодежи? Разумеется! Туда ему и дорога! Но ведь с такой меркой можно подойти к любому из нас. Вот ты, — кивнул он в сторону «философа», — скажи-ка лучше, могут ли нарушения в караульной службе привести к тяжелым последствиям? — А как же! Логически рассуждая… — Ага, значит, могут! Хорошо! Тогда я предлагаю исключить тебя из членов Союза молодежи. Основание: на прошлой неделе ты уснул в караульном помещении, хотя должен был бодрствовать. — Толстощекий солдат, словно защищаясь, поднял обе руки. — Но… но… с логической точки зрения… — беспомощно залепетал он. Но Шлавинский не дал ему говорить: — Итак, говоря твоими же словами, ты, поддавшись слабости, уснул в карауле и тем самым совершил тяжелый проступок. Точка. Ясно? В зале захихикали. Но Шлавинского уже нельзя было остановить. — А ты! — обратился он к светловолосому ефрейтору, который внес предложение исключить меня из Союза молодежи. — Да-да, я обращаюсь именно к тебе! Ты служишь в армии уже второй год и должен показывать пример всем новичкам, не так ли? А на прошлой неделе ты так налакался в пивной, что едва держался на ногах. Двум нашим патрулям пришлось вести тебя в казарму. Своим поведением ты в какой-то мере подорвал авторитет солдата Народной армии среди населения. Разве это не серьезный проступок? Разве тебе место в Союзе молодежи? Ефрейтор протестующе замахал руками: — Это не относится к… Но Шлавинский не дал ему договорить: — Ты хотел сказать, что твое поведение не разбирается на сегодняшнем собрании? — Да… — Ты, конечно, прав, — продолжал Шлавинский, — так как твой проступок настолько серьезен, что разбирать его следовало бы не на нашем собрании, а в дивизионе! В зале засмеялись. А один унтер-офицер, который сидел сзади меня, заметил: — А он тебя здорово выручил. Но Шлавинский готовился нанести еще один удар. — А вы, товарищ Виденхёфт, — обратился он к командиру нашего расчета, — вы так ярко охарактеризовали товарища Беренмейера и перечислили все его грехи. Вот только я не пойму зачем? А разве не лучше было бы, если бы вы больше внимания уделяли воспитанию своих подчиненных, следовательно, и товарища Беренмейера? А ведь это ваша святая обязанность. Так как же расценить ваше отношение к выполнению служебного долга? Небрежность? А это есть не что иное, как грубое нарушение устава. Вот я предлагаю исключить и вас из Союза молодежи! Со всех сторон послышались выкрики. Но Шлавинского уже невозможно было остановить. — Значит, исключить! Исключить из Союза молодежи всех тех, кого можно хоть в чем-нибудь обвинить! Исключить — и все! Исключать до тех пор, пока в нашей молодежной организации не останутся лейтенант Бранский и наш секретарь Петер Хоф. Вы этого хотите? — Неожиданно Шлавинский стал серьезным и продолжал уже спокойным голосом: — Давайте, товарищи, хорошенько подумаем, прежде чем примем решение! И хотя раньше мы с Фредом Беренмейером часто ссорились, я все же считаю его хорошим товарищем, и поступить с ним так, как тут некоторые предлагали, было бы несправедливо. Число моих защитников росло с каждой минутой: Руди Эрмиш, маленький Дач и даже осторожный Пауль Кольбе, который закончил свое короткое выступление следующими словами: — У нас в деревне говорят: «Больного коня не вылечишь топором». Мы воспитаем Фреда. Петер Хоф сказал несколько слов о моей работе в школе: — Это поручение Союза молодежи он выполняет как нельзя лучше. Школьники прямо-таки боготворят его. Последним выступил лейтенант Бранский, который терпеливо ждал, пока выскажутся все: не хотел своим выступлением влиять на решение собрания. — Служба в армии — это учеба, — начал он. — И было бы неправильным наказывать солдата, который служит в армии всего лишь несколько месяцев, за случайную ошибку. Мой отказ выступить на собрании он расценил как неумение взять себя в руки и сказал, что он, как и прежде, верит в меня. Разумеется, мне следует сделать правильные выводы из сегодняшнего собрания и показать себя с хорошей стороны. Закончил он свое выступление так: — Соревнование еще не закончилось, товарищи. Самый главный этап еще впереди. Это осенние маневры. За это время можно добиться многого. Победителем, как вы знаете, бывает тот, кто выигрывает последний бой. Казалось, я мог бы радоваться такому исходу собрания. Но… увы! «Я должен во что бы то ни стало поговорить с Софи, — думал я. — Она должна знать обо всем: о письме, которое я получил от Анны, и о ребенке».28
Прошла почти неделя, а я все оттягивал встречу с Софи. Отчаяние мое росло день ото дня. Я боялся сказать Софи всю правду. Но больше всего я боялся обмануть ее. — Никто уже и не вспоминает о собрании, а у тебя такой вид, будто все только об этом и говорят, — сказал мне как-то Руди Эрмиш, подойдя после обеда к моей койке. — Мы еще себя покажем! — Да… — нехотя ответил я и уставился в потолок. — Брось в конце концов переживать. Я повернулся на другой бок и стал смотреть на стену. — Оставь меня в покое. Я себя неважно чувствую. Мне нужно как следует выспаться… — пробормотал я. Однажды вечером за зданием клуба меня разыскал Петер Хоф. — Дорогой Фред, — серьезным тоном начал он, — на прошлой неделе ты ни разу не был в школе. — Откуда тебе это известно? — спросил я испуганно. — Знаю. — Ты был в школе? — Нет, я там не был. Я просто-напросто просмотрел журнал увольняющихся и не нашел в нем твоей фамилии. — Ну и что ты хочешь этим сказать? — вздохнул я облегченно. — Ничего. Я просто хочу спросить тебя: почему ты самоустранился от своих обязанностей? — У меня не было времени, — буркнул я. Петер нахмурился. Потом рассмеялся: — Ах вот как! — Ты же знаешь, что я натворил на учениях. Вот мне и пришлось как следует позаниматься, так что времени свободного у меня не было, — ответил я. — Фред! Ты мне пыль в глаза не пускай! Ты и сам не веришь тому, что говоришь. — Что тебе от меня нужно? Кто дал тебе право упрекать меня? Ну хорошо, на прошлой неделе я не был в школе. Что из этого? Уж не хочешь ли ты мне приказать ходить туда? — Не горячись, Фред! Ты прекрасно знаешь, что я не буду тебе приказывать. Что же за Союз молодежи был бы у нас, если бы мы работали только по приказам? Просто я хочу сказать тебе, что для работы в школе лучшей кандидатуры нам не найти. Было уже темно, но до отбоя оставался еще целый час. После того как Петер ушел, я стал прохаживаться за зданием клуба, окна которого были ярко освещены: шел праздничный концерт. Сквозь толстые стены доносилась песня о маленьком барабанщике, которому не удалось допеть до конца своей песни: вражеская пуля сразила его. На сердце у меня стало тяжело. Я понял, что стремление замедлить ход событий не спасет меня. В казарме не было ни души. Видимо, все пошли в клуб. Я сел на койку и стал думать. Неожиданно в дверь кто-то постучал. Я поднял голову и увидел незнакомого солдата с автоматом за плечом и каской на голове. — В этой комнате живет рядовой Беренмейер? — спросил он меня. Я вскочил. — Что случилось? — Ему письмо. На КПП у ворот его передала какая-то девушка. — Давай сюда. — Ну-ну, не так быстро. Тебя что, лишили увольнения в город? — Да, — соврал я, чтобы солдат поскорее ушел и оставил меня одного. — Не горюй, дождешься и ты увольнения. А у тебя, я вижу, неплохой вкус: девушка, которая передала это письмо, очень симпатичная. Наконец солдат ушел. Я вскрыл конверт, и у меня перехватило дыхание. Это было письмо от Софи.«Фред, милый! Что это значит? Вот уже больше недели ты молчишь. Что с тобой? Что-нибудь случилось? Или ты болен? Могу я чем-нибудь помочь тебе? Я волнуюсь. Жаль, что капитан Кернер все еще не вернулся из командировки, а то бы я спросила у него, что с тобой. Прошу тебя, ответь мне, и побыстрее.На следующий день я попросил дать мне увольнение в городской отпуск. Был туманный дождливый вечер. Когда я проходил через КПП, на посту стоял тот самый солдат, который вечером передал мне письмо. Он сразу узнал меня. Проверив увольнительную, дружелюбно сказал: — Теперь ты можешь навестить ее. Я бы сейчас с удовольствием поменялся с тобой местами. Ну, всего тебе хорошего… Я медленно шел по улице. Охотнее свернул бы налево, в сосновый лес, из которого тянуло смолой и сыростью, но ноги шли прямо… Скоро я оказался в поселке. Большой школьный двор выглядел одиноким. Я вошел в школу и поплелся по длинному коридору мимо пустых классов, двери которых были заперты на ключ. Каждый раз, когда я брался за ручку двери, меня охватывало волнение. Но дверь оказывалась запертой, и я, облегченно вздохнув, шел дальше. Биологический кабинет оказался незапертым. Я потихоньку открыл дверь. Вокруг огромного стола, на котором лежали пинцеты, ножницы, стояли весы и даже небольшой микроскоп, сидели ребята. Они завороженными глазами смотрели на Софи. Первым меня увиделкрепыш Роберт Кернер: — Фрейлейн Вайнерт, Фред пришел! Софи испуганно посмотрела на меня. Прядь каштановых волос упала на лоб. Лицо залил яркий румянец. Иначе реагировали на мой приход дети. — Фред, где ты пропадал? — закричал Роберт. А маленькая темноволосая Карин, играя своей большой косой, сказала: — Мы так тебя ждали! — Я не мог прийти, ребята, — ответил я. — А в следующий четверг ты придешь к нам? — Еще не знаю, ребята. — Ну вот!.. Софи отвела меня в сторону и протянула руку. — Здравствуй, Фред. — Здравствуй, Софи. Я отошел к окну и сел на стул, откуда была хорошо видна вся комната. Дети стали продолжать свои опыты. Маленький Роберт с серьезным лицом склонился над весами, время от времени поглядывая в раскрытую тетрадь. Карин, вооружившись пинцетом, клала в пробирки зерна кукурузы. — Как твои дела, Фред? — неожиданно спросила Софи. — Так себе… — Что-нибудь случилось? — Как тебе сказать… Голос Софи стал совсем тихим: — Почему ты не приходил? Я пожал плечами. Вдруг Софи обратилась к детям: — Ребята, я что-то придумала. Идите в сарай и принесите оттуда кукурузу сорта «В»! — Вы же говорили, что с ней мы будем работать на следующей неделе, — заметил Роберт. — Мы проведем несколько опытов и сравним, какой сорт кукурузы лучше. Ну идите, ребята. Как только ребята вышли из класса, Софи подошла ко мне и взволнованным голосом спросила: — Я не могу больше играть в прятки, Фред! Скажи же наконец, что случилось? И я рассказал ей обо всем: о письме Анны, об Анжеле и о ребенке. Мы долго молчали. Было слышно, как во дворе ветер сдувал с мокрой крыши дождевые капли и бросал их в окно. Где-то прогромыхал грузовик. На душе у меня было тяжело. Хотелось встать, подойти к Софи, обнять ее и сказать: «Софи, ничего не случилось! Все это неправда. Нет никакой Анжелы, никакого ребенка…» — Что же теперь будет? — спросила вдруг Софи, глядя в сторону. Я молчал. — Скажи, Фред, что ты собираешься делать? — Еще не знаю, Софи. — Ты должен решиться. Я молчал. Софи неожиданно вздрогнула, и по телу ее пробежала нервная дрожь. — Я такая несчастная в любви… — тихо сказала она. — Софи! — крикнул я и бросился к ней. — Милая Софи, ты не должна так говорить!.. — Я обнял ее. — Софи! Милая! Я люблю только тебя! Слышишь? Софи высвободилась из моих объятий. — Мы больше не должны видеться, Фред. Никогда. Слова Софи окончательно лишили меня разума. Я бросился к ней и начал целовать лоб, губы, шею, глаза. — Ты не должна так говорить, Софи! Все будет хорошо. Я съезжу домой, поговорю с Анжелой, все улажу. Все-все! И снова вернусь к тебе. — Ах, Фред!.. — Да, да! — Нет! Нет! Нет! — Софи покачала головой. — Я обещаю тебе это, Софи! — Уходи, Фред! Прошу тебя, уходи! Оставь меня! — умоляла она, вытирая слезы. — Уходи. Ребята идут сюда! Дверь отворилась — и на пороге появился Роберт, неся в руках, сложенных лодочкой, кукурузные зерна. — Вот он, сорт «В», посмотрите! — радостно воскликнул он. — Вы, конечно, правы, фрейлейн Вайнерт! Сорт «В» лучше сорта «А». — И это результат лучшей прополки сорняков, — тихо проговорила Софи. Я вышел и осторожно закрыл за собой дверь.Твоя Софи».
29
Больше чем полдня я провел в поезде. Это была очень тяжелая поездка: народу ехало тьма. Первые несколько часов мне пришлось простоять в коридоре. Держался я за багажную сетку и каждый раз, когда паровоз делал рывок, невольно задевал соседа слева, низенького толстенького мужчину, носу которого угрожал мой локоть. Мужчина со злостью косился на меня, но что я мог поделать?.. Наконец освободилось место сбоку, и я сел. Но мое блаженство продолжалось не больше трех минут: пришлось уступить место полной женщине, которая неожиданно появилась передо мной. Я пересел на другой поезд и расположился у окошка в почти пустом вагоне, который то и дело подбрасывало. В предрассветных сумерках уже можно было видеть стройные сосны, бегущие навстречу поезду. Потом понеслись поля, луга и деревушки. Несколько километров параллельно железнодорожному полотну проходило шоссе, по которому одиноко бежала легковая машина. Проехали мимо переезда с опущенным шлагбаумом. Перед ним стоял трактор с прицепом, доверху нагруженным картофелем. Сбоку — несколько крестьянок с велосипедами и стайка детишек с ранцами. Я подъезжал к родному городу. Сначала в окне замелькали коттеджи, окруженные фруктовыми деревьями, потом двух-трехэтажные дома пригорода, между которыми возвышались корпуса недостроенных зданий. Поезд шел к повороту. Я открыл окно и высунулся наружу. Свежий ветер бил в лицо, трепал волосы. Показались фабричные, большие и маленькие, трубы, вздымавшиеся к небу. Это был мой родной город. Вскоре вокзал с его шумом, толчеей, скрипом багажных тележек и хрипением громкоговорителей остался позади. Я поздоровался со старыми облысевшими платанами, окружавшими привокзальную площадь, магазинчиком и цветочным киоском, как старой знакомой, поклонился гостинице. Но странно, все это показалось мне каким-то маленьким и одиноким. Я сразу же узнал двух дворников с красно-белыми повязками на рукавах и полицейского, стоявшего на перекрестке. Одним словом, я был дома! А вот кафе-молочная, где мы с Анжелой не раз потягивали ананасный сок и слушали музыку. Интересно, цела ли еще пластинка, в которой поется о женихе, сохранившем верность своей невесте?.. По этим самым улицам, которые теперь показались мне какими-то узенькими, мы бродили не раз. Проходили через этот старенький мост, под которым лениво течет грязный поток сточной воды из нашего завода. Частенько мы спускались по ступенькам — а их было целых пять — вот в это кафе, и я, чтобы заказать два бокала вина, разумеется самого дешевого, собирал всю мелочь из своих карманов. А вот и кинотеатр! Как часто мы бывали здесь! Иногда сидели в самом последнем ряду, захваченные переживаниями маленького Сережи или потрясенные суровой исповедью Андрея Соколова из «Судьбы человека»… А вот и знакомая дверь со старомодным звонком. Разумеется, и на этот раз она открылась с трудом, а под ногами, как и прежде, заскрипели (каким милым показался мне этот знакомый до боли скрип!) три ступеньки. А вот и цветное стекло с трещиной в окне коридора, которое никак не могут сменить! Это я разбил его из рогатки. Было это давно-давно… Как тогда ругалась Анна! А когда меня начал отчитывать хозяин дома, Анна заступилась за меня. Я должен был вставить стекло за свои деньги, которые мне давали на мелкие расходы, но моих капиталов не хватило на стекло, тем более цветное. Тогда оно было в цене. Я позвонил. Послышались шаркающие шаги. Дверь приоткрылась — и в узкую щель я увидел полоску нашего коридора и маленькую старушку с серебряными волосами в утреннем халате, которая с удивлением смотрела на меня через очки. Вдруг глаза ее ожили, засветились радостью. Мама распахнула дверь и крикнула: — Альфред! Я вошел в комнату. — Мама, ты, наверное, работала в ночную смену? Извини меня, пожалуйста, что я так рано разбудил тебя. Но она не слушала меня. — Как ты вырос! И повзрослел! Ты так хорошо выглядишь! И загорел. Если бы тебя сейчас мог увидеть отец! Ты уже настоящий мужчина! Я положил свои пожитки на пол, снял френч и пошел на кухню умываться. — Ты, наверное, голоден? Что тебе приготовить? — Не беспокойся, мама. Я сам себе что-нибудь приготовлю. — Странно. Ничего подобного от тебя раньше не слышала. Я улыбнулся: — В армии мы все делаем сами, мама. Но она и слышать не хотела. Пришлось попросить зажарить пару яиц и картошки. — Ты же знаешь, мама, это мое самое любимое блюдо. Через несколько минут я уже сидел за нашим стареньким обеденным столом и опустошал стоявшую передо мной тарелку. Подняв глаза, увидел на столе бутылку белого вина и два стакана. — Правда, это вино купила твоя сестренка… — сказала мама. — С каких это пор Анна стала покупать вино? — С недавних пор у нас в доме всегда что-нибудь есть… Анна наконец нашла себе парня по душе. — Что-нибудь серьезное? — Что за вопрос, сынок! Конечно, серьезное! Иначе он и порога не переступил бы. — Я его знаю? — Конечно, знаешь, сынок. Он же с вашего завода. Удо его зовут. — А… — Я чуть было не подавился картошкой. — Итак, вот, оказывается, почему у нее не находилось времени написать письмо. — Так, сынок, так. Она сейчас очень занята, а две недели назад написала тебе письмо. — Она тебе говорила? — с волнением спросил я. — Я знаю все, сынок. Мне стало стыдно, и я опустил голову. — Хорошо, что ты приехал, — продолжала мама, — нужно все уладить. А то знаешь, что люди говорят! — А кто еще знает об этом? — Весь дом. Все знают. Я уже не осмеливаюсь показываться на улице! — Как же это так, мама? — Была у нас тетка твоей Анжелы, ужасная женщина. Она даже в комнату не захотела войти. Остановилась перед дверью и так начала кричать… Весь дом взбудоражила. Грозила, что заявит в полицию… — А вы что? — Я сказала ей: «Успокойтесь, фрау Петерман, и не поднимайте столько шума. Мой сын отдает себе отчет в своих поступках. Он, наверное, любит вашу племянницу. Вот подождите, приедет он в отпуск и все уладит. Мой сын, фрау Петерман, не способен на подлость!» Вот что я ей тогда ответила. Разве я что сделала не так? — Ты правильно поступила, мама, — ответил я. И вдруг яичница стала какой-то невкусной. Я отодвинул тарелку в сторону и недовольным тоном сказал: — Я очень устал, мама. Хочу немного поспать…30
Когда я проснулся, было уже темно. Через окно в комнату проникал тусклый свет уличного фонаря; где-то вдалеке сигналила машина. Ничего не понимая, я стал смотреть по сторонам. Узнал нашу старомодную лампу, громоздкий шкаф, стоявший в углу, рисунок на гардинах, шлем для езды на мотоцикле, висевший на вешалке возле двери. Наконец до меня дошло, что я дома и лежу в своей комнате. Еще не очнувшись ото сна, потянулся к столу, где лежали мои часы. Неужели я проспал до самого вечера? Было почти пять часов. В квартире тихо. Значит, мама опять ушла в ночную смену. А где же Анна? В кухне на столе, рядом с приготовленным для меня ужином, я нашел записочку, наскоро написанную карандашом. В ней Анна желала мне приятного аппетита и успеха. Просила извинить за свой уход. До одиннадцати ее не будет. Все это пришлось мне по душе, так как избавило на какое-то время от докучливых расспросов. Я стоя с жадностью съел ужин и вышел из дому. С полчаса бесцельно болтался по слабо освещенным улицам, разглядывая витрины магазинов. Меня перегоняли девушки. Все они были хорошо одеты. Наверно, шли на какой-нибудь концерт. После долгого пребывания в Трех Елях было как-то непривычно видеть сразу столько симпатичных молодых девушек. А вот и знакомая улица с тумбами для театральных афиш. Я шел все медленнее и медленнее. А вот и дом, в котором… Как и раньше, я перешел на противоположную, темную сторону улицы, откуда был хорошо виден весь дом. В окнах третьего этажа горел свет. Я должен войти туда и… Но я стоял на месте и чего-то ждал. Минуту, две, пять… «Нет, сегодня у меня плохое настроение, — сказал я себе. — Нужно все как следует обдумать. Да к тому же у меня впереди еще целых два дня». Так и не решившись войти, я пошел домой. Лег в кровать, но заснуть не смог. Слышал, как часа в два ночи вернулась сестренка, а на рассвете — мама с работы. На следующий день я решил сходить на завод — проведать товарищей. — Вот так новость! — закричал мне Георг с площадки огромного пресса. — Каким ветром тебя занесло, Фред? — Ножками дошел, потом по железной дороге и снова ножками! — весело ответил я. — Ты что, в отпуск, приехал? — Да. — Ну, парень, и долго же ты собирался! — Зато все же собрался. Как видишь, жив и здоров. — Теперь вижу, — ответил Георг. — Подожди меня, я сейчас к тебе спущусь. — Могу и я к тебе подняться! — крикнул я ему. — Не надо, а то еще запачкаешь свою красивую форму! — Жаль, а то бы я быстро нашел у тебя какой-нибудь непорядок! Георг проворно сбежал ко мне. Такой прыти я от него не ожидал. Он вытер промасленные руки паклей и протянул мне локоть. — Ну и неожиданность, Фред. Ты точно с неба свалился. Если бы я не был таким чумазым, обнял бы тебя. Мы прошли через весь третий цех. Удивлению моему не было конца: здесь все было по-другому, многие старые машины заменили полуавтоматами. — Ну как, нравится тебе у нас? — спросил Георг. — Поразительно. — А помнишь, тогда на вокзале, ты не верил, что мы способны отремонтировать даже старое оборудование. А теперь видишь? — Хотел бы я поработать здесь. — Подожди, Фред, еще поработаешь. Твое место тебя ждет. Мы вошли в помещение, где рабочие завтракали. Как раз начался перерыв. Со всех сторон ко мне подходили рабочие. Со многими из них я был знаком. «Это единственное место во всем городе, где я чувствую себя как дома», — подумал я. — А куда запропастился твой Удо? — спросил я. — Взял отпуск на несколько дней. Получил квартирку. Готовится к свадьбе. — Да?.. — удивился я. — А ты что, не знаешь?! Как только ты уехал, он начал ухаживать за твоей сестрой. — Об этом-то я узнал вчера. А вот о свадьбе слышу впервые. — Я и сам об этом недавно узнал, — перебил меня Георг. — На прошлой неделе у нас была вечеринка. Удо пришел с твоей сестрой. Все сейчас женятся. Ну а как твои дела? Не зная, что ответить, я пожал плечами и стал смотреть в сторону. В этот момент к нам подошел Кезебир. — А вот и наш разбойник наконец-то заявился домой! — воскликнул он шутливо. — Ну как, досталось тебе? Сознавайся! — Еще как! — в тон ему ответил я. — А ты возмужал. Молодой папаша!.. — А ты откуда об этом знаешь? — А почему бы мне об этом не знать? — И он громко рассмеялся. — Об этом все знают, не только я. И вряд ли тебя будут оправдывать: еще молоко на губах не обсохло, а ты уже ребенка заимел. Когда перерыв кончился, я спросил Георга: — Откуда он-то обо всем знает? — Откуда? Наверное, Удо или твоя сестра рассказали. Лично я слышал не от них. — От кого же? — Вчера здесь был отец Анжелы. Интересовался тобой. «Этого еще не хватало. Никогда бы не подумал, что так много людей будут совать свой нос в мои личные дела». — Я вижу, тебе все это неприятно, но ты не обращай внимания. Я охарактеризовал тебя с самой лучшей стороны. Отец ее — человек старого закала, но мои слова успокоили его. Он ушел довольный. — Вот как! — Ну хватит об этом! — Да. — Ну так как же у тебя дела? Когда свадьба? — Об этом мы еще не говорили. — Что? — удивился Георг. — Еще не говорили? — И он рассмеялся. — Ну и чудаки вы оба!31
Я распрощался с Георгом и пошел домой. «Нужно как-то решать. Если сегодня я ни на что не решусь, останется только завтра. А кто знает, какие сюрпризы принесет мне этот день!» И все же я не спешил. «До вечера еще далеко», — утешал я себя. Проголодавшись, зашел в столовую пообедать. Во всех залах было много народу, и мне пришлось долго ждать. Часа через два я вышел и вспомнил, что еще не видел Анну. Зашел в магазин, где работала сестра. Поговорил с ней. В пять часов снова был на улице. Пошел по направлению к дому Анжелы, но, увидев молочный бар, зашел туда и съел порцию мороженого. Через полчаса пошел дальше. Чем ближе подходил к дому Анжелы, тем неувереннее чувствовал себя. У витрины одного из магазинов топтался так долго, что продавщицы стали смотреть на меня из окон. Я пошел дальше, но не к дому Анжелы, а к пивному бару. Выпив кружку пива и две рюмки коньяку, осмелился дойти до ворот дома, в котором жила Анжела, но прошел мимо. Решил еще раз подбодрить себя и зашел в кафе, но за одним из столиков сидел пожилой старшина, который сразу же заметил, что я уже выпил, и так посмотрел на меня, что я предпочел своевременно удалиться. Уже стемнело. Я понял, что и на этот раз не решусь зайти к Анжеле. Махнув рукой, я медленно повернул домой. В коридоре столкнулся с Анной. — Да ты, никак, пьян! — Добрый вечер, — поздоровался я и прошел мимо. — Фред! Уж не научился ли ты в армии выпивать? — взволнованно спросила она меня. — Это я от радости, что приехал домой. — Ма-ма! — громко позвала Анна маму, которая возилась на кухне с кастрюлями. — Фред был в пивной! — Оставь его, — ответила мама. — А почему бы ему не выпить кружечку пива? Встретился небось с кем-нибудь из друзей. После ужина я хотел было сразу же уйти в свою комнату. — Не убегай, пожалуйста, — удержала меня Анна. — Расскажи-ка лучше, как у тебя обстоят дела. — Нечего мне рассказывать, — огрызнулся я. — Послушай, Фред, в конце концов ты должен рассказать нам, до чего же ты договорился со своим будущим тестем. Я решительно поднялся со стула, чтобы прекратить этот неприятный для меня разговор. Однако не успел я взяться за ручку двери, как Анна закричала: — Фред! Надеюсь, ты уже был у них? — Нет! — буркнул я и быстро пошел в свою комнату. Не прошло и несколько секунд, как ко мне вошла Анна. — Вот как! Ты, значит, даже не был у них? — Это тебя не касается. — Что значит не касается? — удивилась Анна. — Да в своем ли ты уме? А ты о нас подумал? О маме и обо мне? Или пусть люди за нашей спиной показывают на нас пальцем? Боже мой, ну и братик у меня! Если бы отец видел тебя! — Ты только о себе и думаешь! А я не хочу! Понимаешь, не хо-чу! — Так вот ты, оказывается, какой! — воскликнула Анна. — И это мой брат! Я бросился на кровать и, чтобы не видеть лица сестры, повернулся к стене. — А что ты понимаешь? Ты разве знаешь, что такое любовь? — с горечью спросил я. — Позволь! Позволь! Я как раз собираюсь выйти замуж! — Замуж! Замуж! — передразнил я ее. — Тебе все равно, за кого выходить замуж! Лишь бы командовать кем-нибудь! Сильно хлопнув дверью, Анна выскочила из моей комнаты. Я вышел на улицу. Прохладный осенний ветер освежил меня. «Что же мне теперь делать?» С твердым намерением забыться я вошел в первую попавшуюся пивную. Выпил рюмку коньяку. В горле зажгло. В этот момент кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся. За моей спиной стоял верзила. — Смотри-ка, старый знакомый! — воскликнул он и обнял меня. Я охотнее всего избавился бы от него, но было поздно. Верзила уже подсел ко мне. — Эй, шеф! Два пива и два коньяку! — крикнул он. Я отодвинулся от верзилы, взял свою кружку пива и посмотрел ему в глаза. Он был уже пьян. — Ну как жизнь? — спросил он меня. Я молчал. — Понимаю, понимаю. Армия не дом отдыха… — Он выпил. — Мало возможностей, мало свободы… — Он сжал свою костлявую руку в кулак и прищелкнул языком. Потом махнул рукой. — Ты знаешь, я в прошлый раз на тебя не рассердился. Меня послали на медицинское освидетельствование. Но и там мне не нашли никакого применения. И знаешь почему? — Он снова выпил. — Почему же? Парень рассмеялся: — Так уж ты и не знаешь. Признали негодным к военной службе по причине геморроя. Понял? Ха-ха… — Вот оно что! — буркнул я. — Представь себе, я никогда не думал, что он может так пригодиться! Я отпил большой глоток пива. Верзила же выпил залпом всю кружку и заказал еще два коньяка, хотя я не притронулся и к первой рюмке. Закурив, он повернулся ко мне и сказал: — Слышал я, что твои дела швах… — Это почему же? — удивился я. — Да ведь у твоей куклы, как там ее… Анжела, что ли… Я сжал кулаки. — Только не вешай голову! — начал он утешать меня. — Если бы ты оказался на моем месте!.. Это была настоящая трагедия с морем слез. Она хотела, чтобы я женился на ней, но я не дурак! Лучше платить алименты, чем потерять свободу. — Парень так наклонился ко мне, что его потное лицо оказалось у моего носа. — Вот и ты так сделай! Плати, и пусть она отцепится от тебя. Баш на баш! Только что же останется от твоего солдатского заработка?.. — Так я и сделаю. — Я приблизил к нему свое лицо. — Сейчас я тебе что-то скажу по секрету. Раньше ты мне не нравился из-за одного твоего вида, а теперь-то уж я окончательно понял, что ты за гусь! Мерзавец! Негодяй! Убирайся отсюда, слышишь! Убирайся! Парень опешил, а я все тряс и тряс его за плечи. — Твое счастье, что я сейчас в форме, а то бы показал тебе, где раки зимуют! — Э-э… — растерянно бормотал парень. Я оттолкнул его от себя: — Проглатывай свое пиво и убирайся вон! Через несколько минут я вышел на улицу, а в голове вертелась мысль: «И почему, Фред, тебя так возмутило поведение этого негодяя? Разве ты поступаешь не так, как он?»32
Если бы я не был знаком с Анжелой, наверняка чаще бывал бы у Георга, а так я навещал его не чаще раза в месяц. Жил он на окраине города, в стареньком кирпичном домике, в котором была одна-единственная комната и крохотная кухонька! За домом — полузапущенный сад, который достался Георгу от матери. Несколько лет назад мать Георга умерла, и он остался один. Дирекция завода уже несколько раз предлагала ему комнату в новом доме, но он отказывался: не хотел уезжать отсюда. Мне всегда нравилось у него. Вечерами, особенно когда было тепло, мы обычно сидели на скамейке перед домиком. Георг курил, а я выстругивал палочку или мастерил скворечник. Мы говорили обо всем на свете, но чаще всего о заводских делах. Нередко Георг рассказывал мне о событиях международной жизни. Иногда, обычно по воскресеньям, он уговаривал меня пойти с ним на рыбалку, а рыбаком он был заядлым. Мы садились на велосипеды: Георг — на свой, а я — на старенький велосипед его матери. Ехали к озеру. Там разыскивали укромное местечко и забрасывали удочки. С пустыми руками Георг ни разу не возвращался домой. Утром в воскресенье я, как обычно, поехал навестить Георга. Он был под навесом: ремонтировал свой велосипед. Не успел я появиться на тропинке, ведущей к его дому, как он закричал мне: — Ага, решил еще раз взглянуть на мою хижину? — А разве ты собираешься переезжать? — Нужно, Фред, нужно. — Когда? — Наверное, через месяц. — Но ты ведь не собирался. — А разве по дороге сюда ты не видел новых домов? — Видел. — И до этого места добрались строители. Будет и здесь новый район. — Значит, скоро ты переедешь в новую квартиру? — Да. Я присел на скамейку. Георг начал натягивать цепь на велосипед. — Тебе повезло, что ты застал меня дома. Я ведь уже совсем собрался на рыбалку, да вот эта старая развалина задержала. — Он ткнул пальцем в сторону велосипеда. — Значит, я тебе помешал? — Да что ты, Фред! Просто я не ждал тебя. Думал, ты будешь у своей невесты. — Вот как раз поэтому я к тебе и пришел. Поговорить хочу… — Вы что, поссорились? — Хуже, — пробормотал я. — Не знаю, что и делать. — Поэтому ты вчера вечером и напился? — Откуда ты знаешь? — Догадался. Я отвернулся. — Ну ладно, выкладывай, что там у тебя стряслось. — Я полюбил другую девушку… — робко начал я. — Что?.. — Да. Люблю другую девушку. Зовут ее Софи!.. Георг прервал меня: — Пойдем-ка лучше в дом. Там и поговорим как следует. — И он потащил меня в комнату. Георг подошел к шкафу, достал недопитую бутылку коньяку и две рюмки. Я сел к столу. Георг наполнил рюмки. — Так легче будет говорить, — объяснил он и сел напротив меня на низкую кушетку, на которой он спал. Я довольно подробно рассказал ему обо всем. Когда я кончил, мы долго сидели молча. Я смотрел прямо перед собой на стену, на которой висели ходики. «Тик-так, тик-так…» — стучали они. Проворный маятник ходил влево-вправо… Георг, который по утрам никогда не курил, на этот раз отступил от своего правила и закурил. Выпустив изо рта густые клубы дыма, он стал смотреть, как они тают. Наконец он спросил: — Что же ты теперь собираешься делать? — Если бы я знал! Вот и пришел к тебе посоветоваться. — Значит, в отпуск ты приехал с целью? — Да. Хочу поговорить с Анжелой и все выяснить. Хочу сделать так, чтобы ребенку было хорошо… — Тогда почему же ты до сих пор не был у нее? Ведь ты уже целых два дня дома! — Ах, все не так-то просто, — тяжело вздохнув, ответил я. — Дело в том, что мама и Анна… — Значит, у тебя нет твердого решения? Я пожал плечами. Георг продолжал курить. — Что же я должен тебе посоветовать? — Что можешь. — А ты что думаешь, я разведу руками и дам тебе мудрый совет, как Соломон? — Ну, тогда я пойду… — Эх, парень, запутался ты. — Если ты не можешь мне посоветовать, тогда я пойду. — Ты хоть понимаешь, что будешь отцом?! — неожиданно твердым голосом спросил Георг. — Отец! Понимаешь? Я молчал. Потянулся за рюмкой и быстро опрокинул ее в рот. — А я так надеялся на тебя, Георг. Ты ведь все знаешь! Во всем разбираешься! Георг посмотрел на меня своими большими карими глазами и нахмурился. — Я же не знаю ни Софи, ни Анжелы. Я даже не знаю, как ты жил в последнее время. Одна открытка в месяц — и все! «Ку-ку, ку-ку, ку-ку…» Маленькая кукушка одиннадцать раз прокуковала, высунувшись из резного окошечка, и тут же спряталась. — Ну ладно, мне пора идти, — сказал я и встал. Георг не пошевелился. — Скажи хоть, как бы ты поступил на моем месте? — спросил я. — Мой поступок вряд ли пришелся бы тебе по душе. — Ну говори же, не тяни! — Ладно, раз уж ты так хочешь, я скажу. У ребенка должны быть родители. Понимаешь? — Значит, я должен расстаться с Софи? — Да. — И жениться на Анжеле? — Да. — И только ради ребенка? — В первую очередь ради него. — Тебе легко рассуждать. Ты не женат, и у тебя нет ребенка! И я тут же понял, что сказал ужасное. Пришел к другу просить совета, а сам обидел его. Но было уже поздно. Георг откинулся на спинку стула и с горечью сказал: — Да. Я не женат, и у меня нет ребенка. — Что с тобой, Георг? — испуганно спросил я. — Ничего, — ответил он и сделал несколько затяжек. Потом выпил свою рюмку. — Георг, почему же ты замолчал? Он махнул рукой. — Я обидел тебя, Георг? — Нет, Фред, ты не можешь меня обидеть! — Почему? — Без всякого «почему». — Ты что-то не договариваешь, Георг! — Чего я не договариваю?.. — Георг немного помолчал, потом начал: — Хочу рассказать тебе историю одного моего друга, Фред. Был он таким же слесарем, как ты или я. В деле своем разбирался неплохо. Происходило это в сороковых годах. Почему-то он решил, что его в армию не заберут. Женился на очень милой, симпатичной девушке. Скоро у него родился сын, а затем дочка. И вдруг неожиданно для него ему вручили повестку. Гитлеру не хватало пушечного мяса. На фронте он пробыл ни много ни мало — четыре недели. Был ранен осколком гранаты и попал в плен к русским. Целых два года пробыл в Советском Союзе в плену. Но за эти два года он поумнел. Случилось так, что за все это время он не получил из дому ни одного письма. Наконец настало время, когда он мог вернуться на родину… На месте, где стоял его дом, был разбит цветник. Соседи рассказали, что в сорок пятом году английская авиация бомбила город и бомба, которая упала на это место, так разнесла дом, что от него не осталось ничего, кроме щепок и обломков кирпича. С тех пор наш коллега слесарь, как ты говоришь, не женат. — Прости меня, Георг, прости. Я не хотел… — Ладно, Фред, — перебил меня Георг, — я рассказал тебе эту историю только для того, чтобы ты понял, почему я беспокоюсь прежде всего о ребенке.33
После этого разговора с Георгом я наверняка пошел бы к Анжеле, но случилось иначе, и все из-за того, что моя сестра Анна не могла не вмешиваться в мои дела. Короче говоря, от Георга я сразу же поехал домой. В коридоре меня встретила сестренка. — У тебя гости, — бросила она. Не успел я войти в свою комнату, как мне на плечи легли две тонкие руки, а чей-то голос шепнул мне: — Фреди! Это была она! Она стояла и ждала меня, словно испуганная лань. Тот же носик, те же большие темные глаза, тот же знакомый маленький рот. — Как ты здесь очутилась? — Анна… — пролепетала Анжела, — твоя сестра Анна… — Да, это я привела ее сюда! — крикнула из кухни Анна. — Я! Я закрыл дверь и начал разглядывать Анжелу. Внешне она несколько изменилась: чуть-чуть пополнела. Она сделала шаг ко мне и слегка пошатнулась. — Ах, Фреди… — Ты по-прежнему на каблуках, — с укоризной сказал я. Анжела опустила глаза и посмотрела на свои туфельки. Потом взглянула на меня так, что я не выдержал: — Ну, здравствуй, Анжела. Она припала к моей груди. Я слышал, как она потихоньку плакала. В растерянности я стал гладить ее волосы, лицо, руки. — Ну хватит, перестань… — попросил я. Мне было по-настоящему жаль ее. Как и раньше, мы медленно шли по старым, знакомым местам. Посидели в парке на нашей скамейке. Потом зашли в наше кафе. Я заказал мороженое. Скоро в кафе стало душно, и мы снова вышли в парк и сели на нашу скамейку. Наконец я не выдержал и с упреком в голосе сказал: — Почему же тогда, когда я уходил в армию, ты ничего не сказала мне? Анжела беспомощно развела руками. — Ах, Фреди, я не решилась. Представь себе мое положение. Все получилось так неожиданно. И потом, я очень боялась! Думаешь, зачем я тебе однажды рассказала про Герду? Как ты не догадался!.. Я молчал, чувствуя свою вину. — Каждый раз, — продолжала Анжела, — каждый раз я думала, что ты и сам заметишь, но ты так ничего и не заметил. — В конце концов, ты могла бы написать мне. — Но ведь я не знала твоего адреса. — Как не знала? Разве ты не получала моих писем? Анжела покачала головой: — Честное слово, Фреди, я не получала от тебя ни одного письма. — Странно, очень странно! Кому же понадобилось задерживать мои письма? — Не знаю, Фреди. — Может быть, твоя тетка? — Не знаю, Фреди. О многом говорили мы в тот вечер. Я собирался рассказать Анжеле о Софи, осторожно, разумеется, но так и не решился. Было уже темно, когда Анжела вдруг радостно воскликнула: — Фреди! Фреди!.. Сейчас я опять чувствую его! Он шевелится! — Она схватила мою руку и прижала ее к животу. В этот миг я понял, что не смогу оставить ребенка. Я проводил Анжелу до дому. Дверь открыл ее отец, маленький худой мужчина в очках. Он вежливо пригласил меня войти. Я представился. Старик извинился и исчез. Минуты через три он вышел из спальни в черном поношенном костюме. Только домашние туфли забыл снять. Через пять минут старик уже показывал мне свою коллекцию марок и книги, стоявшие в беспорядке на массивной полке. История Греции, Древнего Рима, биография Александра Македонского… Потом он обратил мое внимание на статуэтки, которые стояли повсюду. Некоторые из них были из гипса, другие — из бронзы. Позже старик усадил меня на старый диван, а сам стал расхаживать по комнате. — Кто вы по специальности? — спросил он вдруг. — Слесарь. — Слесарь? Хм… А что еще вы умеете? — Ездить на мотоцикле… — И это все? — Нет, конечно. Я еще могу водить автомобиль, трактор… — Так. А еще? — Делать электропроводку, ремонтировать электроприборы, белить квартиру… Я рассказывал, а сам думал: «Сейчас он спросит о самом важном: о моем отношении к Анжеле и к ребенку, который скоро должен появиться на свет». Но неугомонный старик не прекращал своих расспросов: — А чем вы занимаетесь в свободное время? — Я люблю музыку. — Какую? — Джазовую, танцевальную. Люблю песни. — А серьезную музыку вы любите? — Да. — Вы обязательно должны интересоваться серьезной музыкой, — поучал он. — Нынешняя молодежь не любит серьезной музыки. Вы должны слушать Баха, Генделя, Бетховена. Я молча кивнул, так как не знал, что мне следовало отвечать. А старик все экзаменовал и экзаменовал: — Вы много читаете? — Да, конечно. — Вы должны много читать. Ничто так не увеличивает знаний человека, как чтение. Я всю свою жизнь читаю. А что вы читаете? — Что под руку попадет. Современников, о путешествиях, биографии… — Этого недостаточно. Нынешняя молодежь очень мало читает. В мое время было иначе. Тогда мы еще учили в гимназии латынь и греческий. Вы читали Гомера, Горация, Вергилия, Тацита? — Нет, — ответил я. И поскольку вопросы старика начали забавлять меня, весело добавил: — Этих господ я не знаю. Они жили слишком давно и уже умерли для нас. Отец Анжелы не обратил внимания на мою шутку, и я понял, что он не слышит меня. — Знаете вы Ганнибала? Цезаря? Карла Великого? Что вам известно о Наполеоне? — не успокаивался он. Несколько раз старик оставлял меня одного: видимо, ходил на кухню, где Анжела, убедившись в безобидности нашего разговора, готовила ужин. Отец Анжелы не раз подходил к письменному столу и поправлял то миниатюрный макет Эйфелевой башни, то книгу. Когда он подошел к большим стенным часам и качнул остановившийся маятник, я заметил, что на правом плече пиджак у него распорот по шву сантиметров на пять. Старик перехватил мой взгляд, но нисколько не смутился и, добродушно махнув рукой, как бы мимоходом заметил: — Великие люди тоже не обращали внимания на подобные мелочи. Насколько легко мне было с отцом Анжелы, настолько трудно пришлось с ее теткой. Домой она пришла после восьми и очень удивилась, увидев меня. На вид она была очень несимпатичная: длинная, тощая, с тонким носом и колющими глазками. Когда я здоровался с ней, она высокомерно сунула мне в руку кончики пальцев. Не сняв шляпки и пальто, села к столу. Когда она расстегнула пальто, я увидел у нее на шее, худой и жилистой, черный медальон. Тетка с раздражением следила за моими движениями. Через какое-то время она подключилась к нашему разговору. — Сколько вы зарабатываете? Есть ли у вас надежда получить квартиру? — спросила она меня. Потом поинтересовалась, чем я намерен заниматься после демобилизации. Не забыла спросить и о сбережениях. Я вежливо ответил на все ее вопросы. Когда же тетушка задала мне вопрос, которого я давно ждал, — когда же будет свадьба? — в разговор вмешалась Анжела. — Перестань, тетя! Это касается только нас двоих, меня и Фреди! Анжела проводила меня до ворот. — У меня такое впечатление, Фреди, что ты весь вечер плохо себя чувствовал, — сказала она. — Мне тоже не по себе. Но, несмотря ни на что, все хорошо. Не так ли? У меня появилась еще одна возможность откровенно поговорить с Анжелой, но я не сделал этого. — Да-да… — пробормотал я. Погладил Анжелу по голове, поцеловал и быстро пошел.34
Вернувшись в Три Ели, узнал несколько новостей. Маленький Дач в прошлую субботу сорвался с турника и сломал руку. Теперь он должен был четыре недели ходить в гипсе. Дач, конечно, горевал, но не так, как унтер-офицер Виденхёфт, который все время повторял: — А что я буду делать без наводчика? Другая новость: осенние маневры были на несколько недель отсрочены, и никто не знал почему. Но это не волновало нас, так как рано или поздно они все равно должны были состояться. А унтер-офицер Виденхёфт даже радовался. Во время утренней зарядки прошел слух, что на днях придет приказ о присвоении некоторым товарищам очередных воинских званий. Меня эта новость не тронула, так как я понимал, что моя фамилия фигурировать в этом приказе не будет. Присваивать мне звание ефрейтора было явно не за что. Зато как волновался Руди Эрмиш, который к этому времени прослужил в армии год и надеялся на повышение! Все произошло так, как и говорили. Через несколько дней весь полк выстроили на плацу для зачтения приказа. Приказ читал заместитель командира полка. Унтер-офицеру Виденхёфту присваивалось звание унтер-вахтмейстера. Пауль Кольбе и Руди Эрмиш получили по ефрейторской лычке. Мы поздравляли всех троих. Руди, находившийся в центре внимания, радостно воскликнул: — Ребята! Это событие нужно сегодня же отметить! Я приглашаю весь расчет на кружку пива! Все с радостью согласились. — А ты, Фред, — обратился ко мне Руди, — приведи свою Софи. Она ведь нам не чужая. «Только этого мне и не хватало», — подумал я, а вслух сказал: — Из этого ничего не выйдет, Руди. — Это почему же? — удивился он. — Не выйдет, и все. — Ей что, некогда? — Не может она. — Жаль, — заметил Руди, — но ты-то с нами пойдешь? — Не пойду, Руди: устал я после дороги. Ребята вместе с Виденхёфтом пошли в село, а я весь вечер провалялся на койке. Лежал, а сам думал: «Надеюсь, они там не встретятся с Софи. Самое трудное у меня еще впереди: ведь с Анжелой я так ничего и не решил». На следующее утро стало известно, почему маневры были перенесены: полк посылали на уборку в сельскохозяйственный кооператив. Эта новость у всех вызвала восторг. Только Дач не радовался: он не мог поехать с нами из-за руки. — Не расстраивайся, Малыш, — утешал его Шлавинский. А Пауль Кольбе сказал: — Ты здесь будешь нужен. — Это с перебитой-то рукой? — Ведь есть работа, где рука не нужна… — А разве ты не можешь вместо Фреда ходить в школу и заниматься с ребятами? — предложил вдруг Руди Эрмиш. — Хорошая идея, — согласился Шлавинский. — Нет, товарищи, — вступил в разговор я, испугавшись, что это предложение не принесет мне ничего доброго. — Предложение Руди хорошее, но так дело не пойдет. — Это почему же? — спросил Руди. — Детей доверили мне. — Уж не думаешь ли ты, что наш Малыш не справится? — Не хочу, чтобы кто-то другой занимался с ребятами. Это может… — Ну-ну… — Пусть занимается чем хочет, но в школе ему делать нечего, — не унимался я. К сожалению, предложение Руди услышал Виденхёфт. Он тотчас же пошел к секретарю нашего Союза молодежи и попросил его на время моего отсутствия послать в школу остающегося в полку товарища Дача.Я не находил себе места. Беспокойство мое росло с каждым днем: Дач будет заниматься с ребятами и узнает о моем разрыве с Софи. На третий день после нашего приезда в кооператив в село приехала группа студенток медицинского техникума. Всех их послали на уборку картофеля на самый дальний участок. Вместе с этой группой послали и меня в качестве грузчика, чтобы девушкам не пришлось поднимать тяжелые корзины с картошкой. Некоторые из моих товарищей встретили мое новое назначение насмешками, другие — с завистью. — Фред, смотри не балуйся там! — крикнул мне Шлавинский, когда я залезал на трактор. А Руди Эрмиш напутствовал меня следующими словами: — Не забывай Софи! Так я избавился от глаз товарищей, но попал в поле зрения дюжины любопытных девушек. Девушки так хорошо работали, что мне все время приходилось таскать полные корзины. Очень скоро я не чувствовал ни рук, ни спины. Девушки по отношению ко мне заняли выжидательную позицию. Они внимательно следили за тем, чтобы я ко всем относился одинаково. Во время обеда, получив свою порцию, я всегда садился на краю поля в сторонке от них; это убедило их в том, что я ко всем безразличен. Однажды, пообедав, я подошел к ним. Но девушек словно подменили. Все началось с того, что маленькая блондиночка закричала подругам: — Девочки, пришел наш петушок! Все прыснули со смеху. — А знает ли он, что есть петушки и курочки? — съязвила другая девушка. — Он-то? — удивилась девушка с рыжими крашеными волосами. — У него еще молоко на губах не обсохло. — Это наверняка маменькин сыночек. — Ну если в нашей армии все такие, то в будущем ничего хорошего не жди. — Люди! Нам нужны мужчины!.. Мужчины, а не такие сухари! — снова закричала блондиночка. Я ничего не ответил девушкам. Молча проработал до вечера, а потом подошел к Шлавинскому и сказал: — Хочешь завтра поехать с девицами вместо меня? Все они очень милы, хорошо воспитаны. Тебе наверняка понравятся. В тот же вечер было приказано составить списки лиц, которые умели водить трактор и имели права. Вместе с Руди Эрмишем и Паулем Кольбе записался и я, так как уже не раз работал в сельскохозяйственном кооперативе на машинах, а сейчас хотел научиться обрабатывать землю прицепными машинами. «По крайней мере, буду подальше от ребят, да и от этих сумасшедших девчат», — подумал я. Из солдат, умеющих водить машину, организовали отдельную бригаду, которая должна была работать в ночную смену. Бригадиром назначили Руди Эрмиша. Затем мы попросили директора МТС закрепить за нами машины. Мне не повезло: достался старенький трактор. Сделав по двору МТС несколько пробных кругов, я обнаружил неполадки при левом развороте. Натянув на себя комбинезон, взялся за ремонт, который оказался довольно сложным, к тому же запасные детали приходилось буквально воровать. К обеду ходовая часть моего трактора была отремонтирована, и я отважился выехать на нем за ворота МТС. Но радость моя была преждевременной: через пять минут я обнаружил другой дефект. Пришлось ремонтировать сцепление. А вечером, когда уже стемнело, выяснилось, что фары почему-то не горят, а без них я не мог выехать в поле. Провозился до позднего вечера, а когда пришло время выезжать на смену, уже до чертиков устал. Однако, несмотря на это, моя первая смена прошла хорошо. Каждую ночь я выезжал на своем железном коне в поле и работал до пяти часов утра, пока на востоке не загоралась узкая полоска утренней зари. Через несколько дней я уже не только не отставал от более опытных ребят, но даже как-то обработал больше, чем положено, гектаров, немало удивив этим Руди Эрмиша. — Вот уж чего от тебя не ожидал, так не ожидал, Фред. А я-то думал, что ты настоящий горожанин, — сказал он мне. Однако я не всегда выполнял норму. Частые поломки трактора отнимали у меня много времени, тем более что ремонтировать его приходилось мне самому, да еще ночью в поле. Особенно тяжело приходилось после дождя. Как-то после сильного дождя мне пришлось простоять более трех часов. Трактор, казалось, намертво увяз в липкой грязи. Часа два я ходил по обочине дороги и, освещая себе путь карманным фонариком, искал камни, чтобы подложить их под гусеницы и выехать из ямы. Вокруг — ни души, и до села довольно далеко. Это была ужасная ночь.
Когда пошла вторая неделя, к нам приехал капитан Кернер. Настроение у него было отличное. Все его изобретения министерство утвердило. Лейтенант Бранскийдоложил ему об успехах бригады трактористов. После обеда капитан построил нашу батарею и объявил благодарность лучшим трактористам, среди которых был и я. Наложенное на меня взыскание сняли. Но радость моя была недолгой. Когда я, получив благодарность, встал в строй, Руди Эрмиш дернул меня за рукав и шепнул: — Посмотри, кто стоит у полевой кухни. Я взглянул в направлении кухни и увидел солдата, правая рука которого была забинтована. «Значит, Дач приехал. Интересно, какие новости привез он из школы?» — мелькнуло у меня в голове. После того как батарею распустили, я отозвал Дача в сторону и спросил: — Как ты здесь очутился? — Капитан Кернер взял меня в свою машину, — с гордостью ответил Дач. — Ну а как дела в школе? — с притворным равнодушием спросил я. — Все в порядке. — Ну как, ты нашел общий язык с ребятами? — Конечно. Ребята очень хорошие. Я осторожно приближался к тому, что интересовало меня больше всего. — Пришлось тебе обращаться за помощью? — О какой помощи ты говоришь, Фред? — К учителям ты обращался? — Да нет. — А Софи? — Твоя Софи заходила пару раз, дала несколько советов, и все. — Так. А как у нее дела? — поинтересовался я. — Как это — как дела? Как всегда. — Она здорова? — Разумеется, здорова. — А как выглядит? — Фред, ты так спрашиваешь, будто не видел ее несколько месяцев. Я сделал вид, что не слышал его упрека. — Она что-нибудь передавала? — Нет, — ответил Дач. — Когда я видел ее последний раз, еще не знал, что поеду сюда. — Бог как… — Я немного успокоился. — Назад я не поеду, — сказал Дач. — Капитан Кернер сказал, что, если хочу, я могу остаться здесь. Я, конечно, останусь с вами. Со школой ничего не случится. Все равно на следующей неделе вы вернетесь, тогда ты сам будешь заниматься с ребятами. А я, чтобы не сидеть сложа руки, буду что-нибудь делать на кухне. Наш старшина согласен. И снова я остался со своими тяжелыми думами и страхом. За время трехнедельного пребывания в кооперативе я много думал о том положении, в которое попал, и пришел к выводу, что Софи мне дороже.
35
Однажды на третьем или четвертом году войны, играя на кухне, я нечаянно разбил чашку из сервиза. Спрятал. Несколько дней подряд скрывал это. Однако мое беспокойство было настолько большим, что с того злополучного дня я сильно изменился. Словно желал загладить свою вину, я бродил по квартире и искал, что бы сделать. Ежедневно выносил помойное ведро, собирал игрушки. Больше того, я даже решил сам вычистить свои башмаки. Увидев меня за этим занятием, сестренка очень удивилась и крикнула маме: — Мама, наш озорник вот уже несколько дней что-то уж слишком сильно старается. Наверняка что-нибудь натворил! Не совсем так, но таким же тоном однажды сказал мне и лейтенант Бранский: — Рядовой Беренмейер, смотрю я на ваши успехи в службе, и мне как-то не по себе становится. Он был прав. Терзаемый совестью, я изо всех сил старался стать примерным солдатом. Никаких лазеек я не искал. Больше того, сам напрашивался на неблагодарную работу: чистил картошку на кухне, хотя обычно это делали те, кто получал наряд вне очереди; выгребал помойную яму; заступал в наряд за товарища, который по какой-то причине не мог в этот день заступить; убирал туалет, чего никто не хотел делать; по воскресеньям разгружал уголь. В то же время я усердно занимался военными дисциплинами. Попросил у нашего старшины уставы и по вечерам штудировал их. Попросил Петера Хофа посвятить меня в искусство вычислителя и часами тренировался у огневого планшета. Маленького Дача уговорил научить меня наводить оружие на цель. Однажды за этим занятием меня застал лейтенант Бранский. Увидел… и глазам своим не поверил. — Ваше усердие, рядовой Беренмейер, беспокоит меня! — сказал он, улыбаясь.Однажды командир нашего взвода и наш старшина попали в довольно трудное положение. Из штаба полка пришел приказ: проверить все гаубичные расчеты в стрельбе по танкам. Командир орудия собрал нас и спросил: — Ну как, будем стрелять, товарищи? Дач все еще был болен. — Как же мы будем стрелять без наводчика? Плохи наши дела! — сокрушался Пауль Кольбе. — Это почему же плохи? — спросил я. — Все мы знакомы с прицелом. — Так-то оно так, дорогой, — ответил мне Руди Эрмиш, — но не забудь, что мы будем стрелять не из противотанковой пушки, а из гаубицы, что намного труднее. Для этого нужна практика, а у нас ее нет. С самого начала этого разговора у меня появилась мысль заменить Дача, хотя я прекрасно понимал, что со мной будет, если не справлюсь с обязанностями наводчика. И все же, несмотря на это, я предложил: — Разрешите мне быть наводчиком, товарищи! — Ну как, ребята, доверим ему наводку? — спросил унтер-офицер Виденхёфт. — Я уверен в себе, — заверил я товарищей. Через два дня я прильнул к прицелу гаубицы, которая находилась на огневой позиции взвода на стрельбище. — Смотри как следует наводи, — советовал мне Руди Эрмиш, который волновался не меньше меня. — Не беспокойся, Руди, все будет в порядке, — успокоил я его. — Вон там, за рощицей, должен быть танк. Не торопись. Пусть он подойдет поближе. — Да не волнуйся ты, — ответил я. В небо взлетела красная ракета — и показался танк. Унтер-офицер Виденхёфт, находившийся в нескольких шагах от меня, скомандовал: — К бою! Я быстро установил прицел и доложил о готовности. Как это ни странно, но я даже не волновался в тот момент. Мне удалось довольно быстро поймать танк в перекрестие панорамы. Осталось только определить расстояние, внести некоторые поправки и… Танк приближался. Это была деревянная модель танка таких же размеров, как настоящий танк. Мишень передвигалась с помощью стального троса, приводимого в движение электромотором. Моментами я терял цель из виду, когда она скрывалась за холмами. Наконец танк приблизился ко мне. — Огонь! Когда дым рассеялся, я уже не видел никакого танка. И лишь на том месте, где он только что был, стояло облако пыли. — Прямое попадание! — закричал Виденхёфт, отнимая бинокль от глаз. Руди хлопнул меня по плечу и закричал: — Браво, Фред! Тем временем к позиции приближался второй танк. Я решил и его подпустить поближе. Приблизительно на том же расстоянии, на котором я уничтожил первый танк, открыл огонь по второму. Земля вздрогнула. В воздух полетели обломки досок, куски железа. Потом все это поглотило густое облако дыма. Снова прямое попадание. В этот момент я услышал за спиной голос дежурного: — Если он и дальше так будет стрелять, перепортит нам все мишени, а они нужны для других расчетов. Кто-то засмеялся. — Нужно было побольше приготовить, — услышал я голос капитана Кернера. Третий танк пришлось подпустить еще ближе, метров на триста пятьдесят, так как стрелять с дальней дистанции мешало облако дыма и пыли, еще не осевшей после первых двух выстрелов. И этот танк мне удалось уничтожить с первого выстрела. Наш расчет получил оценку «отлично». Ему объявили благодарность, а мне даже дали суточный отпуск в город. Товарищи поздравляли меня, приписав часть успеха положительному влиянию на меня Софи. И только Бранский заметил: — Вы меня все больше и больше удивляете, рядовой Беренмейер. Успехи по службе даже заставили меня забыть о своих бедах. Анжела писала мне нерегулярно, но каждое ее письмо случайно могло попасть в руки кому-нибудь из наших ребят — и тогда… Однажды ко мне пристал Шлавинский: — Кто это тебе пишет, милый друг? — Да так… Один знакомый. — У этого твоего знакомого наверняка длинные волосы и тонкая талия. — И он обрисовал руками силуэт женской фигуры. — Как ты отгадал? — с замирающим сердцем спросил я. — А я по почерку вижу. Так может писать только женщина. — Так оно и есть, — перебил я его. — Одна знакомая из города. — Твоя бабушка? — Приблизительно так, — полушутя ответил я, чтобы избавиться от дальнейших расспросов. Этот случай заставил меня написать Анжеле, чтобы впредь она писала мне только до востребования. В школу я уже не решался пойти: боялся встречи с Софи. Что же мне было делать? Выход, который я тогда нашел, не был приемлемым. Каждый четверг я получал увольнительную и уходил в селение, но шел не в школу. Отведенное для занятий время проводил там, где меня не мог встретить кто-нибудь из солдат нашей батареи или взвода. Эти несколько часов, которые обычно проводил в лесу, были для меня самыми неприятными: меня мучила совесть. Как-то я получил письмо от Анжелы, которое вопреки ее характеру было очень печальным. Она писала, что все мои письма перехватывает ее тетушка.
«Ах, Фреди, — писала она, — сейчас, когда я прочла все эти письма, я поняла, что ничего радостного в них не было…»Дальше Анжела сообщала о покупках: пеленки, распашонки, погремушки. Ее явно беспокоило, что квартира у них очень маленькая, а материальное положение не ахти какое.
«После выписки из родильного дома мне придется бросить работу, так как я не могу найти няню, на которую можно было бы оставить малыша. Тетушка уже стара для этого, да и уж больно ворчлива. Она ни разу в жизни не держала в руках ребенка, а устроить малыша в ясли очень трудно…»Жизнь неумолимо ставила передо мной все новые и новые вопросы. Мне хотелось посоветоваться с кем-нибудь. Выбор пал на Пауля Кольбе. Когда я спросил его, что он чувствовал, когда узнал о рождении дочери, он с удивлением посмотрел на меня. Пауль как раз сидел за столом и писал письмо жене и маленькой дочке. — Как же это было?.. Мне кажется, Фред, у меня тогда не было времени думать о чувствах. И он рассказал мне, что как раз в то время в их сельскохозяйственном кооперативе был тяжелый период: работа не ладилась, виды на урожай плохие и в довершение ко всему падеж скота. — Поверь, Фред, я тогда даже забыл, что моя невеста (мы тогда еще не поженились) ждет ребенка. Не успел кооператив мало-мальски встать на ноги, как у нас родился малыш. Подожди. Фред, и ты узнаешь, какое это счастье, когда твой сынишка рассмеется или схватит тебя своими непослушными ручонками за нос. Но с рождением ребенка в дом приходит не только радость. Появляется масса забот. Я уже хотел было отойти от него, как вдруг он, к моему огромному удивлению, спросил: — А почему, собственно говоря, ты меня об этом спрашиваешь? Неужели у тебя?.. Меня бросило в пот. Лицо залила краска. — Вижу, вижу, что угадал, — не дожидаясь моего ответа, затараторил Пауль. — Нет еще… Но Пауль снова перебил меня: — Не крути, Фред. В этом нет ничего плохого. — Послушай, Пауль… — Вот, наверное, Софи рада! — выпалил Пауль. — Пауль! — не выдержал я. — Довольно! О чем ты говоришь! — Не притворяйся. Тебя беспокоит, что ребенок родится до свадьбы? Вот послушай меня. Когда это произошло, несколько старух, конечно, почесали свои языки, но мы не обращали на это внимания. Так вот почему ты стал таким замкнутым! Мне кое-как удалось убедить его в том, что у нас до этого не дошло. Зато на другой день ко мне подскочил Руди Эрмиш и, хлопнув по спине, начал поздравлять: — Мои наилучшие поздравления, Фред! Шлавинский реагировал на эту новость иначе: — Вот это работа! Прошла всего лишь одна четверть, а результаты уже тут как тут! — Так вот почему Софи последнее время такая бледная, — заметил Дач. — Бледная? — перебил его Руди. — Ну да. Она так переменилась. — Он повернулся ко мне. — Я не хотел говорить тебе об этом, Фред, чтобы ты не расстраивался. Все наперебой начали говорить о моем странном поведении в последнее время. — Поэтому ты и не хотел, чтобы Дач подменил тебя в школе? — спросил Пауль. — Так вот, оказывается, почему ты отказался тогда отметить вместе с нами мои ефрейторские лычки, — заметил Руди. Убедить их, что все это не так, мне не удалось. Все поверили в то, что Софи скоро станет матерью. Весь вечер ребята гадали, когда же произойдет это знаменательное событие. Кто-то даже предложил все деньги из ближайшей получки отложить на подарок новорожденному. Один предлагал купить детскую коляску, другие — приданое. Мне стало ясно, что крах неминуем.
36
Следующей ночью начались осенние маневры, которые продолжались целую неделю. Нас подняли по тревоге, и в ту же минуту всем стало ясно, что пришло испытание, которое должно было решить судьбу нашего взвода и батареи. Нет необходимости описывать все подробности маневров. Скажу только, что на этот раз мы обогнали другие батареи и выиграли решающую битву в соревновании. Неизгладимое впечатление произвел на меня марш, во время которого несколько дивизионов, батальонов и полков с массой машин, тягачей, танков, машин-амфибий и бронетранспортеров с затемненными фарами в строгом порядке шли в заданном направлении. На перекрестках и развилках дорог стояли солдаты-регулировщики, которые одним взмахом флажка направляли танковый полк налево, гаубичный дивизион направо, батарею противовоздушной обороны останавливали, а инженерный батальон посылали вперед. Не меньшее впечатление произвело на меня занятие нашей батареей огневых позиций. До начала контрнаступления оставалось шесть часов. Все это время на огневых позициях стояла мертвая тишина: ни разговоров, ни бряцания оружием. Над нашими позициями несколько раз пролетали вертолеты «противника», но безрезультатно: маскировка была такой искусной, что они ничего не заметили. Позже, на разборе, выяснилось, что они даже приблизительно не знали места расположения наших войск. И только когда началось контрнаступление, красные ракеты открыли «противнику» наше расположение. Я собственными глазами увидел оружие, имеющееся в нашей армии. Самоходные орудия шли по пятам за наступающей пехотой; над нашими головами раздавался гул вертолетов, которые огнем своих пулеметов должны были уничтожить «противника» в первой траншее. Я видел, как наши танки форсировали глубокую реку. При этом из воды торчали только задранные кверху стволы пушек. Инженерный батальон в короткий срок навел через реку понтонный мост, чтобы тяжелая артиллерия смогла переправиться на противоположный берег; артиллерия мелких калибров форсировала реку на автомобилях-амфибиях. И это было далеко не все, что поразило меня. Хочется вспомнить о взаимодействии различных частей и подразделений. Вместе с нами действовало несколько подразделений Советской Армии. С одним из них — артиллерийским дивизионом — взаимодействовал наш полк. На четвертый день маневров после полудня выдалось небольшое затишье после «боя». Время было обеденное, но полевая кухня почему-то еще не подошла. Мы сильно проголодались и с нетерпением ждали ее. Через некоторое время лейтенант Бранский послал мотоциклиста в тыл, чтобы выяснить, что случилось с нашей кухней. Минут через двадцать мотоциклист, забрызганный с ног до головы грязью, вернулся и доложил, что кухни нигде нет. — Нет? Как это нет? Не может быть! Позже выяснилось, что полевая кухня своевременно выехала к нам, но по дороге опрокинулась — и все сто шестьдесят литров горохового супа вылились на землю. — Ха-ха-ха… — расхохотался Шлавинский, — вот и пообедали! — Чертов шофер, не мог довезти суп до позиции. Мой любимый гороховый суп! — Ну и что же делать? — Ничего. Положить зубы на полку. — Чудак, я голоден как волк. — А ты что думаешь, я не хочу есть? — Я бы уплел сейчас целую буханку хлеба. В это время к нам подошли лейтенант Бранский и Петер Хоф. — Успокойтесь, товарищи, сейчас будем обедать, — обрадовал нас Петер. — Это как же? — А вот так. — Он показал на небольшой лесок, который был метрах в трехстах от нас. — Там ведь находятся советские артиллеристы? — Да. — Они и выручат нас? — Да, — ответил Петер. — Только сейчас мы разговаривала с командиром русского дивизиона и секретарем комсомольской организации. Так мы попали в расположение советского дивизиона, за огневой позицией которого дымила русская полевая кухня. Каждый из нас получил по котелку борща, знаменитого русского борща. Во время обеда я познакомился с широкоплечим русским сержантом, которого звали Андреем. — Кем ты работаешь? — на ломаном немецком языке спросил меня Андрей. — Я слесарь, — ответил я по-немецки и, взяв ложку обеими руками, начал крутить ее, делая вид, что обтачиваю деталь. — А… Понимаю, понимаю! Ты работаешь на машине. Я кивнул. — Я тоже работаю на машине. Я машинист. Через несколько минут я уже знал, что Андрею двадцать один год, родом он из Саратовской области, до армии жил и работал в колхозе. После этого мы еще раза два встречались с советскими артиллеристами. На следующий день утром они воспользовались услугами нашей походной мастерской: выточили несколько болтов и отремонтировали гаубицу. На седьмой день маневров, когда мы вместе с русскими артиллеристами находились на запасных позициях, встретились еще раз. Разговор шел на русском и немецком языках и сопровождался усиленной жестикуляцией. Вот когда я по-настоящему пожалел, что в школе был невнимателен на уроках русского языка. Андрей угостил меня махоркой, которую я не курил ни разу в жизни. Помог свернуть цигарку толщиной с мой большой палец. После трех затяжек у меня перехватило дыхание, а перед глазами пошли круги. Пришлось выпить из фляжки холодного чая. Андрей рассмеялся: — В немецкой Народной армии хорошие солдаты, только вот махорку курить не умеют. Мы расстались друзьями и сожалели, что нам не удастся больше увидеться. Когда мы прощались, Андрей что-то сунул мне в руку. Это был его кисет с махоркой. — Бери, товарищ, — сказал он мне, — и учись курить русскую махорку. — Спасибо, товарищ, — поблагодарил я его и стал рыться в карманах, разыскивая свой перочинный ножик. Его-то я и подарил Андрею на память. К сожалению, ничего лучшего у меня не было. В последний и самый ответственный день маневров я отличился. Наша батарея заняла огневые позиции на стрельбище и получила приказ обстрелять цель боевыми снарядами. Вот когда жарко было! Посредники, офицеры из другого подразделения, с белыми повязками на рукавах следили за каждым нашим движением. Стоило кому-нибудь из нас замешкаться и вовремя не спрятаться в укрытие, как посредник объявлял такого «убитым». А когда прозвучала команда «Газы!», из строя выбыла половина нашего расчета. Через несколько минут от нашей батареи осталась только треть. Лейтенант Бранский оказался в трудном положении, но он не растерялся даже тогда, когда посредники объявили «убитыми» трех командиров орудий: места командиров мгновенно заняли рядовые из этих же расчетов. Командир нашего взвода заволновался только тогда, когда один из посредников объявил, что наш наблюдательный пункт разрушен, а вычислитель Петер Хоф «убит». — Запасной вычислитель, ко мне! — услышал я повелительный голос лейтенанта Бранского. От второго орудия отделился какой-то ефрейтор. Он побежал к лейтенанту, не обращая внимания на маскировку. Посредник заметил это и энергичным жестом руки показал, что он «убит». «Как же так! Боевые стрельбы без вычислителя?! Невероятно! Кто же пойдет к прибору управления огнем? — думали. — Надо действовать!» — Разрешите мне? — сказал я командиру орудия. Унтер-офицер Виденхёфт согласился: — Смотри, Беренмейер, не подкачай! Припав к земле, я подполз к лейтенанту Бранскому. — Рядовой Беренмейер прибыл для выполнения обязанностей вычислителя! — доложил я. Секунду командир взвода изучал меня. «Вот возьмет сейчас и отошлет обратно, — думал я. — Раз я уже подвел его, и теперь он не доверит». Но лейтенант не отослал меня обратно. Он чуть заметно улыбнулся и кивнул в сторону прибора управления огнем. Дальше я скажу только, что наш взвод выполнил все задачи, поставленные ему в тот день, а все мои расчеты оказались правильными. В конце маневров меня позвали к начальству. Поело того как полк был построен, меня и еще двух солдат из соседней батареи вызвали из строя. К моему огромному удивлению, тут был командир нашей дивизии генерал-майор Вернер. — Так вот они — герои! — весело обратился к нам генерал. Сначала он поговорил с двумя солдатами из соседней батареи. Из разговора я узнал, что один из солдат двое суток выполнял обязанности командира орудия, а потом даже командира взвода: другой солдат — радист — быстрой и внимательной работой обеспечил своевременный прием приказов по радио, чем в значительной степени способствовал успеху всего полка. Потом генерал подошел ко мне. Он посмотрел на меня и сказал: — Товарищ рядовой, а мы с вами уже знакомы, не так ли? — Так точно, товарищ генерал, знакомы, — ответил я. — Пять месяцев назад вы обратили внимание на мой грязный противогаз. — А-а… — протянул генерал, — вспомнил, вспомнил. Вы, кажется, из расчета унтер-офицера Виденхёфта? — Так точно, товарищ генерал. — Ну а в каком состоянии ваш противогаз сейчас? — Не особенно чист, — признался я. — Охотно верю. При таких маневрах это не удивительно. Но, как только вы вернетесь в казарму, приведите его в порядок. — Разумеется, товарищ генерал. Несколько секунд генерал внимательно смотрел на меня: — Значит, это вы по собственной инициативе встали к прибору управления огнем? — Не стоит говорить об этом. — Вот как! А командир батареи капитан Кернер другого мнения. — Просто я заметил, что у прибора никого нет, вот и встал к нему. — Ну что ж, если вы считаете само собой разумеющимся то, что вы сделали, тогда все ясно, товарищ ефрейтор. — Товарищ генерал, я не ефрейтор, а рядовой: — Как? Рядовой? — Генерал обратился к стоявшему рядом с ним капитану Кернеру: — Капитан Кернер, ваш подчиненный все еще рядовой? Мне кажется, у нас есть основания присвоить ему звание ефрейтора. — Так точно, товарищ генерал! — ответил капитан. Через несколько минут перед строем полка был зачитан приказ, в котором говорилось, что «за проявление инициативы и умелые действия присвоить рядовому Беренмейеру воинское звание — ефрейтор».37
В лесу было свежо, верхушки деревьев окутал туман, как часто бывает в ноябре. Я свернул с дороги в лес. Шел первый четверг после успешного окончания маневров. — Пойду сегодня схожу, — солгал я товарищам по отделению, — вы знаете куда. — Давай иди, — за всех ответил Шлавинский и подмигнул мне. И вот я снова в лесу. Кругом тишина. Лишь иногда шелестят верхушки деревьев. Слышно, как с ветвей срываются тяжелые дождевые капли. «Почему вот уже шесть недель я обманываю товарищей? Ведь и так ясно, что меня тянет только к Софи. Анжела нравилась мне раньше, но это было давно. Она, конечно, симпатичная девушка, но любить…» Я углублялся все дальше в лес. Спешить мне было некуда: впереди еще четыре часа свободного времени. В чаще леса туман оказался таким густым, что за двадцать шагов ничего не было видно. «И почему я не воспротивился Анне, маме, Георгу и не поступил так, как хотел?» Дважды я слышал за спиной какой-то странный шорох, но не обратил на это внимания. «Ветер, наверно», — мелькнуло в голове. Неожиданно раздался треск сучьев. За мной кто-то шел. По привычке я отскочил в сторону и спрятался за кустом. Несколько секунд не шевелился и прислушивался. Я уже собирался выйти, как вдруг услышал чьи-то шаги. Затем увидел силуэт человека. Он шел ко мне. Фигура человека показалась мне знакомой. Я вышел на дорожку и закричал: — Что ты там ищешь? — Вот ты где… — Я спрашиваю, что ты здесь ищешь? — Проклятая ветка треснула и выдала меня, — ответил Петер Хоф. — Ах, это ты шпионишь за мной? — набросился я на него. Петер рассмеялся: — Фред, мне кажется, у тебя совесть не чиста. — Какое тебе дело до моей совести? — Ну-ну, потише, — перебил он меня. — Я только хотел посмотреть, как Альфред Беренмейер выполняет поручение Союза молодежи. Я оцепенел. — Хм… — Петер посмотрел по сторонам и иронически улыбнулся. — Местечко ты себе выбрал подходящее. Интересно, что ты будешь здесь делать с детьми? Может быть, играть в прятки? — Петер, — с угрозой в голосе начал я, — перестань смеяться! — Ну хорошо, а ты сначала успокойся. — Петер протянул мне пачку сигарет «Казино». — Кури. Дрожащими пальцами я вынул сигарету и прикурил. Сделал несколько глубоких затяжек. — Ну а теперь расскажи, Петер, почему ты за мной ходишь? — Собственно говоря, я жду от тебя ответа, но ты, видимо, решил иначе. — Петер замолчал и затянулся. — Капитан Кернер после возвращения из командировки вызвал меня к себе и спросил, почему мы перестали выполнять решение Союза молодежи и не шефствуем над школой. Я, конечно, растерялся, но все же ответил капитану, что ты, как и прежде, ходишь на занятия. Но капитан возразил мне: его сынишка жалуется, что вот уже две недели с ними никто не занимается. Я, конечно, не стал переубеждать его и сказал, что такое недоразумение могло произойти только из-за того, что ты был на работе в кооперативе, а тебя временно заменял Дач. Во всяком случае, я обещал капитану разобраться в этом деле. После этого я пошел к старшине и попросил у него книгу увольняемых: каждый четверг среди увольняемых в городской отпуск мелькала и твоя фамилия. Вот как все это было, Фред. А теперь твоя очередь рассказывать. Из казармы ты уходил, а в школе-то, оказывается, не показывался. Я молчал, не зная, что отвечать. — Я, конечно, мог бы пойти в школу и своими глазами убедиться в том, что тебя там нет, но не стал этого делать. Я нервно бросил сигарету на землю и растоптал ее. — Я понимаю, что следить за тобой было не совсем тактично, но, пойми меня правильно, сегодня тоже четверг, и в эту минуту тебе следовало бы быть в школе. — Оставь меня в покое! — оборвал я его. — Фред! Ты должен ответить на мой вопрос! — Прошу тебя, оставь меня в покое! — Не оставлю! — Я не хочу тебя видеть! — А я не хочу смотреть, как ты будешь делать глупости! — Мои глупости тебя не касаются! — А твой обман? — А ну-ка повтори еще раз! — Ты нас обманул, — повторил Петер. Я подскочил к Петеру, схватил его за воротник и начал трясти. — Ты!.. — угрожающе начал я. Петер выпустил мне в лицо струю дыма и холодно спросил: — Ты что, хочешь ударить меня? Пожалуйста, бей. Но я еще раз повторяю: ты нас обманул. Я оттолкнул его и отвернулся. — Так, — проговорил Петер, поправляя френч, — а теперь говори. Я покачал головой. — Фред! — Нет! — упорствовал я. — Ты еще можешь… — Это мое личное дело. — Хорошо. Но тогда я больше не буду тебя выручать. — Петер повернулся и пошел прочь. Я испугался и крикнул ему вдогонку: — Куда ты? — Я пошел в школу, к Вайнерт. Через секунду туман поглотил его. В казарму я вернулся только к вечеру. Войдя в комнату, очень удивился: в ней никого не было. Я остановился и стал думать, куда могли деться товарищи, но так ни до чего и не додумался. Не спеша разделся, надел спортивный костюм и пошел мыться. Вернувшись в комнату, лег на койку и, заложив руки за голову, стал смотреть в потолок. Так я пролежал с полчаса. Часов в восемь в комнату как угорелый ворвался Дач. — Умоляю тебя, Фред!.. — закричал он. — В чем дело? — перебил я его. — Руди… Руди… — Он никак не мог отдышаться. — Ну говори же, что случилось? — Фред! Если он увидит тебя, изобьет до полусмерти! — Спокойно. Спокойно… — Фред! Он уже идет сюда вместе с ребятами! Я опередил их, чтобы предупредить тебя! — Что случилось? — глухо спросил я. — Не до расспросов, Фред! Уходи быстрее! Вернешься, когда все уснут! — Глупости. Объясни же наконец, что произошло! — Сегодня после обеда Шлавинский вдруг предложил вечером всем расчетом зайти к Софи. «Там-то уж он не открутится», — объяснил Шлавинский. Чтобы отметить твое повышение, мы купили две бутылки легкого вина и для Софи бутылку шампанского, так как в ее теперешнем положении, по словам Пауля, ничего другого пить нельзя… — Так вот почему вы все после обеда словно воды в рот набрали! — Фред, мы решили сделать сюрприз. — Ну рассказывай, рассказывай. — Сейчас они войдут сюда! — Я не боюсь. Рассказывай. Дач присел на краешек кровати. — Софи очень удивилась нашему приходу, а мы растерялись. — Что она делала? — Проверяла тетради. Бледная такая… — Дальше! — требовал я. — Что было дальше? — Руди Эрмиш спросил: «А где Фред?» Софи ответила, что ты у нее не был. «Тогда он еще в школе», — решил Руди. «Нет, — ответила Софи. — В школе его тоже нет». Тогда Шлавинский поставил бутылки на стол, а Руди предложил подождать тебя. Неожиданно Софи заплакала и сказала, что ты давно не приходишь к ней. Мы не знали, что и подумать, но тут пришел Петер Хоф и рассказал, что видел тебя в лесу. Дач замолчал. — А дальше? — А дальше ничего не было. Софи расплакалась и ничего не хотела говорить. «Спросите его сами!» — твердила она. Петер Хоф и унтер-офицер Виденхёфт остались успокаивать Софи, а мы пошли в казарму. Всю дорогу Руди твердил, что он тебе покажет. На лестнице послышались шаги. Дверь с шумом распахнулась, и на пороге показались Руди, Пауль и Шлавинский. Я холодно посмотрел на вошедших. «Главное — спокойствие, Фред! — убеждал я себя. — Главное — не показать, что ты их боишься!» Ко мне подошел Руди и уже было бросился на меня, но потом неожиданно махнул рукой и бросил: — Мерзавец! — И это все? — спросил я. Руди сделал вид, что не слышал моего вопроса. Взяв из тумбочки ботинки и сапожную щетку, он вышел в коридор. «Интересно, почему он меня не ударил?» — думал я. Прошло несколько минут. Все молчали. Даже Дач стал каким-то другим. Он сел на койку и начал что-то делать с подворотничком. — Что случилось? — спросил я. Шлавинский прошел мимо моей койки, сделав, как мне показалось, небольшой крюк. — Почему вы меня обходите? Я ведь не заразный. Все молчали. — Вы что, не хотите со мной разговаривать? — Я оглядел товарищей. — Пауль, скажи хоть ты что-нибудь. Но Пауль уже скрылся за открытой дверкой шкафа. — Вы решили бойкотировать меня? И снова никто не проронил ни слова. — Хорошие же у меня товарищи! — не унимался я. — Ты негодяй! — не выдержал Руди, вошедший в этот момент в комнату. Меня бросило в дрожь. «Если они действительно решили выжить меня из своего коллектива, то мои дела плохи». Я посмотрел на Руди. «Придется апеллировать к нему. Не может быть, чтобы он не заговорил». Я встал с койки и, повернувшись к Руди, громко спросил: — И ты считаешь меня негодяем? Руди молчал. Тогда я решил прибегнуть к последнему средству: — Ты мне просто завидуешь. Тогда, на вечере, я ведь увел от тебя Софи. Если бы ты тогда мог… Руди не дал мне договорить. Он подскочил ко мне и так ударил, что из глаз у меня посыпались искры. Я упал сначала на койку, а потом на пол. Но тут же вскочил и, не обращая внимания на боль, громко рассмеялся. Глаза Руди горели яростью. Второй удар был сильнее первого. Я пролетел через комнату и, ударившись о дверь, упал на пол. Закрыл глаза в ожидании следующего удара. Секунда, вторая… — Руди! Ты же убьешь его! — закричал Дач. Руди снял со спинки кровати полотенце и подошел ко мне. Лицо его было каким-то серым. Я уже-стоял, прислонившись к двери. После небольшой паузы тишину первым нарушил Пауль: — Мы решили, Фред, больше не считать тебя членом коллектива: ты обманул нас. Но чтобы все было ясно, я тебе кое-что скажу. Если ты действительно так плохо думаешь о Руди, то ты заблуждаешься. Я знаю Руди немножко больше тебя, и мне известно, что Софи нравилась ему давно, когда тебя еще не было у нас. К сожалению, они не поняли друг друга, и совсем не потому, что Руди беспомощный или застенчивый. Когда к нам пришел ты, Руди увидел, что ты нравишься Софи, и он просто-напросто не захотел вам мешать. Вот оно как! Все молчали.38
У меня родилась дочка. «Анжела и малышка здоровы» — было написано в телеграмме, которую я получил в среду. Мне захотелось на несколько дней съездить домой. — Что-о-о? — удивился капитан Кернер, сдвигая в сторону все таблицы и вычисления, которые лежали на столе. — Вы стали отцом? — Так точно, товарищ капитан. Капитан немного помедлил, а потом сказал: — Правда, меня это не касается, но вы будто бы дружили с Софи Вайнерт? — Мы расстались. Капитан Кернер взял у меня рапорт, в котором я просил его предоставить мне краткосрочный отпуск, прочитал его и, тут же подписав, сказал: — Ну, от души вас поздравляю! В тот же день после обеда я выехал домой. Роды у Анжелы были трудные. Я увидел ее двое суток спустя: она еще больше побледнела и осунулась. Увидев меня, заулыбалась. — Здравствуй, Анжела! — Здравствуй, Фреди. Сунув букетик цветов в вазу, которую мне любезно подала сестра, я пододвинул стул поближе к кровати и сел, не зная, с чего начать разговор. Немного помолчав, Анжела робко спросила: — Ты рад, Фреди? — Конечно. — Она такая хорошенькая. — Да? — Восемь фунтов! Представь себе, восемь фунтов! А ведь я такая хрупкая! Я не знал, хорошо это или плохо, и потому на всякий случай сказал: — Здорово!.. Через полчаса я увидел дочку: ее показала мне через стеклянную дверь сестра. Ничего красивого в ней я не нашел: толстая, вся в складках. Запомнились только густые черные волосики, как у Анжелы. — У новорожденных редко бывают такие темные волосики, — сказала мне сестра. «Дочка, — думал я. — Дочка. У меня дочка. Смешно». — Ну посмотри, какая хорошенькая! — не унималась Анжела. — Да, конечно. Анжела ласково посмотрела на меня. — Знаешь, Фреди, я никогда не думала, что с рождением ребенка вся жизнь будет казаться совсем другой. Сестра принесла девочку. Анжела стала кормить ее. Малышка вздохнула и зачмокала. Временами она затихала, и тогда Анжела слегка тормошила ее, чтобы она не засыпала. Я сидел рядом и смотрел то на ребенка, то на счастливую, раскрасневшуюся от радости Анжелу. Потом меня выпроводили из палаты: принесли кормить ребенка соседке Анжелы. Скоро мне снова разрешили войти в палату. Немного погодя к Анжеле пришли отец и тетушка. Отец был очень любезен, а тетушка все время улыбалась. Я почувствовал себя лишним, откланялся и пошел домой. На следующий день, когда я пришел к Анжеле, отец и тетушка уже сидели у нее. Когда я вошел в палату, они встали и стали прощаться. — Ну, юноша, — отец Анжелы похлопал меня по плечу, — начинается серьезная жизнь. Тетушка, прощаясь, протянула мне кончики пальцев: — Господь бог не оставит вас… Ее слова развеселили меня. Я пододвинул стул поближе к кровати Анжелы и сел. Все, что было вчера, повторилось: матерям принесли детишек, а меня попросили выйти. Когда я снова вошел в палату, девочку уже унесли. — А как мы назовем нашу малышку? — спросила Анжела. — Назовем ее Софи, — неожиданно для самого себя предложил я. — Ох… — Анжела сморщилась. — Что с тобой? — Старомодное имя. — Мне лично нравится. Анжела стала перечислять имена: — Кристина, Грит, Анке, Бэрбель… — Нет, Софи лучше. Мы замолчали. Неожиданно Анжела заплакала и сказала: — Фреди, не думай, что я тебя тороплю. Просто я беспокоюсь о ребенке. Место в яслях я все же получили, так что буду работать. Не подумай, что я тебе навязываюсь. Можешь уйти. Я же вижу, как тебе все это неприятно. Я начал успокаивать Анжелу. В это время к нам подошла сестра и спросила: — Ну, родители, как вы решили назвать свою дочку? Анжела вытерла слезы и твердым голосом сказала: — Бэрбель. Малютку зовут Бэрбель, и только так! Я встал и, попрощавшись, вышел.В оставшиеся дни отпуска я обошел знакомых. Мама уже начала думать, что я серьезно заболел, и поэтому старалась всячески угодить мне: то приносила в мою комнату стакан горячего грога, то согревала постель грелкой, то предлагала выпить шоколаду. — Раньше ты так любил его, мальчик! Она несколько раз была у Анжелы, но старалась приходить в такое время, чтобы не встречаться ни с отцом Анжелы, ни с ее тетушкой. Разрешение на посещение роженицы в не предусмотренное распорядком дня больницы время мама получала у старшей сестры отделения, которую она хорошо знала по работе в доме престарелых. Мама заставила меня накупить малышке всяких мелочей. Сберкнижка моя почти опустела. Купил я и детскую коляску, давно нравившуюся Анжеле, и детскую кроватку со всеми необходимыми принадлежностями. Я был очень доволен, когда наступил последний день моего отпуска. Отец Анжелы захотел еще раз поговорить со мной, разумеется в присутствии тетушки. Я с ужасом ждал этого разговора, который, к счастью, не состоялся: отец Анжелы в тот день был занят на работе. А может быть, он просто забыл. Попрощавшись с Анжелой, я прямо из родильного дома поехал на вокзал. Сев в вагон, я облегченно вздохнул.
39
В Рагун я приехал вечером. Выйдя из вагона, постоял на перроне, пока мимо меня не прогромыхал состав и вдали не исчезла красная точка сигнального фонаря на последнем вагоне. В семь часов вечера я уже был в казарме. Когда шел по коридору, мимо меня пробежал Петер. Он поздоровался со мной и бросил: — Все ты мог бы рассказать нам сам! — А что ты знаешь? — спросил я. — Думаю, что все, Фред. Я пошел в свою комнату. — Кстати, с твоим расчетом я все уладил! — крикнул мне вдогонку Петер. — Спасибо! — И я открыл дверь. В комнате был только один Руди, но и он собирался уходить. На нем был темно-синий спортивный костюм. На шее висели боксерские перчатки. — Фред! Ты уже вернулся? — закричал он, увидев меня. Я кивнул. — А мы ждали тебя только завтра утром. — Я не мог больше высидеть дома. — Ну-ну… Я начал разбирать чемодан. — Хочешь отведать колбаски? — Нет, сейчас не хочу. — Идешь на тренировку? — Если бы на тренировку. Сегодня соревнования! Я вычистил свою форму и повесил на вешалку. — У тебя серьезный противник? — поинтересовался я. — Да, Фред. Думаю, сегодня мне придется туго. — Желаю тебе успеха, Руди. — Если б это помогло, Фред. — Поможет. Я ходил от шкафа к кровати и обратно, раскладывая свои вещи. — Руди, тебе пора идти! — Да-да… — Руди направился к двери. Остановился. — Что тебе, Руди? Он опустил голову и неожиданно тихо сказал: — Я обидел тебя, Фред? — Когда это? — Перед отпуском… — Брось ты, Руди. Ерунда! — Я ведь тогда со всей силой… — Как видишь, я выдержал. — Ну ладно. — И Руди вышел из комнаты. — Руди! — крикнул я ему вдогонку. — Чего тебе? — Скажи, Руди, что тебе тогда вечером сказали про меня? Я не думал, что… — Я тебя понял, Фред. — Ты хороший парень, — расчувствовался я. — Ты тоже, Фред. — И он вышел. Я разделся и лег. Было четверть девятого. Проспал я с час, а когда проснулся, увидел, что в казарме горит свет: вернулись товарищи. Но я чувствовал себя разбитым и поэтому продолжал лежать с закрытыми глазами. Разговор шел о боксе. — А здорово тебя разделал твой противник, — донесся до меня голос Шлавинского. — Ах… — буркнул Руди. — Не нужно было подпускать его так близко! — Тебе хорошо говорить. Если бы у меня были такие длинные руки, как у него! — И все же, — услышал я голос унтер-офицера Виденхёфта, — товарищ Эрмиш держался стойко. — Хорошо держался? Четыре раза падал на пол, из них один раз до седьмого счета! — Но вы же не сдались! — Зато сейчас физиономия горит как в огне. Эй, Малыш, дай-ка мне зеркало. Тишина. Потом голос Руди: — Хм… Хорошо же он меня разделал! — Посмотри, левая бровь опять кровоточит, — зазвенел голосок Дача. — Вытри. — Сейчас, Руди. Я услышал плеск воды. — Ох черт! Как жжет! Неожиданно в комнате что-то загрохотало. Видимо, упала табуретка. — Тише ты, — сказал кто-то. — Спит же человек! «Сейчас они, наверное, смотрят на меня», — подумал я. Но мне не хотелось в тот вечер отвечать на их вопросы. Я глубоко вздохнул, но не пошевельнулся. — Бедный парень! — пожалел меня кто-то. Голоса стали тише. — Да, он порядком расстроился. — И как это мы не заметили, что у человека неприятности? — Правда, в сельскохозяйственном кооперативе нам бросилось в глаза… — А тогда, на собрании Союза молодежи! — Да. — Ей сейчас лучше? — Немного. Я весь превратился в слух. — Кто из нас пойдет к ней утром? — узнал я голос Пауля. — По очереди мне идти, — отозвался Шлавинский. — Софи просила больше не приходить к ней: она чувствует себя лучше, — запротестовал Дач. Наступила пауза. Кто-то прошлепал в тапочках через всю комнату. Несколько раз хлопнула дверь. Товарищи готовились к отбою. — Ну как себя чувствует Фред после отпуска? — неожиданно раздался голос Петера, только что вошедшего в комнату. — Особой радости на его лице я не заметил, — ответил Руди. — Мне тоже так показалось. Я с ним встретился в коридоре, когда шел на соревнование. Надеюсь, скоро он все решит. — Надеюсь. — Может, им обоим — и Софи и Фреду — еще можно помочь? — робко проговорил Дач. — Хорошо бы, но как? — узнал я голос Руди. — Этого я тоже не знаю. — Если бы он сразу же сказал нам, что у него будет ребенок от этой, как ее зовут?.. — Анжела. — Да. Он мог бы довериться нам. Пауза. Тишину нарушил Пауль: — Ну и что было бы, если бы мы узнали? — Хм… — А правда, что бы было? Молчание. — И тогда мы ничем не смогли бы помочь ему, — решил Пауль. — Фреду ничего не оставалось, как расстаться с Софи. — Но, Пауль, — не соглашался Руди, — это же бессмысленно! — Как это бессмысленно? У ребенка должен быть отец! — Говоришь ты хорошо. А что, если он не любит Анжелу? — Вон как! Ребенок не должен расти без родителей! — Без родителей плохо, — заметил Дач. В разговор вмешался Шлавинский: — Подожди выносить свой приговор, Пауль. Скажи лучше, часто ты видишь свою дочку? — Раз в месяц. Иногда реже. — А до армии сколько раз в день ты ее видел? — Смотря когда… — Во всяком случае, не очень часто? — Ну как тебе сказать… Дочка была в яслях… — Значит, твоя дочка неплохо и без тебя растет. Всем обеспечена. Все замолчали. — Я думаю, — с удивлением услышал я голос унтер-офицера Виденхёфта, — все будет зависеть от того, кого Беренмейер любит — Анжелу или Софи. — Правильно, — согласился с ним Шлавинский. — Мне кажется, он любит Софи. — Да. А Софи любит его, — подтвердил Дач. — Ну и пусть возвращается к ней! — А Анжела с ребенком пусть страдает? — Голос Пауля был строг. — Вы можете говорить здесь, что хотите, но я с вами не согласен. — Так! — Тш… На несколько секунд воцарилась тишина. — Если, как вы утверждаете, Фред действительно по-настоящему любит только Софи, тогда я согласен: он должен вернуться к ней. Почему? — начал объяснять Петер Хоф Паулю. — А вот представь себе, что Фред женился на Анжеле только из жалости. Что из этого получится? Анжела, разумеется, обрадуется. Но что это будет за брак, если один из супругов не любит другого; тем более что на свете есть человек, без которого он жить не может. — Здорово ты здесь расписываешь, Петер! — Послушай, Пауль, — заговорил Шлавинский, — ты лучше оглянись и посмотри, как живут люди, когда их брак не связан любовью. В нашем доме живет одна такая пара. Сунул бы ты свой нос на минутку в их комнату, тогда увидел бы, что это за жизнь! Товарищи, стоявшие на стороне Кольбе, считали, что я должен вернуться к Анжеле. Наконец Петер Хоф сказал: — Что касается Фреда и Софи, то я остаюсь при своем мнении. Я думаю, что Фред и сам еще не знает, чего он хочет. Иначе зачем бы он скрывал от нас. Я продолжал лежать с закрытыми глазами, но уже ничего не слышал. Не слышал потому, что у меня уже созрело определенное решение.40
После полудня селение кажется вымершим. По обе стороны от шоссе стоят деревянные домишки, кажущиеся холодными и неприветливыми. Идет дождь. И только поравнявшись с магазином, который в тот день был закрыт, я увидел у забора школы двух детей — мальчика и девочку. Мальчик был в зимнем пальто, девочка в лыжном костюме. Увидев меня, дети тихо поздоровались: — Здравствуй, Фред… — Здравствуй, Карин, — ответил я. Роберт тоже протянул мне руку. — Куда ты идешь? — спросил он меня. — К фрейлейн Вайнерт. — Она дома. — Дома? — Да. Она болела. Грипп у нее был. Моя мама за ней ухаживала. Сейчас ей лучше. Мы постояли несколько минут. Мне хотелось сказать детям несколько теплых слов, но я молчал: боялся, что дети спросят меня, почему я не хожу к ним. Выручила маленькая черноволосая Карин. — Пойдем, Роберт, — попросила она мальчугана. — А то я замерзла. Пойдем к нам, я покажу тебе книжку с картинками, которую мне подарил папа. Я долго смотрел им вслед.Комнатка Софи была маленькой, но не тесной. В кафельной печурке весело горел огонь, бросая через открытую дверцу желтоватые блики на вещи, многие из которых были мне хорошо знакомы. С полочки на меня смотрели два блестящих черных глаза плюшевого мишки. Софи сидела у окна за письменным столом спиной ко мне. В комнате было сумрачно, поэтому на столе горела лампа. Услышав шаги, Софи обернулась, но не сразу узнала меня, так как я стоял в темной части комнаты. Сощурила глаза, потом, отодвинув стул от стола, встала и медленно подошла ко мне. Остановилась в двух шагах. — Ты все же решил прийти, Фред? Я улыбнулся. Софи протянула мне руку. Она была холодная как лед. Только сейчас я увидел, как Софи похудела и побледнела. Помолчав, она предложила: — Ну что же, проходи. Не будем же мы весь вечер стоять вот так. Я присел на кушетку. Софи села к столу. — У тебя новая мебель, — проговорил я. — Как видишь… — Ну как, уже освоилась? — Да. Привыкла. Софи встала и пошла в угол, где стояла электроплитка. — Ты не спешишь? — Нет. Позже мы пили чай с печеньем и конфетами. — Это все твои товарищи принесли, — показала она на пакет, лежащий на подоконнике. — Каждый вечер кто-нибудь приходил и приносил конфеты, пока я не отругала их. — Прости, Софи, я не догадался… — Ну что ты. — Она рассмеялась. — Мне сказали, что ты больна, — выдавил я. — Немного болела, Фред. Это правда. Такая паршивая погода. И прошлой осенью так было. Здесь очень сырой климат. — Но ты останешься здесь? — А почему я должна уехать отсюда? Уж не из-за погоды ли? Или по другой причине?.. — Последние слова она произнесла медленно и тихо. Я еще ниже склонился над своей чашкой. — Я привыкла к ребятам и не собираюсь бежать. Мне было бы стыдно. К тому же сейчас так много работы. — Она показала на письменный стол. — Вот лежат тетради, и больше половины из них еще не проверено. — Если ты так занята, я могу уйти. — Ну что ты! Я совсем не поэтому сказала. Софи подошла к печке и осторожно положила в топку несколько брикетиков угля. Долго смотрела на огонь. Не отводя глаз от пламени, она спросила: — Ну как живешь, Фред? — Ничего. — А твой ребенок? — Здоров. — Я слышала, у тебя дочка… — Да, дочка. — Как чувствует себя Анжела? — Анжела? Она довольна. Софи поправила угли. — Значит, у тебя все в порядке, — заметила она. Я молчал. Она снова села напротив меня. — Нет, Софи, не все в порядке. — Но ведь ты этого хотел. В печке так затрещало, что несколько искр вылетело через открытую дверцу на пол. — Не стоит говорить об этом. — Софи поправила волосы. Прошло несколько минут. Передо мной на столе лежала узкая белая рука Софи. Я долго смотрел на нее. Потом схватил и начал гладить. — Софи, — тихо проговорил я. — Давай забудем все, что произошло в последние недели. — Как ты можешь так говорить, Фред! Я сжал руку девушки. — Забудем, что есть Анжела и ребенок. — Не смей так говорить, Фред! — А если я вернусь к тебе? — Нет! — Да! — воскликнул я. Софи покачала головой: — Нет, нет и еще раз нет, Фред! — Да! — упрямо повторил я и притянул ее к себе. Софи сопротивлялась, отталкивая меня правой рукой. — Нет, Фред! Прошу тебя, не обижай меня. — И она вырвалась из моих объятий. Я залпом выпил чашку чаю. Софи привела в порядок прическу и внимательно посмотрела на меня своими большими глазами. — Я люблю тебя, Софи! — И ты думаешь, я тебе поверю? — Да! Ты должна поверить! — Ах, Фред… — Она вздохнула, встала и подошла к письменному столу. — Чего ты от меня хочешь? — В голосе девушки слышалась горечь. — Ты ушел от меня, и я думала, что не переживу этого, но я пережила. Теперь ты снова начинаешь мучить меня. Оставь меня! Я поднялся и подошел к Софи. — Если бы ты тогда же, когда получил письмо от сестры, пришел ко мне и все откровенно рассказал, все было бы иначе. Но ты не торопился, ждал чего-то. — Войди в мое положение, Софи! — Знаю. Тебе было трудно. Но тот, кто медлит, не любит по-настоящему. Поэтому я не верю тебе, Фред. Ты меня по-настоящему не любил, и потому все рухнуло. — Все можно поправить. — Поздно. — Значит, все прошло? — Так будет лучше, Фред. — И мы никогда не будем вместе? — Нет, Фред. — Даже друзьями? — Даже друзьями, Фред. Эта дружба будет причинять мне боль. — Что же делать, Софи? — Вернись к Анжеле. — Не хочу. — Но ведь ты любил ее. — Теперь уже не люблю. — Ты только так говоришь, Анжела — твоя первая любовь, а первая любовь не забывается. Я смотрел себе под ноги. — Понимаю. Лучше будет, если я сейчас уйду…
Когда я уходил, Софи плакала. «И почему только любовь иногда причиняет такую боль!» — думал я. Я бежал сломя голову через лес. Мокрые ветви деревьев били меня по лицу, но я не чувствовал этого. Дальше — вдоль берега реки. Ноги промокли. Пошел снег. Первый снег в этом году. Выбежал на дорогу. Навстречу приближался грузовик. Он проехал совсем рядом, обдав меня водой с головы до ног.
41
Прошел год, долгий тяжелый год. Постепенно я пришел в себя. И в этом нет ничего удивительного. Разве мое горе было большим, чем у мамы, когда в сорок пятом году она узнала о гибели моего брата? Разве мое горе было больше, чем горе Георга, который, вернувшись из плена, не нашел ни дома, ни жены, ни детей? Но и мама и Георг нашли в себе силы пережить свое горе. А мне было бы просто стыдно прийти в полное отчаяние из-за разрыва с Софи. Вспоминается один разговор с Петером Хофом. Если мне не изменяет память, было это еще летом. Софи тогда уехала в отпуск, а я с нетерпением ждал от нее писем. Мы сидели за казармой и курили. — Послушай, Петер, ты всегда такой уравновешенный. Я ни разу не видел тебя взбешенным или опечаленным. — А почему я должен быть неуравновешенным? — вместо ответа спросил Петер. — Жизнь у нас сейчас хорошая. — Это верно. Но ведь в жизни каждого человека бывают минуты, когда ему что-то не удается. У тебя бывает подобное? — Почему же нет? Бывает. — И как ты переносишь такие удары судьбы? — Как переношу? Не вешаю головы. А когда все улаживается, я начинаю понимать, что все было не так уж плохо, как казалось сначала. Такое отношение к жизни пытался выработать у себя и я. Сильно помогли мне и товарищи: они делали вид, что ничего не случилось или, по крайней мере, случилось то, что могло случиться. Они, казалось, не обращали на меня никакого внимания и в то же время не делали никаких поблажек, а командир орудия унтер-офицер Виденхёфт давал мне самые серьезные поручения, говоря: «Товарищ Беренмейер, не забывайте, что вы теперь не солдат, а ефрейтор! Вот почему я даю вам самую сложную работу!» В начале декабря, спустя несколько недель после того, как я последний раз был у Софи, меня вызвал к себе командир батареи капитан Кернер. — Ну, товарищ Беренмейер, какие у вас планы на будущее? — спросил он меня. — Какие планы? — Я задумался. — Трудно сказать об этом несколькими словами, товарищ капитан. — Что вы собираетесь делать в ближайшие два-три года? — Наверное, после демобилизации вернусь на завод. Мой бригадир сказал, что возьмет меня в свою бригаду. — Вы сказали «наверное», товарищ Беренмейер. — Точно разве можно сказать? Мало ли что может случиться. — Вот я и хочу кое-что предложить вам, если это вас устроит. — Что именно, товарищ капитан? — У меня была возможность, — продолжал капитан Кернер, — узнать вас поближе за каких-нибудь полгода. За это время вы добились хороших результатов не только по военным дисциплинам. Как солдат вы добросовестно выполняли все свои обязанности. Вот я и решил спросить вас, не хотите ли вы остаться на сверхсрочную службу? Подумайте… — Даже не знаю, что сказать, — подумав, ответил я. — Я не требую от вас ответа сейчас. У вас есть время подумать над моими предложениями. — Хорошо, я подумаю, товарищ капитан. — Если вы решите остаться в армии, мы пошлем вас учиться в школу унтер-офицеров. Что вы скажете на это? Я промолчал и подумал: «Согласиться — значит в декабре, самое позднее в январе, уехать отсюда на полгода, а может быть, навсегда. Вполне вероятно, что именно этого он и добивается». — Товарищ капитан, вы знаете, что произошло у меня с учительницей Вайнерт. Если вы хотите, чтобы я уехал отсюда из-за нее, то… — Ефрейтор Беренмейер! — В голосе капитана послышалось раздражение. — У меня этого и в голове не было. Или вы полагаете, что из-за этого можно поступиться службой? Я говорю с вами не случайно. Считаю, что из вас со временем может выйти неплохой командир орудия и унтер-офицер. И он разрешил мне идти. Я долго не раздумывал. На следующее же утро заявил о своем желании остаться в армии на сверхсрочную на три года и пожелал учиться в школе унтер-офицеров. Дальнейшие события развивались быстро. Спустя неделю пришел приказ о моем переводе, так что я даже не смог проститься ни с Петером Хофом, ни с Виденхёфтом, ни с товарищами, которые в тот день были на полевых занятиях, а я работал на кухне. Когда я, собрав свои вещи, вышел из казармы и вместе с другими двенадцатью солдатами, которые тоже ехали учиться в школу унтер-офицеров, сел в грузовую машину, мне стало грустно. Так я уехал из Трех Елей, и уехал навсегда. Школа унтер-офицеров находилась неподалеку от моего родного города, в каких-нибудь восьмидесяти километрах. За полтора часа езды на мотоцикле можно было доехать до дому. Однако, несмотря на это, в первые месяцы учебы, кажется до марта, я очень редко бывал дома. Позднее, когда Бэрбель немного подросла и стала очаровательным ребенком, я стал чаще брать увольнительную, чтобы побывать дома. С каждым днем меня все сильнее и сильнее тянуло к дочке, и я даже стал бояться избаловать ее. Дочурка помогла мне забыть все неприятности. Мое отношение к Анжеле тоже изменилось. Не скажу, что это было прежнее чувство, упрямое, нетерпеливое. Что это было, не знаю, но меня все больше и больше тянуло к Анжеле — к матери моей маленькой Бэрбель. В один прекрасный день я решил положить конец нашим странным отношениям и предложил Анжеле зарегистрироваться. Ответ Анжелы удивил меня: — Если бы ты предложил мне это год назад, я, не задумываясь, сказала бы «да». Но сейчас я не знаю… любишь ли ты меня. Поэтому давай не будем торопиться. Я не хочу, чтобы ты женился на мне из жалости. …Прошло лето. Я окончил военную школу и получил звание унтер-офицера. Как одного из лучших курсантов, меня оставили в школе. Теперь я сам должен был помогать готовить будущих командиров орудий. Осенью расчет, которым я командовал, занял первое место в соревновании. Все упражнения расчет выполнил в рекордное время. Без всякого сомнения, здесь дал себя знать метод унтер-офицера Виденхёфта, который я использовал в своей работе, внеся в него кое-что свое. Весь расчет получил двухдневный отпуск, а я, кроме того, был награжден значком отличника Национальной народной армии. Все эти события отодвинули Три Ели на задний план. Поздней осенью я и Анжела в одно и то же время получили отпуск. Мы решили никуда не ехать. Каждый день, забрав дочку из яслей, мы отправлялись гулять. Когда же погода была плохой или малышка спала, мы шли куда-нибудь вдвоем. В один такой тихий солнечный день мы катались на лодке по озеру. Анжела сидела у руля, я греб. — Фреди, если я выйду замуж, угадай, за кого? — неожиданно спросила Анжела. — Ну? — Отгадай! — Я не умею отгадывать. — Неужели это трудно? Ты же знаешь мой вкус, Фреди! — Иногда я не понимаю тебя, Анжела, особенно в последнее время: ты стала совсем другой. — А какой именно? — Более серьезной, красивой, — помедлив, ответил я. — А ну-ка, Фред, повтори это еще раз. — Да, Анжела, ты стала еще красивее. — И тебе это нравится? — Да, очень. Лодка плавно покачивалась на воде. Неожиданно Анжела вскочила со своего места и перебежала ко мне. Движения ее были столь стремительными, что мы чуть не перевернулись. Она села рядом со мной и приказала: — Подвинься, Фреди. Мы будем грести вдвоем. Через неделю мы поженились.42
Теперь я могу спокойно досказать свою историю. Разумеется, в жизни нашей маленькой семьи были свои трудности. Прежде всего нам хотелось получить квартиру, так как Анжела все еще жила у отца. С отцом Анжелы жить было можно. Он с удовольствием занимался с нашей дочуркой. Гораздо труднее было с тетушкой, которая, как и раньше, смотрела на меня, как на чужого человека, а в Анжеле видела не столько мою жену, сколько свою племянницу, совершившую непоправимую ошибку. В довершение ко всему по вечерам, когда наша дочурка была дома, тетушка старалась воспитывать ее по-своему. Нередко случалось так, что мне скрепя сердце приходилось уступать ей, и все же иногда атмосфера накалялась до предела. Один раз дело дошло до настоящего скандала: тетушка вдруг заявила, что ребенка обязательно нужно крестить. Я, конечно, решительно возражал, но она не унималась. К счастью для нас с Анжелой, к тому времени моя сестренка вышла замуж за Удо и ушла жить к нему. Поэтому мы могли переехать к моей маме. Мы так и сделали. Мама была рада. Очень быстро у них с Анжелой установились дружеские отношения, и Анжела даже стала считать мою маму своей. Следующей весной мне дали квартиру на окраине города, неподалеку от училища, в котором я работал. Квартира была небольшая: комната, кухня и кладовая. Но мы были довольны. Связи с заводом я не порывал. Бывали случаи, когда я, придя к своим бывшим коллегам, снимал форму, надевал комбинезон и помогал Георгу ремонтировать пресс. В такие минуты Георг обычно говорил мне: — Фред, твое место свободно, так что можешь вернуться в нашу бригаду! — Держи его пока, Георг, — шуткой на шутку отвечал я другу. Со временем Георга сделали мастером участка. Удо стал хорошим специалистом. Кезебир мало в чем изменился. Правда, почти бросил пить: у него обнаружили камни в печени. Вот и все новости. А как же Три Ели? Не скрою, я довольно часто вспоминаю Три Ели. К сожалению, я редко получаю известия оттуда: раз в месяц мне пишет маленький Дач. Пауль Кольбе и Шлавинский уже демобилизовались. Пауль после демобилизации вернулся в МТС, где возглавляет бригаду. Шлавинский демобилизовался позже и с октября учится в институте инженеров связи. Руди Эрмиш остался на сверхсрочную и работает в артиллерийской мастерской нашего полка сварщиком. Написать мне письмецо он ленится и обычно передает приветы через Дача. Петер Хоф и капитан Кернер из полка ушли. Мой бывший командир батареи учится сейчас в военной академии Фридриха Энгельса, а Петер решил стать офицером и усиленно готовится к экзаменам для поступления в офицерское училище. Петера я хорошо знаю и уверен, что он добьется своего и станет хорошим офицером. Лейтенанта Бранского (ему присвоили звание старшего лейтенанта) назначили командиром батареи вместо капитана Кернера, а товарищ Виденхёфт стал командиром взвода. Виденхёфт теперь уже старшина. В нашем расчете из старослужащих остался только ефрейтор Дач. После моего отъезда из Трех Елей ему поручили проводить шефские занятия со школьниками. От него я и хотел узнать что-нибудь о Софи, но Дач ни разу не упомянул о ней в своих письмах. Я уверен, что Софи по-прежнему работает учительницей. Иногда я вспоминаю ее, так как забыть хорошего человека не так легко.РАССКАЗЫ
НОЧНОЙ МАРШ
1
Вечером после захода солнца последний тягач батареи вышел в указанный район. Командиры взводов вылезли из своих машин и побежали к машине, в которой ехал командир батареи, чтобы получить указания. К наступлению темноты все гаубицы были искусно замаскированы в лесу. Около полуночи командир дивизиона вызвал к себе по рации комбата. Ночь выдалась темная, ветра почти не было, и лес казался пустым и безжизненным. Артиллеристы, находившиеся возле своих орудий, тихо переговаривались. Тревога застала их врасплох. Многие собирались пойти в клуб и посмотреть фильм, как вдруг… И вот они уже сидят в лесу, зажав между коленей карабины и автоматы, и ждут приказа на марш. Говорили об отпуске, о еде и сне, строили планы на ближайшее будущее. Короче говоря, разговор велся как раз о таких вещах, от которых им на некоторое время приходилось отказаться. Чуть в стороне стояли легковые автомобили взвода управления, в которых, устроившись поудобнее, спали радисты, разведчики и вычислители. Не спал лишь один дежурный радист. Надев на голову наушники, он работал на прием, поддерживая постоянную связь со штабом дивизиона. Командир взвода управления унтер-лейтенант Хайнце вылез из машины и, прислонившись к радиатору, вслушивался в ночную тишину. Ночь была темной, и офицер расстегнул пуговку воротника, а затем снял с головы каску. Спустя несколько минут вернулся командир батареи, сел в свою машину и углубился в изучение карты. Ожидание казалось Хайнце мучительным. Он обошел вокруг машины, осветив фонариком спящих солдат. — Сколько мы тут будем торчать, товарищ унтер-лейтенант? — спросил его радист Зайбт. — Думаю, что сейчас нам прикажут выезжать. Комбат только что вернулся из штаба дивизиона. Хайнце снова обошел вокруг машины. «Как глупо, что я ничего не знаю, а все только потому, что комбат любит принимать решения самостоятельно, не советуясь с командирами взводов». Где-то рядом хлопнула дверца машины, и офицер услышал, что кто-то идет по направлению к нему. Это был водитель машины командира батареи. — Что случилось? — поинтересовался унтер-лейтенант. — Товарищ унтер-лейтенант, вас вызывает командир! — Проговорив это, водитель пошел дальше, чтобы передать приказ командирам других взводов.Командир батареи обер-лейтенант Холдак светил фонариком на разостланную у него на коленях топографическую карту, изучая дороги, по которым можно было попасть в назначенный район. Ему нужно было спешить с принятием решения, так как с минуты на минуту могли прийти командиры взводов. Командир дивизиона передал командирам батарей приказ: «Сосредоточить батареи в трехстах метрах юго-восточнее Шпигельберга, а самим явиться ко мне на высоту с отметкой 260,0 для получения дальнейших указаний!» Поначалу приказ на выдвижение показался Холдаку довольно простым. Однако, прежде чем выйти в указанный район, нужно было преодолеть реку, вернее говоря, небольшую речушку. Задание осложнялось тем, что марш предстояло проводить в ночных условиях, и притом по самостоятельно выбранному маршруту. Сделать это не так уж трудно, ему и раньше не раз приходилось выполнять подобные задания. Главная трудность заключалась в том, что на пути оказывалась речка, через которую надлежало переправить все орудия батареи. Еще две недели назад такое задание нисколько не обеспокоило бы офицера. Неподалеку от места назначения через речку был перекинут мост, он обозначен и на карте. Мост деревянный, но довольно крепкий: с опорами из толстых свай и бревенчатым настилом. При проведении учений через него уже не раз проводили технику, даже танки. А уж гаубицы на гусеничных тягачах мост наверняка выдержал бы. Но когда несколько дней назад офицер случайно оказался возле моста, он призадумался. Правда, сам мост стоял на месте, не считая того, что перила слева были сбиты танком. Мост и в таком виде простоял бы еще сто лет, но на съезде, по ту сторону реки, творилось что-то невероятное: земля перерыта, ямы почти метровой глубины, берег размыт и так разбит гусеницами танков, что съехать с моста и выкарабкаться на дорогу просто невозможно. Видимо, танковые подразделения использовали этот участок как полигон с труднопроходимым рельефом местности. «Нет, переводить батарею через мост ни в коем случае нельзя! Возможно, что в штабе полка даже не знают, в каком состоянии находится мост, тем более что само учение, собственно говоря, начнется лишь после сосредоточения дивизиона в квадрате восемьдесят один». Послышался треск валежника: это командиры взводов спешили к командиру батареи. Холдак посмотрел на часы. Стрелки показывали час ночи. Следовательно, в его распоряжении оставалось два с половиной часа. Подошли командиры взводов. Обер-лейтенант мельком оглядел их, освещая лица фонариком. Не ускользнуло от его взгляда и то, что командир взвода управления сразу же начал разворачивать свою карту. — Товарищ унтер-лейтенант, оставьте вашу карту в покое. Она вам сейчас не понадобится! — Холдак постарался придать голосу твердость. — Товарищи офицеры, немедленно приведите свои машины в готовность к движению! Колонне двигаться за мной в установленном порядке. Приказ получите в ходе марша! По машинам! Офицеры повернулись кругом и исчезли в темноте, недоумевая, почему им не отдали, как это бывает обычно, приказа на марш. Впереди слева послышался шум моторов. Обер-лейтенант Холдак знал, что в том направлении находится батарея капитана Каста. Он усмехнулся, довольный тем, что командир первой батареи не успеет обогнать его. «Интересно, известно ли капитану Касту о состоянии моста и съезда с него?» — мелькнула мысль у Холдака, но до конца он себе не успел ответить, как заработали моторы машин его батареи и ему нужно было трогаться в путь. Подождав, пока в небо взлетит зеленая ракета, офицер приказал своему водителю ехать по лесной дороге. «Может, все же рискнуть и поехать по дороге, которая ведет через мост? — размышлял он. — Но вот вопрос: выдержит ли техника? Смогут ли тягачи благополучно преодолеть опасный участок? — И, покачав головой, сам себе мысленно ответил: — Нет, рисковать опасно. Командир дивизиона обвинит меня в легкомыслии и беспечности. К мосту мне, конечно, нужно подъехать. Еще раз как следует посмотреть съезд и только после этого доложить командиру о возникшем препятствии. Действовать нужно только так, тогда меня по крайней мере не обвинят в отсутствии инициативы». — Товарищ обер-лейтенант, командиры взводов подали сигнал о готовности к движению! — доложил офицеру водитель и, сев на свое место за баранку, захлопнул дверцу машины. Колонна медленно выехала на дорогу. Впереди нее двигались легкие машины взвода управления, а вслед за ним тянулись тяжелые тягачи с гаубицами. Обер-лейтенант Холдак устроился поудобнее на сиденье и снова задумался: «Можно было бы поехать через Хайденбринк, где тоже есть мост, но делать это вряд ли целесообразно, так как в этом случае я выйду из границ предназначенного мне участка и попаду на участок, отведенный подразделениям штаба полка. Да и времени для осуществления этого замысла у меня маловато… Нет, этот вариант отпадает начисто!» Затемненные подфарники машины щупали дорогу. Разлапистые ели и густой кустарник в полутьме казались загадочными и жуткими. Ехали медленно, чтобы не разорвать колонну, а время шло: часы показывали уже половину второго ночи. — Итак, в моем распоряжении осталось два часа, а я все еще не принял определенного решения, — под нос себе сказал офицер. — Вы что-то сказали, товарищ обер-лейтенант? — спросил его водитель. — Езжайте помедленнее, — ответил тот. — Слушаюсь! Машина поехала медленнее. «Если бы можно было переехать через эту проклятую речушку своим ходом! Но этого не сделаешь. А почему, собственно, нет?» Обер-лейтенант Холдак даже встрепенулся от пришедшей в голову мысли. Возможность найдена! Офицер внутренне ликовал, но сдерживал себя: все нужно было обдумать детально. Обер-лейтенант вспомнил о событиях трехлетней давности. Тогда этого моста не было и в помине, военные мостостроители возвели его только год спустя. В то время Холдак был еще командиром взвода. Только что закончились двухнедельные учения на местности. Артиллерийской батареей, куда входил и взвод Холдака, командовал бывалый офицер, который хорошо знал местность и всегда старался искать новые маршруты. Так было и на этот раз. Ехать через мост у Хайденбринка он не хотел и решил форсировать речку своим ходом, найдя подходящий брод. «Жаль только, что я тогда так устал, что уснул сидя в кабине и, по сути дела, мало что видел, — думал Холдак. — По правде говоря, меня тогда не очень-то интересовал этот брод, так как у меня в голове и мысли не было, что спустя несколько лет он может мне понадобиться. Теперь же я во что бы то ни стало должен отыскать это место! Но как его найти? Прошло ни много ни мало — три года! Во всяком случае, я точно знаю только то, что этот брод находится где-то между Хайденбринком и этим, будь он неладен, мостом». — Остановите машину! — приказал офицер водителю, дотронувшись до его рукава. Приказ был неожиданным, и шофер, решив, что случилось что-то, резко нажал на тормоз. Машина дернулась, и сидевшие в ней люди сильно качнулись вперед. Холдак быстро развернул топографическую карту, а чтобы ему было удобнее, передал свой фонарик водителю. — Свети вот сюда! — приказал он. Найдя нужный ему участок, офицер откинулся на спинку сиденья и задумался, машинально трогая правой рукой темные, коротко стриженные волосы. Найдя на карте место своего нахождения, Холдак вспомнил, что тогда, когда они подъезжали к реке, местность вокруг была ровной, похожей на заливной луг, поросший кое-где вербами. Он нашел луг на карте. «Это место может быть только здесь, — решил он. — Значит, сюда я и должен вывести свою батарею, а уж там буду искать брод». Дав знак водителю ехать в новом направлении, офицер стал внимательно, насколько позволяла темнота, следить за местностью. Холдак хорошо понимал, что отыскать брод ночью — дело далеко не легкое. Да и вообще неизвестно, сохранился ли этот брод до настоящего времени. Тогда-то был разгар лета, и река сильно обмелела. «Сейчас май, — думал обер-лейтенант. — За последние недели дождей, можно сказать, почти совсем не было, а деньки стояли жаркие. Следовательно, речка должна обмелеть. Когда мы переходили ее, глубина достигала всего тридцати сантиметров. Допустим, сейчас будет сантиметров сорок. Машины все равно пройдут!» Однако такой вывод отнюдь не успокоил офицера. В этот момент впереди показалась развилка дорог. — Поворачивай направо! Следом за их машиной свернула и вся колонна. Обер-лейтенант понимал, что теперь для него обратно уже нет пути, так как развернуться громоздким тягачам с гаубицами на прицепе на узкой полевой дороге просто невозможно. Плохо придется командиру той батареи, который поедет по неверному пути, а потом, поняв это, решит исправить свою ошибку! Однажды такая неприятность произошла с Холдаком. Пришлось, расплачиваться за ошибку самым дорогим на марше — временем. Обер-лейтенант несколько успокоился, понимая, что для него теперь исключены все прочие варианты. Хотелось закурить, и он начал шарить по карманам в поисках сигарет. «Нужно бы оповестить командиров соседних батарей о том, что я решил ехать не через мост, а вброд. Но ведь я еще не нашел его, тогда о чем же сообщать? Пока, пожалуй, лучше помолчать». Наконец пачка сигарет оказалась у него в руках. И тут командиру батареи пришла в голову мысль проверить, как движется колонна, не отстало ли какое орудие. Часто о таких случаях узнавали только тогда, когда оказывались у цели. Чтобы предотвратить отставание, командиры первого и последнего орудий поддерживали между собой радиосвязь, немедленно сообщая об отстающих командиру взвода управления. Командир дивизиона остановил машину и высунулся из окошка. Из-за шума моторов ему пришлось крикнуть громче обычного, чтобы услышал радист. Когда же тот заспанным голосом доложил о себе, командир приказал: — Запросите, как движется колонна! Ответ последовал не сразу. Тишину ночи нарушало лишь монотонное гудение мотора. Холдак поднес к глазам часы. Они показывали начало третьего. До речушки оставалось не менее трех километров, и их нужно было пройти в хорошем темпе. Наконец поступил и ответ: «Все машины собрались вместе!» Колонна снова пришла в движение. Холдак все еще не выпускал из рук пачку сигарет. Вынув сразу две сигареты, офицер одну передал водителю, а другую сунул себе в рот. До реки было уже недалеко. Артиллеристы, сидевшие в открытых тягачах, очнулись ото сна, разбуженные ночной прохладой, частыми встрясками и ветвями деревьев, которые порой хлестали их по лицу. Командир еще раз посмотрел на карту и решил, что через несколько минут езды они окажутся около реки.
2
Лесная дорога стала хуже. Водители тягачей заметили это по тому, что их машины начало сильно бросать из стороны в сторону, а ветви деревьев громко застучали по стеклам кабины. Неожиданно лес кончился, и машины стали спускаться вниз. Через несколько минут вся батарея собралась на открытом, ровном месте. Позади чернела зубчатая стена леса. Посреди равнины и должна протекать река. Обер-лейтенант вылез из машины и с силой захлопнул дверцу. — Позовите командиров взводов! — распорядился он, обращаясь к водителю. — Пусть ждут меня у моей машины! — Слушаюсь, товарищ обер-лейтенант. — Хрупкая юркая фигура водителя исчезла. Командир спустился к реке, с удовлетворением отметив, что почва под ногами сухая и твердая. Фонарик он погасил, чтобы глаза скорее привыкли к темноте. Увидев впереди, в нескольких шагах от себя, широкую темную полосу, он догадался, что вышел к воде. Брод, как правило, образуется там, где река делает резкий изгиб. Сейчас командиру предстояло отыскать такое место. Подойдя к самой кромке берега, он включил фонарик и, освещая им попеременно этот и противоположный берег, пошел вперед. Поворот реки он нашел быстрее, чем думал. Ширина реки в этом месте доходила до двенадцати метров. Офицер с облегчением вздохнул: пока все шло хорошо. Берегами он остался доволен: они были покатыми и не препятствовали спуску к воде и выезду из нее, а это было очень важно. Чего стоит самый хороший брод, если машины не могут спуститься к воде! Обер-лейтенант вошел в воду, не боясь, что его прочные сапоги промокнут. Когда он сделал два шага, вода дошла до края голенищ. Выругавшись про себя, он шагнул назад и, пройдя несколько метров, вышел на более мелкое место. И здесь он попробовал зайти подальше в воду, но сделать это снова не удалось. Тогда он попытался идти к другому берегу не по перпендикуляру, а по косой. На этот раз дело пошло лучше. Он дошел почти до середины речушки, не зачерпнув голенищами воды, и только после того, как набежавшая небольшая волна ударила его по коленям, в сапоги вмиг налилась вода. Рассердившись, офицер вышел на берег. Решив, что он нашел брод, обер-лейтенант позвал водителя и приказал ему перейти на противоположный берег. Солдат не сразу понял, что именно от него хотят, и съехал на машине к самой воде. Командиры взводов последовали за ним. «Они мне пока еще не нужны», — мысленно решил командир батареи. Водитель вылез из машины и, подойдя к командиру, доложил о прибытии. Командиры взводов остановились неподалеку. — Снимите сапоги и перейдите на тот берег! — приказал Холдак водителю. Солдат явно медлил, с недоверием поглядывал на командира. Холдак начал нервничать, а услышав сдержанные смешки офицеров, строго сказал: — Да-да, вы не ослышались, перейдите вброд на тот берег! Солдат неторопливо разулся, закатал брюки выше колен, подошел к командиру и остановился, держа сапоги в руках. Приказ командира казался ему довольно странным, и он хотел знать, почему ему отдали такой приказ. Поэтому он выжидающе и уставился на офицера. — Идите на тот берег, я буду светить вам фонариком, — проговорил офицер. Солдат вошел в воду именно в том месте, куда показал Холдак. — Идите медленно и будьте осторожны! — Слушаюсь, товарищ обер-лейтенант! Скоро командиры взводов поняли замысел своего командира, который лучом фонарика вывел водителя на противоположный берег. Они собственными глазами видели, что вода в реке не превышает тридцати сантиметров. Обер-лейтенант Холдак был доволен. Он понимал, что единственная сложность для водителей машин будет заключаться в том, чтобы они переехали реку не по прямой, а наискосок. — Возвращайтесь обратно! — крикнул командир батареи водителю, когда тот вышел из воды. Когда водитель пошел обратно, обер-лейтенант Холдак обратился к офицерам со словами: — Вы, видимо, уже разгадали мое намерение? Офицеры понимали, что им предстоит выполнить несколько необычное задание, какого им еще никогда не приходилось выполнять. Их недоумение моментально прошло. Командир батареи покорил их своей опытностью и умением правильно использовать ситуацию, завоевал их доверие. Получив указания на форсирование реки вброд, взводные разошлись по своим машинам, чтобы объяснить задачу подчиненным. Место брода было еще раз внимательно обследовано. Солдаты обозначили его на обоих берегах карманными фонариками. Тем временем все машины съехали к воде. Взводные командиры ждали приказа на форсирование. И хотя, казалось, все было предусмотрено, у командира батареи в душе оставалась какая-то капля недоверия. Достаточно было хоть одному водителю потерять самообладание, съехать чуть в сторону, как могло случиться ЧП: холодная вода, попав на раскаленный металл, могла повлечь за собой серьезную аварию. С этой тревожной мыслью командир батареи сел в машину. Он еще мог отказаться от своего решения, которое принял по собственному желанию. Ведь если что случится, он один будет нести ответственность за любое ЧП. «Нужно бы сказать водителю что-нибудь одобряющее», — мелькнуло в голове у Холдака, но он никак не мог ничего придумать. Водитель медленно спустился к воде и, миновав двух солдат с фонариками, въехал в реку. От носа машины в обе стороны разбегались небольшие волны. Вскоре машина была на середине реки. Проехав две трети пути, водитель дал полный газ. Мотор взревел, а через минуту машина уже выбиралась на противоположный берег. — Удалось! — От радости командир батареи похлопал шофера по плечу. — Вы превосходно провели машину. Отгоните ее немного в сторону и остановитесь! Вслед за командиром на противоположный берег переехала машина взвода управления, а за ней — тягачи с пушками на прицепе. Обер-лейтенант Холдак посмотрел на часы. В его распоряжении оставался еще целый час. Тем временем горизонт на востоке порозовел. Через час будет светать. Короче говоря, батарея вовремя прибудет в указанный район. Холдак чувствовал удовлетворение: как-никак он сам, по собственной инициативе, принял решение форсировать речку, да еще ночью! Это что-нибудь да значит! «Не может того быть, чтобы командир дивизиона не заметил этого и не порадовался вместе со мной! — подумал обер-лейтенант. — Пусть теперь кто-нибудь попробует обвинить меня в отсутствии решимости и инициативы. Теперь-то меня наверняка перестанут склонять за ЧП, которое произошло в батарее в прошлом году». О Холдаке говорили почти на каждом совещании, как будто он сам, а не водитель вел тогда машину. Не раз упрекали его и за плохие результаты стрельбы по танкам. А что он мог сделать, если наводчик понервничал и послал снаряды мимо цели?! Зато за хорошее, что было на батарее, начальство почему-то никогда не хвалило Холдака. По крайней мере, так ему самому казалось. «Моя батарея единственная на «отлично» выполнила упражнение по стрельбе из личного оружия, — думал обер-лейтенант. — Но об этом даже нигде не упоминали. Ну теперь-то все пойдет иначе!» Обер-лейтенант дал знак колонне двигаться дальше, а сам сел в машину и наблюдал, как мимо него движется техника. Вскоре стали видны лишь огоньки стоп-сигналов, но потом и они скрылись вдали. И лишь глубокая колея на земле свидетельствовала о том, что здесь недавно прошло артиллерийское подразделение с пушками на прицепах.3
Когда батарея прибыла в указанный квадрат, начало светать. Солдаты, невыспавшиеся и уставшие от долгой тряски в пути, по команде соскочили на землю и бросились в лес за ветками, чтобы замаскировать машины и гаубицы, а водители машин прямо на сиденьях попытались хоть немного поспать. Радист взвода управления штабс-ефрейтор Зайбт включил свою рацию и настроился на волну командира дивизиона. Во время марша он поддерживал связь только с замыкающей машиной колонны. Через несколько секунд связь со штабом дивизиона была установлена. Радист стал в батарее хорошим специалистом, и на него теперь можно было положиться в любой обстановке. За хорошие показатели в учебе командир взвода унтер-лейтенант Хайнце представил его к награждению значком «За заслуги перед ННА». Через несколько дней его должны были принимать в партию. Рекомендации для вступления ему дали унтер-лейтенант Хайнце и обер-лейтенант Холдак. Штабс-ефрейтор основательно готовился к приему в партию и все же сильно волновался, понимая всю важность этого шага. Радист надел наушники и перешел на прием. Сначала в наушниках слышался лишь треск помех, но затем треск прекратился, зато в эфире появились чьи-то неясные голоса. Радист посмотрел на часы. Стрелки показывали начало пятого. Он видел, как вылез из машины обер-лейтенант Холдак. Повесив через плечо планшет с картой, офицер направился к радисту. Лицо у него было помятое, чувствовалось, что за ночь он не сомкнул глаз. — Есть какие-нибудь известия, товарищ Зайбт? Офицер понимал, что ему, собственно, не следовало бы задавать такого вопроса, радист и без этого доложил бы ему о получении любой радиограммы. — Нет ничего, товарищ обер-лейтенант! Но дело в том, что я никак не установлю связь со штабом дивизиона! Будь это не Зайбт, а кто-нибудь другой, командир батареи, возможно, устроил бы ему разнос, а здесь он только сказал: — Ничего, я все равно сейчас иду в штаб! Радист начал усиленно вызывать штаб, и командир батареи остановился. Однако, увидев, что выйти на связь ефрейтору так и не удалось, офицер пошел своим путем, дав по пути кое-какие указания разведчикам. Неожиданно Зайбт услышал, что на эту же частоту настроился другой радист. Ничего особенного в этом не было, так как дивизион поддерживал радиосвязь со всеми батареями на одной и той же частоте. Положительным в такой связи было то, что командир дивизиона получал возможность быстро передать тот или иной приказ командирам батарей. Однако была в этом и отрицательная сторона, которая заключалась в том, что лишь один командир мог вести переговоры со штабом в данный момент. В наушниках послышался голос: — «Роза», здесь «Одуванчик»! Как меня слышите? Прием! «Черт возьми! — мысленно выругался Зайбт. — Выходит, меня обогнали! Теперь придется ждать. Позывной штаба — «Роза», а первой батареи — «Одуванчик». Раз штаб вызывает командира первой батареи, то, следовательно, случилось нечто важное… Не доложить ли об этом командиру? Он всегда интересуется, что делается в других батареях…» — «Одуванчик», говорит «Роза»! «Одуванчик», здесь «Роза»! Как меня слышите? Прием! Прошла минута, а затемпослышалось снова: — Говорит «Одуванчик»! Вызываем на связь сорок первого! Штабс-ефрейтор удивился — говорил уже совершенно другой голос. Он заглянул в таблицу кодов: сорок первым был сам командир дивизиона. Несколько секунд стояла тишина. «Нужно скорее позвать обер-лейтенанта Холдака», — подумал радист и сделал знак командиру, чтобы тот подошел к рации. Холдак заторопился. Через четверть часа он должен быть у командира дивизиона на высоте 62,0. Ну, туда он еще успеет: до высоты не так далеко. Офицер подошел к радисту и взял у него наушники. Он не сразу понял, о чем идет речь, но потом уловил следующие олова: — …Что значит «я твердо застрял»? Выражайтесь понятнее, тридцать первый! — Кто же такой тридцать первый? — вслух спросил офицер у радиста. — Тридцать первый — это командир первой батареи, товарищ обер-лейтенант! Холдак побледнел и почувствовал, как у него задрожали колени. «Выходит, это капитан Каст увяз в грязи!» — мелькнуло у обер-лейтенанта в голове. — Сорок первый, докладываю: «Одуванчик» застрял в квадрате пятьдесят шесть — восемьдесят два во время форсирования реки, на съезде с моста! — послышался в этот момент спокойный голос капитана Каста. Холдаку казалось, что он видит высокую стройную фигуру симпатичного капитана. — Почему вы докладываете, мне об этом только сейчас? — Мой радист никак не мог сразу выйти на связь о вами, товарищ сорок первый. — Сделайте все, чтобы в четыре ноль-ноль прибыть в указанный район! — Это невозможно, товарищ сорок первый. Нам удастся выбраться отсюда не раньше восхода солнца. Мост заблокирован мной, и, следовательно, «Маргаритка» не сможет через него пройти. Наступило недолгое молчание. «Маргаритка» — это батарея обер-лейтенанта Колтермана, — думал Холдак. — Получается, что обе батареи не смогут своевременно прибыть в район сосредоточения». — Товарищ тридцать первый, вы ставите под удар проведение учений! — снова послышался в наушниках голос командира дивизиона. — Я требую, чтобы вы предприняли все меры и вовремя прибыли в указанный вам пункт! У меня все, прием! Обер-лейтенант Холдак услышал, как в наушниках раздалось два щелчка, что означало, что обе рации перешли на прием. Холдак снял наушники и, сдвинув каску на затылок, вытер платком выступивший на лбу пот. Настроение у него было далеко не радужное. Не спеша он побрел на высоту.4
Выслушав указания командира дивизиона, капитан Каст сразу же пошел к мосту. «Командир дивизиона продлил время до четырех часов, — размышлял Каст, — однако этого мне явно недостаточно. Его приказ я вряд ли смогу выполнить…» С начала объявления тревоги все шло хорошо: батарея одной из первых собралась по тревоге и вышла на сборный пункт. Ночной марш начался тоже нормально. И вдруг этот проклятый съезд с моста! Капитан горько улыбнулся: «До четырех часов я ничего не успею сделать. К сожалению, я не волшебник. Хорошо еще, если мы выберемся отсюда до шести часов. Командир дивизиона не имеет представления о том, как мы тут влипли. Да и сам я себе этого не представлял…» Земля за мостом вся была в больших ямах и колдобинах. Офицер остановился перед одной из крупных ям и задумался: «И как только я мог попасть в такой переплет? Правда, это случилось ночью, но ведь я же не новичок! Я думал, что речь идет о простых колдобинах, а не о таких ямах… Ничего не поделаешь, дорогой Каст! — мысленно обратился он к самому себе. — Следовало бы заранее как следует разведать маршрут! Но зачем? Дорогу мы и так хорошо знаем. Не первый раз по ней ездим… Потом, это ведь не бой, а самое рядовое учение…» Капитан понимал, что сейчас многое будет зависеть от него, от его решения, его спокойствия и деловитости. Если бы произошла небольшая авария, можно было не беспокоиться, товарищи справились бы сами. Но здесь застряла не одна машина, а целая батарея. Капитан взялся лично руководить работами, а секретарь парторганизации вахтмайстер Найберт собрал коммунистов и призвал их показать пример беспартийным. И вмиг упавшее было настроение у солдат заметно поднялось. — Задержка у моста ни в коем случае не должна отразиться на дисциплине и порядке в батарее! — такими словами закончил свое краткое выступление секретарь парторганизации. После разговора с командиром дивизиона по радио капитан Каст еще раз внимательно осмотрел место, где застряли машины. Три тягача с гаубицами почти по оси колес увязли в грязи, а одна машина даже перевернулась на бок. Тягач с пушкой, остановившись на мосту, как бы забаррикадировал его. Единственным, что радовало Каста, было то, что ни один солдат не пострадал. Вскоре к капитану подошел командир второго взвода и доложил, что мост не свободен. — Подготовьте один тягач для помощи застрявшим машинам! — приказал ему капитан. — Слушаюсь, товарищ капитан! Было ясно, что без посторонней помощи застрявшим машинам на дорогу не выехать. Солдаты очистили колеса машин от глины и грязи. Подойдя к первому орудию, капитан увидел, что артиллеристы работают и без его одобряющих слов. — Пойдемте посмотрим, как идут дела во втором расчете, — предложил он секретарю. Во втором расчете дело не двигалось, поскольку водитель лежал под машиной, что-то подкручивая. — Ну, что у вас тут не ладится? — спросил командир батареи, нахмурив брови. Услышав голос командира, водитель из-под машины не вылез, а только высунул перемазанное лицо и доложил: — Товарищ капитан, поперечная рулевая тяга погнута. — Ну и что же? Разве это причина для того, чтобы бездействовал весь расчет? — Офицер с укоризной посмотрел на командира орудия, щуплого маленького унтер-офицера, и добавил: — Мне ваше поведение, товарищи, не нравится! Почему гаубица до сих пор не отцеплена от машины? Артиллеристы сконфуженно принялись за работу. Капитан заглянул под машину и увидел, что поперечная тяга действительно сильно погнута. — Как же такое произошло? — спросил командир, понимая, что починить машину будет нелегко. — По таким колдобинам ехали, и не то еще могло быть! Каст понимал, что водителя, собственно, не в чем обвинять, ведь не он же завел батарею в это гиблое место. — Вылезайте из-под машины и помогите ребятам отцепить орудие, а там видно будет что к чему. Когда водитель вылез из-под машины и предстал перед капитаном, Касту стало жаль его: таким измученным и грязным он был. — Не вешайте головы, товарищ Нагель. Исправим мы вашу тягу, вот увидите, — подбодрил капитан водителя. Капитан с секретарем направились к следующему орудийному расчету. — Товарищ капитан, вы даже представить себе не можете, как благотворно действует на солдат ваше спокойствие, — заметил по дороге секретарь командиру. — Это я только внешне спокоен, дорогой Найберт. Видел бы ты, что творится у меня в душе. Секретарь парторганизации был единственным человеком, кого капитан даже на службе позволял себе называть на «ты». Несмотря на разные звания и должности, они были друзьями. Нужно сказать, что вахтмайстер Найберт никогда не злоупотреблял этой дружбой. Более того, он всегда предлагал свою помощь Касту, если тот оказывался в затруднительном положении, и, как правило, исчезал из виду, если появлялись хоть какие-нибудь выгоды. Не раз случалось, что он уступал свой отпуск другому, более нуждающемуся. Ко всему прочему Найберт был хорошим командиром орудия. Капитан больше всего уважал вахтмайстера за добросовестность и партийное отношение к любому делу. Вместе они успешно решили много сложных задач. Самого капитана неоднократно избирали членом партийного бюро, и потому он хорошо знал, что его секретарь и одновременно командир орудия прекрасный человек. Найберт интуитивно чувствовал, где что не ладится. Заметив тот или иной недостаток, он тут же критиковал того, кто это допустил. И хотя на боевых стрельбах он не всегда показывал хорошие результаты, солдаты любили его и уважали. — Помоги второму расчету, он вызывает у меня опасения, — сказал капитан вахтмайстеру, и они разошлись. Увидев стоящих на мосту командиров взводов, капитан подозвал их к себе. Ему не понравилось, что они находятся не среди своих солдат. — Почему вы собрались здесь? Ваше место сейчас среди солдат! Прошу вас, товарищи офицеры, разойтись по своим подразделениям! — строго сказал им капитан. Офицеры без возражений разошлись. В душе они считали, что командир совершенно прав. Увидев, что френч у него расстегнут, они тоже расстегнули френчи и молча принялись за работу. Командир батареи подошел к тягачу, который остановился на мосту и который нужно было убрать с дороги прежде всего. Почва за мостом была мокрой и глинистой. Машины увязли по самые оси колес. Вытащить их из грязи было делом нелегким. Солдатам часто приходилось отдыхать. Отцепив гаубицу, они оттолкнули ее в сторону. Солдаты нисколько не удивились, увидев, что командир батареи направляется прямо к ним. Не удивились они и когда он начал помогать им. Все они хорошо знали его и уважали за простоту и отзывчивость. — Я смотрю, товарищи, вы славно поработали! — Все сделаем, как нужно, товарищ капитан! — дружно отвечали командиру солдаты. — До шести часов вытащим все орудия! Правда, не все в это верят… Кое-кто говорит, что вам достанется… Капитан Каст взглянул на говорившего. Это был маленький ефрейтор. И хотя капитан прекрасно понял, о чем говорил ефрейтор, он все же спросил его, чтобы выиграть время для ответа: — Что вы имеете в виду? — Понимаете, — смущенно начал маленький ефрейтор, — говорят, что вас сильно накажут за то, что мы тут застряли в грязи. — Он сделал небольшую паузу и продолжал: — Такое со всяким может случиться, не так ли, товарищ капитан? Каст не сразу ответил ефрейтору. Помолчав немного, заговорил: — То, что произошло здесь, это моя вина. А уж как поступит со мной начальство, не знаю. Возможно, что меня и привлекут к ответственности. Но не это самое главное. Есть вещи поважнее. Например, нам необходимо во что бы то ни стало вылезти из этой ловушки! Это важнее всего! Солдаты молча продолжали работать, подкладывая под колеса машин бревна, доски, хворост. Каст помогал им. Устав, он отошел в сторону, вытирая с лица обильный пот. Маленький ефрейтор тихо шепнул командиру орудия: — Мне кажется, нашему командиру надо отдохнуть. Мы и без него все сделаем. — Если хочешь, можешь сказать ему об этом. — Он же меня не послушает. — Конечно нет. — Ну вот видишь. Не такой он человек! В этот момент к капитану подошел водитель тягача и сказал: — Я думаю, можно сделать попытку, товарищ капитан! Командир отошел от машины, коротко бросив: — Давай! Колеса яростно завертелись, и машина даже немного выехала из ямы, но через секунду они начали проворачиваться, и машина снова осела в яму. — Стой! — одновременно закричали несколько человек. — Черт возьми! — в сердцах выругался наводчик. «Пора бы нам уже выбраться отсюда», — подумал Каст. Он приказал водителю второго тягача медленно сдавать назад. Прицепив трос к застрявшей в яме машине, еще раз попытались вытащить ее. В какой-то момент показалось, что это удается, но вдруг трос лопнул, угрожающе просвистев над головами солдат. Хорошо еще, что никого не задело. Капитан, довольный этим, улыбнулся, и вмиг расплылись в улыбке лица солдат, а это означало, что не все еще потеряно. — Нужно попробовать лебедкой, — предложил водитель тягача. Один конец троса решили прикрепить к балке моста, а другой наматывать на лебедку, которая имелась перед радиатором тягача. — Товарищ капитан, а ведь это запрещено, — заметил другой водитель командиру батареи. — Запрещено крепить трос к основе моста? — переспросил капитан. — И все же мы на это пойдем. Во-первых, этот мост построили наши солдаты, во-вторых, этим мостом пользуемся только мы, а в-третьих, я уверен, что балка выдержит такую нагрузку. Солдаты обрадовались и сразу же начали готовить лебедку. Дополнительно в качестве тягача решили использовать вторую машину. Медленно, но относительно легко машину удалось вытащить из ямы. Тем временем взошло солнце. Легкий ветерок разогнал легкие облачка на небе. Наступило утро. Умывшись в речке, капитан подошел к последней машине, которую предстояло вытащить из ямы. Это была та самая машина, у которой оказалась погнута рулевая тяга. — Ну, товарищ Нагель, вы обдумали, как мы будем ремонтировать тягу у вашей машины? — Обдумал, товарищ капитан! — Ну и как же? — Выправим ее. — Каким образом? Холодным или горячим способом? Солдаты, стоявшие неподалеку, подошли еще ближе к тягачу. Капитан не случайно задал эти вопросы водителю. Он никогда не упускал возможности заставить солдат самостоятельно мыслить. — Наверное, горячим способом… — Я думаю, товарищ Нагель, мы этого делать не станем: в этих условиях такое нам просто не под силу. Ведь придется развести огонь и на нем накаливать тягу докрасна. Сколько времени у нас на это уйдет, как вы думаете? Водитель сначала растерянно пожал плечами, потом посмотрел почему-то на носки своих сапог и только после этого ответил: — Возможно, до полудня… — Возможно, и не меньше… Разговор как-то сам собой зашел в тупик. — А что вы скажете, товарищ Нагель, на приказ подготовить машину к движению через пятнадцать минут? Водитель тяжело вздохнул и ответил: — Из этого ничего не выйдет, товарищ капитан. — Не спешите сдаваться. — Но такое просто невозможно! — В данный момент я, естественно, не собираюсь отдавать вам такой приказ… Капитан замолчал. Солдаты решили, что он думает о том, как скорее отремонтировать машину, но на самом деле капитан умолк, потому что вдруг почувствовал резкую боль в левом боку. Когда боль немного утихла, он продолжал: — Я сам вам покажу, как выполнить такой приказ. Но прежде всего я хочу научить вас думать. А ремонт тяги необходимо произвести за пятнадцать минут. Солдаты, слушавшие этот разговор, недоуменно переглянулись. — Неужели это возможно? — удивился водитель. — Возможно! В этот момент раздался радостный крик солдат, стоявших возле машины взвода управления: машина медленно выехала из ямы на сухое и ровное место. — Нужно спешить, а то ваша машина закрыла дорогу другим, — сказал капитан Нагелю. — Ну а как же вы погнули тягу? — спросил он у Нагеля и сам же ответил на свой вопрос: — Во время движения вы наехали на большой брус и погнули ее. А сейчас мы ее выгнем в обратную сторону с помощью мотора. Капитан сказал водителю, чтобы тот полез под машину и прикрепил там трос к тяге. — Другой конец троса мы привяжем к дереву. — Капитан показал рукой на одиноко стоявшую сосну. — Всем отойти назад, — приказал он, когда трос был прикреплен, — а то, чего доброго, опять оборвется! Он дал знак водителю трогаться с места, а сам стал внимательно следить за тросом, миллиметр за миллиметром выпрямляющим тягу. Как только она приняла нормальное положение, капитан подал знак остановить машину. Ремонт машины в полевых условиях был закончен, и передние колеса тягача снова встали в нормальное положение. — Вы время не засекли? — спросил Каст у водителя. — На весь ремонт ушло одиннадцать минут, товарищ капитан. Солдаты довольно улыбались. — Видите, товарищ Нагель, а вы говорили, до полудня. Солдаты быстро разошлись по своим местам. Батарея была готова двигаться в путь. Часы показывали половину шестого.5
Подойдя к воде, капитан Каст еще раз умылся, а затем стряхнул пыль с обмундирования. Вода в речке была холодной и ненадолго освежила его. Капитан почувствовал, что проголодался. Бросив взгляд на мост, он увидел радиста, который усиленно махал ему и кричал: — Товарищ капитан, командир дивизиона хочет говорить с вами по радио! Он провел мокрыми руками по волосам и крикнул радисту: — Передайте ему, что я иду! — И подумал: «Вот сейчас и начнется разнос». Через минуту капитан уже стоял на мосту. Боль в груди снова дала о себе знать. Каст облокотился на перила и наклонился вперед: боль несколько утихла. — Поздравляю вас с успехом, — услышал Каст голос командира дивизиона, когда подошел к рации и надел на голову наушники. — Хочу сообщить вам, что наш дивизион выбыл из игры, так что больше можете не спешить! Последние слова командира прозвучали довольно язвительно. «Что мне ответить ему?» — подумал капитан. Внимательно выслушав доклад капитана, командир дивизиона приказал батарее вернуться в казармы. Закончив разговор, капитан в сердцах выругался. Он ждал разноса, а не этого язвительного тона. Капитан давно знал командира дивизиона, можно сказать, неплохо сработался с ним. Для Каста майор Драйнштайн всегда был образцовым офицером, строгим, но справедливым начальником. «Может, майор уже все знает, — мелькнула у капитана мысль. — Командиру полка наверняка уже обо всем давно известно. Все неприятности, видимо, впереди». Капитан снова почувствовал боль в области сердца. В последнее время такое случалось довольно часто. Обычно это начиналось после сильных физических нагрузок. Три месяца назад капитан впервые узнал о том, что у него больное сердце. Об этом ему сказал полковой врач и порекомендовал поехать подлечиться в военный санаторий. Сначала Каст согласился с предложением врача, но скоро понял, что в интересах дела, без которого он не мыслил своей жизни, ему пока нужно находиться в подразделении. А лечение он ограничил приемом выписанных ему таблеток, и только. Этим он как бы утешал себя: вот, мол, и лечиться начал. Нужно было немедленно бросить курить, а капитан Каст был заядлым курильщиком, и расстаться с сигаретой было выше его сил. «Бросать надо курить, бросать!» — мысленно уговаривал себя Каст, а сам тут же открывал портсигар и доставал очередную сигарету. О своей болезни он никому не говорил, боясь, что эти разговоры могут привести к тому, что ему предложат демобилизоваться из Национальной народной армии, без которой он не мыслил себе жизни. Он был абсолютно уверен, что лучше профессии, чем офицер, нет на свете. В армию он пришел добровольно, оставив гражданскую профессию слесаря, а отслужив действительную, уже не мог уйти из армии. Он стал офицером, дослужился до капитана, был назначен на должность командира батареи. Сколько хороших солдат воспитал он за долгие годы службы! Сколько за это время сделал хорошего, каких добился успехов! Правда, были у него и ошибки, и недоработки, но у кого их не бывает? Для своих солдат Каст стал не только командиром-воспитателем, но и старшим другом, у которого для каждого найдется умный совет и доброе слово. Сделав несколько затяжек, капитан бросил сигарету в воду. Повернувшись спиной к реке, он увидел, что к нему идет широкоплечий невысокий офицер. Каст не сразу узнал командира второй батареи обер-лейтенанта Колтермана, с которым у них всегда были официальные отношения. Сам не зная почему, он несколько недолюбливал Колтермана, хотя признавался в душе, что обер-лейтенант, батарея которого на всех стрельбах почти всегда получала только оценку «отлично», — толковый офицер. Каст понимал, что Колтерман способен на большее, и ничуть не завидовал ему. Никто не мог сказать, что Колтерман отделяется от коллектива: он был готов всегда и во всем помочь товарищу, если бы его об этом попросили. Однако в помощи Колтермана всегда чувствовалась некоторая снисходительность, будто он хотел сказать: «Ну вот видишь, как я к тебе отношусь? Надеюсь, что ты не забудешь о моей помощи!» Короче говоря, дружеских взаимоотношений между офицерами и Колтерманом не было. Капитан Каст, увидев обер-лейтенанта, понял, что разговора с ним не избежать. «Где же его батарея? — думал Каст. — Ведь он должен был двигаться за мной! Возможно, он ничего другого придумать не смог и расположил ее в лесу». О том, где находится третья батарея, Каст вообще не имел ни малейшего представления. «Возможно, что Холдак тоже где-нибудь застрял. Не зря же командир дивизиона был так взволнован». Однако, завидев обер-лейтенанта, Каст отогнал от себя нехорошие мысли, дабы не быть несправедливым. — Ну, Каст, как дела? — спросил Колтерман и, не дожидаясь ответа, продолжал: — А ты здесь здорово засел, не так ли? — Сказано все это было с легкой усмешкой. Каст неохотно протянул обер-лейтенанту руку и спокойно ответил: — Такое с каждым может произойти. — Конечно! Если бы я шел впереди тебя, возможно, такая участь ждала бы меня. — Эти слова обер-лейтенант проговорил таким тоном, что понимать их следовало не иначе, как: «Со мной такого никак не могло случиться!» — Возможно, — коротко согласился капитан. — А другого маршрута ты не мог выбрать? — Нет. — Жаль! — Тон у обер-лейтенанта был явно пренебрежительный. — Если ты знал другой удобный путь, почему же ты не пошел по нему? Почему, спрашивается, твои гаубицы тащатся за мной? — А батарея Холдака уже находится на противоположном берегу! — не ответив на вопрос капитана, выпалил обер-лейтенант. Это известие поразило Каста. «Выходит, обер-лейтенанту Холдаку повезло, он сумел перебраться на тот берег. Очень похвально! Любопытно, как это ему удалось: ведь подходящего места поблизости нет. В Хайденбринке он едва ли был. А как же тогда еще? Бродом уже года два не пользуются… Когда я сам был там в последний раз, то видел, что он непригоден…» — думал капитан. — Не удивляйся, но Холдак действительно нашел другой маршрут, — сказал Колтерман и, сделав небольшую паузу, продолжал: — Удивительное в этом то, что он оказался на том берегу раньше, чем ты застрял здесь! — Не может быть! Он ведь должен был идти за нами! — Ну наконец-то ты кое-что начинаешь понимать, — усмехнулся обер-лейтенант. — Но ведь он знал, что нас ждет. — Да, мой дорогой Каст, конечно, он знал, наверняка знал о том, что через мост идти опасно. Мне лично не нравится то, что он никого об этом не предупредил. Сейчас же он находится уже в районе сбора, мне об этом сообщил радист, который слышал доклад Холдака командиру дивизиона…6
Послеобеденное солнце, сиявшее на безоблачном небосклоне, пекло уже не так сильно. День выдался безветренный и потому жаркий. Однако, несмотря на жару, в полку царило оживление. Все гаубицы выкатили из артпарка на бетонную площадку. Номера расчетов, вооружившись паклей, тряпками, щелочью и маслом, явились на чистку техники. Машины и тягачи водители мыли из шлангов на местах, отведенных для мойки. Чистка и мойка были хорошо организованы и проходили в нормальном темпе. После мойки машин водители провели технический осмотр. С учения артиллеристы вернулись рано утром. После завтрака всем разрешили немного поспать. Обер-лейтенант Холдак несколько раз обошел все орудия и машины батареи, тщательно проверил их чистку. На лице его не было заметно и тени беспокойства. И все же Холдаку было как-то не по себе. На учении он очень устал, а несколько часов отдыха почти не принесли облегчения. К тому времени он уже во всех подробностях знал о ЧП, постигшем первую батарею. Об этом ему рассказали командиры взводов, да и от солдат он кое-что слышал. Обер-лейтенант Холдак чувствовал себя виновным в том, что с первой батареей стряслась беда. Он почувствовал себя неудобно уже тогда, когда на рассвете докладывал командиру дивизиона о том, что батарея в полном составе своевременно прибыла в указанный район. От внимания Холдака не ускользнуло, что и сам командир дивизиона, и его заместитель, и секретарь партийного бюро как-то странно, ему даже показалось, с подозрением, посмотрели на него. Возможно, они тогда еще ничего не знали, но уже о чем-то догадывались. Через час командир дивизиона будет проводить разбор учений. Холдак чувствовал, что над его головой сгущаются тучи. Обер-лейтенант подошел к последнему орудию. Весь расчет отступил от гаубицы и терпеливо ожидал, что командир скажет, как оценит их работу. Все знали, что он с педантичностью требовал, чтобы гаубицы всегда были безукоризненно вычищены. Однако на этот раз командир бросил на орудие лишь беглый взгляд и пошел дальше. Такого еще никогда не было! Холдаку хотелось до начала разбора увидеть капитана Каста, чтобы прочесть в его глазах немой приговор, но капитана, как назло, нигде не было. Сгорая от нетерпения, он спросил у одного из командиров взводов, где их капитан. Офицер ответил, что тот еще не являлся на службу. Снедаемый беспокойством и любопытством, Холдак пошел на площадку для курения, чтобы покурить и хоть немного успокоиться. Командир дивизиона майор Драйнштайн, всегда отличавшийся пунктуальностью, и на этот раз начал разбор минута в минуту. Наиболее детально он обсудил ночной марш. Офицеры уже знали, что эти учения для их дивизиона окончились плохо: две батареи из трех не смогли прибыть в указанный район, а это означало, что в боевой обстановке обе эти батареи не смогли бы поддерживать наши войска своим огнем. — Ваш дивизион со своей задачей не справился! — сказал один из посредников майору Драйнштайну. Услышав это, майор был готов сквозь землю провалиться, но теперь он был спокоен, корректен и ничем не выдавал своего волнения. Говорил он скупо, но деловито, останавливаясь на каждой, даже малейшей, ошибке, вскрывая причины, ее породившие, не забывая одновременно похвалить и того, кого следовало похвалить. Офицеры со вниманием слушали своего командира. И только обер-лейтенант Холдак никак не мог сосредоточиться. За минуту до начала разбора Холдак вдруг увидел капитана Каста, сидящего у открытого окна. Внешне капитан казался спокойным. Оба командира батареи после встречи на мосту больше не виделись и, следовательно, не разговаривали друг с другом. Обер-лейтенанта Холдака мучила невеселая мысль: «Неужели кто-нибудь из офицеров догадался о моей вине?» Командир начал разбор действий первой батареи. Сказав о том, что личный состав батареи был хорошо подготовлен к учениям, майор заявил, что в происшедшем целиком и полностью виноват один командир батареи. — Задержка на мосту, — продолжал командир, — никоим образом не была запланирована. Этот случай свидетельствует о том, что наша разведка действовала плохо, а вы, командиры, получив приказ, успокоились, что будете действовать на знакомой местности, не удосужились еще раз поинтересоваться, в каком состоянии дорога, мост и вообще местность, по которой проходит ваш маршрут. Мы провалились на учениях из-за собственной беспечности… Затем майор коротко охарактеризовал действия второй батареи, сделав упрек командиру батареи обер-лейтенанту Колтерману в том, что он не проявил должной инициативы. — Теперь вы видите, товарищи, к чему приводит пассивность. Всем вам, товарищи офицеры, нужно брать пример с обер-лейтенанта Холдака, который действовал самостоятельно и решительно, как и подобает офицеру. Холдак почувствовал на себе взгляды офицеров. Сердце забилось сильнее и чаще. «Нет, нет! Они, разумеется, ни о чем не знают и даже не догадываются!» — Однако эта мысль нисколько не успокоила Холдака. Он постарался казаться равнодушным, однако это ему не удалось. Капитан Каст даже не взглянул в его сторону. Зато обер-лейтенант Колтерман бросил на него взгляд, в котором можно было прочесть и иронию, и насмешку, и даже пренебрежение. «Ну конечно, Колтерман знает больше, чем я думаю. Здесь он, видимо, выступать не будет, но потом, когда разбор кончится, он мне выскажет все, не постесняется даже моих взводных! Уж кого-кого, а тебя-то, хитрый лис, я хорошо знаю!» Холдака даже в пот бросило, и он уже не слушал того, что говорил майор. Холдак еще раз бросил взгляд на капитана, который продолжал сидеть с отсутствующим взглядом. Неожиданно капитан Каст поднял голову и с усмешкой посмотрел на Холдака. От взгляда капитана Холдаку стало жарко. Командир дивизиона говорил еще о том, что окончательную оценку действий каждого подразделения дадут позже в штабе полка, но ему уже и сейчас ясно, кто как действовал. — Первая батарея вышла из игры, — продолжал майор, — и я не скрою своего недовольства действиями командира этой батареи. В этот момент в открытое окно влетел жук. Он басовито жужжал, наполняя комнату своим гуденьем. Сделав несколько кругов вокруг лампы, он начал биться в оконное стекло, пытаясь найти выход. Тогда он опять полетел в глубь комнаты, а затем снова к окну, на этот раз уже к открытому, и вылетел. На какое-то время в комнате установилась полная тишина. — Что касается действий командира второй батареи обер-лейтенанта Колтермана, то я порекомендовал бы в будущем проявлять больше инициативы, а за его конкретные действия на учениях вынужден буду привлечь его к ответственности. А вот обер-лейтенанту Холдаку за умные, инициативные действия я объявляю благодарность. После разбора учений унтер-лейтенант Хайнце подошел к Холдаку и сказал: — Товарищ обер-лейтенант, солдаты теперь готовы идти за вами в огонь и в воду!7
Вечер выдался на редкость тихий. До захода солнца оставалось совсем немного. Все окна в казарме были распахнуты настежь. Кто-то играл на аккордеоне. Несколько солдат сидели перед зданием на скамеечке, один курил, другие читали, третьи просто отдыхали. По плацу, на котором обычно проводились общие построения и занятия, солдаты гоняли футбольный мяч. После разбора учений обер-лейтенант Холдак домой не пошел. Да ему вовсе и не хотелось идти домой. Он вспомнил, что не почистил личное оружие, и решил сделать это сейчас. Разобрав пистолет, он тщательно смазал его, а затем собрал. Каждое движение Холдака было уверенным и точным: он мог бы собрать пистолет даже с закрытыми глазами. В полку обер-лейтенант слыл неплохим стрелком из личного оружия, хотя до капитана Каста ему, разумеется, было еще далеко. Каст числился одним из лучших стрелков в дивизии, он уже не раз принимал участие в крупных соревнованиях и занимал на них призовые места. Холдак проверил пистолет: все было в порядке. Постепенно он успокоился. «А в чем, собственно, я должен себя обвинять? — мысленно спрашивал он себя. — Я знал, что дорога через мост не самая лучшая, потому и выбрал себе другой маршрут, только и всего… А все ли это? — как бы спрашивал у него какой-то внутренний голос. — Остальные командиры батарей ничего не знали об этом, и именно поэтому машины капитана Каста застряли на съезде с моста. Но разве в этом виноват я? Если бы Каст был более внимателен, ничего подобного с ним не случилось… Правда, я был в более выгодном положении, так как хорошо знал эту местность…» Но, как Холдак ни старался, ему не удавалось успокоить себя. «Я должен был предупредить обоих командиров батарей об опасности, обязан был подсказать им другой маршрут. Сделать это по радио было проще простого, тогда Каст не застрял бы, а Колтерман не стоял бы на месте, дожидаясь, когда путь освободится. Если бы все три батареи переправились на тот берег по броду, то дивизион своевременно прибыл бы в пункт сосредоточения и выполнил бы свою задачу». Холдак встал и подошел к окну. Солнце, словно огромный огненный шар, коснулось горизонта. И вдруг до Холдака дошло, что в провале дивизиона виноват не кто-нибудь, а именно он сам. Холдак усмехнулся, вспомнив, что ему даже объявили благодарность, а остальных здорово покритиковали. «И почему только я вел себя, как завзятый карьерист? Ведь я вовсе не собирался извлекать из этого никакой выгоды!» В коридоре послышались голоса и шум шагов: это солдаты возвращались после игры. Через минуту голоса стихли в душевой, и оттуда донесся только шум воды. «Мне нужно извиниться перед капитаном Кастом, — решил вдруг Холдак. — Я ему все расскажу, иначе не видать мне покоя. Рано или поздно все и так выяснится». Сдав пистолет, Холдак вышел из казармы во двор и всей грудью вдохнул в себя чистый воздух. Думать о доме не хотелось, дома его ждала жена, с которой он, как ни странно, до сих пор не нашел общего языка. Познакомились они два года назад, когда их полк бросили на уборку урожая. И быстро поженились, не успев как следует узнать друг друга. Она не имела почти никакого представления о его работе, а он, прекрасно разбираясь в характерах своих солдат, не смог понять ее интересов. В результате такого недопонимания получилось так, что в казарме он чувствовал себя уютнее, чем в собственном доме. Неурядица в семье невольно отражалась на работе. Холдак шел домой, погруженный в свои невеселые мысли. Поравнявшись с общежитием офицеров-холостяков, он невольно подумал о капитане Касте. В комнате капитана горел свет. «А почему бы мне не зайти к нему прямо сейчас и не объясниться?» Холдак понимал, что разговор будет не из приятных, но отступать было поздно, потому что он уже вошел в общежитие и его заметили двое молодых офицеров.Капитан Каст почти все свое время отдавал работе, находясь в казарме с раннего утра и до позднего вечера. В Тюрингии у него жила старушка мать. Ежемесячно он посылал ей деньги, а получив очередной отпуск, навещал ее. На женщин он почти не обращал внимания. Правда, несколько лет назад он влюбился, но вскоре, поняв, что это не тот человек, с которым он мог бы связать свою жизнь, расстался с ней. Не прошло и трех месяцев, как его знакомая написала ему письмо и сообщила, что она не имеет к нему никаких претензий и считает, что им и на самом деле лучше расстаться… Обер-лейтенант Холдак вошел в комнату капитана, которая, несмотря на то что была обставлена казенной мебелью, казалась уютной. На полу толстый пушистый ковер, на окнах занавески и шторы. На стенах висело несколько эстампов, а на книжной полке, видимо сделанной самим капитаном, стояли книги. Каст сидел за столом, подавшись корпусом вперед. На нем был тренировочный костюм. На ногах вместо армейских сапог — легкие спортивные тапочки. Капитан чинил свой дорожный будильник, который лежал перед ним на столе. Увидев Холдака, Каст улыбнулся и пригласил его сесть. — Вот что-то будильник испортился: перестал звонить, — объяснил Каст, раскладывая на столе многочисленные колесики. После разговора с обер-лейтенантом Колтерманом у моста Каст понял, что тот сказал ему правду. Капитан тогда же спросил у своего радиста, действительно ли Холдак уже переправился через реку, и получил утвердительный ответ. — Включи радио, чтобы не так скучно было, — предложил Каст. Холдак включил радио и настроился на какую-то музыкальную передачу. — Если хочешь покурить, то достань сигареты: они в тумбочке! — сказал Каст. Холдак был не прочь закурить и поблагодарил капитана. Оба закурили. Каст зажег настольную лампу, чтобы лучше видеть мелкие детальки будильника. От капитана не ускользнуло, что Холдак чем-то взволнован, что вид у него какой-то виноватый. Каст понимал, как неудобно сейчас Холдаку объясняться с ним. — Знаешь, Роберт, я должен тебе кое-что сказать… — робко начал Холдак. — Эта история с мостом… «Выходит, я не ошибся», — подумал капитан и сказал, не дав обер-лейтенанту договорить: — А знаешь, тебе здорово повезло с бродом! Вот уже два года, как в том месте никто не переправлялся на противоположный берег. — А тебе разве известен этот брод? — Конечно, с твоим предшественником я давно разведал его. Холдак невесело усмехнулся: разговор все время уходил куда-то в сторону. — Я тебя сегодня утром искал, Роберт… — Спал я… — коротко ответил капитан, не желая рассказывать Холдаку о том, что утром у него сильно болело сердце. — Понимаешь, Роберт, я даже не знаю, как бы это тебе получше объяснить… Я, видишь ли, знал, что может произойти на мосту, и об этом мне нужно было бы сообщить вам. Почему я этого не сделал, я и сам толком не знаю. Не понимаю, как я мог позволить тебе идти через мост! Я ведь прекрасно знал, что ты там застрянешь. — Холдак немного помолчал, а затем продолжал: — Я должен извиниться перед тобой… В этот момент капитан закончил собирать будильник. Заведя его, он приложил его к уху и, немного послушав, удовлетворенно произнес: — Идут все-таки! Будильник зазвенел громко и нервно. Каст так весело засмеялся, что и Холдак не мог не улыбнуться. Немного помолчав, Каст заговорил спокойно и серьезно: — Я, конечно, знаю, что ты нас всех здорово подвел, а теперь вот пришел ко мне и просишь извинения. Не скрою, мне твой поступок очень не понравился. — Каст неожиданно замолчал, и в комнате сделалось тихо-тихо, так что стало слышно лишь тиканье будильника. — Сейчас же ты пришел ко мне, как будто это личное дело, которое касается только нас двоих. Если бы это было так, то я давно простил бы твою вину. — Капитан закурил и посмотрел на красного как рак Холдака. — Но так это недоразумение решить нельзя: ведь мы офицеры Народной армии и служим в одной части. Ты виноват не только передо мной. Капитан сел, не сводя пронизывающего взгляда с обер-лейтенанта, которому от этого стало как-то не по себе. — Кто я такой один? — продолжал Каст. — Командир одной из батарей, и только. А ведь мы служим в армии, и каждый из нас в первую очередь должен думать о ней. Ты на этих учениях думал только о себе, и вот тебе результат: пострадали две батареи. Если бы в боевых условиях ты оказался в таком положении, твоей батарее пришлось бы вести огонь за все три батареи. А этого, как бы ты ни хотел, тебе не удалось бы! Ты сам неплохо разбираешься в тактике и понимаешь, к каким последствиям это могло привести! Наш полк оказал бы меньшую огневую поддержку пехоте, которая так ждет нашей помощи, и из-за этого она понесла бы большие потери в живой силе и технике. Но это еще не все! Посмотрим, что было бы еще. Поскольку наши батареи отстали и застряли бы на одном месте, они стали бы хорошей мишенью для бомбардировочной авиации противника. Вот видишь, к каким последствиям могла привести твоя ошибка, а ты теперь хочешь решить ее как нечто сугубо личное. Я к тебе претензий не имею, но наша парторганизация не может не иметь, так что приготовься к серьезному разговору.




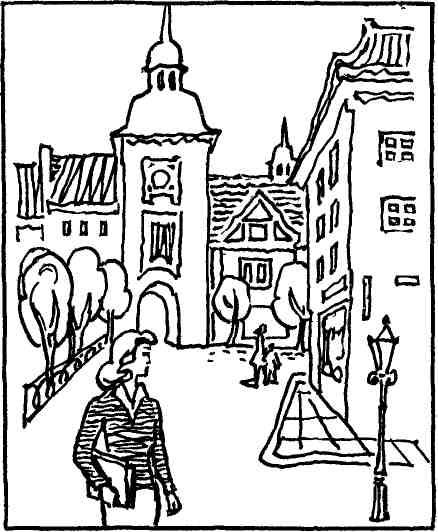



Последние комментарии
1 день 8 часов назад
1 день 13 часов назад
1 день 21 часов назад
2 дней 14 минут назад
2 дней 22 минут назад
3 дней 11 часов назад