Повесть о бедном солдате [Всеволод Михайлович Привальский] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Всеволод Привальский ПОВЕСТЬ О БЕДНОМ СОЛДАТЕ
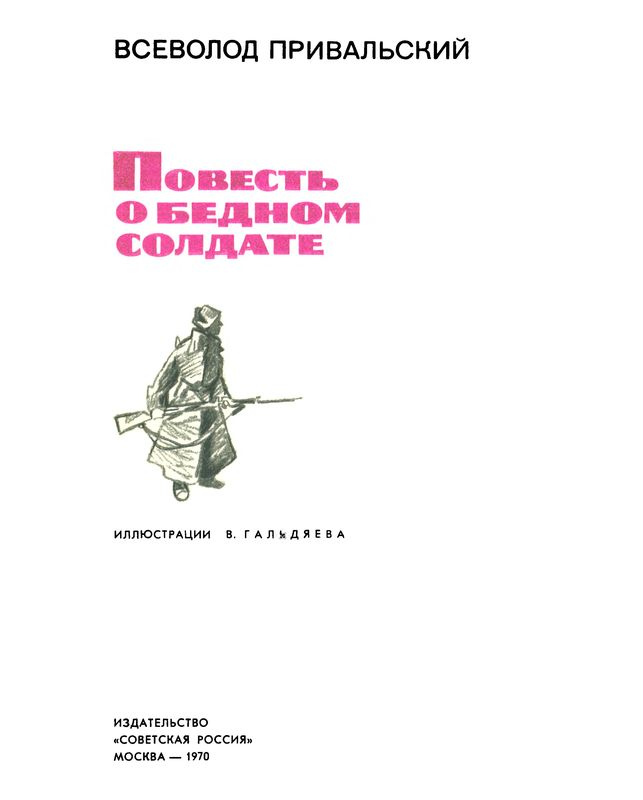

Леонтий Серников считался чуть ли не самым никудышным солдатом в роте. Сложения он был тщедушного, на сером, будто смятом лице, торчал вострый носик, глаза под жиденькими бровями глядели испуганно. Обмундирование на нем болталось, будто с чужого плеча. И хотя это было военное обмундирование и хотя имел он, как и все, при себе и винтовку, и штык, и подсумок с патронами, все эти атрибуты ничуть не придавали ему того молодецкого вида, который полагалось иметь солдату. Фельдфебель Ставчук, за глаза называемый «шкурой», при взгляде на Серникова каждый раз морщился, как от зубной боли, и однажды, в минуту мирного настроения сказал: — Какой-то ты, понимаешь, недомерок, весь строй ты мне портишь. — И вдруг, налившись яростной кровью, рявкнул: — А ну, налево кругом! Пшел!

Кличка «Недомерок» прилипла к Серникову, он скоро привык к ней и беззлобно отзывался. Несмотря на малый рост, худобу и внешнюю хлипкость, он был крепок, жилист и на редкость вынослив. На фронте он в конце концов привык к пулям, к разрывам снарядов и гранат, притерпелся к нелегкому солдатскому быту. Постепенно притупилось в нем чувство страха перед той громадной, грохочущей и бессмысленно убивающей машиной, какой представлялась ему война. Он стрелял тогда, когда приказывали, из своей винтовки, вместе со всеми ходил в атаки, но этому прямому солдатскому делу предпочитал рытье окопов и ходов сообщения, устройство блиндажей. Такая работа казалась ему куда более осмысленной, чем стрельба из винтовки и швыряние гранат: в окопах укроются солдаты и он сам, по ходам сообщения принесут обед, в блиндажах устроятся господа офицеры. И пуще пуль, шрапнели и артиллерийского обстрела, пуще штыковых атак боялся он всякого начальства. Когда фельдфебель, грозя здоровенным кулачищем и щеря крупные зубы, материл его за плохо подтянутый ремень, за оторванную пуговицу, он обмирал от страха, вздрагивал и испуганно моргал. Когда офицер отдавал ему какое-нибудь приказание, он терялся и, хотя слышал все слова, ничего ровным счетом не понимал. Ему с трудом давались такие обращения как «господин поручик» или «ваше благородие», все хотелось ему вместо них говорить «барин», как обращался он к управляющему имением, куда вместе с другими мужиками каждое лето ходил наниматься косить. Все офицеры были такими же барами, управляющими или даже самими господами помещиками и, как и полагалось барам, жили в теплых блиндажах, ели свою барскую пищу и отдавали приказы простым мужикам вроде него, Леонтия Серникова. Осколком гранаты убило подпоручика Сомова, а ему казалось, что смерть не может коснуться бар, потому что умирать от пуль и осколков дело солдатское. Правда, подпоручик умер как-то очень аккуратно, не с развороченным животом, не с оторванными ногами или руками, — осколок пробил грудь, оставив на шинели лишь небольшое расплывающееся и быстро темнеющее пятно. Он лежал на дне окопа бледный и красивый, как херувим, и когда кто-то расстегнул на нем шинель и китель, Леонтий увидел чистое белье и крестик на белой, не похожей на солдатскую, коже. О войне Серников думал так, как внушало начальство: «Вот побьем германца, пойдем по домам». Но в последнее время в голове его начали складываться новые, странные мысли, порой пугавшие его самого. Началось это с того времени, как он, единственный раз за два года, съездил в отпуск домой. Встреча с женой, к которой раньше никакой особенной любви он не испытывал и на которой женился просто потому, что пришло время и пора было создавать свою семью, рисовалась ему трогательной и радостной. Но при виде мужа Лукерья страшно закричала, будто увидела привидение, припала к его груди, потом опустилась к ногам и, сотрясаемая рыданиями, обняв грязные солдатские сапоги, повинилась в грехе. На грех толкнул ее господин управляющий, к которому ходила она мыть полы, угостив вином и посулив мешок муки и рубль денег. Потом она уже сама, по доброй воле, ходила вечерами в барскую ригу, хотя эти свидания не доставляли ей никакого удовольствия. Скоро управляющему она надоела, и он прогнал ее, заплатив рубль, но так и не дав муки. Исповедь жены потрясла Леонтия. Растерянный, он повторял только одно: — Как же это? А я гостинцев привез… Вечером он напился и все же побил жену, а потом долго плакал и скрипел зубами, жалея и себя, и ее, и двух дочек. Дочки — Манька да Санька — были еще совсем маленькие, худенькие, с выпяченными животами, белобрысые в мать, но с отцовскими птичьими носиками. Через два дня Лукерья утопилась. В гробу она лежала жалкая, притихшая, виноватая, будто и в смерти каялась, платье на ней натянулось, и только тогда стал заметен ее округлившийся живот. Хоронить самоубийцу на кладбище поп запретил. На следующий день после похорон господин управляющий прислал Серникову мешок муки, и тут Леонтий, тихий и робкий, впервые в жизни взбунтовался. Он не взял муки, за которую такой страшной ценой заплатила его жена. Потом он пожалел о своем бунтарском жесте: в мучном ларе остались только две горсти обсевков. Было в доме немного картошки, и больше ничего. Корову, которую покойница Лукерья ласково называла Кормилицей, еще весной свели за недоимки. Девочек Маньку с Санькой из жалости взяла к себе старшая сестра Лукерьи Дарья, хотя у самой семья была сам-шесть, зато муж ее, Петр Веретенников, заслуживший на войне три Георгия и деревяшку вместо ноги, работал на барской мельнице: руки у него были золотые. Леонтий бежал из деревни, не дожив до конца отпуска: все, что случилось здесь с ним, казалось ему страшней, чем война, а жизнь тяжелей, чем в окопах. Вернувшись в полк к привычной солдатской жизни, он даже почувствовал странное облегчение. Но именно с этой поры его начали одолевать всякие мысли. Сперва это были мысли о себе самом, о несчастной Лукерье, о дочках. Но помимо привычной покорности злой судьбе, появились недоумение и озлобленность. Почему такое? За что? Кто виноват? Последняя мысль стала занимать его больше всего. В его взглядах, бросаемых на офицеров, на всех этих господ управляющих, стала проскальзывать злоба. Он еще не умел объяснить себе это чувство, которое теперь примешалось к привычной робости перед барами, — оно было инстинктивным. Может быть, кто-нибудь в полку и мог бы объяснить ему, что это чувство классовое, но таких разговоров с Недомерком никто не вел. Зимой на их участке фронта была предпринята попытка наступления. Леонтий вместе со своей ротой участвовал в коротком, но жарком бою, кончившемся тем, что живые вернулись в свои окопы, а мертвые остались лежать на ничейной земле. Многие за этот бой получили солдатских Георгиев, но Недомерка не наградили: фельдфебелю, составлявшему наградные списки, это даже и в голову не пришло. Раненный в голову и руку, Леонтий попал в госпиталь. Здесь он впервые услышал, как солдаты в открытую ругают войну, офицеров и даже самого царя. Сперва с испугом, а потом с жадным интересом слушал он эти разговоры. Многого он не понимал, а расспрашивать опасался, но всей душой соглашался с тем, что войну нужно кончать. Но как? Прежнее простое объяснение: «побьем германца — пойдем по домам», теперь его уже не удовлетворяло. Отчего это до сих пор не побили германца? Кто виноват? Отчего это война тянется уже третий год, а конца-края ей не видать? Постепенно мысли о собственных несчастьях стали переплетаться, связываться с мыслями о том общем большом несчастье, каким представлялась ему теперь война. И вопрос «кто виноват?» становился все более общим, всеобъемлющим и складывался теперь в такой: «Кто виноват во всем?» В феврале произошло совсем непонятное: отрекся от престола царь. Россия осталась вовсе без царя. Как это так? Впрочем, уже через месяц Леонтий привык к этой мысли, потому что ничто не изменилось ни в России, ни в полку, ни в его собственной судьбе. Весной, когда уже стало пригревать солнышко, по окопам побежали ручьи, а на ничьей земле обнажились трупы, испускавшие смрад, Леонтий — получил из деревни письмо. Морща лоб и шевеля губами, он читал корявые строки, писанные рукой Петра Веретенникова. Петр сообщал, что мужики у них в деревне взбунтовались, опалили барский дом и господин управляющий бежал. Хотели было барскую землицу распахать и поделить по едокам, но тут нагнали солдат, и зачинщиков, в том числе и Петра, посадили в холодную. Правда, Петра, как георгиевского кавалера и инвалида, вскорости отпустили. Плохо, что вернулся обратно господин управляющий и теперь стращает, что вот отпишет он, дескать, в Петроград самому барину, а барин, известное дело, стребует с мужиков за спаленный дом. Далее Петр спрашивал, не слыхал ли Леонтий чего-нибудь насчет раздела землицы, потому как поговаривают, что в других местах мужики барскую землю поделили и крепко за нее держатся. О дочках Петр сообщил только, что живы, хотя до сих пор плачут, зовут мамку. Письмо Леонтия испугало. На всякий случай, чтобы не нажить беды, письмо он изорвал, а Петру ответил уклончиво, что у них на фронте о таких делах пока ничего не слыхать. Слыхать или не слыхать — этого Леонтий не знал, потому что ни с кем о таких опасных вещах не говорил. Он даже думать об этом боялся. Только теперь его с такой неимоверной силой потянуло домой, что он готов был заскулить. Но скули не скули, домой все одно не пустят. Пожалуй, выход действительно был один: скорей побить германца. Об этом же говорил и новый русский правитель Керенский, который неожиданно приехал к ним на фронт. Правда, назывался он не царь, а глава Временного правительства и главнокомандующий, но для Леонтия Серникова это было все равно, что царь. Господин Керенский был во френче, но без погон, и поэтому непонятно в каком чине. Он подкатил к полку, выстроенному в каре, на длинной черной машине с красными сиденьями, встал во весь рост, засунув руку в кожаной перчатке за борт своего френча, и принялся держать речь. Серникову видно было, как старается главнокомандующий, слюной брызжет, он даже пожалел барина, но, как всегда, ничего почти не понял из барской речи, кроме давно известного: «надо побить немца». Леонтий стоял смирно, тихонько вздыхал и думал: «А что, и верно, скорей бы уж довоевать и по домам». И тут кто-то из задних рядов зычно крикнул: — А как с землицей будет, господин Керенский? Леонтий испугался: сейчас крикуна схватят и арестуют. Но ничего подобного: господин Керенский вместо того, чтобы затопать, накричать на дерзкого солдата, повернулся в его сторону и, взмахнув рукой, ответил: — Сперва надо разбить врага, довести войну до победного конца, а тогда мы будем решать вопрос о земле. Солдаты, знайте, — воскликнул он и протянул обе руки, точно собрался обниматься со всем полком, — в России у нас теперь свобода! Мы, новое правительство, готовы защищать ваши интересы точно так же, как вы своей грудью защищаете русскую землю от врага. И опять Серников мало что понял, запомнил только, что господин главнокомандующий обещал решить вопрос о землице, как только побьют германца. Стало быть, это и есть ответ на вопрос, который задавал Серникову Петр и который вот только что выкрикнул какой-то смельчак. Сумнительно чтой-то… Вот ежели бы их высокопревосходительство сказал, допустим, что, дескать, всю землицу нынче же, пока не пришла пора сеять, поделят между мужиками, вот тогда бы ого-го, тогда бы Серников не то что в охотку пошел бы на германца кулаками, зубами дрался бы, лишь бы поскорее кончать распроклятую войну. Но, подумав так, он опять испугался и даже оглянулся: не подслушал ли кто-нибудь его мыслей? Однажды Недомерка подозвал фельдфебель Ставчук и, видимо, пересиливая себя, назвал не Недомерком, а Серниковым и стал расспрашивать, не слыхал ли он, не говорят ли солдаты между собой о большевиках? Леонтий, тараща от старательности глаза, ответил, что ничего такого не слыхал, а что вот вшей действительно много и, случается, ругаются на них солдаты. Фельдфебель вздохнул и с сомнением посмотрел на Леонтия, потом, выставив толстый палец, не то чтобы приказал, а вроде как бы попросил: — Услышишь чего-нибудь про энтих большевиков, разом мне доложишь. Да ты знаешь, кто они такие, эти большевики? Шпионы немецкие. Ладно, иди, ты солдат справный, — устало добавил он и махнул рукой. Летом полк неожиданно сняли с позиций и отправили в Петроград. Тут Серников опять увидел господина Керенского. Главнокомандующий приехал к ним в казармы и, взобравшись на стол, вновь сказал речь. — Солдаты! — говорил он, заложив, как и тогда, руку за борт. — Вас вызвали с фронта, чтобы спасти Россию от большевиков. Большевики такие же злейшие враги ваши, как и немцы, они мешают вам победоносно закончить войну и вернуться домой к вашим семьям и к вашей земле. Правительство надеется на вас, верные сыны России! Так… Стало быть, теперь ему, Леонтию Серникову, надобно спасать Россию. От большевиков. Ладно, подавайте их сюда, побьем и большевиков, лишь бы домой поскорее. Правда, не очень понятно, кто они такие — эти большевики, хотя фельдфебель и говорил, что шпионы. Насчет германца у Серникова не было никаких сомнений: во-первых, не нашей веры, во-вторых, землю оттягать хотят, в-третьих, сами на нас пошли, а мы, стало быть, — не замай. Каски на них с острой пикой, курят черные цигары, и дух от них тяжелый, одним словом — немцы. А большевики? Он и не видел ни разу ни одного. Все стало понятней, когда ротный однажды объяснил, что надо изловить главного большевика, Ленина, которого немцы доставили в Россию в запечатанном вагоне, заплатив ему миллион. Солдатам давали читать газетку «Живое слово», где черным по белому было написано, что Ленин есть немецкий шпион. Наконец, по рукам пошел списочек врагов государства, которых полагается изловить, и первым в нем значился Ленин. В приватных беседах фельдфебель давал понять, что этих бунтовщиков и шпионов можно стрелять прямо на месте и что за это даже может выйти награждение. Постепенно вся злоба, копившаяся в Серникове и не имевшая до сих пор точного адреса, стала сосредоточиваться на одном имени: Ленин. Вот кто виноват во воем, вот из-за кого война никак не может кончиться, вот из-за кого он, Серников, не может попасть домой. Ленин рисовался ему огромным бородатым человеком, увешанным оружием, с бомбой за пазухой, и обязательно в черных очках, как и полагается шпиону. Но однажды фельдфебель показал ему газетку с портретом лысого господина с небольшой бородкой и усами, с прищуренными, чуть раскосыми глазами. Под портретом было написано: «Товарищ В. И. Ульянов-Ленин». Ишь ты, «товарищ»… Это обращение, которое Серников уже не раз слышал, вообще-то ему нравилось, но уж никак не вязалось оно с фамилией главного большевика, да еще и немецкого шпиона. И что-то не похоже, чтоб у такого господина за пазухой была бомба. Должно быть, хитер, на такого и в жисть не подумаешь, что он и есть главный немецкий шпион. Ладно, попадись ему этот Ленин, уж он его предоставит куда надо. Полк держали в казармах, кормили сытно, но увольнительных в город не давали, чтобы смута и беспорядок, царившие в Питере, упаси боже, не проникли в казарму. И все же путями, неведомыми не только полковому командиру, но и самому фельдфебелю Ставчуку, зараза проникла в полк. Вдруг полк заволновался, забурлил, замитинговал и, не слушая ни окриков, ни приказов, ни уговоров, выбрал полковой комитет. Серников, как и все, участвовал в митинге, но мало что понял и только испугался, уверенный, что митинг к добру не приведет и как бы солдаты беды не накликали на свою голову. Рано утром четвертого июля полк вывели из казарм (накануне солдатам раздали боевые патроны) для «восстановления и поддержания порядка по приказу Временного правительства». В порядке же столица явно нуждалась: улицы запружены были простым народом, шагавшим куда-то в колоннах с большими кумачовыми полотнищами, на которых было написано: «Вся власть Советам!» Что такое Советы и зачем им нужна власть — Серников не знал, да и не интересовался. Поразило его другое: вместе с рабочими шли солдаты и тоже несли плакат с еще более непонятной надписью: «Да погибнет буржуазия от наших пулеметов!» Как потом стало известно, это были солдаты восставшего 1-го пулеметного полка. И вот по этим-то солдатам и рабочим было приказано стрелять — разогнать, рассеять и восстановить порядок. И тут произошло неожиданное: при команде «На изготовку!» солдаты подняли винтовки, но при следующей команде — «Огонь!» — не раздалось ни одного выстрела. Как ни орали разгневанные офицеры, как ни матерились фельдфебели, полк стрелять отказался. Председатель полкового комитета, высоченный, рыжеусый Федосеев — в нем Серников с удивлением узнал того самого солдата, который самого главнокомандующего не побоялся спросить насчет землицы, — объявил командиру полка, что таково твердое решение полкового комитета: не стрелять. Полк отвели обратно в казармы, демонстрацию же разогнали налетевшие юнкера и казаки. Эти стреляли, убивали, секли шашками, не разбирая. По улицам Питера текла кровь. В ночь с шестого на седьмое Серникова разбудил фельдфебель Ставчук и, сделав знак не шуметь, велел выйти во двор. Во дворе уже стояло трое солдат из других рот и прохаживался, нервно теребя темляк шашки, юнкер с лицом красиво-надменным и решительным. Ставчук сказал солдатам, что они поступают под команду господина юнкера, а потом, откашлявшись, сдавленным голосом добавил: — Ленина поедете ловить, братцы, главного шпиона, есть такой приказ самого господина главнокомандующего. Ежели пымаете, хар-рошую награду получите. У ворот стоял грузовик, в котором сидело еще несколько юнкеров. Солдаты перелезли через борт, шофер покрутил ручку, и грузовик, тарахтя и стреляя синим вонючим дымом, покатил. В городе было пусто и тихо, заря, едва занимавшаяся за Невой, еще не позолотила шпилей и куполов. Переехали через мост, покатили по длинному проспекту, потом свернули в боковую улицу и на углу Широкой и Газовой остановились. Тут стоял шестиэтажный дом с двумя входами, с высокими окнами. Пошептавшись между собой, юнкера оставили двух солдат охранять входы, а Серникову и еще одному солдату велели идти о ними. Поднялись на третий этаж и остановились на площадке, куда выходили двери семи квартир. Пошарив взглядом, юнкер, исполнявший, видимо, обязанности командира, подошел к квартире № 24 и нажал кнопку звонка. Не отнимая пальца от кнопки, юнкер кивнул Серникову и коротко сказал: — Давай! Серников кинулся к двери и, подняв винтовку, принялся колотить прикладом. По всему дому пошел гул, и с каждым ударом Серников чувствовал, как приливает к сердцу злость. Вот она и пришла, та самая минута, когда наконец решится самое важное: сейчас арестуют они главного немецкого шпиона Ленина, и тогда кончатся наконец все беды, тогда останется только побить германца и можно будет вернуться домой, и уж тогда наверняка всех наградят землицей. Дверь открылась, и юнкера с солдатами вошли в прихожую. Серников увидел немолодую женщину. Лицо ее было сердито, но ничуть не испуганно. — В чем дело, господа? — спросила женщина. — Вот ордер на арест Ульянова-Ленина, — сказал юнкер. — Ленина здесь нет, — ответила женщина. Но ее уже не слушали. Коротко скомандовав «За мной!», юнкер прошел в квартиру. В комнатах оказались еще две женщины — одна постарше, другая помоложе, и высокий, могучего телосложения мужчина с растрепанной бородой и в железных очках. Серников прежде всего бросился к мужчине и схватил его за рукав. — Ваше благородие! — воскликнул он в возбуждении. — Пымал! Но мужчина оказался вовсе не немецким шпионом Лениным, а господином Елизаровым, мужем старшей сестры Ленина. Серников уже и сам увидел, что вышла промашка: ничуть этот самый господин не похож на того лысого, с маленькой бородкой, портрет которого в газете показывал фельдфебель. Конечно, черт его знает, может, и этот такой же шпион, вон как волком на их благородие глядит. Между тем юнкер приказал начать обыск, и Серников с усердием затопал по комнатам. Он становился на четвереньки и заглядывал под кровати, рывком распахивал дверцы шкафов и сразу тыкал туда штыком. Ленина нигде не было. В одной из комнат Серников увидел большую корзину, запертую висячим замком. В уме его мелькнула догадка, от которой зло и радостно заблестели глаза. Поплевав на руки, он перехватил удобнее винтовку и оглянулся на женщину, которая вслед за ним вошла в комнату. В глазах ее мелькнул не то испуг, не то удивление, и Серников обрадовался; стало быть, верно он догадался. Пригнувшись, словно шел в атаку, он с силой воткнул штык в корзину. Штык легко вошел в нее и застрял в чем-то мягком. Серников с минуту постоял у корзины и не без усилия вытащил штык. — Отчиняй! — сердито крикнул он женщине, у которой почему-то прыгали губы, будто она вот-вот расхохочется. Когда откинулась крышка, Серников увидел кучу каких-то платьев, шалей, белье, и вдруг ему сделалось неловко. Не глядя на женщину, он вышел из комнаты, волоча за собой винтовку. В общем, обыск так ничего и не дал, не нашли Ленина в этой квартире, хотя хозяева вовсе не скрывали, что он здесь жил, но на настойчивые вопросы, где он скрывается, пожимали плечами и отговаривались незнанием. На всякий случай юнкер арестовал бородатого человека, хотя тот и предъявил паспорт на имя Елизарова, арестовал жену Ленина и прислугу, которая показалась подозрительной тем, что не сумела — то ли с перепугу, то ли от деревенской дурости — ответить, как зовут барина, у которого она служит. Покидая дом, юнкер оставил солдат стеречь, не появится ли Ленин, назначив старшим Серникова. Впервые в жизни, неожиданно для самого себя, Серников оказался в положении начальника, командира, хотя под началом его был всего-навсего один солдат, заросший рыжей щетиной и с двумя выбитыми передними зубами. Как надо поступить в таком положении, Серников решительно не знал, на всякий случай он велел Федоту — так звали солдата — стать на часах у входной двери, сам же принялся расхаживать по прихожей, не выпуская винтовки из рук. Федот непринужденно присел у порога, закурил сам и протянул Серникову кисет. Свертывая цигарку, Серников подумал было, не приказать ли Федоту подняться и стать как положено, но промолчал. В квартире слышались шаги, хлопанье дверей, стук передвигаемой мебели: видно, там наводили порядок после обыска. Через некоторое время дверь в прихожую отворилась, и женщина сказала: — Идите чай пить! Серников растерялся: как поступить ему в этом случае? Федот же живо поднялся, аккуратно придавил цигарку сапогом и, бросив Серникову: «Пошли, что ли!», отправился вслед за женщиной. Когда Серников вошел в кухню, Федот уже сидел у стола, а винтовка его, словно обыкновенный деревенский ухват, стояла в углу у плиты. Покосившись на нее, Серников тоже присел, но своей винтовки не выпустил, осторожно поставив между ног. — Вам с молоком? — спросила женщина. Серников не знал, что ответить, и молча поднял на женщину глаза. Взгляд его выражал столько недоверия, недоумения, простодушия и затаенного страха, что женщина только вздохнула и налила ему в стакан с чаем молока из тонкого молочника.

— Ешьте, товарищи, — просто сказала она, — вы же, наверное, голодные. — И подвинула тарелку с бутербродами. Федот, нимало не смущаясь, протянул лапищу, взял бутерброд с холодным мясом и разом проглотил, почти не жуя. Сразу схватился за другой — с сыром — и его тоже проглотил. Через несколько минут тарелка наполовину опустела, Федот с сомнением посмотрел на нее, гулко кашлянул и придвинул к себе стакан чаю. — Дозвольте внакладку? — спросил он и, не ожидая согласия хозяйки, бросил в стакан кусков пять сахару. В душе завидуя такой бесцеремонности, Серников пил чай, осторожно откусывая бутерброды, и не выпускал винтовки. — Ешьте, товарищи, ешьте, — поощряла женщина. — Я еще приготовлю. — Ну-к што ж, — отозвался Федот и принялся за вновь приготовленные бутерброды. Сама хозяйка не то чтобы ела, а так, отщипнула кусочка два хлеба, выпила крепкого чаю. Наевшись, напившись, Федот шумно вздохнул, сказал «Премного благодарны» и свернул цигарку. — Вы кто же будете этому самому Ульянову-Ленину? — спросил он, дымя цигаркой. — Сестра. — Да-а, — протянул Федот. — Скверно ваше дело. — Это почему же? — Дак ведь пымают вашего братца — обязательно вздернут. К удивлению Серникова, женщина не забилась, не заголосила, не запричитала, а улыбнулась и опросила: — За что? — А не шпионь. Опять женщина улыбнулась и даже покачала головой. — Почему вы думаете, что он шпион? — Как же не шпион, — в свою очередь улыбнулся Федот. — В газетках про его пишут, да вот господа офицеры про то же самое объясняли. Как же не шпион, когда он через всю Германию в запечатанном вагоне проехал? «А ну-ка, ответь, ответь, что-то ты скажешь?» — заинтересованно подумал Серников. На этот раз женщина не улыбнулась, а вздохнула так, точно этот вопрос давно ей надоел. — Брат почему жил за границей, — начала объяснять она. — Не знаете? А потому, что его преследовали жандармы. Он ведь всю жизнь был против царя, против помещиков и буржуев. За это его в тюрьму сажали, в Сибирь высылали. Вот и пришлось уехать за границу: жить вдали от родины. А началась революция, он, конечно, захотел вернуться. Но как проедешь? Всюду война… Французы да англичане не захотели его через свои страны пропустить. А вот немецкие социал-демократы добились, чтобы поезд с русскими товарищами прошел через Германию. Федот хрипло засмеялся и покрутил головой. — Ох, уж эти господа! Ну, окажи на милость, ежели он не шпион, на кой хрен ему в Расею торопиться, когда тут вокруг воюють да жрать нечего. Сидел бы себе там, в этой самой загранице, да ждал бы покудова война не прикончится. А он нет, вишь ты, через всю Германию поскакал. Нет, это неспроста, — закончил Федот и даже пальцем помахал. — У Владимира Ильича, как и у всех большевиков, своя война, война насмерть с буржуазией, с помещиками. Да вы знаете ли, за что его вот сейчас ловит Временное правительство? За то, что он требует: войну немедленно прекратить, землю отнять у помещиков и отдать крестьянам. — Слыха-али, — недоверчиво протянул Федот и, поплевав на цигарку, бросил ее за печку. — Между прочим, — продолжала женщина, — Владимиру Ильичу часто пишут солдаты, такие же фронтовики, как вы. Анюта! — крикнула она. — Где солдатские письма к Володе? — У него в столе, — отозвалась откуда-то другая сестра Ленина. — Маняша, возьми сама, у меня голова разболелась. Женщина вышла и через минуту вернулась с пачкой писем в руке. — Вот, товарищи, почитайте, — сказала она, кладя письма на стол. — Мы неграмотные, — отозвался Федот. — Нам ни к чему. — Он зевнул и вышел в переднюю, прихватив свою винтовку. Серникова взволновали слова «войну немедленно прекратить», «землю отдать крестьянам», а, кроме того, не хотелось обижать женщину, которая была с ними так приветлива и так хорошо их накормила. Он протянул руку и взял верхнее письмо. Оно было коротеньким и написано карандашом тем трудным и корявым почерком, каким пишут люди, мало привычные к письму. Так писал и сам Серников. От первых же слов что-то дрогнуло и сдвинулось в душе Серникова, ему показалось, что наконец-то услышал он какую-то еще незнакомую и не вполне понятную правду, и потянулся к ней всем сердцем. «Отзыв благодарности господину Ленину», — так начиналось это письмо[1]. «Мы выводим из Ваших слов, сказанных в Вашей речи, видно, только Вы один имеете сочувствие к настоящей свободе и сочувствие об измученных солдатах. Господин Ленин, Ваши слова произнесенной Вашей речи вполне соответствуют правильности. Но хотя против Вас много говорят, но кто их слушает?» Далее следовал с десяток старательно выведенных подписей и среди них два креста, поставленных неграмотными. «Видно, только Вы один имеете сочувствие об измученных солдатах», — повторил про себя Серников, и вдруг с такой силой почувствовал себя тем самым измученным солдатом, что ему впервые за много лет захотелось заплакать. Такой горечи, такой растерянности не испытывал он никогда, даже в ту пору, когда похоронил жену. С трудом проглотив ставший в горле ком, низко опустив голову, чтобы не встретиться взглядом с женщиной, он развернул следующее письмо. «Товарищу-гражданину господину Ленину», — так начиналось это письмо, тоже написанное карандашом и, видно, захватанное грязными руками окопников. «Товарищ Ленин! Как и многие солдаты действующей армии, я постоянно слышу разговоры о Вас и Ваших действиях, как борца за свободу и истинного друга пролетариата. Но в то же время солдат хотят уверить в том, что Вы — враг пролетариата, и подсовывают нам газеты, страницы которых пестрят нападками против Вас. И постоянно жужжат нам в уши, что Вы — враг народа и России и т. д. Но солдаты этому всему не верят и сочувствуют Вам. И вот солдаты для того, чтобы выяснить недоразумение, попросили меня написать Вам письмо с просьбой сообщить им Ваше мнение об аграрном вопросе и о положении дел на фронте, иными слова, как Вы думаете, что лучше: идти в наступление или ждать мира. Товарищ Ленин, от имени товарищей прошу Вас исполните мою просьбу». В это письмо была вложена еще как бы записочка: «Честное мое слово и вторгнувшихся в мое положение товарищей моих, подписуемся на том положении, что оружия мы не бросим, хотя и домой пойдем и еще сильнее вооружимся. С подлинным верно расписуюсь 3-й роты 192 пехотного полка Стебликов Иван». «Ах ты, боже мой! Да что ж это такое?» — хотелось закричать Серникову. Он сидел, все так же низко склонив голову, боясь поднять глаза. Он еще не понимал, что с ним произошло, чувствовал только, что где-то здесь, рядом, та самая правда, которую он искал, ответ на все мучительные вопросы, которые не давали ему покоя все последнее время. Вдруг ему подумалось, что о том же самом, то есть, где правда, в чем правда, спрашивают в письмах окопники, такие же солдаты, как он. На мгновение ему стало легче от того, что не он один мучается теми же вопросами. Стало быть, многие ищут ее, эту самую правду… И у кого? У того самого большевика Ленина, которого он, Серников, стережет здесь, как немецкого шпиона. Стой, как это писали солдаты? «Постоянно жужжат нам в уши, что Вы — враг народа и России. Но солдаты этому всему не верят и сочувствуют Вам». Ах, черт возьми, солдаты не верят, а он, солдат Серников, поверил. …Всю жизнь его обманывали, всю жизнь… Почему-то ему вспомнилась несчастная Лукерья, тоже обманутая и кончившая свою жизнь в проруби. Эх, попадись ему сейчас этот господин управляющий, вот в кого, не задумываясь, всадил бы он штык. И тут мгновенным стыдом обожгло его воспоминание: он всаживает штык в корзинку, где, как ему показалось, спрятался Ленин. Найти бы в самом деле этого Ленина, рассказать ему о себе да расспросить обо всем. Нет, где уж, видно прячут его надежно, раз само Временное правительство со всеми войсками не могут его разыскать. Спросить разве эту его сестру? А что она ответит? Особенно ему, который со штыком искал здесь ее брата?.. Мария Ильинична видела, что с солдатом творится что-то непонятное. На острых его скулах проступили красные пятна, жиденькие брови свелись в одну ниточку, отражая работу мысли, одну минуту ей казалось, что глаза его наполнились слезами. «Обманутый, — подумала она. — Один из миллионов обманутых». Она вовсе не чувствовала к нему неприязни, хотя именно он проявлял такое усердие в обыске. Напротив, этот солдатик (о таких именно и говорят «солдатик», а не солдат) вызывал даже чувство жалости. И, повинуясь этому чувству, она тронула его за рукав и сказала: — Хотите, можете взять эти письма, товарищам почитаете. Серников поднял глаза, все еще полные муки, и тихо ответил: — Спасибо вам. И тут же принялся суетливо прятать письма за пазуху. Застегнув шинель, он встал и неожиданно для самого себя объявил: — Так мы, стало быть, пойдем. Он сам не понимал, как пришло к нему такое решение, как осмелился он самовольно покинуть пост, только чувствовал, что оставаться здесь, чтобы подстеречь Ленина, он не может. Впервые в жизни не испытывал он никакого страха перед начальством, и если бы кто-нибудь опросил его сейчас, что с ним случилось, он ответил бы: «Так что взбунтовался». Прихватив винтовку, он вышел в прихожую и решительно объявил Федоту: — Пошли! — Ты что, сдурел, Недомерок? — Я тебе не Недомерок, а начальник караула. Приказываю: пост снимаю, пошли отсюдова. Федот от удивления открыл щербатый рот, но, пожав плечами, — ему на все было наплевать, — отправился за Серниковым, который уже спускался с лестницы. — О-ох, поспать бы сейчас, — проговорил Федот уже на улице. — Слышь, а ведь влетит тебе за это самое, за самовольство-то. Хотя нынче слобо-ода. — Он широко зевнул. В казарме Серников сам разыскал фельдфебеля и доложил: — По приказу господина юнкера оставлен был в квартире пост. Я — за начальника. Пост этот я снял, потому как товарищ Ленин никакой не шпион германский. От такой неслыханной наглости фельдфебель не то чтобы побагровел, а стал даже синим. — Что?! — заорал он, выпучив глаза. — Самовольно снял пост? Да тебя ж за это под суд! Под расстрел! Бунт?! Погоди-ка, сперва я с тобой сам разделаюсь! — Он поднес к носу Серникова свой кулачище, которым не раз дробил солдатские зубы. Но Серников, всегда робевший и осмеливавшийся произносить только такие уставные слова, как «Рад стараться», «Никак нет» или «Так точно», на этот раз ничуть не оробел. Отступив на шаг, он быстро передернул затвор винтовки, с которой так и не расстался, и коротко, даже как-то сквозь зубы, произнес: — Застрелю! С минуту ошеломленный фельдфебель стоял как истукан, выпучив глаза, потом круто повернулся и зашагал. «Ротному пошел докладать», — равнодушно подумал Серников и отправился в казарму. «Ежели придут арестовывать, стрелять буду, а не дамся», — решил он. Но ни ротный, ни фельдфебель в казарме так и не появились, и это показалось Серникову признаком одновременно и отрадным и зловещим. Отрадным потому, что сейчас, значит, оставят его в покое и он сможет еще раз хорошенечко подумать обо всем, что с ним случилось, а зловещим потому, что если господин ротный сразу не призвал бунтовщика к ответу, значит, вместе с фельдфебелем задумал какое-нибудь особое наказание. Тем временем Серников вместе со всей ротой сходил пообедать, потом поужинать и наконец улегся спать. Но сон к нему не шел: он думал. Значит, с этим господином товарищем Лениным его обманули. Ах, гады, ведь окажись Ленин дома, Серников и в самом деле мог бы пырнуть его штыком… Ладно, ну а как с войной и с тем самым обещанием, что, дескать, побьем германца, пойдем по домам, а там и насчет землицы вопрос будет в два счета решен? Ясное дело, и это тоже обман, потому что кто же из господ сам по своей воле отдаст мужикам свою землю?.. Она и война-то небось барам только и нужна, чтобы побольше землицы отхватить. Стой, а как же с присягой? Ведь присягал же он, как и все другие, верой и правдой постоять за царя и отечество? А где он, царь-то? — тут же с горькой усмешкой спросил сам себя Серников. — Сковырнули царя… Стало быть, и царь тоже был обманом, и напрасно им стращали, напрасно гнали за него умирать. Сгинул, как небылица, и за кого же теперь, опрашивается, надобно идти умирать? За господина Керенского, того самого, что объявил большевиков главными врагами? Ах ты, гад, вот ведь как обманул! Ну нет, больше он, Леонтий, на обман не поддастся. Баста! И тут так ему стало обидно, что столько лет его обманывали все-все — и сам царь, и этот новый правитель Керенский, и господа офицеры, и фельдфебель Ставчук, и юнкера, и господин управляющий, — что он не выдержал и заплакал. Плакал он тихонько, засунув в рот кулак, вздрагивая всем телом и удивляясь забытому соленому вкусу слез. Обида огромная и злая, как зверь, царапалась и ворочалась в нем, не давала покоя и была так сильна, что хотелось завыть. Незаметно для самого себя он заскулил, тихо и жалобно, как собачонка. И вдруг кто-то потряс его за плечо. — Ты чего это, Недомерок? — услышал Серников голос соседа Корзинкина, пожилого солдата со шрамом, пересекающим лицо наискось — от уха до подбородка. — Чего, говорю, скулишь? Ай обидел кто? Леонтий замер, испуганный и удивленный. Никто никогда не интересовался его душевным состоянием, никто никогда не проявлял к нему участия, первый раз в жизни его пожалели. От этой мысли Леонтию сделалось еще горше, и, не в силах сдержать себя, он затрясся от рыданий. «Эх, вот ведь незадача, — прошептал сам себе Корзинкин, топчась у койки и с недоумением поглядывая на вздрагивающую под суконным одеялом спину соседа. — До чего ж скрутило парня!.. Как его по фамилии-то? Черт, не знаю ведь… Недомерок и Недомерок. Гм…» — Слышь, что ли, пойдем покурим. А? Ну ладно, будя, чай, не девка. — И он неумело погладил вдруг притихшего Леонтия по плечу. Последний раз судорожно всхлипнув, Серников выпростал из-под одеяла ноги и как был, босой и в кальсонах, пошел за Корзинкиным в курилку. Тут, присев на пол и жадно затягиваясь дымом цигарки, он торопливо и немного сбивчиво поведал случайному собеседнику все, что произошло с ним за последние сутки, а потом и обо всех обманах, которые он терпел всю жизнь. — Стой-ка, — заинтересованно сказал Корзинкин. — Стало быть, это ты с юнкерами за товарищем Лениным охотился? Серников только вздохнул и горестно покивал головой. — Та-ак, — протянул Корзинкин. — Погоди-ка здесь, я сейчас возвернусь. Он торопливо затопал в спальню и скоро вернулся. Вместе с ним пришел председатель полкового комитета рыжеусый Федосеев. Оба были одеты по всей форме. Огромный и массивный, как конь, Федосеев с удивлением поглядел сверху вниз на сидевшего у стены на корточках Леонтия и вдруг дружелюбно спросил: — Тебя как звать-величать, друг? Серников? Леонтий? Слушай, товарищ, верно Корзинкин говорит, что ты с юнкерами ездил товарища Ленина арестовывать? Леонтий, польщенный тем, что вот его не только товарищем назвали, но еще и фамилией поинтересовались, начал вновь рассказывать все, что приключилось с ним вчера, но когда он перешел к обманам, которые так долго терпел, Федосеев его остановил и, отведя в сторону Корзинкина, о чем-то с ним зашептался. Корзинкин кивнул и, одернув на себе гимнастерку, куда-то торопливо ушел. Федосеев присел рядом с Серниковым, скрутил здоровенную, как ружейная гильза, цигарку и велел Серникову выкладывать, только по порядку, все, что он хотел рассказать. По порядку у Серникова не очень-то получалось, тем не менее он поведал и этому собеседнику о своих обидах. Федосеев слушал внимательно, с интересом посматривая на тщедушного солдатика, который, видно, не столько умом, сколько собственной шкурой дошел до настоящей правды. — Эх, Леонтий ты, Леонтий, бедовая твоя голова, — сказал Федосеев, дослушав печальную повесть до конца. — Выходит, товарищ Ленин тебе помог глаза-то раскрыть. Вот бы тебе выступить на солдатском митинге да обо всем и рассказать, потому как в полку много таких, которые до правды еще не дошли, одним словом — темных. — Это мне-то, на митинге? — безмерно удивился Серников. — А чего ж? Ты-то теперь знаешь, на чьей стороне правда и кому надо верить: Ленину ли с большевиками или Керенскому с юнкерами. А другие — темнота. Надо им глаза открыть? — Да я… да боязно как-то, — залепетал растерянный Леонтий. — Говорить-то я не дюже горазд. — Э, брат, ты ране и из винтовки стрелять не умел. А говорить — не людей убивать. Скажешь! Письма солдатские к Ленину прочтешь. Это, понимаешь, самая сильная агитация. Что такое агитация — Серников не знал, но немного приободрился и пошел в казарму за письмами, которые хранил под подушкой. Заодно он оделся, а когда вернулся в курилку, там уже снова оказался Корзинкин. Он запыхался — видно сильно спешил — и, расстегивая ворот гимнастерки, говорил Федосееву: — Доложил. Там уже знают и приняли меры. Говорят, не беспокойтесь, спрячем. За окнами, покрытыми пылью, словно солдатское сукно ворсом, быстро светало. Яркая июльская заря осветила глубокие колодцы питерских домов, зажгла зайчики на стеклах, нашла щелку и пробилась в сумрачную казарму, щекоча острыми лучиками суровые лица спящих солдат. Скоро побудка… Митинг состоялся тотчас после завтрака, хотя кое-кто из офицеров, осмелевших после недавних событий, пытался воспрепятствовать. И все же не те были времена, чтобы солдаты, да еще окопники, покорно слушались господ офицеров. — Даешь митинг! — понеслось по плацу. — Желаем! Долой офицеров! На ящик, поставленный посреди плаца, взобрался Федосеев, поднял руку, дождался тишины и зычным своим голосом начал: — Товарищи солдаты! Вы меня знаете? — Знаем! — дружно отозвалась толпа. — Верите мне? — Верим! — Вот послушайте, что я вам скажу. По приказу Временного правительства позавчера была разгромлена редакция большевистской газеты «Правда». А за что, известно вам это? Толпа угрожающе загудела, и чей-то звонкий голос крикнул: — Давай, Федосеев, говори, чего там! — А за то закрыли «Правду», за то разгромили ее редакцию, что нам, солдатам, говорила она чистую правду. А в чем она, наша солдатская правда, товарищи? Правда наша очень простая и всем понятная. Долой войну — это раз, землю крестьянам — это два. Верно я говорю? — Верно! Правильно! Давай, Федосеев, шпарь дальше!
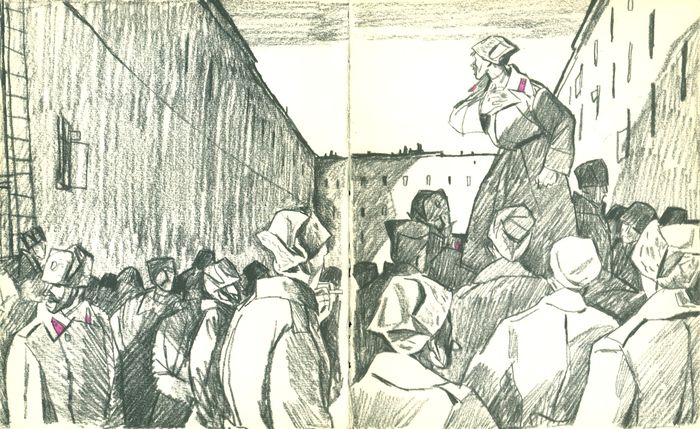
«Ловко! — думал Серников. — И до чего ж все просто да ясно, эдак и я мог бы». — Но кое-кому эта правда не по вкусу, — продолжал Федосеев. — Например, господам офицерам да юнкерам. — Федосеев сделал паузу, чтобы переждать вновь возникший угрожающий гул. Бросив взгляд вокруг, он усмехнулся, заметив, как державшиеся кучкой офицеры, быстро переговорив между собой, поспешно ретировались. Ага, не понравилось! — И по приказу Временного правительства они позапрошлой ночью послали отряд юнкеров арестовать вождя большевиков товарища Ленина. — Толпа негодующе взревела, и опытный оратор Федосеев помолчал, нарочно даваянакалиться страстям. — А себе в подмогу, — продолжал он, покрывая своим зычным голосом рев толпы, — взяли они кое-кого из самых темных, обманутых солдат. — Да не томи ты душу, скажи, Ленина-то заарестовали али нет? — послышались крики. — Нет, товарищи, к счастью, Владимира Ильича Ленина они не нашли. — А кто из солдат ходил? Нашего полку, что ли? — Были и нашего полку. Вот, например, Серников. — Серников? Это какой же? — посыпались разноголосые вопросы. — Нет у нас такого, не знаем! Давай его сюда! Пристрелить гада! Серников сильно испугался и с тоскою подумал, что и Федосеев, видно, его обманул и сейчас рассерженные солдаты сделают с ним что-нибудь ужасное, может быть даже убьют. Он хотел было выбраться, куда-нибудь скрыться, но было поздно: Федосеев, спрыгнув с ящика, подтолкнул Леонтия своей мощной ладонью вперед, проговорив: — Да ты не бойся, браток, расскажи им все, как было. Очутившись на ящике, Серников обмер, почувствовав, что слова выговорить не в силах. Солдатская толпа на мгновение притихла, потом разразилась удивленными возгласами: — Тю! Это ж Недомерок! — Вона что, у него, оказывается, и фамилия есть! — Эй ты, вша окопная, как же ты посмел? Но Федосеев уже поспешил на помощь испуганному Леонтию. Встав рядом с ним на ящик и подняв руку, он дождался, когда волнение немного уляжется. — Товарищи! Вы не должны обижаться на Серникова, его ведь и самого обманули. Но он нам, то есть членам полкового комитета, сам все рассказал. Вы послушайте его. — И тихо Серникову: — Давай, браток, не тушуйся, дуй посмелее. Серников набрал побольше воздуха, обвел глазами толпу солдат, смотревших на него уже без враждебности, скорее, с любопытством. — Братцы! — начал он и остановился. — Братцы!.. — И вовсе смолк. — Ты давай расскажи, как юнкера тебя обманули, — шепнул сзади Федосеев. — Братцы! — снова начал Серников, умоляюще прижимая руки к груди. — Так я же обманутый. Всю жизнь меня обманывали. Вот, скажем, с Лукерьей как получилось. Потребовал ее, значитца, к себе господин управляющий… — И он, торопясь и не замечая одергиваний ахнувшего Федосеева, рассказал неожиданно притихшей толпе историю гибели своей жены. В молчании придвинувшихся к нему солдат Леонтий угадал сочувствие, и, когда кто-то сокрушенно выдохнул «Да-а, паря, история!», он испытал сам к себе жалость и уже с полным доверием к слушателям принялся рассказывать обо всех остальных обманах, из которых состояла его жизнь. Слушали его со все возрастающим вниманием и сочувствием: собственно говоря, все они были такими же обманутыми, все переживали истории, очень похожие на ту, которую сейчас выкладывал им этот солдат. А Леонтий говорил уже без удержу, свободно, точно с родными делился. Пересказав все свои беды, все горькие обиды, он во всех подробностях описал, как вместе с юнкерами искал Ленина. — Стой, братцы, а ведь вместе со мною был Федот, нашего же полку солдат. — Какой такой Федот? Подавай его сюда! — послышались возгласы. Леонтий вытянул шею, вертя головой, обшарил толпу и вдруг обрадованно вскрикнул: — Да вон же он! Федот! Солдаты повернулись к тому, на которого указывал Серников. И когда кто-то, удивленно ахнув, сказал: «Это ж Ставкин, нашей роты!» — толпа угрожающе двинулась на побелевшего Федота. И несдобровать бы Федоту, если бы не спас его неожиданно для самого себя Серников. — Стой, братцы! — крикнул он. — Послушайте лучше письма, какие я захватил. — Письма? Какие там письма? — послышались недоуменные возгласы. Тут рядом с Леонтием опять встал Федосеев и, успокаивая толпу, рявкнул своим голосищем: — А ну, тихо! Письма важные, солдатские письма к товарищу Ленину. Давай, Серников, читай. Серников торопливо расстегнул гимнастерку, нательную рубаху и достал письма, которые еще ночью бережно спрятал на груди. Первым развернул он письмо, начинавшееся словами «Товарищу-гражданину господину Ленину». И вот вновь перед Серниковым знакомые строки солдатского письма, и от того, что теперь он произносит вслух эти простые, бесхитростные слова, у него возникает ощущение, будто это он сам вопрошает Ленина и ждет от него ответа. Его слушают с таким же напряженным вниманием, с таким же жадным интересом, с каким он сам впервые прочел эти письма, а взглядывая иногда на близстоящих, Леонтий видит то же ошеломление, какое ощутил и он. Когда он читал строки «солдат хотят уверить в том, что Вы — враг пролетариата, и подсовывают нам газеты, страницы которых пестрят нападками против Вас, и постоянно жужжат нам в уши, что Вы — враг народа и России», солдаты зашумели, подтверждая, что и им приходилось читать такое. Но когда он громко, даже с подъемом прочитал строчку «Только Вы один имеете сочувствие к настоящей свободе и сочувствие об измученных солдатах», толпа обрадованно взревела. — Верна-а! — Измучились мы до последнего! — Долой войну! — Пущай господа офицеры воюют, коли охота! Волнение солдат заключилось единодушным криком: — Да здравствует товарищ Ленин! А когда крики поумолкли, один чей-то голос негромко и с каким-то сомнением произнес: — А как же насчет землицы? На этот вопрос ответил Федосеев. — С землей, товарищи, очень просто, земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, в общем земля — крестьянам. Такова программа большевиков. И опять толпа обрадованно взревела: — Вот это дело! — Правильная программа! — Наша она, землица-то! И вновь, едва — стихли крики, тот же негромкий голос спросил: — А Ленин-то сам из каких будет, не из крестьян ли? Федосеев опешил и даже зачесал в затылке. — Врать не буду, чего не знаю, того не знаю. Только вряд ли, что из крестьян. Он, по-моему, из этих… как их… антилигентов. — Барин, стало быть? — Дурья башка, какой он тебе барин, ежели за трудящегося человека да за солдат горой стоит? — Братцы, а давай и мы ему письмо напишем! — предложил кто-то. — Верно!.. Письмо!.. Даешь!.. Через минуту тот же перевернутый ящик, только что служивший импровизированной трибуной, превратился в стол. Письмо писали долго, потому что в этом деле пожелал принять участие чуть ли не весь полк. Спорили, ссорились, кипятились, каждому хотелось выложить самое наболевшее. Письмо получилось длинное, в нем говорилось о множестве обманов, которые претерпели писавшие, и о самом главном обмане — войне, которую никаких сил нет уже терпеть. В нем выражалось полное сочувствие программе большевиков и задавался один единственный вопрос: когда эта программа будет осуществлена? Писали солдаты и о своем возмущении тем, что Керенский велел арестовать такого человека, который один «болеет за солдат всей душой и понимает нужду да беду крестьянскую», заверяли дорогого товарища Ленина, что весь полк за него горой и готов грудью встать на его защиту, «пускай только товарищ Ленин прикажет, они тотчас явятся, куда он велит, и будут его оборонять». Доставить письмо адресату взялся тот же Серников, который с этой минуты перестал быть для однополчан Недомерком. В знакомый дом Серников отправился на следующий же день с утра, но сразу войти не решился, сообразив, что рано и хозяева, должно быть, спят. Поднявшись на третий этаж и присев на ступеньку, он обнял винтовку и задумался. Думы были все те же: о жизни, которая вся от начала до конца была один обман, о том, что теперь-то он все это дело раскусил, и, главное, светила ему надежда повидать Ленина да расспросить, когда же будет замирение и когда, наконец, поделят землицу по справедливости. С этими мыслями он уснул. Проснулся он от толчка в плечо и сразу вскочил. Перед ним стоял высокий и плотный мужчина со встрепанной бородой и в железных очках. — Проворонишь, кого сторожишь, — сердито и насмешливо пробасил мужчина. И тут Серников его узнал: тот самый бородатый, которого он во время обыска принял было за Ленина и которого юнкера все-таки арестовали. — Извиняйте, господин, мне бы товарища Ленина повидать. Бородатый с изумлением взглянул на солдата: первый раз он видел такого странного шпика. — Ленина? — переспросил он, немного удивленный тем, что этот несуразный солдат, явно посаженный в засаду, называет Ленина не господином, а товарищем. — Нет здесь Ленина, напрасно дожидаетесь. — Это мы очень даже понимаем, — с готовностью откликнулся Леонтий. — Само собой, им здесь никак находиться нельзя, потому как велено его пымать. Только я по другому делу, письмо у меня к нему. — Что еще за письмо? — От солдат, стало быть, всем полком писали. Бородатый с любопытством взглянул на Серникова и неопределенно хмыкнул. В это время открылась дверь, и на площадку вышла знакомая уже Серникову женщина, сестра Ленина. — Марк, что это у вас здесь происходит? — А вот, видишь ли, солдат письмо Володе принес. — Письмо? Какое письмо? — Женщина вгляделась в Леонтия и вдруг сказала: — A-а, вот это кто, старый знакомый. Ну, заходите, товарищ. Марк! — обратилась она к бородатому. — Вы скоро вернетесь? — К обеду. — Он еще раз с сомнением взглянул на Серникова. — Впрочем, может быть, мне задержаться? — О нет, нет, можете не беспокоиться, — отозвалась женщина. Леонтий вновь оказался в знакомой квартире. На этот раз его пригласили не в кухню, а в столовую. — Садитесь, товарищ, — предложила женщина. — Благодарим покорно, так что я постою, госпожа Ленина, — уважительно ответил Леонтий. — Во-первых, не называйте меня госпожой, во-вторых, я не Ленина, а Ульянова, а зовут меня Мария Ильинична. Садитесь же, садитесь. Леонтий осторожно сел на краешек стула, расстегнул гимнастерку, достал письмо и положил его на стол. — Вот, — сказал он. — Письмо наше солдатское к товарищу Ленину. Передать бы надо. — Но товарища Ленина нет в Петрограде. — Это мы понимаем, — снова поспешно ответил Леонтий. — Оченно даже понимаем. Только вам-то, наверное, известно, оде они сейчас живут, может, вы передадите или перешлете? — Нет, мне совершенно неизвестно, где находится товарищ Ленин, — очень твердо сказала Мария Ильинична. — Эх! — Леонтий сокрушенно вздохнул. — Как же теперича быть? Мария Ильинична пожала плечами. Открылась дверь, и в комнату вошла еще одна женщина; в ней Леонтий тотчас признал жену Ленина, которую в ту ночь арестовали юнкера. Он обрадовался, что ее выпустили, и, не зная, как выразить свои чувства, вытянулся во фронт и старательно гаркнул: — Здравия желаем, вашество! Надежда Константиновна вздрогнула и замахала руками: — Что это вы на меня, как на генеральшу? И вообще что здесь происходит, Маняша? — повернулась она к Марии Ильиничне. — Да вот старый знакомый зашел, говорит, письмо товарищу Ленину принес. — Письмо Володе? Но ведь его нет здесь. Серников и этой женщине принялся объяснять, что он понимает, что товарища Ленина здесь и не должно быть, только больно уж надо передать ему солдатское письмо, а еще более желательно получить ответ, потому как нет никаких сил дальше терпеть. Обе женщины с интересом посмотрели на солдата, но ни о чем не спросили: им превосходно было известно, чего именно дальше не могут терпеть такой вот солдат и миллионы ему подобных. В другое время они обязательно расспросили бы его поподробнее, но сейчас они просто не могли, не имели права рисковать: все-таки этот солдат два дня назад приходил сюда с обыском да еще проявлял особое рвение, проткнул штыком корзину, заподозрив, что именно туда спрятался Владимир Ильич. Надежда Константиновна еще раз развела руками и повторила: — Нет здесь Ленина. И, поверьте, дорогой товарищ, я и сама не знаю, где он. Горестно вздохнув, Леонтий невнятно проговорил «извиняйте», взял со стола письмо, надел фуражку и вышел. Медленно бредя по улице, он думал, что же теперь ему делать, как быть с письмом и что скажет он солдатам? Он уже начинал жалеть, что не оставил письмо на столе, ведь рано или поздно жена да сестра узнают, где Ленин, и перешлют ему письмо. Он даже остановился, подумывая, не повернуть ли обратно, и тут на стене дома увидел почтовый ящик, обыкновенный синий почтовый ящик с белыми стрелами-молниями. Лицо его озарилось улыбкой: теперь он знал, что нужно сделать с письмом. У ближайшего дворника он разузнал, где почта, и там, сопя от усердия, вывел на купленном конверте адрес: «Улица Широкая, угол Газовой, квартира 24, товарищу Ленину в собственные руки». Сунув голову в окошко, за которым сидел почтарь, он выпросил кусочек сургуча и, растопив его над спичкой, запечатал конверт пятью печатями, употребив для этой цели медный пятак. Получился солидный пакет, вроде тех, какие ему доводилось видеть в полковой канцелярии. Опустив конверт в ящик, Леонтий Серников, страшно довольный собой, отправился в казармы. Разыскав Федосеева, он рассказал ему, как выполнил свою миссию, и спросил, не созвать ли опять митинг, чтобы рассказать однополчанам все как есть. Федосеев, крутя рыжий ус, с интересом взглянул на Леонтия и сказал, что митинга не надо. — Слышь, Федосеев, — поманил Леонтий пальцем собеседника и зашептал в склонившееся к нему ухо: — Как считаешь, ответ от товарища Ленина получим? — Это уж будь уверен, — успокоил Федосеев. — Обязательно дождемся. А ты, брат, знаешь что? Ты бы пока агитацией занялся: это тебе задание от полкового комитета. — Агитацией? Это чего такое? — переспросил Леонтий. — Эх, ты, тетеря, агитации не знаешь, — усмехнулся Федосеев. — Да ведь ты же на митинге сам и агитировал. А теперь давай то же самое, только без митингов. Поговори по душам с солдатами, которые несознательные, объясни, что вся война — один обман, что солдатам она ни к чему, а нужна только господам офицерам да министрам-капиталистам и что надо эту войну поскорее кончать, замиряться, стало быть, а министров-капиталистов по шеям. — Это как же по шеям? — изумился Серников. — Самих министров — и по шеям? А замест них кто? — Да вот хотя бы и мы с тобой, — пошутил Федосеев, лихо крутя ус. — Чем мы не министры? Ты слушай да соображай, — продолжал он, посерьезнев. — Власть, она кому должна принадлежать? Народу. Почему, опрашивается? Очень просто! Кто все делает, кто землю пашет, кто уголь добывает, кто сталь льет, сапоги тачает, полушубки шьет, дома строит? Кто? Народ! Вроде вот нас с тобой. Стало быть, и власть должна быть наша. Это как с землей: кто ее обрабатывает, тот ею и владеет. Объяснения Федосеева очень понравились Серникову, особенно насчет земли, но и смутили. — Значит, по шапке, говоришь, министров? Ну, а как, ежели они не схотят. — А мы их штыком. — Штыком?.. Штыком, это можно, — согласился Серников, для которого винтовка да штык давно уже стали такими же привычными, как когда-то соха или лопата. И опять он малость подумал и снова задал вопрос: — Ну, а когда же это самое, когда их всех можно будет того… по шапке? — Это, брат, и есть самый важный вопрос, тут надо, понимаешь, всем народом навалиться. — Та-ак, — протянул Серников. — Это понятно. Только кто же сигнал-то даст? — Сигнал? — Федосеев опять покрутил свой рыжий ус, словно из него и собирался извлечь ответ. — Я так полагаю, что сигнал всем нам даст тот самый товарищ, которого тебе велено было заарестовать. — Ленин? — ахнул Серников. — Ленин, — подтвердил Федосеев. «Вот, стало быть, и ответ на наше письмо», — подумал Леонтий. И очень захотелось ему спросить, как, каким манером подаст этот самый сигнал товарищ Ленин. Но он промолчал, понимая, что и Федосеев, даже если и знает что-нибудь про Ленина, все равно не скажет. И правильно сделает. Но почему-то Леонтий Серников ему поверил, всем нутром своим почувствовал, что этот его не обманывает. — Ладно, — сказал он, решительно надевая фуражку, которую до сих пор вертел в руке. — Согласный я это самое… агитировать. Только, чур, Федосеев, как тот сигнал от товарища Ленина будет, сей момент мне объявить. Обещаешь? — Обещаю, — вполне серьезно ответил Федосеев, крепко пожимая руку солдату. — Обещаю, — еще раз твердо повторил он, хотя точно не представлял, когда и как сам он услышит этот сигнал. И солдат Леонтий Серников, совсем недавно известный однополчанам по кличке «Недомерок», постепенно стал одним из лучших полковых агитаторов. Свою агитацию он вел на первый взгляд неумело, неуклюже и очень простодушно. Но именно этим и подкупал он своих слушателей. Подсев где-нибудь в сторонке к солдату, недавно получившему письмо из дому, он осведомлялся о новостях. Выслушав известия, очень похожие на те, которые получал и сам, Леонтий принимался рассказывать о себе, о своих бедах, а получалось так, будто говорит он о собеседнике, о его бедах и разнесчастной судьбе. Случалось, этими как-будто простецкими разговорами агитатор доводил своего собеседника до такого неистовства, что, схватив Леонтия за грудь, вконец расстроенный и распаленный солдат требовал немедленно научить, что надо делать. И Леонтий втолковывал, что дело-то в общем очень даже простое: поскорей замиряться да делить по справедливости землицу. И когда ошеломленный собеседник задавал обязательный вопрос: «Кто же это тебе такое позволит?», Леонтий рассудительно отвечал: — А мы сами и позволим. Кто в окопах вшей кормит, кто кровь проливает — мы или министры-капиталисты? Кто опять же землю пашет — мы или господа помещики и прочие их благородия? Вот то-то и оно. На нас, стало быть, все и держится. А министров-капиталистов и прочих буржуев штыком под зад, и баста. Едва до человека доходила эта простая истина, следовал другой, еще более нетерпеливый вопрос: «Когда же?» Серников, имевший на этот счет довольно туманные разъяснения полкового комитета, отвечал коротко и даже несколько таинственно: — Дай срок! Случались, правда, и осечки. Так, иные солдаты, послушав Серникова, вдруг останавливали его чуть ли не на полуслове: — Чудак человек, ты меня агитироваешь, что ли? Да я и сам за большевистскую программу. Так до Серникова дошло, что он излагает большевистские взгляды. «Стало быть, я и сам есть большевик? — размышлял он. — Такой самый, о каких фельдфебель велел доносить? Дела-а…» Он качал головой и усмехался странному повороту собственной судьбы. Но случалось и похуже. Один солдат по фамилии Козюрин, с оттопыренными, как самоварные ручки, ушами, довольно долго и согласно слушал Серникова, время от времени кивал головой, потом попросил табачку на цигарку, покурил вместе с Леонтием, калякая, что «жисть действительно дюже чижолая», внимательно послушал о министрах-капиталистах, которых, дескать, можно сковырнуть с помощью штыков, потом аккуратно затоптал докуренную цигарку, встал и, взяв Леонтия за воротник, сказал: — Ну, пошли! — Куда это? — опешил Серников. — А к господину фельдфебелю, он давно еще велел мне, ежели пымаю кого в полку с большевистскими разговорчиками, сразу к нему и представить. Вот я тебя и пымал. И тут Серников совершенно неожиданно рассмеялся. Он уже не помнил, когда ему доводилось смеяться и над чем, ничего не было смешного в его жизни. А тут ему стало смешно: его, Леонтия Серникова, кому совсем не так давно фельдфебель Ставчук точно так же доверительно поручал следить за большевиками, сейчас волокут к тому же Ставчуку именно как большевика. — Чего ржешь-то? — удивился Козюрин. — Это ты меня к Ставчуку, что ли, волокешь? — переспросил Леонтий. — К шкуре? — Он те покажет шкуру, — пригрозил Козюрин, толкая Серникова в спину. — Ладно, пошли, — миролюбиво согласился Леонтий. — Только не держи ты меня, дурья башка, не убегу. С полным моим удовольствием дойду до шкуры. — Он те предоставит удовольствие, — сбавив тон, посулил Козюрин: он не понимал, почему это вдруг большевистский агитатор так охотно зашагал вместе с ним к фельдфебелю. В каморку Ставчука они шагнули вместе и вместе же гаркнули: — Дозвольте обратиться, господин фельдфебель! Ставчук удивленно вытаращился на эту пару, несколько раз перевел взгляд с одного на другого, наконец остановился на Серникове и не без подозрения приказал. — Говори! — Так что, господин фельдфебель, вы изволили приказывать, ежели в полку большевики, докладать вам, а само наилучше привести до вас. — Ну? — Так вот тут, стало быть, до вас и явился большевик. Козюрин, не раз порывавшийся остановить Серникова, сунулся было к Ставчуку, чтобы доложить все как есть, но был остановлен взглядом. А Ставчук некоторое время снова с недоумением переводил взгляд с одного на другого, словно бы спрашивал: кто же здесь большевик? И Серников, отлично поняв этот безмолвный вопрос, ответил: — А я и есть большевик. — И даже улыбнулся. — Что дальше? Ставчук побагровел, потом посинел, полиловел, его полупудовые кулаки сжимались и разжимались от бессильной ярости. С каким удовольствием он заехал бы в рожу этому плюгавому Недомерку, как пинал бы его ногами, измордовал бы, подлеца, и жаловаться не велел бы. Большевик! Но… не те были времена. Полковой комитет, которого фельдфебель боялся и ненавидел, сплошь состоял из большевиков, и старое указание фельдфебеля, отданное по приказу самого полкового командира и до сих пор не забытое этим дураком Козюриным, давно утратило свою силу. Наконец он открыл рот, но не рявкнул, как обычно, а едва выдавил из себя короткое: «Пшел!» — Слушсь, господин фельдфебель! — совсем уж издевательски отрапортовал Серников, повернулся как положено, налево кругом и, лихо печатая шаг, вышел из каморки. Он сиял, в душе его все пело: он чувствовал, что навсегда избавился от страха, который испытывал — и к кому! — к самому фельдфебелю Ставчуку, кого когда-то боялся больше офицеров, пуще немецких снарядов. Шагая по булыжному двору казармы, он не без гордости подумал о себе: «Я — большевик». Когда-то, в незапамятные, как теперь ему казалось, времена, случалось, его спрашивали со строгостью, а то и с угрозой: «Ты кто таков?», и он с готовностью отвечал: «Мужик, ваше благородие» или «Солдат, ваше благородие». Теперь он был большевик. Для него это понятие было значительно шире, чем принадлежность к политической партии (в этом он пока слабо разбирался). В понятии «большевик», как ему представлялось, были сосредоточены вообще все лучшие качества человека. Обладай он способностью более четко мыслить, быть может, он сказал бы о себе, что из раба, из «серой скотинки» превратился в человека. Он еще не знал, что человек тогда становится человеком, когда перестает быть рабом. Не понимал он пока еще и другого: бесстрашным стал он потому, что за спиной его были тысячи, а может и больше мужиков, солдат, одним словом людей, которые думали так же, как он, и которые недаром называли себя большевиками. Весело шагая и даже насвистывая, чего, кажется, не случалось с ним с самого детства, он так объяснял сам себе: «Большевики — это, значит, набольшие, это, стало быть, которых много, а раз много, значит, за ними сила». Пришло, конечно, время, когда он узнал, что есть на свете и меньшевики, и эсеры, и анархисты, и кадеты, и всякая другая тварь, как называл он про себя всех, кто не исповедовал такой простой и единственно приемлемой программы, как мир, хлеб, земля. Конечно, для диспутов с меньшевиками и эсерами, поднаторевшими в демагогии, бесхитростный Серников не годился, поэтому на митинги полковой комитет его, как правило, и не посылал. А вот поговорить по душам с солдатами никто лучше его не умел, и поэтому Федосеев то и дело направлял Леонтия в роты и батальоны своего полка. Жизнь в казарме тем временем пошла наперекос. По-прежнему производилась разводка караулов и солдаты исправно несли караульную службу, по-прежнему звучали сигналы на побудку и рота за ротой в положенные минуты выбегали на плац и становились в строй. По-прежнему в батальонных столовых кормили щами да кашей. Но в кухне у котлов дежурный, назначенный полковым комитетом, строго следил, чтобы масла в кашу лили сколько положено. По-прежнему в ротах назначались занятия или разборка оружия, но никто почти на эти занятия не ходил. По вечерам столовые превращались в своеобразные солдатские клубы, куда господа офицеры и даже унтера не решались заглядывать — боже упаси — и где спорили до хрипоты, до лая, читали вслух газетки и письма, наяривали на гармошке. Днем, в спальнях, от нечего делать заваливались спать, чинили бельишко, писали письма, баловались чайком со своим сахарком, если имели возможность купить его за углом у спекулянток. Спекулянток этих, похожих друг на друга своими вкрадчиво-наглыми манерами, Серников ненавидел до дрожи. Случалось ему видеть, как у такой вот спекулянтки гладкий господин в коротком пальтеце на шелку, в котелке, покупал не грудку наколотого мелко сахара, а целую сахарную голову в синей обертке, расплачиваясь за нее не аршинами керенок, а старыми, получившими название «николаевских», деньгами. И все это происходило не как-нибудь украдкой, а днем, на виду у всех, и с противоположной стороны улицы за торгом следили проваленными глазами бабы, с ночи жавшиеся в очередях у булочных и лавок. «Вот взять бы такого буржуя, — зло рассуждал Серников, — поддеть штыком за штаны да вытрясти из него мошну, а тем вон бабам голодным раздать». Он уже пытался сам решать вопросы социальной справедливости и только недовольно крякал, когда Федосеев разъяснил ему, что это-то и есть анархистский заскок, а дело надобно решать в общегосударственном масштабе. Вопрос в государственном масштабе Серников обдумывал как-то, сидя на своей койке и готовясь поставить заплату на подштанники. Перед ним на сером сукне солдатского одеяла было разложено все его имущество, только что вытряхнутое из вещевого мешка: круглая железная коробка с махоркой, бутылочка с оружейным маслом, завернутая в тряпицу, две пары портянок, медный крестик на суровом шнурке — все, что осталось от покойницы Лукерьи, старенькая, сточенная чуть ли не до узости шила бритва, помазок да обмылок и, наконец, кружка и котелок с крышкой, взятые у убитого австрийца. Деревянную ложку и самодельный складной нож Леонтий держал при себе: ложку, как и полагалось, за голенищем, ножик — в кармане. Хороший был ножик, с косым и острым, как бритва, лезвием, с деревянной отполированной временем ручкой, с медными гвоздочками, набитыми для красоты. Вот и все имущество солдата Леонтия Серникова, почти в точности похожее, впрочем, на имущество других таких же солдат. Окинув все это богатство взглядом, Леонтий покрутил головой и усмехнулся: не много нажито. И, словно отвечая его мыслям, подал голос с койки напротив лежавший от нечего делать солдат с голыми желтыми пятками: — Приданое считаешь? Леонтий не ответил: он отыскивал подходящий для заплаты лоскут. — Слышь, Серников, ты бы с таким-то приданым к балерине какой посватался. Они, сказывают, исподнего не носют, ты ей — подштанники, а она тебе — дворец. Враз сладите. — И скис от смеха. «Это он про ту стерву, что у царя в полюбовницах была, — размышлял Серников, крепкими стежками пришивая лоскут к истончившимся от ветхости кальсонам. — Осмелела, говорят, барынька, на самих большевиков в суд подала, чтоб возвернули ей дворец. Ладно, погоди, сделаем как задумано, у всех дворцы поотбираем». Вот какие государственные вопросы решал солдат Леонтий Серников за починкой ветхих подштанников. Укладывая обратно свое нехитрое имущество, он неожиданно для самого себя взглянул на этот жалкий скарб как бы со стороны, словно на чужое, покрутил головой и невесело усмехнулся: «Бедный солдат». Это относил он словно бы не к себе самому, а ко всем солдатам вообще. От этих мыслей отвлек его чей-то крик, донесшийся из коридора: — Почту привезли! Тотчас повсюду затопало, загрохотало множество ног. Помедлив — он давно не получал ничего из деревни, уже и ждать перестал, — Леонтий тоже отправился в канцелярию, где уже было биткам набито, и от стола писаря, выкликавшего фамилии, через головы плыли в руки счастливчиков конверты. — Серников! — услышал Леонтий свою фамилию и вздрогнул. — Тут я! — откликнулся он, испытывая неожиданное волнение. — Держи! С письмом в руках Леонтий пошел искать уголок поукромнее. Повсюду: на подоконниках в коридорах, в спальнях, даже у коновязей на плацу — сидели солдаты с белыми листочками в руках. Леонтий знал: через полчаса по всей казарме поднимется гомон, пойдут оживленные, взволнованные, большей частью грустные, разговоры. Он присел на свою койку и стал читать. Письмо было от Петра Веретенникова, злое и встревоженное. Вначале, как и полагается, шли поклоны — и сразу новости: «В нашей деревне, да и по соседству тож, сильно волнуются мужики, потому как помещики все вдруг стали продавать свои земли. А продают не кому попадя, а с хитростью, лишь бы покупатель был из иностранцев. Учителям домашним продают да говернанкам, что за детишками ихними ходят, лишь бы фамилии пофранцузистей или еще как-нибудь по-заграничному. Наш все имение управляющему продал, тот нам и купчую на крыльце показывал. А хитрость в том состоит, что ежели земля к какому иностранцу перешла, за него, в случае чего, говорят, евонная держава вступится. Так что же это получается? За что же мы кровь свою проливали? Чтоб те же немцы вроде нашего Шварцкопа или другие чужие нашу же землю разворовывали? Повозвертались кое-кто из односельчан с фронту по случаю ранения, так рассказывают, что большевики обещают, дескать, вся земля должна перейти к мужику без всякого выкупа. Так ты там поразузнай, верно ли такое дело или у каких других партиев программы получше для нашего брата. Вот, говорят, есть еще такие есеры, те тоже много сулятся насчет мужика, да еще какие-то вроде анчихристы, так те и вовсе сулят полную слободу. Одно только окажу: долго мужик ждать не станет. Вы там, в Питере, как хотите, а мы по осени, как подойдет время под озимые пахать, мы революцию сами начнем». О Маньке с Санькой опять глухо сообщал, что живы, мамку по-прежнему поминают, хотя и реже, по ночам плакать перестали. Деревенские новости огорчили Серникова, и с письмом он прежде всего пошел к Федосееву. — Ну, брат, — сказал Федосеев, прочитав письмо, — твои новости уже не новости. О фиктивных сделках с землей большевики знают. Тут выход один: наша будет власть, наша и земля. Да я тебе об этом говорил. — Слушай, Серников! — вдруг хлопнул Леонтия по плечу Федосеев. — А хочешь с самим Керенским насчет земли потолковать? Нет, я правду говорю. Ты про Совет крестьянских депутатов Петроградского гарнизона слыхал? Нет? Ну, есть, одним словом, такой Совет, из нашего же брата мужика-солдата состоит. Посылает Совет делегацию к Керенскому как раз насчет этих самых фиктивных сделок с землей и чтоб вообще сейчас запретить всякую спекуляцию землицей. От нашего полка звали представителя. Пойдешь? Серников деловито нахмурился, подумал и переспросил: — Это к самому, значит, верховному? — К нему. — Отчего ж не пойти? Пойду. — И одернул на себе рубаху, словно идти надо было сейчас же. — Вот и добро, я тебя к одному товарищу сейчас откомандирую, он тебе все объяснит. Товарищ оказался солдатом, чем-то похожим на Федосеева. Фамилия его была Хохряков. Ничего особенного разъяснять он Серникову не стал, просто велел приходить завтра к восьми утра. Утром, начистив сапоги и прихватив винтовку, Серников явился в назначенное место. Скоро собралась вся делегация — десять солдат, и все с винтовками. Потопали, по привычке шагая в ногу, через весь Васильевский остров, по Николаевскому мосту вышли на Конногвардейский бульвар. Утро было серенькое, питерское, небо бесцветной холстинкой растянулось над городом, но когда с моста Серников глянул вокруг, на тяжелую громадину Исаакия, на Адмиралтейство, на Зимний дворец, на далекую иголочку Петропавловки, его вдруг охватило неведомое ранее чувство трепета перед эдакой красотищей и одновременно чувство гордой уверенности в том, что скоро все это, весь город, вся Россия будут принадлежать таким вот, как он, бедным солдатам. Недаром же они, горстка солдат, шагают сейчас не к кому-нибудь, а к самому верховному главнокомандующему, и не куда-нибудь, а прямо во дворец. От этих мыслей он было сбился с шага, но быстро поймал ногу и зашагал еще бодрей. Они пересекли Исаакиевскую площадь и подошли к Мариинскому дворцу. У входа их остановил караул — несколько безусых мальчишек-юнкеров и дежурный офицер. Выслушав, с чем пожаловали делегаты, офицер вздернул подбородок, словно его ударили, и зашипел: — Вы что, совсем с ума посходили? К главе правительства — с какими-то требованиями? Не пропущу! — А ты, ваше благородие, охолонь маленько, — совершенно спокойно ответил Хохряков. — А то уйти мы уйдем, только вернемся уже не горсткой — полки приведем. Так что иди, докладай, ваше благородие. Офицер на мгновение прикрыл глаза, с трудом сдерживая приступ бешенства, крутнулся на каблуках и куда-то ушел. Через минуту он появился в дверях и, не глядя на делегатов, сказал, словно выстрелил: — Пропустить! Винтовки — ничего не поделаешь — пришлось оставить внизу. Сперва по мраморной лестнице, потом через вереницу комнат, у дверей которых тоже стояли караульные юнкера, их проводили к кабинету Керенского. По навощенным до ледяного блеска полам идти было скользко, и Серников все боялся упасть. Кабинет оказался огромным, как казарменный плац, потолок весь расписан голыми мужиками и бабами, по стенам висели большие, во весь рост, портреты императоров. Керенский появился из боковой двери, быстро прошел за огромный письменный стол, сунул руку за борт френча и коротко бросил: — Слушаю. Хохряков, не торопясь, изложил дело. Едва дослушав его, Керенский, точь-в-точь как давешний офицер, дернул подбородком и раздраженно ответил: — Никаких требований я слышать не желаю. Какой-то Совет крестьянских депутатов Петроградского гарнизона предписывать что бы то ни было правительству России не может. И вообще этот вопрос относится к министру земледелия. Я передам туда, там вы и получите справку. Он круто повернулся и быстро направился к двери. И вдруг раздался хрипловатый голос: — Гражданин Керенский! Вы ведь эсер? — спросил солдат с перебинтованной головой. Керенский резко обернулся и вздернул бровь. — Эсер. — А я уж было подумал — монархист. Гляньте на стены, вокруг одни цари, а вы, стало быть, в их компании тут и сидите. Серников чуть не прыснул, глядя на вдруг побагровевшего верховного. Глазки его, под которыми висели набухшие мешки, смущенно забегали, рукой, вынутой из-за борта, он принялся утюжить ежик волос и нервно заблеял: — Да, да, вы, конечно, правы… Все моя безумная занятость, нет времени оглянуться по сторонам. Надо, конечно, вынести или хоть холстом затянуть. Да, да, завтра же распоряжусь… На улице, закуривая на ветру, Хохряков с усмешечкой сказал: — Вот они, господа эсеры-то. Ладно, с землицей самим придется разбираться. Дай только срок… Ну, пошли, что ли. Когда шли обратно, Серникову казалось, что шаги отстукивают все то же: «дай срок, дай срок!», и он со злостью подумал: «Когда же, наконец?» Петру Веретенникову в деревню он отписал, что у большевиков программа самая наилучшая и правильная, а насчет эсеров и их обещаний пусть мужики и вовсе из головы выкинут: самый наиглавный из эсеров — и тот заодно с монархистами. И описал, как он ходил с самим Керенским толковать насчет земли и что из этого вышло. Закончил он письмо коротким: «Дай срок!», поклонами дочкам и вопросом, поминают ли они тятьку. Через несколько дней Федосеев, заведя Серникова в комнату полкового комитета, сказал, теребя свой рыжий ус: — Пойдешь на Выборгскую сторону, в Московский полк, узнаешь, как там настроение насчет высылки из Питера. И вообще потолкуй с солдатами, ты это умеешь. Вот такое тебе задание от большевиков. А вот и мандат. Этому обстоятельству предшествовали события, перебудоражившие весь Петроградский гарнизон: главнокомандующий Керенский отдал приказ о выводе из Петрограда на фронт почти всех полков гарнизона. Полковые комитеты, особенно те, в которых преобладали большевики, превосходно понимая, что Временное правительство просто-напросто хочет отделаться от революционно настроенных солдат, категорически отказались покидать Питер, пока не будет решен главный вопрос — вопрос о власти. Федосеев, давно связанный с Петроградским комитетом большевиков, обещал выяснить настроение в других полках. С тем и посылал он Серникова и еще нескольких доверенных солдат. Впервые в жизни Леонтий держал документ, относящийся к его персоне и аттестовавший его как «особоуполномоченного по проведению агитации в полках Петроградского гарнизона». Мандат был размашисто подписан незнакомой ему фамилией — «Подвойский» и снабжен печатью Военно-революционного комитета. Внимательно и серьезно посмотрев на удивленного Серникова, Федосеев положил руку ему на плечо и сказал: — Ты не удивляйся, это я за тебя поручился. А почему — тебе это известно? Ленин о тебе написал в газете. — Ленин? — удивился и даже испугался Леонтий. — Обо мне? Это где же, когда? — На вот, почитай, — Федосеев протянул газету «Рабочий». — Называется «Уроки революции». Леонтий присел и, шевеля губами, нахмурив брови, начал водить пальцем по строкам. «Всякая революция означает крутой перелом в жизни громадных масс народа, — читал он. — Если не назрел такой перелом, то настоящей революции произойти не может. И как всякий перелом в жизни любого человека многому его учит, заставляет его многое пережить и перечувствовать, так и революция дает всему народу в короткое время самые содержательные и ценные уроки». Леонтий поднял недоуменный взгляд на Федосеева. — Читай, читай! — прогудел тот. «За время революции миллионы и десятки миллионов людей учатся в каждую неделю большему, чем в год обычной, сонной жизни, — продолжал читать Леонтий. — Ибо на крутом переломе жизни целого народа становится особенно ясно видно, какие классы народа преследуют те или иные цели, какою силою они обладают, какими средствами они действуют». — Ну? — Серников снова с недоумением взглянул на Федосеева. — Чего же ты плел, будто про меня? Тут и фамилии никакой нету. — Чудак человек, — усмехнулся Федосеев. — Зачем тебе фамилия? Вот, читай, разве не про тебя сказано: «За время революции миллионы и десятки миллионов людей учатся в каждую неделю большему, чем в год обычной, сонной жизни». Да ведь тебя, брат, за какие-нибудь месяц-полтора не узнать стало. Ты ведь кем раньше-то был? Так, серая скотинка, Недомерок. А нынче революционный солдат товарищ Леонтий Серников, выполняющий приказы большевистского полкового комитета. Погоди, мы еще тебя самого в большевики запишем. А вот еще, гляди, что в статье написано: «всякий перелом в жизни любого человека многому его учит, заставляет его многое пережить и перечувствовать». Ну, разве не про тебя сказано? Леонтий уставился в газету и подумал: «А ведь верно!.. Сколько я за это время пережил да перечувствовал — страсть! И впрямь перелом, всей жизни перелом…» Он с жадностью принялся читать статью дальше. В ней было все, что происходило с Серниковым, со всеми такими же солдатами и мужиками, все, о чем он так трудно думал последнее время. И, главное, как это Ленин все просто да понятно объясняет. Поначалу вопрос: «Чего добивались массы рабочих и крестьян, совершая революцию?» И тут же простой ответ: «Известно, что они ждали свободы, мира, хлеба, земли». И снова вопрос: «Что же мы видим теперь?» Вот, в самую точку! — обрадовался Серников. Ну-ка, ну-ка, об чем объяснит Владимир Ильич? То, о чем читал Серников дальше, было в общем известно, но пружинная сжатость, спресованность ленинского стиля производили такое впечатление, что, дочитав статью до конца, Леонтий в восхищении сам себе сказал: «Вот это да!.. Вроде гранаты али бонбы». Когда он потом делился своими мыслями с Федосеевым, тот с удивлением посмотрел на Леонтия и не без восхищения одобрил: — А ведь здорово подмечено! По форме как будто просто да гладко, вроде снаряда, а начинка — чистый динамит! — И, лихо подвинтив рыжий ус, с гордостью добавил: — Вот он какой, наш Ильич! «Вместо свободы начинают восстановлять прежний произвол… — читал Серников. — Арестуют большевиков, часто не предъявляя даже никаких обвинений». — Тут он от досады крякнул, вспомнил, как ходил арестовывать главного большевика Ленина и как сконфузился, проткнув штыком корзину. — Эх, до чего же темный был, — добавил он себе в утешение. — «Хлеба нет. Голод опять надвигается…» И вдруг ахнул, прочитав: «…война стоит теперь народу 50 миллионов рублей ежедневно…» Батюшки… пятьдесят миллионов… каждый день! И даже застонал: — Ай-ай-ай!.. Но с особым интересом, даже с жадностью прочитал он все, что касалось земли, — и о том, что громадное большинство крестьян объявляют помещичью собственность на землю несправедливостью и грабежом, и о том, как водят крестьян за нос и надувают их обещаниями и оттяжками. Особенно понравился ему и окончательно распалил конец статьи: «С землей подожди до Учредительного собрания. С Учредительным собранием подожди до конца войны. С концом войны подожди до полной победы. Вот что выходит. Над крестьянами прямо издеваются капиталисты и помещики, имея свое большинство в правительстве». «Ну, вот он и ответ на наше письмо», — подумал Серников, бережно пряча газету в нагрудный карман. Статья придавала ему уверенности, силы. В таком вот настроении и с мандатом в кармане отправился он в Московский полк. Сперва караульный не пускал его и хотел вызвать дежурного офицера. Но Серников уговорил его позвать кого-нибудь из полкового комитета. Явившемуся длинному ефрейтору с сердитыми глазами Серников предъявил мандат. Прочитав бумагу и увидев печать Военно-революционного Комитета, ВРК, ефрейтор расплылся в улыбке, протянул широкую ладонь лопатой и сказал: — Значит, большевик? Дело! Митинг тебе собрать? Это мы живо организуем. Серников, которого впервые в жизни не обвинили в большевизме, а дружески признали в нем большевика, то есть своего, подумал и ответил: — Не люблю я митингов. Давай я так пойду по батальонам да ротам, запросто с народом поговорю. — Вали! — напутствовал его ефрейтор и присовокупил: — Да ты не сомневайся, брат, у нас почти весь полк за большевиков. Неподкачаем. Серников сразу заметил: обстановка здесь точь-в-точь, как и у него в полку: кто слонялся по коридорам, кто спал, иные читали или пришивали заплаты. Около одного такого солдата Леонтий остановился, невольно глянув на разложенное на койке солдатское имущество. Если бы не неведомо как затесавшаяся сюда коробка из-под конфет с яркой картинкой, изображавшей пышногрудую красавицу, Леонтий мог бы принять все это за свое собственное. И невольно повторил то, что совсем недавно было сказано ему самому: — Приданое считаешь? Солдат весело откликнулся: — А ты сватать, что ли, пришел? С этого и начался разговор, непринужденный, почти домашний. Постепенно стали подходить солдаты, и, когда их набралось порядочно, Леонтий заговорил о том, что поручено было ему узнать: как относятся солдаты к выводу полков из Петрограда? Мирная и несколько неторопливая поначалу беседа сразу взорвалась. — Вона чего придумали! Солдат уберут, а сами что хошь будут делать!.. — За дурней нас считают! — Никуда не пойдем, окромя как по домам. И тут Серников решил воспользоваться случаем, чтобы поговорить и о земле. — Ну, а дома-то что делать будете? — начал он. — Известно что, — зло откликнулся кто-то из солдат. — Землю делить. — У нас вот, — продолжал Леонтий, — помещики допродавали свои имения всяким иностранцам. — И у нас то же самое! — послышались голоса. — А мы это дело не признаем, чтобы русскую землю чужакам продавать! — Все одно, придем домой — поделим. Обрадованный таким поворотом разговора, Серников стал разъяснять все, что сам знал об этих сделках, которые назвал «фигтивными». Рассказал, как вместе с делегацией побывал у самого Керенского и что из этого вышло. Слушали его с интересом. Один молодой солдат, смотревший Серникову прямо в рот, сказал: — Все это оченно даже верно. Только объясни ты нам, товарищ, что оно такое «фигтивная сделка». — А очень просто, — без тени сомнения ответил Серников. — Помещик с иностранцем сделают вид, будто один продал, а другой купил поместье, а мужику один фиг достанется. Вот и получается «фигтивная сделка». Да ведь нас, солдат да мужиков, только и делают, что за нос водят, да один фиг вместо земли предоставляют, — продолжал он. — А слыхали, чего об этом самом товарищ Ленин говорит? — И он пересказал, как умел, недавно прочитанную статью в «Рабочем». Заключительные ее слова на всех произвели такое же распаляющее впечатление, как и на самого Леонтия. Федосеев был доволен отчетом Серникова. Примерно такие же настроения царили и в других полках Петроградского гарнизона. И теперь уже на обычный вопрос Серникова «Когда же?», Федосеев не ответил неопределенным «Дай срок», а покрутил один рыжий ус, потом другой и прогудел: — Думаю так, что скоро. А тебе, — добавил он неожиданно, — обратно задание: красногвардейцев обучать. Потому как у них, понимаешь, пылу много, а с какой стороны за винтовку взяться — не знают. В отряд, порученный Серникову, входило четыре десятка человек, большей частью пожилых рабочих. Но была среди них и молодежь, в том числе, к удивлению Леонтия, две девушки. Выстроив свое войско в одну шеренгу и приказав по порядку номеров рассчитаться, Серников, опытный солдат, разочарованно подумал, что с таким войском не повоюешь, и со всем усердием принялся за обучение. Первым делом он велел всем обзавестись ремнями, чувствуя, что даже такая часть солдатской формы придаст отряду хоть отдаленную тень необходимого единообразия и подтянутости. Обучение он начал с азов. Учил строиться, ходить в ногу, поворачиваться кругом, направо, налево, стоять по стойке «смирно», выполнять команды «бегом!», «ложись!» и тому подобное. Как-то во время перекура Касьяныч — старик рабочий с «Айваза», с устрашающей величины усищами, сказал Серникову: — Ты, сынок, все нас шагистике своей обучаешь, а нам это ни к чему. Ты нас винтовке и всякому другому оружию обучи. Вот это будет дело. Леонтий, слегка смущаясь, — все-таки этот дед, как он его про себя называл, намного старше его, ответил: — Для солдата, папаша, первое дело дисциплина. Скомандую я, скажем, «Вражеская кавалерия справа! С колена, пачками, пли!» А отряд поворачивает налево и стреляет не с колена, а лежа. Вот вы, извините, когда я давеча скомандовал: «Через плечо, кругом!» — вы как повернулись? Вы через правое плечо повернулись и оказались к врагу не лицом, а, извините, задом. Старик багрово покраснел, но спорить не стал, а Серников продолжал объяснять ему, почему по кавалерии лучше стрелять с колена, а не лежа. Однажды, во время очередных строевых занятий, молодой красногвардеец выкрикнул: — Хватит шагать-то, не в царской армии! Серников решительно одернул: — Отставить разговоры! — И скомандовал: — Отряд, смирно! Когда сорок человек застыли на месте, Серников отчетливо произнес: — Невыполнение приказа командира, да еще в строю, называется дисциплинарный проступок. За него полагается строгое наказание, в военное время вплоть до расстрела. — Он выдержал паузу, обвел взглядом строй и громко, раскатываясь на букве «р», скомандовал: — Отрряд, на-прраво! Шагом аррш! И когда сорок человек довольно отчетливо выполнили команду и, дружно пристукивая по мостовой, зашагали вперед, Серников, идя рядом и время от времени повторяя «Ать-два, левой! Ать-два, левой!», подумал не без гордости: «А ведь выучились!»

Окончательно уверился Серников в себе и в том, что он и в самом деле командир, когда случайно подслушал разговор двух молодых красноармейцев. — А командир-то у нас ничего! — сказал тот самый парень, что заговорил давеча в строю. — Верно я говорю, Серега? — Как и полагается, — отозвался Серега. — Большевик. Авторитет Серникова окончательно утвердился, когда началось обучение стрельбе. Прежде всего он удивил красногвардейцев своим умением быстро, в считанные секунды, разбирать и собирать винтовку. Народ преимущественно рабочий, они и сами быстро освоили это дело. Учил он стрелять стоя, с колена, лежа, учил ходить в штыковую атаку на мешки с опилками, прибитые к столбам. Но больше всего поразил он красногвардейцев своей меткой стрельбой. Долго бился он с одним парнем, стрелявшим хуже всех. Раздосадованный неудачей, молодой красногвардеец пожаловался: — У меня, товарищ командир, винтовка, должно быть, неверная, то ли мушка покривилась, то ли прорезь не на месте. Серников, не говоря ни слова, взял винтовку, приложился и, пуля за пулей, вколотил всю обойму в яблочко. Возвращая винтовку сконфуженному бойцу, он презрительно бросил: — На, кривая мушка! Так и прилипло к парню прозвище. Вот кто смущал и раздражал Серникова — это две девушки. Они были совершенно разные, и только в одном сходились — в горячности и даже азарте, с которыми относились к обучению. Одна из них — с толстой черной косой и строго сведенными бровями, тоненькая до худобы, одетая в кожанку, — часто уставлялась в командира неподвижным и требовательным взглядом огромных черных глаз. Звали ее Фира. Другая, Катька, была розово-бела, пухла, как свежая булка, и готова в любую минуту и по любому поводу раскатиться веселым смехом, за что ее немедленно одергивала строгая подруга. «Бабы!.. Девки!.. Понагнали их на мою голову, — сердился Серников. — Ну что с ими делать, ежели и впрямь в штыковую атаку придется?» — И даже сплевывал от досады. Когда пришлось учить отряд ползать по-пластунски, Серников смущенно отворачивался, чтобы не видеть девок, особенно Катьку, которая для удобства задирала юбку повыше и никого не стеснялась, проклятая. В начале октября Серников счел возможным доложить Федосееву, что отряд обучен. — Оно, конечно, на фронт супротив немца их пока что не пошлешь, — присовокупил он. — Но стрелять могут и дисциплинку держать научились. Одним словом, задачу свою они выполнят. — Молодец! — похвалил Федосеев. — Вот ты ими и будешь командовать, когда начнется дело. Серников вздрогнул и вопросительно посмотрел на Федосеева. — Скоро! — кратко ответил тот и заторопился. Серников знал куда: в Смольный, там теперь помещался штаб большевиков. С каждым днем в Питере становилось все тревожнее. Бастовали десятки заводов, к ним присоединялись все новые и новые. Голодные очереди баб, выстаивавших ночи у пустых лавок, вдруг начинали бушевать, с криком, руганью били стекла у ненавистных лавочников, требовали хлеба — сами не знали у кого; по всему городу шли митинги, они передвигались с места на место, как маленькие водовороты по течению бурной реки; отряды красногвардейцев шагали по улицам; грузовики, охраняемые матросами — по одному на каждой подножке, развозили отрядам оружие, взятое в арсенале Петропавловской крепости, где уже хозяйничали большевики и комиссарил представитель Военно-революционного комитета. По вечерам на углах вспыхивали костры, около них грелись красногвардейские патрули. Погода вдруг испортилась. Из низких рваных туч, которые ветер гнал неведомо куда, сеялся холодный дождь. С утра над городом повисал серый сырой туман. Отряды Красной гвардии перешли на казарменное положение. Серниковский отряд разместился в конторе завода «Айваз», откуда вынесли столы, сделали нары в два этажа, пирамидку для винтовок. Опали не раздеваясь, в пальто, шинелях, на ночь выставляли караул. Ждали боевой тревоги. Командир отряда спал вместе со всеми, но иногда оставался в казарме, назначая на этот случай связного. Семнадцатого в газете «Речь» появился приказ командующего Петроградским военным округом полковника Полковникова: «Предупреждаю, что для подавления всякого рода попыток к нарушению порядка в Петрограде мною будут приняты самые решительные меры». Газетку «Речь» раскурили на цигарки. Офицеров, пытавшихся восстанавливать в полках прежние порядки, просто-напросто не слушали. Хозяевами в полках окончательно утвердились полковые комитеты, состоявшие преимущественно из большевиков. Между тем у Зимнего и Мариинского дворцов по приказу того же Полковникова усилили военную охрану, у министерства, государственного банка, телефонной станции, почтамта, вокзалов появились патрули юнкеров. Что-то назревало, что-то готовилось, в воздухе носилась тревога… Все эти дни Серников, охваченный каким-то необъяснимым предчувствием, места себе не находил. Днем он исправно продолжал занятия со своим отрядом, а вечерами не знал куда себя деть, ночи спал плохо, ворочался, вставал, курил и все думал, думал, думал… Только мысли у него теперь были не путаные, а вполне отчетливые, ибо он твердо знал, чего хочет и как этого добиться. Собственно, эти мысли сводились к одной, самой главной: «Возьмем власть — наша будет земля». И в ночной тиши, которая казалась ему тревожной, он мечтал, как вернется в деревню с приказом Ленина поделить по справедливости землю, как повидает дочек, как заживут они вместе в старом доме. Тут его начинали одолевать заботы: дом без хозяина наверно давно похилился, и многое надо будет чинить, исправлять и все это обязательно закончить к весне, когда приспеет время пахать. Он тяжело вздыхал, жалея, что Лукерья не дождалась счастья и что одному, без бабы в доме, ему будет трудно. В ночь с двадцать второго на двадцать третье октября Серников, которому давно уже не спалось, накинул шинель и вышел за ворота. Город тонул в сырой темени ночи, лишь кое-где виднелся красноватый, колеблющийся свет — там, видно, грелись у костра патрули. Было тихо. Серников покурил, постоял, ежась от сырости, и собрался было обратно, когда издалека послышался ровный, негромкий топот. «Строем идут, — угадал Серников. — Кто бы это? Куда?» Он не спеша прошел квартал, завернул за угол и остановился. Топот приближался. «Не меньше взвода, — определил Серников. — Без команды идут, скрытно». На всякий случай он отступил в тень ближайшей подворотни. Скоро мимо него прошагал отряд юнкеров с винтовками с примкнутыми штыками. Сбоку шагал офицер с хлыстиком в руках, ногу ставил мягко, на носок. Пропустив отряд вперед, Серников осторожно двинулся за ним. Шли довольно долго и, не доходя Николаевского моста, остановились. Тут офицер — Серников только сейчас разглядел, что это поручик, — отдал какое-то краткое приказание. Тотчас несколько юнкеров, отделившись от отряда, пробежали к мосту, постояли там, вглядываясь в противоположный конец, и вернулись обратно. Последовала новая негромкая команда, и весь отряд направился к мосту. Половина его остановилась на ближнем конце, половина потопала к дальнему. Серников ахнул: «Это они мост занимают! Как же это наши дали такую промашку?» И чуть не бегом пустился обратно. В казарме он живо растолкал Федосеева, которого Ревком недавно назначил комиссаром полка, и, задыхаясь от торопливости, доложил: — Юнкера заняли Николаевский мост! Федосеев присвистнул и, сдерживая свой густой бас, хрипло зашептал: — Ах, сволочи! Это нам нож в спину. Как другие мосты — не знаешь? Ладно! — Он торопливо оделся. — Пойдем в комитет. В комнате полкового комитета он присел за стол, помял большими ладонями лицо, сердито посопел, придвинул чернильницу и принялся размашисто писать. Сложив написанное конвертиком и припечатав сургучом, он вручил пакет Серникову и, положив ему руки на плечи, внушительно пробасил: — Дуй, Серников, в Смольный, в Ревком, отдай пакет. Положение серьезное. Если юнкера займут мосты да разведут их, нас, понимаешь, отрежут от штаба. Дуй! Всю дорогу до Смольного Серников проделал чуть ли не бегом, изредка переходя на шаг, чтобы хоть чуточку отдышаться. Погруженный в ночь Питер казался ему враждебным и угрюмым. Громадины соборов, дворцы, Петропавловская крепость, дома с наглухо запертыми чугунными решетками ворот — все притаилось, все, казалось, источает угрозу. На той стороне Невы ярко светился ряд окон Зимнего, но и этот свет показался Серникову зловещим. Дворцовый мост тоже оказался уже занятым юнкерами, и это еще больше встревожило Серникова. Троицкий как будто не охранялся, но через него, а потом через Марсово поле Серников не решился идти. Недалеко от моста Александра II стояла пролетка; и лошадь и извозчик, понурив головы, спали. Тут Серникова осенило. Дернув извозчика за полу, он спросил: — Эй, дядя! Давай на Шпалерную! — И, не дожидаясь ответа, сел в пролетку. Извозчик повернулся к седоку и недоверчиво спросил: — У тебя деньги-то есть? — Есть, есть! Небось не обману, езжай только поскорее, заради бога. — Ладно! — извозчик чмокнул, хлестнул лошаденку, но внезапно обернулся: — Слышь, солдат, а я ведь меньше, чем за полтинник, не повезу. — Да ехай ты, черт толстозадый! — осерчал Серников, хватаясь за винтовку. — Сказано, заплачу! — Ему и в самом деле не жаль было не только полтинника, но и всех двух рублей, что хранились в старом кошельке. Когда въехали на мост, Серников на всякий случай одернул с головы солдатскую папаху, сунул под зад, винтовку положил в ноги и развалился на подушках, будто спьяну заснул. Мост переехали благополучно, и Серников успел заметить, что охраны на нем нет никакой. Всю дорогу он в нетерпении подгонял извозчика, но другого аллюра, кроме как трусцой, лошаденка, видно, не знала. — Солдат, а солдат! — повернулся вдруг извозчик. — Скажи ты мне на милость: что же это будет? — А что? — отозвался немного удивленный Леонтий. — Не чуешь, что ли? Весь Питер колготится, мужики в деревнях бунтуют… Быть беде. — Это какой беде? Революция будет, вот что. Власть будем брать. — Кто же это будет брать-то? — Мы, стало быть, народ. — Ну, возьмете, а потом чего? — Чего-чего!.. — передразнил Леонтий. — Мир будет, земля станет наша, мужицкая. — Слыха-али, как же, — протянул извозчик. — Энта программа нам известная: большевицкая… А тебе, стало быть, в Смольный надоть?.. — Нно, милая! — закончил он неожиданно, взмахивая кнутом. Остановились, не доезжая Смольного, на виду у красногвардейских патрулей. Серников полез за деньгами, но извозчик неожиданно остановил его: — Не нужон он мне, твой полтинник, считай, что мы с Серым для революции потрудились. Смольный был освещен сверху донизу, во дворе стояли броневики, между колоннами — два орудия и несколько пулеметов. Повсюду метался народ — все больше солдаты да матросы. У входа Серникова было остановил часовой, но он решительно сказал: «С донесением!» и вошел в здание. Тут он слегка растерялся: по коридору шныряло множество всякого народа, а на белых высоких дверях, целый ряд которых тянулся справа, было написано «Классная комната», на одной же — «Классная дама». Серников остановил солдата, тащившего ящик с пулеметными лентами, опросил, где Ревком. Солдат кивнул на какую-то дверь, сказал: — На третьем этаже… Ну-ка, помоги, хватайся за ящик. Серников подставил плечо, вместе они потащили ящик куда-то в конец коридора и поставили рядом с десятком таких же ящиков. По мраморной лестнице, устланной красной, сильно затоптанной дорожкой, Серников поднялся на третий этаж. Тут на белых дверях висели совсем уж непонятные таблички: «Дортуар». За одной из таких дверей, в большой прокуренной комнате, и оказался Ревком — кучка людей вокруг стола, на котором лежала карта Петрограда. — Вы к кому, товарищ? — обратился к Серникову человек в кожаной тужурке, с волосами почти до плеч и в пенсне на длинном шнурке. — Донесение принес. — Ага, давайте! — протянул руку волосатый и, заметив некоторое колебание солдата, добавил: — Я член Ревкома Антонов-Овсеенко. Распечатав пакет, волосатый пристукнул ладонью по столу и, обращаясь к какому-то на вид строгому, с бородкой, раздраженно сказал: — Вот, Николай Ильич, извольте: юнкера занимают мосты. Этого следовало ожидать. Керенский хочет отрезать нас от рабочих районов. Надо принимать срочные меры. Строгий тоже быстро пробежал донесение и, повернувшись к Серникову, сказал: — У вас кто назначен комиссаром полка? Федосеев? Отлично. Передайте ему: в Неву войдет крейсер «Аврора», станет у Николаевского моста, моряки сами справятся с юнкерами. А вот другие мосты, конечно, надо занять нам. Пусть Федосеев выделит сколько необходимо на мост Александра II. Впрочем, я сейчас напишу. На листке большого блокнота он быстро что-то написал и протянул Серникову. — Вот приказ. Срочно доставьте его в полк. Серников уже повернулся уходить, когда его остановили. — Стойте! Пешком вы нескоро доберетесь, да еще и на юнкеров нарваться можно. — Он приоткрыл дверь и позвал: — Гринько! В комнату вошел человек в кожаной куртке, кожаных же штанах и фуражке с большими очками. — Гринько, доставите товарища со срочным пакетом в его полк. Адрес он вам укажет. — Есть! — сказал кожаный человек и бросил Серникову: — Пошли! По дороге Серников успел спросить: — Кто он таков, этот Николай Ильич? — Подвойский, не знаешь разве? Председатель Ревкома. — Стало быть, он за самого главного будет? — А ты думал кто? — Ленин. Кожаный Гринько даже приостановился, посмотрел на спутника, вздохнул и сказал: — Нет товарища Ленина в Смольном. Во дворе Гринько, словно за рога, ухватил за руль мотоциклетку, попрыгал около нее на одной ноге, отчего мотоциклетка вдруг застреляла, зачихала синим дымом, вскочил в седло и, похлопав ладонью по кожаной подушке, крикнул Серникову. — Садись! Только винтовку через плечо надень. — И спустил на глаза очки, сразу став похожим на какую-то неведомую рыбу. — Поехали! Под Серниковым что-то затрещало, застреляло, и вдруг мотоцикл рванулся из-под ног. От неожиданности он судорожно схватился за Гринько. Казалось, ими выстрелили из пушки, и в одно мгновение они проскочили через ворота и понеслись вдоль улицы. «Ах ты, распроклятая машинка!» — ругался про себя Серников, подпрыгивая на твердом сиденье и отворачивая лицо от свистящего ветра. «Поосторожнее, разобьемся!» — хотелось крикнуть ему, но ветер вгонял слова обратно, едва открывал он рот. — Ну тебя к бесу, черт кожаный! — выругался Серников, когда мотоцикл стал у ворот казармы. — Все кишки повытряс. — Зато скорость! — осклабился кожаный Гринько, развернулся, загребая ногами, и вдруг с частым «пулеметным» треском сорвался и через мгновение исчез с глаз. Быстро прочитав приказ, подписанный Подвойским, — из-за плеча комиссара Серников увидел знакомую подпись, — Федосеев распорядился: — Живо поднимай свой отряд, занимайте мост, в случае чего я подошлю подмогу. Через полчаса отряд красногвардейцев в сорок человек шагал к мосту. Шли в ногу, держали строй, и Серников с гордостью подумал, что впрок пошла его выучка. Квартала за два Серников остановил отряд и выслал разведку. Двое парней, низко пригнувшись, но не очень прячась, заторопились к мосту. Серников, досадливо морщась, следил за их действиями. Подобравшись к самому мосту, разведчики выпрямились и ступили на мост. Прошли несколько шагав, постояли и, уже не таясь, отправились обратно. — Товарищ командир! — доложил тот, что был постарше. — На этой стороне охраны нет, а на той вроде бы какие-то тени маячат. — Тени! — недовольно буркнул Серников. — Разведка точно должна докладать обстановку. Немного подумав, Серников все же решился вести отряд дальше. Действительно, на этой стороне никого не было, и, разделив отряд на две части, он приказал располагаться слева и справа и быть начеку. Затем, прихватив с собой тех же двух парней, он пошел на тот конец моста. Они миновали середину и уже начали приближаться к набережной, как раздался окрик: — Стой, кто идет? — Ложись! — мгновенно скомандовал своим Серников: сработала фронтовая привычка. — Отвечай, стрелять буду! — послышался новый крик. — А ты кто такой? — огрызнулся Серников, приподнимая голову и вглядываясь в неясные тени. — Не разговаривать! Приказываю: руки вверх, пять шагов вперед! — Голос был молодой, ломкий. «Юнкеришки! — догадался Серников. — Успели-таки». Но на всякий случай решил проверить. — Дозвольте обратиться, ваше благородие? — сказал как можно покорнее. — Чего там еще? «Ага, так и есть, юнкеришки». И уже без всякой покорности в голосе крикнул: — Эй вы там, барчуки сопливые! Идите лучше домой спать, не то поймаем, выпорем! В ответ раздалось клацанье затвора и тут же другой голос: — Феликс, оставь! Вспомни приказ: в драки пока не ввязываться. — Пусти! — зашипел задыхающийся голос. — Ладно! — И после паузы: — Ввы там, скоты паршивые! Дайте срок, доберемся до вас, шомполами перепорем, на фонарях вешать будем! — Прошли ваши сроки! — с удовольствием ответил Серников. — Теперь наш настает! — И, ничуть не опасаясь, он поднялся во весь рост и, бросив «Скоро встретимся, за все посчитаемся!», пошел к своим. «Черт его знает, сколько их там, — соображал он. — Думается, горстка, а все-таки связного в полк послать надобно». Приказ Федосеева, принесенный связным, был краток: держаться на своем конце моста, в перестрелку до особого распоряжения не вступать. Так и остались охранять мост два патруля: на Выборгской стороне — красногвардейский, на левом берегу — юнкерский. Утром двадцать четвертого октября обнаружилось, что неба над Питером нет: не то исчезло, не то опустилось на землю. Время от времени сверху сыпалась мокрая снежная кашица. За ночь все основательно продрогли. Серников послал четверых на Пироговскую набережную поискать дров или каких-нибудь досок. Посланцы скоро вернулись, волоча несколько полуразбитых ящиков, потом снова сбегали и прикатили две бочки из-под капусты — все это было добыто на заднем дворе какой-то закрытой на замок лавки. Живо развели костер. Согрелись, повеселели, стали вопросительно поглядывать на командира. Серников хорошо понимал, что означают эти взгляды: пора, мол, и позавтракать, чем накормишь нас, командир? Серников отрядил нескольких красногвардейцев в казармы своего полка. Через час те притащили целый мешок: несколько буханок солдатского хлеба, кулек с пшеном, бутылку постного масла, малость сахару. Потом один из парней полез за пазуху, вытащил аккуратно завернутый в тряпицу брус сала. — Домой забежал, — пояснил он с гордостью. — Деревенское, сестра вчера привезла. На весь отряд оказалось всего пять котелков и столько же деревянных ложек. Серников зачесал в затылке: котла, в чем кашу сварить, не имелось. Тут поднялась та чернявая, взгляда которой особенно смущался Серников, и обратилась: — Разрешите, товарищ командир, мы достанем кастрюли. — И, получив согласие, бросила подруге: — Пошли, Катерина! Вскинув винтовки, обе решительно зашагали и скрылись в парадном какого-то дома. «Куда это они? — недоумевал Серников. — Может, родственники там у них!» Минут через десять на втором этаже дома вдруг распахнулось высокое полукруглое окно и оттуда одна за другой на землю полетели какие-то вазы, фигурки, тарелки, со звоном разлетаясь в мелкие брызги. Серников охнул, вскочил, прислушиваясь к к женскому визгу, доносившемуся из окна. «С ума девки посходили! — озлился Серников. — Чего они там наделали?» Визг внезапно умолк, окно захлопнулось, и отряд стал ждать, что будет дальше. Скоро из подъезда появились девушки. Лицо одной пылало от гнева, другая еле сдерживала смех. У Фиры в руках была высокая стопка тарелок, карманы кожаной куртки оттопыривались от ложек. Катька тащила большой оцинкованный бак. Свалив свою ношу, Катька покатилась от хохота и, пока ее подруга осторожно расставляла на булыжной мостовой расписанные яркими цветами тарелки, давясь смехом, рассказала, что произошло. Дверь открыли им только после того, как они стали стучать прикладами. Барыня, видно поднятая с постели, выпучилась на Фиру и пролепетала: — Вы? Фира гордо вскинула голову и сказала: — Госпожа Ивинская, нам нужна посуда. — Боже мой! — опять залепетала барыня. — Такая приличная барышня и связалась бог знает с кем. Фира только фыркнула и пошла в столовую. Тут барыня принялась кричать, что «только через ее труп». Тогда Фира сняла с плеча винтовку и хладнокровненько ответила: — Пожалуйста! Барыня было скисла, но когда Фира, раскрыв буфет, принялась вытаскивать тарелки, опять завопила: — Лучше я весь фарфор выброшу, чем отдавать в руки мужичью! Фира опять сказала: «Пожалуйста!», быстро распахнула окно и принялась выкидывать на улицу все, что попадалось под руку. Барыня завизжала и сказала, что согласна, пусть берут тарелки, только обязательно вернут, иначе она будет жаловаться самому Александру Федоровичу, который бывал в их доме. Катька пыталась было объяснить, что солдатские котелки были бы им сподручнее, но, поскольку у барыни их не нашлось, приходится брать тарелки, потому что надо же товарищам поесть. Барыня только глянула на Катьку и процедила сквозь зубы: «Мразь!» Тут Фира будто взбесилась, аж затряслась вся, опять сдернула винтовку и крикнула: — Немедленно извинитесь! Иначе я вас на месте… — И не договорила, только зубами заскрипела от злости. — Видели бы вы, что с барыней сделалось! — покатывалась Катька. — Плюх передо мной на колени и визжит: «Ой, миленькая, простите, ой, больше не буду!»… Больше не буду! — прыснула Катька и вдруг посерьезнела: — Вот как они перед нами, бары-те, когда наша сила. Пшенную кашу, сваренную в бельевом баке, который Катька догадалась прихватить на кухне, красногвардейцы ели серебряными ложками из тарелок саксонского фарфора. Серников, черпая кашу из своего котелка, посматривал вокруг. Катились через мост полупустые трамваи, торопливо шли куда-то по своим делам люди, разъезжались извозчики. Прошел стекольщик с ящиком на плече, пропел несколько раз: — А вот, кому стеклы вставлять, сте-еклы! На том конце моста тоже задымил костер: видно, и там кашеварили. Часов в двенадцать мальчишки-газетчики принесли газету «Рабочий путь», захлебываясь от торопливости, сообщили новости: по приказу Временного правительства сегодня на рассвете юнкера закрыли было газету, а через два часа солдаты Литовского полка и красногвардейцы отбили типографию обратно, а сами прикрыли «Русскую волю» и «Биржевые ведомости». Дважды Серников посылал связных к Федосееву. Первый раз связной принес короткий устный приказ: «Ждать». Во второй передал записку. В ней Федосеев сообщал, что половина Питера уже в руках большевиков, приказывал отряду Серникова гражданских пропускать через мост беспрепятственно, солдат проверять, а офицеров задерживать. Еще приказывал он ждать дальнейших распоряжений. Народу через мост проходило не так-то уж много, офицеров не было ни одного. Гражданских, как и было приказано, Серников пропускал, хотя и пристально приглядывался чуть ли не к каждому. Но и так было видно: народ свой, преимущественно рабочий. Задерживали их на той стороне юнкера, требуя каких-то пропусков. Но они все равно пробивались: сгрудятся кучкой, поднажмут — и там. К вечеру перестали ходить трамваи, улицы опустели, на мосту почти никто не появлялся. Чуть ли не последними мимо Серникова торопливо прошли два человека. Один — коренастый, пожилой, в кепочке, — держался рукой за перевязанную платком щеку. Другой — худой, высокий, — не вынимал рук из карманов пальто и все тревожно поглядывал по сторонам. Коренастый было задержался около Серникова, видно о чем-то хотел спросить, но высокий тронул его за рукав, негромко сказал: — Никак нельзя нам задерживаться. Идемте!.. Имени и отчества Серников не разобрал. Все же он успел встретиться глазами с коренастым и заметил, что взгляд у того хоть и серьезный, но любопытный, с лукавинкой. Конечно, на том конце моста и этих остановили. Но там уже скопилась целая кучка таких же запоздалых прохожих. Покричали, потолкались — и прошли. На ночь Серников выставил усиленный караул, сам присел на ящик, привычно прислонил голову к винтовке, задумался. Мысли в общем были все те же, теперь уже привычные: вот-вот совершится то, что обещал Ленин и большевики, и можно будет оставить осточертевшую винтовку и податься домой, в деревню. Мерно стучали по деревянному настилу моста шаги часовых — десять туда, десять обратно; откуда-то, очень издалека, донесся пронзительный женский крик; время от времени ночную тишину прошивали короткие строчки перестрелки. Чтобы не задремать, Серников то и дело вставал, ходил на мост, пытался разглядеть, что делается на том конце. Кроме слабых отблесков костра — видно, там тоже грелись, — ничего больше не было видно. Притомившись, Серников оперся о перила, постоял, всматриваясь в воду, чернота которой была чуть отличной от черноты ночи. И вдруг прямо по нему, словно ножом полоснул, ударил резкий луч прожектора, заставив его отшатнуться. По старой фронтовой привычке Серников чуть было не бросился плашмя, но устоял. Весь отряд вскочил на ноги, застыв от недоумения: зрелище, открывшееся им, казалось поистине сказочным. Яркий сноп света, бивший с палубы трехтрубного корабля, высветил всю Неву и повисшие над ней мосты. Гордый крейсер, стройный красавец, грозно застыл на Неве. На верхушке его мачты бился и трепетал красный флаг. Отряд красногвардейцев разразился дружным «ура!», а Катька от полноты чувств бросилась к Серникову и крепко поцеловала в дернувшийся от неожиданности подбородок. — Мать честная! — охнул кто-то из красногвардейцев. — То ж «Аврора»! Мой брательник на ней служит. Ну, наша взяла! Временному — амба! — Эх, жаль бинокля нету! — посетовал Серников. От перил молча отделилась женская фигурка, прошла по набережной, пропала в темноте. Минут через десять она вернулась и так же молча вручила командиру крохотный бинокль в перламутровой оправе. Серников знал, что в таких случаях надо что-то сказать, вроде слегка уже забытого «премного благодарен», но эта формула, чувствовал он, в данном случае неуместна и, взяв бинокль, он просто кивнул головой. Даже в эту игрушку видно было, как прекрасен и как могуч крейсер. Что-то делали там маленькие фигурки в черных бушлатах, и вдруг повернулись орудийные башни, поползли вверх и вбок орудия, пальцы их уставились на разведенные пролеты Николаевского моста. У моста тоже засуетились людишки, забегали, заметались и исчезли, словно сброшенные упругим лучом прожектора. «Ага, не нравится!» — злорадно подумал Серников, догадываясь, что это бегут в панике юнкера. Оглянувшись, он разыскал Фиру, протянул ей бинокль, кратко прибавив: «На, глянь-ка!» — и невольно залюбовался тонкой с длинными пальцами рукой, прижавшей бинокль к глазам. И без бинокля отлично было видно, как медленно, покорно стали наклоняться друг к другу мостовые пролеты и сходиться, словно две руки в крепком рукопожатии. «Да, наша взяла», — подвел итог Серников и в порыве восторга принял решение: выбить юнкеров с того конца моста. Конечно, это было нарушение приказа, но когда комиссар предупреждал «в драку не ввязываться», не было еще «Авроры». Теперь обстановка изменилась, да вон и ребята поглядывают на командира с явным нетерпением, значит, и у них на уме то же. Ладно, надо действовать, но, конечно, с умом. Разъяснив отряду задачу, Серников вызвал двух бойцов и вместе с ними отправился в разведку. Пройдя больше половины моста, не прячась, потому что от прожектора на мосту и так все светилось, Серников остановился, прислушался и, сложив ладони рупором, крикнул: — Эй, господа юнкера! Сдавайтесь по-хорошему! Бросай оружие, выходи по одному! Молчание… Темень на той стороне не отозвалась ни звуком. — Эй, вы! Оглохли с перепугу? Ответа не последовало. — Да они давно разбежались! — обрадовался молодой боец и побежал было туда. — Стой! — приказал Серников. — Назад! — И когда недоумевающий парень остановился, строго добавил: — Приказ был? Не давал я такого приказу. А ну там засада, сунешься — прихлопнут тебя мигом. Стоять на месте, я сам пойду. Ваша задача — охранять меня с тылу. Примкнул штык, взял винтовку наперевес и шагнул за границу светового конуса. Тут, казалось, еще темнее. Шел он осторожно, тем шагом, каким, бывало, ходил в разведку. Кончился мост, он ступил на булыжную мостовую и огляделся. Никого! Значит, и в самом деле сбежали, испугались. Вон и костер загасили. Позвав ребят, Серников половину отряда поставил теперь и на этом конце моста. В полк послал со связным краткое донесение: «Мост Александра II наш!» Связной вернулся с известием, что комиссар ушел в Смольный, а полк находится под ружьем и ждет указания выступать. Связного Серников тут же послал в Смольный с наказом обязательно разыскать Федосеева, добавив к предыдущему донесению еще и вопрос: не пора ли сменить отряд на карауле? Тем временем осторожно, на цыпочках, подкралось утро. Прожектор «Авроры» погас. Неву, мосты, громаду крейсера, весь Питер накрыл туман. Чуть позже поднялся ветерок, разорвал туман в клочья, развеял, и глазам Серникова, глазам его красногвардейцев открылась новая неожиданная картина: вся Нева обставилась за ночь миноносцами, буксирами, тральщиками, грузовыми судами, даже парусниками. Казалось, весь Балтфлот вошел в город… Вся Английская набережная от Николаевского до Дворцового моста почернела от матросских бушлатов. Сорок красногвардейцев и командир замерли в восхищении и через мгновение дружно грянули «Ура!» Через час вернулся связной, доложил: комиссар сказал — два взвода полка направлены на охрану моста, отряду, дождавшись смены, идти на отдых; командиру явиться в Смольный. Пока ждали смены, по улицам побежали мальчишки-газетчики, восторженно крича: — Газета «Рабочий и Солдат!» Временное правительство низложено!.. Обращение к гражданам России!.. Покупайте газету «Рабочий и Солдат»!.. Газеты быстро расхватывали. Весь отряд красногвардейцев, собравшись на мосту, с волнением слушал, как Фира громко и торжественно читала: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян! Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов. 25-го октября 1917 г., 10 ч. утра».
И вот это «25 октября 1917 года», то есть сегодняшний день, и «10 часов утра», то есть сегодняшнее утро, больше всего потрясли, больше всего убедили Серникова. Вот и произошло все, чего он так страстно ждал, все, что обещали большевики и Ленин. И пока вокруг него громко ликовали сорок красногвардейцев его отряда — орали, обнимались, грохотали сапогами по дощатому настилу моста, — Серникову вдруг вспомнилось далекое июльское утро, кухня в квартире на улице Широкой и слова сестры Владимира Ильича: «У него своя война, война насмерть с буржуями и помещиками. За что его ловит Временное правительство? За то, что он требует войну немедленно прекратить, землю отнять у помещиков». А ведь эти самые слова и напечатаны сегодня в газете! Не он ли их писал?.. И Серников улыбнулся. Вот ведь как все в точности по его и вышло. И еще обрадованно подумал: ловило его, ловило Временное правительство, а теперь он, Ленин, это самое правительство и сковырнул. Одно только обстоятельство немного портило ему настроение: сам-то он, Серников, выходит, почти ничего и не делал. Ну, охранял мост, ну, обучил отряд красногвардейцев, а больше-то и ничего. Даже юнкеров с моста не пришлось прогонять — сами ушли. А ему-то представлялось, что все будет, как говорил Федосеев: пойдут они прогонять министров-капиталистов, те, конечно, не захотят уходить, и тогда Серников с Федосеевым и с другими солдатами пригрозят им штыками, и тут уж министры-капиталисты сразу побегут, как тараканы. Сейчас же придут на их место свои министры и, конечно же, товарищ Ленин, и первым делом объявит о мире и велит делить помещичью землю. А выходит, все уже сделалось, и, видно, без штыков. Оно, конечно, так-то и лучше, а все же… Нет, не мог он сразу объяснить, чего ему не хватает, пока не почувствовал: действовать собственными руками, а может и винтовкой, а может и штыком, чтобы потом, когда начнет в собственной деревне землю по справедливости делить, имел бы он право прямо сказать: «Я за нее дрался!», и чтобы потом, когда начнет ее пахать, самому себе сказать: «Моя землица, моими руками отвоевана!» Пришла обещанная смена, и, сдав посты, Серников велел вести отряд на отдых, а сам отправился в Смольный. В Смольном он собрался было идти на третий этаж, в знакомую ему уже комнату Военно-революционного комитета, но увидел внизу Федосеева. В одной из комнат первого этажа располагался штаб Красной гвардии. Дверь в комнату стояла нараспашку, сюда поминутно входили и выходили солдаты, матросы, красногвардейцы. Вот через эту-то дверь, сквозь пелену табачного дыма, Серников и увидел рыжеусого верзилу Федосеева, услышал раскаты его баса. Федосеев сидел на столе и отдавал какие-то распоряжения. Серникову он показался богом Саваофом, каким его изображают на картинке в библии: тот тоже восседал на облаке, только, конечно, не в шинели и сапогах, и тоже сотворял мир и землю. — Чего смеешься-то? — прогудел Федосеев, завидев усмехающегося Серникова и протягивая ему свою ручищу-лопату. Услышав про Саваофа, он и сам расхохотался. — А что? А ведь верно! Мы теперь почище Саваофа чего-нибудь соорудим. Пожелаем — и будет рай. Ладно! — посерьезнел он. — Тебе с твоим отрядом есть важное задание: к пяти вечера явиться на Большую Морскую, к арке Главного штаба. Знаешь? Начинаем окружение Зимнего. Если к вечеру не сдадутся, будем брать штурмом. Кое-где мы уже заняли позиции. — Постой-ка! — опешил Серников. — Кто это должен сдаваться? Утром ведь в газете было: Временное правительство… это самое… разложено. — Верно! Власть в наших руках, весь Питер — наш. А эти дурни, министры-капиталисты, засели в Зимнем и не выходят. У них, брат, и войска есть, ну, большей частью юнкера, да еще бабский батальон, да казачишек сотни две или три. Однако позиция у них выгодная: по открытой площади не сразу подберешься. Будем ждать темноты. «Так… — Серников даже повеселел. — Стало быть, найдется еще его штыку работенка, может еще все сойтись таким манером, что именно ему, самолично, доведется давать этим министрам по шапке, а ежели что, так и штыком». Он уже собрался было уходить, но внезапно, о чем-то вспомнив, повернулся и, нагнувшись к уху Федосеева, негромко спросил: — Слушай, а где теперича Ленин? Не тут ли, в Смольном? А? Да ты не бойсь, я ведь молчать умею. Федосеев вдруг гулко, как в бочку, радостно захохотал! — Эй, ребята! — крикнул он прямо в гущу людей, набившихся в комнату. — Вот этот, — ткнул он пальцем в Серникова, — все еще за товарища Ленина опасается, думает, наш Ильич скрывается где-то. Многие засмеялись, радостно загудели, а Федосеев крикнул, да так громко, словно весь мир хотел оповестить: — Тут Ленин, в Смольном, с нами Ильич!.. Стой! — спохватился он. — Да ведь он еще вчера ночью через мост Александра II перешел. Ты ж там караул держал! — Ну! — Серников в волнении схватил Федосеева за руку. — Вот тебе и ну! Он же у тебя под самым носом и прошел. — Так этого… гражданских-то велено было пропущать. Федосеев хлопнул себя по коленям, рассмеялся пуще прежнего. — А ты что, жалеешь, что Ленина не задержал? Серников отшатнулся и даже сплюнул от досады. — Ну, а какой он нынче, Ленин-то? — спросил он. — А такой, что сразу его не признаешь. Усы-бороду сбрил, явился вчера в пальтеце простецком, в кепочке, в косоворотке — ну рабочий и рабочий. Вот щека только платком подвязана, будто зубы сильно болят. — В этом месте Серников охнул, вспомнив одного из вчерашних поздних прохожих. — Его и в Смольном-то не сразу признали. — Значит, здесь он, в Смольном? — обрадовался Серников. — Где ж еще. Он-то всем и руководит. Серников помолчал, потоптался и негромко спросил: — Повидать бы его, а? — Ишь чего захотел! Занят он до невозможности, но погоди, — попытался он утешить, — закончим все дела, может, и повидаешь. Повеселевший Серников вскинул на плечо винтовку и решительно направился к выходу. Ровно в пять вечера его отряд расположился в указанном месте. Отрезок Большой Морской от Невского до арки Генштаба был забит до отказа отрядами Красной гвардии, и в первую минуту опытному фронтовику это сильно не понравилось. «Мышеловка, — подумал он. — Ахнуть разика два из шестидюймовки — и ваших нет». Но, разузнав обстановку, поуспокоился: орудий у противника не было, а пару броневиков, стоявших у самого дворца, какие-то смельчаки сумели вывести из строя. У самой арки залегли отряды путиловцев и обуховцев вместе с кронштадтскими матросами. Тут же стояли готовые бить прямой наводкой орудия и пушки, изготовленные на Путиловском заводе. Очень одобрил Серников, что догадались обеспечить тыл: вдоль Невского в полной готовности стояли солдаты разных войсковых частей. Костров не разжигали. И хотя солдаты баловались, «жали масло», чтобы согреться, по всему чувствовалось, что они не просто готовы в любую минуту пойти по сигналу в атаку, а пойдут с радостью, как не ходили никогда. То же чувство радостного ожидания испытывал и Серников. Это ожидание ничего общего не имело с тем, которое столько раз было испытано на фронте. «Чудеса!» — подумал Серников, покачав головой и придирчиво оглядев — в который уже раз — свой отряд, присел на тротуар в излюбленной позе — прислонившись к винтовке, и приготовился ждать. Зимний дворец был окружен. Миллионную улицу еще с утра заняли гвардейцы Павловского полка; у Дворцового моста и на самом мосту расположились солдаты Финляндского полка и красногвардейцы Васильевского острова; на Адмиралтейской и Дворцовой набережных, у Александровского сада и Троицкого моста стояли еще и еще отряды Красной гвардии, солдаты, и всюду густо чернели матросские бушлаты. На Неве у Николаевского моста красовалась «Аврора», окруженная миноносцами; орудия Петропавловской крепости нацелились на Зимний. И лишь Дворцовая площадь была в руках юнкеров и бойцов женского ударного батальона, укрывшихся за баррикадой дров вокруг Александровской колонны. Такие же баррикады загораживали и входы во дворец, тоже охраняемые юнкерами и ударницами. «Сунуть нос на Дворцовую площадь нечего и думать — перестреляют. Атаковать всей массой? А черт их знает, может у них пулеметы, скосят тысячи, особенно необстрелянных. Ахнуть бы парочкой снарядов по дровишкам, — враз юнкера, как голенькие, бери их на штык…» Так думал Серников, сидя под аркой Генерального штаба и ожидая сигнала к штурму. Шло время. Вдруг пронесся слух, что Военно-революционный комитет предъявил Временному ультиматум: двадцать минут на размышление и сдаваться. Это Серникову очень понравилось: вот как заговорили мы с министрами. Однако время шло, а положение дел не менялось. В восемь вечера Временному правительству предъявили новый ультиматум, дав на этот раз всего десять минут на размышление. Но прошло и десять минут, и полчаса, а ответа так и не было. Не было и сигнала идти на штурм. Солдатам не терпелось, солдаты рвались в бой. Им, привычным к куда более сложной и трудной фронтовой обстановке, хотелось скорей начать и закончить дело. Никаких сомнений в победе у них не было. Не было сомнений и у Владимира Ильича Ленина, который в эти часы в Смольном напряженно следил за развертыванием действий и, хотя был человеком глубоко штатским, выражал крайнее возмущение тем, что многотысячные отряды солдат, матросов и красногвардейцев до сих пор не покончили с кучкой юнкеров и не овладели Зимним. Вот-вот должен открыться II Всероссийский съезд Советов. На нем окончательно решится вопрос о власти, а кучка министров, изображающих из себя власть, до сих пор не арестована. Черт знает что! И он слал одну за другой возмущенные и даже грозные записки в полевой штаб Военно-революционного комитета. Подвойский — председатель ВРК и начальник штаба, не спавший несколько ночей, издерганный, озабоченный, но воодушевленный, очень сердился на эти записки, но в конце концов понял, что ждать действительно больше нельзя. Штурм так штурм! В девять часов сорок минут прогремел сдвоенный залп: холостой с Петропавловки и тут же выстрел с «Авроры». Вслед за тем, показалось Серникову, город вздрогнул и зашатался от оглушительного «ура!» Оно перекатывалось из конца в конец, ни на минуту не умолкая. Серников и сам кричал «ура!», не слыша собственного крика, видя вокруг себя раззявленные рты. Сигнальный выстрел и это всеобщее «ура!» без всякой дальнейшей команды подняли осаждающих и бросили их в атаку. Приглядывая за своими, которые — пошла все-таки на пользу выучка — не отставали от командира, Серников тоже ринулся в атаку, впервые в жизни испытывая от этого подлинную радость. Дворцовая площадь встретила их шквальным ружейным и пулеметным огнем. Стреляли из-за штабеля вокруг колонны, из окон и с крыши дворца. Необстрелянные красногвардейцы, 98 да и опытные солдаты-фронтовики повернули назад. Обозленный и сильно возбужденный, Серников оглядел свой отряд. — Все целы? — спросил он. — Вроде бы все, товарищ командир. Вон только Серегу малость царапнуло. Сергей стоял в сторонке, с недоумением рассматривая аккуратную дырочку в своей старой шапке. Ухо его слегка кровоточило, но Катька, у которой через плечо висела отрядная санитарная сумка, уже примеривалась его бинтовать. Губы у Катьки тряслись, и с перепугу она ругала Серегу, точно он сам был виноват: — Дурень несчастный! Возьми пуля чуть влево, и капут тебе. Еще несколько раз ходили в атаку, и так же безуспешно. Появились раненые. — Разве ж можно в лоб! — ругался Серников. — С флангов их надо, с флангов!.. Часам к десяти вечера бой постепенно затих, наступила передышка. И вдруг в этой относительной тишине послышался какой-то странный и нетерпеливый звон. Серников сразу не мог понять, откуда он, а догадавшись, страшно удивился: где-то звенел трамвай, требуя пути. Потом звон прекратился, послышалось сперва нарастающее, потом затихающее гудение, несколько коротких и совсем уже далеких звоночков, и все стихло. Трамвай укатил. «Чудеса! — поразился Серников. — Трамваи ходят, как ни в чем не бывало. Давеча я слышал, ребята говорили в Александрийском, что ли, театре спектакль какой-то показывают. Это надо же, тут, можно сказать, война идет поважней германской, а ктой-то в театре сидит, пьески смотрит… Придет домой, спать ляжет в постель, утром проснется — здрасьте пожалуйста: было Временное правительство, и нету. Аккурат, пока он в театре сидел, мы власть брали». Он покрутил головой, чтобы отогнать эти внезапные мысли, тем более что вновь поднялась стрельба. На этот раз били с фланга по дворцу, били из пулемета, установленного каким-то чудом на самой ограде Александровского сада. Ахнули, наконец, оглушительно две пушки из-под арки Генерального штаба, и сразу брызнули в разные стороны поленницы дров вокруг Александровской колонны. Снова с оглушающим «ура!» все, кто находился на Морской, ринулись в атаку. Пушки перенесли огонь на Зимний, а площадь уже заполнила лавина атакующих. Били трехдюймовки Петропавловской крепости, захлебываясь стучали пулеметы. «Ого! — подумал Серников, — похоже на дело». С Петропавловки упал на площадь меч прожектора, разом осветив толпы солдат, матросов, красногвардейцев, бегущих к Зимнему волна за волной. «Черти! — выругался Серников. — Что ж они прожектором да по своим!» И, точно подслушав его мысли, световой конус внезапно погас. Волна атакующих грозным прибоем докатилась до Зимнего и, несмотря на выстрелы из окон, из-за колонн, из подъездов, хлынула во дворец. На мраморных лестницах, во всех коридорах и переходах, в залах — всюду были юнкера и офицеры. Серников ждал отчаянного сопротивления, ожесточенной драки, может быть даже рукопашной, и заранее настроил свой отряд. Но сопротивления почти не было, большинство юнкеров швыряли на пол винтовки при одном только окрике «Бросай оружие!» Растекаясь по дворцу, штурмующие ничуть не удивлялись тому, что перед ними как бы сами собой распахиваются белые, изукрашенные золотом двери. Они просто не замечали безмолвных, серых от страха лакеев, совершавших свою привычную службу — предупредительно распахивать двери перед высокими особами. А высокие особы мчались через анфилады комнат, стекаясь к тому месту, где собралась кучка насмерть перепуганных людей, которые еще сегодня утром, прочитав в большевистской газете: «Временное правительство низложено», хорохорились и петушились, требовали вызвать войска с фронта «спасать Россию», называли друг друга не иначе, как «господин министр» и даже, собрав остатки гордости, несколько часов назад решили не отвечать на ультиматум Военно-революционного комитета. Теперь все для них было кончено. Безмолвно, с перекошенными лицами, прислушивались они к угрожающему грохоту и гулу, неумолимо надвигающемуся на них. Так беспомощные пассажиры никем не управляемого судна с ужасом вслушиваются в грохот прибоя, зная, что их корабль сейчас разобьется о скалы. Министры сидели вокруг большого стола, кто-то стоял в темном углу, прижавшись к стене, кто-то спрятался за тяжелой портьерой. Со стуком распахнулась дверь, влетел юнкер с побелевшим лицом. Губы его тряслись, он взял под козырек и срывающимся голосом доложил: — Они здесь! Господа, мы ждем ваших приказаний. Будем защищаться? — Нет, нет! Ни в коем случае! — посыпались истерические ответы. — Это бессмысленно! Юнкер повернулся налево кругом и поспешно вышел. Большой темный коридор был наполовину занят юнкерами — последней защитой Временного правительства, но у противоположного конца коридора уже теснились штурмующие и впереди них стоял невысокий, решительного вида человек с длинными волосами, в железных очках и с маузером в руке. Это был Антонов-Овсеенко, минуту назад предложивший юнкерам сдаться и давший пять минут на размышление. — Сдаемся! — объявил юнкер и первым бросил винтовку. Последняя цепь расступилась, и Антонов-Овсеенко, а за ним несколько десятков солдат, матросов и красногвардейцев вошли в зал. Обведя глазами комнату, словно проверяя, не спрятался ли кто, Антонов-Овсеенко громко и отчетливо произнес: — Именем Военно-революционного комитета объявляю вас арестованными. — Подчиняемся насилию, — пролепетал один из сидевших за столом. — Во избежание пролития крови. — Вона! — рассердился кто-то из солдат. — Во избежание!.. Сами-то сколько крови пролили! Не мерили? — Попрошу встать, сдать оружие, документы! — распорядился Антонов-Овсеенко. Бывшие министры стали выкладывать на стол револьверы, бумаги; поднялись и подошли к столу двое, сидевшие в темном углу. Шевельнулась, но вновь замерла портьера, словно кто-то собирался, но так и не решился выйти из-за нее. И тогда из-за спины Антонова-Овсеенко вышел невысокий солдат с винтовкой наперевес и направился к окну. Нет, он не собирался протыкать штыком портьеру, он просто спокойненько отдернул ее кончиком штыка, в полной уверенности, что именно там прячется старый знакомый господин Керенский, которого не оказалось за столом. Но там, вжавшись в оконный проем, стоял кто-то совсем незнакомый солдату, и когда Серников спросил его: «Ты кто?» — господин, с ужасом глядя на направленный на него штык, замахал руками и зашипел на солдата: — Киш… киш… — Чего уж там киш! — усмехнулся солдат. — Теперь уж нас не прогонишь. Но господин все продолжал повторять свое «киш», пока не выдавил из себя собственную свою фамилию: — Киш… киш… киш. Кишкин! Серников с недоумением посмотрел на него, а Антонов-Овсеенко, как бы обрадовавшись, пригласил господина: — А, господин министр государственного призрения? Пожалуйте к столу! — Товарищи! А где же главный-то? — забеспокоился тот самый солдат, что давеча насчет пролитой крови говорил. — Керенский-то где? — Господин председатель Временного правительства вчера выехал навстречу верным войскам, идущим к Петрограду. — Это сказал кто-то из министров, постепенно приходящих в себя. — Сбежал! — ахнули солдаты. — Ну, и эти сбегут, ежели не приколоть! — В штыки их!.. К стенке!.. Ну вот и настала она, та самая минута, о которой говорил Серникову Федосеев: «А мы их штыком!» Что ж, это дело справедливое, подумал Серников и про себя решил: скомандует Антонов-Овсеенко «В штыки!», он подденет того самого Кишкина, что прятался за портьерой. Но Антонов-Овсеенко, подняв руку, крикнул: — Спокойно, товарищи! Мы пришли не убивать, а только арестовывать. Министров будет судить революционный суд. А пока отправим их в Петропавловскую крепость. Все же толпа еще немного покричала, но постепенно поуспокоилась: главное — дело было сделано, Зимний дворец взят, правительство арестовано. — С юнкерами что делать? — спросил Федосеев. — С юнкерами? — Антонов-Овсеенко на минуту задумался и сказал: — Я полагаю, отпустить на все четыре стороны под честное слово оружия в руки больше не брать. — Улыбнулся и добавил: — Разве что на нашей стороне. Арестованных увели. Все кончилось. Безотчетным движением Серников снял папаху и, облегченно вздохнув, рукавом вытер со лба пот. Это был жест человека, закончившего трудную, но полезную работу, которую выполнил с чисто крестьянским рвением, точно поле свое вспахал. Только теперь он с любопытством огляделся, и хотя в комнате царил беспорядок, каждая из находящихся здесь вещей казалась Серникову сказочно красивой и богатой. Взгляд его остановился на диковинных часах под стеклянным колпаком — их золоченый корпус стерегла сама смерть с косой в руках. Он даже подошел поближе. Часы отчетливо и мерно тикали, вдруг фигурка смерти три раза взмахнула косой, словно голову кому-то отсекала, а часы отбили три мелодичных удара. Конечно, Серников, как и другие задержавшиеся в этой комнате солдаты, матросы, красногвардейцы, не понимали, да и не задумывались над тем, что творят историю, что годы спустя о таких, как они, будут говорить и вспоминать с удивлением, восхищением и долей зависти. — Теперь чего делать? — деловито спросил Серников Федосеева. — А? — вскинулся Федосеев, безмятежно скручивавший цигарку. — Чего делать? А ей-богу, вроде бы и нечего! Все! — Он оглушительно захохотал и радостно хлопнул Серникова по плечу. — Все! Оживились и радостно заулыбались все, находившиеся в комнате. — Пошли юнкеров по домам распущать! — вспомнил Федосеев, и все двинулись за ним. Прошли по коридору в большую круглую залу с колоннами, откуда распахнутые двери вели во внутренние помещения. Всюду бродили люди с винтовками, только что бравшие штурмом этот дворец. Бродили теперь уже бесцельно, из чистого любопытства, останавливались перед картинами, колупали пальцем непонятно зачем натянутые на стены шелка, садились в раззолоченные кресла; задрав головы и открыв рот глядели на потолки, расписанные голыми бабами. Часть юнкеров уже разбежалась, большинство оставшихся в ожидании своей участи собрались в двусветном Белом зале. Судя по всему, тут, как и во многих других помещениях, была их казарма: на паркете затейливого рисунка валялись грязные тюфяки, перепачканные шинели, немытые котелки и множество пустых бутылок. Инкрустированные столы залиты оружейным маслом, гобеленовая ткань кресел и стульев запачкана остатками пищи, местами пропорота. «А еще барчуки!» — презрительно подумал Серников. Федосеев молча осматривал толпу вояк, когда послышался ломкий мальчишеский голос: — Что с нами будет? — Что будет? — загремел Федосеев. — Поди-ка сюда, — поманил он пальцем юнца. — И когда юнкер с полудетским, красивым, испуганным лицом несмело вышел вперед, Федосеев, не сводя с юнкера грозного взгляда, неторопливо снял ремень и вдруг гаркнул: — А ну, скидай штаны! Мальчишка попятился от этого огромного рыжеусого солдата, который наступал на него с ремнем в руках. Губы его тряслись, в глазах прыгал страх. Онемевшая на мгновение толпа солдат и красногвардейцев, окружавшая юнкеров, весело и одобрительно загоготала. — Верно, братцы! — крикнул кто-то, тоже распоясываясь. — Всыпать соплякам, чтоб всю жизнь помнили. — Как ты смеешь, хамское отродье! — послышался вдруг истерический выкрик, и к Федосееву подскочил высокий прапорщик. — Мало вас наши отцы на конюшнях пороли! Хамы, сволочи, мерзавцы! — он зашелся в истерическом крике. Федосеев, опешивший было от такой откровенной ненависти и наглости, шагнул вперед, схватил прапорщика своей могучей рукой, поднял, встряхнул несколько раз и опустил на пол. — Эх, кабы не приказ, поставил бы я кое-кого из ваших благородий к стенке. Твое счастье, прапорщик, — сегодня на нашей улице праздник, отпускаю тебя на все четыре стороны. Но, смотри, больше не попадайся на нашем пути! И вы, бывшие господа бывшие юнкеры, запомните этот урок! — Остановился и гаркнул: — А ну, марш по домам! Толкаясь и опасливо оглядываясь по сторонам, юнкера двинулись к дверям. — Стой! — неожиданно остановил их Федосеев. — Ежели кто из вас, ваши благородия, чего-нибудь прихватили с собой, клади обратно. — Среди нас нет воров! У своих поищите! — послышались выкрики. — И у своих поищем, — ничуть не обидевшись, отозвался Федосеев. — Только вы лучше по доброй воле отдавайте, что взято, а то нам и обыскать недолго. — Серников! — крикнул он. — Спускайся к выходу, стань со своим отрядом, никого не выпускать, пока не отдадут наворованного. А что наворовали — я по рожам вижу. Федосеев не ошибся. Проходя через анфиладу комнат, спускаясь по мраморной лестнице к выходу, юнкера извлекали из карманов целую кучу ценных вещей! Некоторые проделывали это демонстративно, швыряя на пол, другие старались как бы незаметно уронить или сунуть на стол или в кресло. Кое-кого Серников со своими красногвардейцами все-таки обыскали и отняли несколько бронзовых фигурок не то божков, не то просто уродцев. Выпроводив последнего юнкера, Серников доложил Федосееву и опять спросил: — А теперь чего? — Ложитесь-ка вы, братцы, спать. Занимайте любое зало — и устраивайтесь. — А ты? — Я в Смольный. Пойду и в самом деле узнать, чего теперь нашему брату делать. Завтра или сам приду, или пришлю кого. Айда, проводи меня малость. По парадным комнатам дворца, по нарядным залам все еще бродили любопытные, но многие уже устроились на ночлег — на диванах, на сдвинутых вместе стульях, а большей частью на полу, в обнимку с винтовкой. В одной комнате, на широкой, крытой нарядным покрывалом кровати, валялся солдат в шинели и сапогах. Что-то знакомое почудилось Серникову в этой фигуре, он подошел поближе и узнал: Федот — тот самый, с кем они ходили арестовывать Ленина. Серников не видел однополчанина с тех пор, как начал обучать отряд красногвардейцев. Теперь захотелось сказать ему: «Видишь, как получилось: нас с тобой Временное правительство посылало Ленина арестовывать, а теперь мы же по приказу товарища Ленина это самое правительство арестовали». Он потряс Федота за плечо, но тот только замычал и повернулся на бок, при этом из кармана шинели высунулся кончик какого-то предмета. Серников ахнул, а Федосеев, схватив своей огромной лапищей солдата, сдернул его с постели и поставил перед собой. — Ну чего, чего? — забормотал перепуганный и еще не проснувшийся Федот. — Чего хватаешься, отпусти! Не говоря ни слова, Федосеев сунул руку в карман Федотовой шинели и вытащил какую-то странную штуковину вроде львиной головы, насаженной на стержень. Похоже, штуковина была золотая. — Откуда? — сквозь зубы, еле сдерживая ярость, спросил Федосеев. — Ручка дверная, — последовал неожиданный ответ. — Ручка? — переспросил Федосеев, отпустив солдата и с недоумением рассматривая львиную голову. — Ну да. А что такого? Тут же все золотое! Я только две ручки и отвернул. — Из другого кармана Федот вытащил такую же точно ручку. — Тьфу, дурья башка! — рассердился Федосеев. — Самоварное твое золото. Да это все одно, хоть бы и настоящее, только как же ты осмелился на воровство? Имя революционного солдата позоришь! — Да я что, один такой? Небось и другие брали, а я один отвечай? — Ах, гады! — сокрушался Федосеев. — Серников! Возьми несколько человек, пройдитесь по всем комнатам, от имени Военно-революционного комитета предупредите: если кто чего по несознательности взял, пусть сам на тое же место положит. В противном случае обыскивать будем. Весть о грозящем обыске быстро разнеслась по дворцу, и те, кто и в самом деле прихватил разные диковинные, поразившие солдатское воображение вещицы, стали опорожнять карманы, подсумки, вещевые мешки. Делали это открыто, подтрунивая друг над другом. Серникову с его отрядом достался для ночлега зал зеленого цвета. Зелеными были стены, колонны, огромная зеленая с золотом ваза стояла по самой середине, зеленые канделябры красовались на зеленой каминной полке. И все это было из зеленого с прожилками камня — малахита, как объяснила Фира. Натаскали в зал ковров, тяжелых портьер — одним словом, устроились с удобствами, хотя Серников подумал, что в казарме все-таки лучше… Умостившись поудобнее, накрывшись с головой шинелью, Серников облегченно вздохнул, как сильно намаявшийся человек, получивший наконец заслуженный отдых. «Ну вот и сделалось по-нашему. Наша теперича власть. Скоро, значит, винтовку можно будет забросить, намозолила она нашему брату руки… И в деревню, землю делить. Хорошо бы только для этого дела мандат какой получить али бумажкой запастись… Пахать… Теперича уже весной… Эх, дочкам бы гостинца привезти». Ближайшие два дня принесли Серникову все, что было обещано большевиками, все, ради чего он и сам ходил вчера еще в атаку. Одним словом, он получил наконец мир и землю. Никакого связного от Федосеева Серников так и не дождался. Вместо него во дворец явились чуть ли не целым полком латышские стрелки и всех, кто расположился в Зимнем, как у себя дома, выставили. Не обошлось, конечно, без скандалов, но когда командир стрелков сказал, что делается это по приказу самого товарища Ленина, распорядившегося строго охранять все художественные ценности дворца, поскольку это теперь народное достояние, страсти поутихли. Солдаты стали расходиться по казармам, матросы — по экипажам и кораблям, красногвардейцы — кто по домам, кто в свои временные общежития. По Дворцовой площади бродили толпы любопытных, рассматривали щербины на стенах от пуль и осколков снарядов, пытались пройти во дворец, но у каждого входа уже стояли, как каменные, латышские стрелки. Серников с отрядом потопали на «Айваз». По дороге дивились тому, что как ни в чем не бывало ходят трамваи, идут куда-то по делам прохожие, в сквериках, усыпанных осенней листвой, гуляют с няньками дети. Пока добрались, пока пообедали, — надвинулись сумерки. Серников не знал, как быть с отрядом: распускать ли вовсе, поскольку задача выполнена и делать отряду вроде бы нечего, или ждать нового приказа. Подумав, он отпустил всех, кто желает, по домам, но строго наказал: ночевать всем здесь, на «Айвазе». Сам же, переменив портянки, заново переобувшись, точно собирался в дальний поход, вскинул винтовку, прихватил мешок и решительно зашагал в Смольный — за мандатом или другой какой бумагой насчет земли. В Смольный, ярко и как-то празднично освещенный, Серников попал неожиданно легко. Сперва его, правда, не хотели пускать, объяснив, что идет Всероссийский съезд Советов и пройти могут только делегаты. На все просьбы и даже требования, верзила часовой отвечал только одним словом: «Мандат!» — Мандат? Так у меня же есть! — обрадовался вдруг Серников, доставая бумажку, полученную когда-то от Федосеева. Бумажка, и в самом деле озаглавленная «Мандат», вполне удовлетворила часового, и минут через десять, после отчаянной работы локтями, Серников оказался в самой гуще людей, битком набивших огромный зал. Серников усиленно вертел головой, надеясь увидеть Федосеева — единственного знакомого ему здесь человека. Но в этом море голов в папахах, бескозырках, фуражках, кепках нечего было и думать разыскать кого-либо. Тогда он начал прислушиваться к тому, что говорилось за длинным столом, стоявшим на возвышении. Там сидело человек двадцать, а то и больше, и один из них осипшим от долгих речей голосом громко читал разные приказы и распоряжения, которые Серникову в общем очень понравились. Например, немедленное освобождение из тюрем революционных солдат и офицеров, отмена смертной казни на фронте, приказ об аресте Керенского. Все это делегаты встречали единодушными возгласами «Принято!», а весь зал отзывался одобрительным гулом. «Ну, а насчет мира да земли когда будет-то?» — подумал Серников, и в ту же минуту ему показалось будто в зал ворвался шквал. Вдруг все закричали, захлопали в ладоши, в воздух полетели шапки, бескозырки, кепки, замелькали поднятые вверх винтовки. И среди всех выкриков громче всего выделялось одно слово, одно имя: «Ленин». Серников и сам что есть силы выкликал то же имя, но как ни тянулся, не мог разглядеть, где же тот, которого с такой неистовой радостью встретила вся толпа. Чуть не плача от досады, он толкнул стоявшего рядом бородача и попросил: — Браток, будь другом, подсади, хоть бы глазом глянуть на него. Бородач заржал: «Да, ростом ты не вышел», но подхватил Серникова под локотки и, словно мальчишку, легко поднял. И тогда Серников увидел наконец людей, двигающихся к президиуму, впереди невысокого, коренастого человека, весело оглядывавшегося вокруг, точно все тут были его хорошие знакомые. — Ну, поглядел — и будя, — сказал бородач, опуская Серникова на пол. Но теперь Ленин возвышался над залом, он стоял на трибуне, улыбаясь и подняв руку, пытаясь успокоить зал. А зал продолжал бушевать, и, зараженный всеобщим энтузиазмом, выкрикивал что-то и Серников, вглядываясь в лицо Ленина и силясь вспомнить: проходил ли такой человек мимо его заставы на мосту. Нет, не упомнишь… Стой, а ведь на портрете в газетке, что еще летом показывал ему фельдфебель, Ленин был с бородой, усами и вроде бы посолидней. Оно, конечно, недолго бороду и сбрить… Хотя, что это я, ведь Федосеев об этом давеча и говорил… Зал наконец умолк, смирился перед поднятой ленинской рукой и тогда, как бы кинув руку вперед, Ленин заговорил: — Товарищи! Вопрос о мире есть жгучий вопрос, больной вопрос современности. О нем много говорено, написано и вы все, вероятно, не мало обсуждали его. Поэтому позвольте мне перейти к чтению декларации, которую должно будет издать избранное вами правительство. Ленин на мгновение остановился, оглядел притихший зал и торжественно, раздельно прочитал: «Декрет о мире. Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24–25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире». «Так, — с удовлетворением подумал Серников, — одно сбылось, что обещали большевики. — Вот он, стало быть, и мир». После Ленина с трибуны выступали другие, неизвестные Серникову. Они поддерживали Декрет о мире, и им тоже хлопали, но не так громко, как Ленину. Но когда один из ораторов стал толковать насчет каких-то оговорок, а другой даже об ультиматуме, который, дескать, надо предъявить немцам, Серников разозлился. «Энтих бы, что еще о чем-то там рассуждают, на недельку бы да в окопы вшей покормить, живо бы сами мира запросили без всяких там оговорок». И, возмущенный до глубины души, Серников стал протискиваться вперед, к трибуне, чтобы это самое высказать вслух. А что особенного? И скажет! Мало ли он с самого лета на митингах навыступался? Но выступать не пришлось: уже вся солдатская масса съезда шумно потребовала мира. Какой-то усатый за столом президиума поднял руку и громко объявил о голосовании. Первый декрет Советской власти — Декрет о мире — был принят единогласно. И вновь буря ликования подняла весь зал. Делегаты — кто сидел в креслах — повскакали со своих мест, кто стоял — бросали вверх шапки, обнимались, хлопали друг друга по спине. Бородач, что давеча поднимал Серникова, орал: «Конец войне! Конец войне», и по заросшему его лицу катились слезы. Вдруг послышалась песня, тотчас подхваченная всем залом. Ее Серников слыхал уже не раз, но слов пока не знал и сейчас остро жалел об этом. Но припев — «Это есть наш последний и решительный бой» — он подхватил уже со всеми, с радостью глядя на шевелящиеся губы Ленина. Была уже глубокая ночь, когда Ленин вновь поднялся на трибуну и в установившейся тишине начал доклад о земле. Серников насторожился, как взведенный курок, услышав первые же фразы: — Мы полагаем, что революция доказала и показала, насколько важно, чтобы вопрос о земле был поставлен ясно. — Это было сказано спокойно, даже, как показалось Серникову, устало. Зато следующую фразу Ленин произнес страстно, убежденно, слегка перегнувшись через трибуну, будто не слова говорил, а вкладывал в душу каждого свои мысли. — Возникновение вооруженного восстания, второй, Октябрьской революции ясно доказывает, что земля должна быть передана в руки крестьян. «Ну вот и слава богу!» — чуть ли не вслух сказал Серников и стал поднимать руку, чтобы перекреститься, но его толкнули: не мешай. Слушая «Декрет о земле», пять простых и таких понятных пунктов, слушая «Крестьянский наказ о земле», Серников вдруг вспомнил строчку из солдатского письма: «Видно, только Вы один имеете сочувствие к настоящей свободе и сочувствие об измученных солдатах». Он вздохнул, испытывая редкое для него чувство благодарности и шепча: «Теперича все. Все сбылось, что обещали. Теперича одно только осталось: добыть бумажку насчет землицы — и домой, а там сами распорядимся». Закончил Ленин доклад так же просто, как начал, но Серников мысленно ахнул: Владимир Ильич, точно подслушал его мысли и произнес вслух: — Суть в том, чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет, что пусть сами крестьяне решают все вопросы, пусть сами они устраивают свою жизнь. — И снова в зале будто полопались гранаты — так оглушительно хлопали все в ладоши, кричали «Ура!», «Да здравствует Ленин!» и что-то еще восторженное и ликующее. На этот раз плакал, не утирая слез и не замечая их, Серников. Опять пели «Интернационал», и когда стали расходиться, над городом уже занималась заря. Но Серников остался в Смольном. Он хотел получить «Декрет о земле» и обязательно от самого Ленина. В самом зале к Ленину, окруженному плотным кольцом, не было никакой возможности пробиться, а потом, когда зал опустел, Серников не мог Владимира Ильича найти. Зато неожиданно он встретил Федосеева, который торжествующе сказал Серникову: — Ну что, брат? Вот по-нашему и вышло, в точности, как было обещано. — И восхищенно добавил: — Слыхал нашего Ленина? Когда Серников сказал, зачем он остался в Смольном, Федосеев с полным сочувствием отнесся к идее заполучить «Декрет о мире», но сказал, что, видно, придется ждать, когда его отпечатают. Потом, хлопнув себя по лбу, спохватился: — Да о чем мы толкуем, сегодня утром оба декрета в газетах будут! Однако Серников уперся: газета — газетой, а он обязательно хочет специальную бумагу получить и чтобы непременно за подписью Ленина. Федосеев и к этому отнесся с полным пониманием и посоветовал прийти в Смольный завтра. Потом он куда-то заторопился и, лишь мимолетно осведомившись «В отряде-то все в порядке?», исчез в бесконечных переходах. Из Смольного Серников так и не ушел. Покрутившись по коридорам, потолкавшись в разные двери, он отыскал пустую комнату. На дверях ее было написано: «Классная дама». Что такое «Классная дама» Серников понятия не имел, главное, что комната была пуста и просторна. Выбрав уголок потемней, он достал из сумки сухарь, пожевал, свернул цигарку, повздыхал, что табаку только на донышке кисета и осталось, затянулся несколько раз, оставив окурочек на утро, свернулся калачиком, натянул поглубже папаху, засунул руки в рукава и заснул в обнимку с винтовкой. Спал он крепко, не слыша ни топота ног, ни громких разговоров в коридоре, ни гула, который не умолкал всю ночь, а к утру еще усилился. Не проснулся он и тогда, когда в комнату, громко разговаривая, вошли Ленин с Бонч-Бруевичем. Заметив спящего Серникова, Владимир Ильич сказал: — Тсс… Видите, солдат спит, не будем мешать. — Да, но это самая удобная комната, Владимир Ильич, — негромко отозвался Бонч-Бруевич. — Она совершенно пуста, тут удобно будет разложить пачки, посадить человека и раздавать брошюры. — Сколько экземпляров печатается? — Пока пятьдесят тысяч, и, думаю, часам к двенадцати уже будет тираж. Между прочим, знаете где печатаем? В типографии «Русской воли»! — Погромная газета? — Владимир Ильич удивленно поднял брови. — Да, да, представьте себе! Впрочем, газету мы прикрыли еще 24-го, а рабочие типографии, само собой, сразу перешли на нашу сторону. Кстати, они же и «Правду» печатают. — Декрет о земле! — сказал Ленин раздумчиво. — Только это одно уже оставит след в нашей истории на долгие годы. — Он помолчал и, кивнув на спящего Серникова, почти шепотом добавил: — Вот он, один из творцов истории. — И усмехнулся: — А ведь утомительнейшая штука историю-то творить, вон как умаялся человек, даже цигарку свою не докурил, рядом лежит. Бонч-Бруевич повернулся к Владимиру Ильичу, не без удивления посмотрел на его лицо, на блестящие карие глаза, что-то хотел сказать, но промолчал. — Гм, гм… — продолжал Ленин, берясь за подбородок, уже начинавший обрастать рыжеватой щетиной, — до чего же интересно было бы потолковать с таким вот солдатом. Из-за этой проклятой конспирации не помню уж когда в последний раз говорил по душам с народом. Позавчера, когда шел в Смольный, у Литейного моста встретил кучку солдат и ужасно, знаете ли, захотелось мне потолковать с ними, погреться у их огонька — Рахья не позволил. — И правильно сделал, — одобрил бородач. — Вообще чудо, как вы добрались. — Ну уж и чудо… — Владимир Ильич вновь посмотрел на спящего солдата. — До чего ж непритязателен, до чего же скромен русский человек. Смотрите, нашел местечко поукромней, прикорнул со своей шинелькой и спит. Намаялся, видно, бедняга. А вот разбуди такого и спроси, чего он теперь хочет, когда вся Россия ему принадлежит, держу пари, ответит: земли. Не миллионы, не дворец каменный, а именно земли. А ведь ему предстоит на этой земле так тяжко трудиться, чтобы иметь хлеб!.. — Солдат зашевелился во сне, и Владимир Ильич, приложив палец к губам, тихонечко пошел к двери, поманив за собой собеседника. Серников спал еще часа два. Под конец ему приснилось, что лежит он в окопе, что идет артиллерийский обстрел, немцы кидаются тяжелыми «чемоданами», что один из них плюхнулся совсем рядом, но вот чудо — не разорвался. Серников открыл глаза. Комната была полна людей, таскавших из коридора большие пачки каких-то книжечек и сбрасывавших их на пол. Одна из таких пачек шлепнулась рядом с Серниковым, связывавший ее шпагат лопнул, и пачка рассыпалась веером тоненьких книжечек. «Декрет о земле», — с изумлением прочитал Серников и вскочил. Посреди комнаты стоял высокий чернобородый человек в очках и отдавал громкие распоряжения. Взглянув на вскочившего солдата, он приветливо улыбнулся и, протягивая широкую ладонь, сказал: — Здравствуйте, товарищ! Ну как, выспались? — Ага! — машинально ответил Серников, пожимая руку, и вдруг, указывая на декрет, радостно вспыхнул: — Тот самый? Что Ленин вчера читал? — И почти робко: — А взять дозволите? Я бы в деревню свез. — Обязательно, товарищ. Берите! Для того они и напечатаны. Ваша как фамилия? Серников? Пожалуйста, берите, товарищ Серников, десяток экземпляров, по дороге другим раздайте, для своей деревни тоже пригодится. Обрадованный Серников обеими руками сгреб кучку книжечек, поспешно сунул в свой мешок и сразу заторопился. — Постойте! — остановил его бородатый. — Вы ведь курящий, так не раскурите ли «Декрет» на цигарки? — Как можно! — ужаснулся Серников. — Оно бумажкой мы, конечно, нуждаемся, только разве такое можно допустить, чтобы «Декрет о земле» на раскурку? Ни в жизнь! — А все-таки возьмите вот это, — протянул бородатый несколько отрывных календарей. — И отрывать, как видите, удобно, и бумага как-будто подходящая. — Вот это спасибочки! — обрадовался Серников. — Это очень даже пригодится. Сунув в мешок и календари, он вновь заторопился, но, не дойдя до двери, внезапно повернулся: — А это уж точно теперь? Насчет землицы? Мандата боле никакого не требуется? — Точно, точно, товарищ Серников, — улыбнулся бородатый. — Это закон, принятый Советской властью и обязательный для всего государства. — А нельзя ли для верности, чтобы печать на нем какая-нибудь стояла, а лучше всего, ежели б товарищ Ленин подписался? Бородатый засмеялся: — Ленин? Что ж, я думаю можно попробовать, тем более что Владимир Ильич и сам хотел с вами поговорить. — Со мной? Это когда же? — от удивления Серников даже отступил несколько шагов назад. Тогда бородатый рассказал Серникову о том, что произошло здесь часа два назад. — Эх! — досадливо крякнул Серников. — Надо б меня разбудить. Бородатый опять засмеялся и вдруг сказал: — Ну, пойдемте! Они поднялись на третий этаж, в комнату, где за единственным столом сидела женщина и стучала на машинке. Тут была еще одна дверь, куда, постучавшись, вошел бородатый, велев Серникову подождать. Через минуту он выглянул и сказал: — Заходите. Не зная, брать ли с собой винтовку и мешок, Серников было замешкался, но быстро решился и вошел — все-таки с винтовкой и мешком. Навстречу ему из-за письменного стола поднялся Ленин. — Здравствуйте, товарищ! — сказал он. — Проходите, проходите, очень рад познакомиться. Вас как зовут? Серникова внезапно пронзила одна нежданная мысль: опять он к Ленину с винтовкой пришел, как и в тот раз, когда ходил арестовывать, и, почувствовав, что винтовка жжет ему руки, стал оглядываться, куда бы ее пристроить. Поставил в угол, у окна, и только тогда ответил: — Серников Леонтий. — А по отчеству? И тут Леонтий слегка запнулся: в жизни никто и никогда не называл его по отчеству. — Кузьмич. — ответил он наконец. — Ага, значит, Леонтий Кузьмич. Присаживайтесь, пожалуйста, — Ленин заботливо подвинул слегка растерявшемуся гостю стул и сам уселся напротив. — Да вы положите свой мешок, не беспокойтесь, в целости будет. Вот так. Ну-с, а теперь скажите, пожалуйста… И на Леонтия посыпался ворох вопросов, на которые он еле успевал отвечать. Он чувствовал: Ленину интересно все, о чем ему рассказывают. Постепенно Серникова оставило чувство стеснения, и он сам принялся рассказывать о себе, не дожидаясь дальнейших вопросов. И вновь, но теперь уже совсем по-другому, без той безысходной обиды и жалости к самому себе, которая сдавливала ему горло, без чувства непоправимости, рассказал он Ленину о всех обманах, которыми была наполнена вся его жизнь. Рассказал он о своей жене Лукерье и о трагической ее гибели, о том, каким огромным обманом оказалась война и все обещания сперва царя, а потом Временного правительства, и как обманывали его насчет большевиков, пользуясь тем, что он такой темный. Незаметно для себя Серников почувствовал полную непринужденность. Вдруг, коснувшись пальцами колена собеседника, он прыснул и сказал: — А ведь я тебя, товарищ Ленин, в корзине бельевой искал. Ей-богу! Да еще штыком в корзинку-то ткнул. Вот дурень-то какой был, а? — В какой корзине? — изумился Владимир Ильич. — Где? Серников сокрушенно, извиняющимся тоном поведал, как ходил он арестовывать самого главного большевика и немецкого шпиона Ленина. — Да-да-да! — откликнулся Владимир Ильич. — Мне как-то Надя рассказывала, — обратился он к бородатому, стоявшему у окна. — Мы тогда очень смеялись над этой разнесчастной корзинкой. Так это были вы? — вновь повернулся он к Серникову. — Так точно, я самый! — обрадованно подтвердил тот. — Ну-с, так что же вы там нашли? — Правду я там нашел, — очень серьезно и даже проникновенно ответил Серников. Он рассказал о солдатских письмах, которые дала ему сестра Владимира Ильича, о том, как взбунтовался он против обманов, о большевике Федосееве, который помог ему найти правильный путь, о том, наконец, как вместе со своим отрядом ходил он на штурм Зимнего дворца. Ленин слушал рассказ Серникова, как поучительную повесть. — Вот! — воскликнул он, вновь обращаясь к Бонч-Бруевичу, но показывая на гостя. — Помните, что я давеча говорил? О творцах истории? — И снова к Серникову: — Итак, власть теперь перешла в руки Советов, в руки рабочих и крестьян. Вы теперь хозяева в России и сами будете распоряжаться ее судьбой. Чего бы вы сейчас хотели, что для вас самое необходимое? — Как чего? Земли, конечно! Владимир Ильич обрадованно хлопнул себя руками по коленям, хитро и весело покосился на бородатого, но ничего не сказал. — Скажите, товарищ Серников, — теперь он дотронулся пальцами до колен солдата, — вы приедете в деревню и будете делить помещичью землю. Как вы думаете это сделать. Сколько, например, вам земли надо? Серников усмехнулся, принагнулся к собеседнику и ответил так: — Я вам, товарищ Ленин, как бы присказку одну расскажу. Граф один ее придумал, фамилия ему Толстой, так и называется та присказка: «Много ли земли человеку надобно?» В детстве я ее еще слыхал, когда в приходскую школу ходил. И солдат Серников, простодушно улыбаясь, пересказал своими корявыми мужицкими словами, ввертывая иногда и выразительные солдатские словечки, сказку Толстого. — Видишь, какое дело, что жадность-то с человеком делает, — закончил свое повествование Леонтий. — А делить землю проще простого: по справедливости, была б земля. Да ведь и вы, товарищ Ленин, так само сказали: помещиков в деревне больше нет, и теперь, стало быть, пусть сами крестьяне устраивают свою жизнь. Верно?

— Совершенно верно, дорогойтоварищ! — радостно подтвердил Ленин. — Декрет о земле вы получили? Сколько штук? Ага, превосходно. — Да уж так-то хорошо, товарищ Ленин! Спасибо вот товарищу, — указал он на бородатого, — позаботился о нас. Бородатый попытался было что-то сказать, но Владимир Ильич остановил его жестом. Серников опять нагнулся к Ленину и несколько смущенно начал: — Товарищ Ленин, а товарищ Ленин? Чтоб не сумлевался в деревне народ, нельзя ли от тебя какую бумагу получить, что, дескать, все правильно и что ты самолично со мной говорил? — Товарищ Серников, у вас же есть самая лучшая, самая правильная бумага — «Декрет о земле». Что ж, давайте подпишу. — Вот спасибочки! — обрадовался Серников, живо хватая из своего мешка экземпляр «Декрета». — Подпишите: дескать, бумага правильная, в чем и подписуюсь такой-то. Владимир Ильич улыбнулся, перелистнул странички и на последней расписался: Ульянов (Ленин). Очень довольный, Серников снял папаху, вытянул из-за подкладки воткнутую туда иголку с суровой ниткой, живо зубами подпорол подкладку, просунул под нее бумагу и несколькими ловкими стежками снова зашил. Владимир Ильич с Бонч-Бруевичем с интересом следили за действиями солдата, и когда тот через минуту надел свою папаху и стал подниматься, Ленин пошутил: — Ну, теперь если и потеряете декрет, так только с папахой. — А папаху солдат знаете как теряет? Только с головой. — Метко! — одобрил Владимир Ильич. — Ну-с, а остальные декреты у вас в мешке? Глубоко спрятаны? Надо на самое дно, чтоб сохраннее. — Это верно, — согласился Серников. — До свиданьица, значит, товарищ Ленин, и большое вам спасибо за все — за все, особенно за то, что вы имеете сочувствие об измученных солдатах, о русском мужике. — До свидания, товарищ Серников, — пожал Ленин руку солдата. — Всего вам хорошего. Устраивайте свою жизнь. Устраивайте крепко и хорошо. Советская власть вам всегда поможет. А если будет надобность — напишите прямо мне. Солдат ушел, а Владимир Ильич встал, прошелся по кабинету и сказал: — До чего же интересный и симпатичный народ, не правда ли, Владимир Дмитриевич?.. Делить землю, оказывается, проще простого: по справедливости! А? А как он мне сказку Толстого пересказывал! Нет, право, чудесный народище, чудесный! Взгляд его упал на винтовку, прислоненную к стене, и он удивленно воскликнул: — А винтовку-то позабыл! — Ничего удивительного, Владимир Ильич. Он ведь получил все, что ему было нужно: мир, землю. Для него революция кончена. — Да, — задумчиво произнес Ленин. — Для него революция кончена… Но только пока! Он еще вернется за оружием. Обязательно вернется! Сияющий и окрыленный, Серников в это время шагал по коридорам Смольного, направляясь к выходу. В его мешке, лежало несметное богатство: русская земля. И вдруг, почти у самого выхода, он круто повернулся и чуть ли не бегом направился обратно. Отмахнувшись от секретарши, стучавшей на машинке, он осторожно приоткрыл дверь. — А! — воскликнул Ленин, едва увидя Серникова. — Вернулись все-таки? — Вернулся, товарищ Ленин. Вы уж извиняйте, первый раз в жизни винтовку свою забыл. А она еще, того гляди, и пригодится. — Да, да. Она еще, того гляди, и пригодится, — повторил Владимир Ильич.


Последние комментарии
1 час 31 минут назад
1 час 39 минут назад
1 час 48 минут назад
1 час 54 минут назад
3 часов 23 минут назад
3 часов 26 минут назад