Люди и боги Страны снегов. Очерки истории Тибета и его культуры [Евгений Иванович Кычанов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Евгений Кычанов, Лев Савицкий ЛЮДИ И БОГИ СТРАНЫ СНЕГОВ Очерк истории Тибета и его культуры

Карта на форзаце. Основные районы средневекового Тибета © Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1975.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель! Эта книга о древнем и средневековом Тибете, его истории, людях и их культуре. В древности Тибет был одним из могущественнейших государств Азии. За 1200 лет известной нам письменной истории Тибета тибетский народ создал высокую и самобытную культуру. Тибет долго изображали загадочной страной, за сказочными чудесами которой иногда не могли, а часто и не хотели видеть истинную жизнь народа и его подлинную культуру. Но такое видение Тибета никогда не распространялось на отечественную науку, в особенности на востоковедение. Ценными знаниями о Тибете русская наука была обязана Н. Я. Бичурину, написавшему еще в первой половине XIX в. книги о Тибете, и поныне не утратившие своей научной значимости. Вторая половина прошлого века ознаменовалась выдающимися географическими открытиями в Центральной Азии. Труды русских ученых-путешественников обогатили науку сведениями о Тибете первостепенной важности. Наш труд — научно-популярная книга о тибетской цивилизации. Авторы использовали по возможности все доступные им последние работы о Тибете, в том числе путевые заметки и очерки корреспондентов, посещавших Тибет в 50-е годы нашего века. Книга рассчитана на всех, интересующихся Тибетом. Мы надеемся на тех читателей, у которых хватит терпения прочитать не только разделы о VI Далай-ламе Тибета, послужившие как бы канвой нашей книги и не лишенные художественного вымысла в строгих рамках известных фактов, но и чисто «научные» главы. Они могут показаться сухими, но позволят желающим заглянуть в удивительный мир прошлого и культуры другого народа.Так высока и так чиста Страна! Нет равных ей! Где есть еще такие? Воистину, ты лучшая из всех, И вера наша превосходит все другие!Из древней тибетской рукописи, найденной в Дуньхуане
I. СТРАНА СНЕГОВ
Отселе я вижу потоков рожденье, И первое грозных обвалов движенье.А. С. Пушкин
1. Дай мне сильные крылья свои, журавль!
Над Лхасой догорали утренние зори. Наступало время цешар — время восхода солнца, возвещавшее приход первого дня пятого месяца года огня-собаки (11 июня 1706 г.). Цаньян Джамцо, VI Далай-лама, почувствовал, что продрог от утренней свежести, и вновь в волнении заходил по крыше дворца далай-лам Потала, обычному месту прогулок великих лам. Сопровождавшие его слуги почтительно толпились в отдалении. Покой и тишина царили здесь, откуда, казалось, рукой подать до изумительно голубого, почти фиолетового на такой высоте неба, теплевшего от первых лучей восходящего солнца. Только голуби купались в небесной синеве, приветствуя наступление нового дня, да далеко над окраиной города, над тем местом, где рассекают на части трупы умерших, парили стервятники, ожидая добычи. Стоило прислушаться повнимательней, и можно было различить легкий гул пробуждающегося города. Где-то там, внизу, кричали уличные торговцы, спешили на молитву паломники, отправлялись в дальний путь запоздалые караваны — на север, к границам Монголии и Китая, и на юг, в Шигацзе, долину Чумби и к границам священной Индии, на запад, в Ладак, Кашмир и мусульманские страны. В такие часы он обычно сладко спал, плотно укутавшись одеялом из шерсти яка, после ночи, проведенной с приятелями в Лхасе или Шоле, пригородной деревушке, расположенной неподалеку от Поталы. Недаром украдкой пели про него придворные:2. Так высока Страна
Тибет. «Посреди… великих снежных гор находится великое тибетское царство, прохладная страна, ставшая полем, которое просветил великий милосердец. Она гораздо выше других граничащих с ней стран. Температура летом и зимой умеренная. Здесь нет бедствий холодных и жарких климатов, каковы голод, дикие звери, ядовитые змеи и насекомые. Подобно монументам из чистейшего хрусталя, возвышаются великие снежные горы… Кроме того, Тибет наполнен бесчисленным множеством черных гор… покрытых лекарствами, злачных, благоуханных холмов… В большей части земли колышутся светлые и прозрачные великие озера… Текут во все стороны многие реки… Весьма много лесов, кустарников и лугов. Хотя и непространны пашни и пастбища, но нет мучительных степей и солончаковых земель» — так охарактеризовал свою страну тибетский географ [8, 1–3]. Так высока и так чиста Страна! И действительно, Тибет — самая высокая страна в мире, как справедливо отметил тибетский поэт уже более тысячи лет назад. Люди часто живут здесь на высоте 3–4 тыс. м, вершины гор достигают высоты 7–8 тыс. м над уровнем моря. Тибетцы говорят, что горы опоясывают Тибет, как драгоценное ожерелье. С юга это величественные Гималаи, высочайшие горы мира. В сторону долины р. Цангпо, т. е. Брамапутры, Гималаи спускаются уступом, образуя хребет Ладак высотой 4–4,5 тыс. м. Северный край Тибетского нагорья отграничен хребтом Куньлунь. Куньлунь отходит на западе от Памирского нагорья и, простираясь в юго-восточном направлении, разделяется на три ветви: северную — хребет Алтындаг, среднюю — хребет Кукушили, переходящий затем в хребет Баян-Кара-Ула, и южную — хребет Тангла. Отдельные вершины хребта Тангла достигают 7 тыс. м. Западная граница Тибета обозначается областью, по меткому выражению Н. В. Кюнера, «скучивания» горных цепей Каракорума, Гималаев и Куньлуня [20, 1, 7]. Восточную границу Тибета определяют идущие в меридиональном направлении хребты так называемых Сычуаньских Альп, главные из которых Миньшань, Цюнлайшань и Даляншань. Средняя высота этих горных массивов около 3 тыс. м. Здесь Тибетское нагорье обрывается крутыми уступами, переходя в области, пограничные с Центральной Китайской равниной. Юго-восточный угол Тибета, где сходятся восточные отроги Гималаев и меридиональные хребты восточных границ Тибета, обозначен направленными с северо-запада на юго-восток хребтами, главные из которых — Гаолигуншань и Дасюэшань. Между ними текут, прорываясь на Индокитайский полуостров, реки Салуэн и Меконг. Внутри Тибетского нагорья, к северу от р. Цангпо, Тибет пересечен в широтном направлении мощными горными цепями Гангри (Кайлас) и Ньянчен-Тангла, именуемыми в европейской литературе Трансгималаями, а в Китае горами Гандисышань. Это высокие горы, отдельные вершины которых намного превышают 6 тыс. м. Вознесенное на такую высоту Тибетское нагорье стало матерью большинства великих рек Азии. Это «Вытекающая из пасти льва» (Сенге кхабаб) река Синги, протекающая через Кашмир и становящаяся в Пакистане Индом, и «Вытекающая из пасти слона» (Лангчен кхабаб) река Лангчен, которая становится в Западной Индии Сатледжем, «Вытекающая из клюва павлина» (Манча кхабаб) река Манча, которая становится в Индии священным Гангом, и «Вытекающая из пасти коня» (Тачок кхабаб) река Мацанг (Цангпо). Река Нагчу превращается в Бирме в одну из больших рек этой страны — Салуэн. Из слияния рек Дзачу, Нгомчу и Джичу берет свое начало Меконг, протекающий через Таиланд, Лаос и Камбоджу. Из Синсухая, с гор Баян-Кара-Ула, через высокогорные озера Джарип-Нур и Орин-Нур течет р. Мачу, она же одна из крупных рек Китая — Хуанхэ. В горах Тангла начинается р. Дричу (Улан-Мурэн), это крупнейшая река Китая — Янцзы. В Тибете множество озер. Многие из них подняты на высоту от 4,5 до 5,5 тыс. м над уровнем моря. Сами тибетцы выделяли три ландшафтных типа своей страны: ронг, или долинный, дро, или пастбищный, и цзан, или пустынные плоскогорья. Дикая, первозданная природа Тибета производила неизгладимое впечатление на европейских путешественников. Ее величие и красота поражали и самих тибетцев:3. Через каждые десять ли[2] другое небо
Тибет, страна гор, речных долин и пустынных плоскогорий, отличается резкими контрастами картин природы и климатических условий как между отдельными ее частями, так и между высокогорными и долинными участками в одной и той же местности. Тибетцы делят свою страну на три главных района: область Уй-Цзан, Центральный Тибет, простирающийся от Нгари-Корсум на западе до Кукунора; область Кам (Кхам), или Дотод, Восточный и Юго-Восточный Тибет, лежащий от Кукунора на восток до верховий Мачу (Хуанхэ); и область Амдо, или Домед, Северо-Восточный Тибет — от р. Мачу до Чортень-Карпо. Однако и сейчас, и раньше Тибет подразделяется на гораздо большее число областей, природные условия которых мы ниже вкратце и охарактеризуем. В верховьях рек Синги (Инда) и Лангчена (Сатледжа) расположены крайние западные области Тибета — Ладак, граничащий с Кашмиром, Балтистаном и Гильгитом, и Малый Тибет, Нгари-Корсум, «Три района Нгари» — Гуге, Маръюл и Пуранг. Несмотря на абсолютную высоту этих районов, горы здесь не очень высоки, часто они напоминают холмы. Ширина рек невелика: Инда около 70 м, Сатледжа — 50 м. В пределах Тибета Инд везде можно перейти вброд. Эти области отличаются обилием пресной воды и хорошими пастбищами. Климат здесь умеренный. Среднегодовая температура в Ле (Ладак) 4,4 °C; средняя температура января — 7–8 °C, июля + 15,2 °C. В Западном Тибете теплое лето. Нгари, например, славится своими абрикосами и жужубом. Центральная часть Тибета, которая, собственно, и называется Бод, начинается далее на восток от р. Тисе и оз. Манасаровар и тянется по обеим берегам р. Цангпо (Брамапутры). В долине Цангпо расположены две самые важные области Тибета — Цзан на западе, с городами Шигацзе и Гьянцзе, и Уй со столицей Тибета Лхасой, находящейся в плодородной долине северного притока Цангпо, р. Кичу. К востоку от Уй, вниз по течению Цангпо, лежат области Дагпо, Конгпо и Ньянгпо. К югу от Цангпо, в том месте, где в нее с севера впадает р. Кичу, расположены области Ярлунг и Лхобраг, районы, удобные для земледелия и славящиеся обилием лесов. В целом это области, имеющие благоприятный климат. В Лхасе средняя температура января 0 °C, июля +16,7 °C. Здесь растут апельсиновые деревья, но плоды не вызревают. Пастбища Южного Тибета имеют постоянный и довольно богатый травяной покров. В долине р. Цангпо золотые поля ячменя перемежаются речными поймами, зеленеющими сочной травой. Склоны гор заросли можжевельником, серебристыми пихтами. Лесами особенно славится лежащий к северу от Лхасы Раден. Луга пестрят множеством цветов, ниже — повсюду рощи ив, тополей, кипарисов, встречаются грецкий орех и бамбук. Реки и озера изобилуют рыбой, болота и речные заводи — водоплавающей птицей. Недаром, например, долина р. Нагчу называется у тибетцев «землей лакомств», а сама река — «рекой вкусной воды». Очень благоприятны условия для посевов риса в Конгпо. Это вообще благодатный край, здесь так много диких персиков и абрикосов, что ими часто кормят свиней. Чем дальше на восток по долине Цангпо, тем благоприятней климат и щедрей земля. Соседний с Конгпо район Поюла (Пово), покрытый девственными лесами с гигантскими деревьями, граничит с верховьями рек Янцзы, Салуэн и Меконг, где раскинулась богатейшая часть Тибета — страна Кам с областями Дерге, Ньяронг, Санген, Цзаваронг, Дзаюл и др. Здесь «к голубой выси неба поднимаются скалистые цепи гор, между которыми глубоко залегает лабиринт ущелий со стремительно бегущими ручьями и речками. В замечательно красивую, дивную гармонию сливаются картины диких скал, по которым там и сям лепятся роскошные рододендроны, а пониже ель, древовидный можжевельник, ива; на дно, к долинам рек сбегают дикий абрикос, яблоня, красные и белые рябины. Все это перемешано массою разнообразнейших кустарников и высокими травами» [18, 10]. В долинах здесь нередко умеренно жаркий субтропический климат, хотя в целом, как и в Южном Тибете, температура, в особенности летняя, зависит от высоты местности над уровнем миря. В г. Чамдо, лежащем на высоте 3910 м, средняя температура января +0,5 °C, июля + 18,1 °C, в Кандине, расположенном на высоте 2560 м, средняя температура января +1,1 °C, июля +18,1 °C. Это самые богатые и плодородные области Тибета. Районы Восточного Тибета подвержены частым землетрясениям. Это породило у местного населения легенду о том, что эта область Тибета лежит как раз над головой гигантской рыбы Ньядинбаба, которая держит на себе всю землю. Иногда, устав держать землю, рыба шевелится, вертит головой, и от этого земля в Восточном Тибете колеблется чаще и сильнее, чем в других местах [26, 16]. Цаньян Джамцо вспомнил эту легенду, когда преодолевали последний перевал и чуть не попали в камнепад — обрушившаяся с соседней горы лавина заставила дышать и стонать горы, как при землетрясении. Четырнадцать дней караван шел на северо-восток от Лхасы и на четырнадцатый день, перевалив через Ньянчен-Танглу, прибыл в Нагчу. Цаньян Джамцо был вывезен из Внутреннего Тибета, Боднанг, и оказался во Внешнем Тибете, Бодчий. Из-за таяния снегов в горах и дождей р. Нагчу разлилась. Когда переправлялись через нее, вода доходила до седел лошадей, а малорослые лошади одолевали реку вплавь вместе с вьюками. Долина реки была окружена невысокими холмами. Цаньян Джамцо остановился в монастыре Шабден, на третьем этаже которого содержалась специальная комната на случай возможных приездов далай-ламы или панчен-ламы. Нагчу стоит на перекрестке многих дорог, ведущих в Лхасу из Монголии и Китая. Поселок небольшой и грязный. Выделяется только двухэтажный дом правителя округа, снаружи, перед дверьми которого висят плети для наказания виновных. Быстро темнело. В комнату вползала такая мгла, что, казалось, ее можно было потрогать руками. Надвигалась гроза. Было душно, откуда-то издалека доносились раскаты грома. Ветер крепчал. Набегавшие тучи озарялись отсветами грозовых разрядов. И вдруг все вокруг загрохотало, где-то совсем рядом задрожали стены и пол комнаты. Дрожали горы, дрожала сама земля, сотрясаемая могучими ударами грома. Яркие извилистые молнии рвали тучи на части, но те снова быстро смыкались, окутывая еще более плотной пеленой мрака все лежащее под ними. Наконец хлынул дождь. Стремительные потоки неслись по улицам, унося кучи отбросов и хлама, подмывая изгороди и прорывая посреди улицы глубокие канавы. Стены монастыря надежно укрывали от дождя. На дворе под навесом, в месте, отведенном для слуг и стражи, горел огонь. Несколько пастухов сидели у очага, и один из них напевал:II. ЛЮДИ
То, что объединяет тибетцев, — это их цивилизация.Р. А. Стейн
Бокал для Роджера Фэрнивалла, потому что он — ученый и желает добра любой цивилизации.Джон Уэйн. Зимой в горах
1. Горная ведьма и царь обезьян
Тибетцы, возможно, единственный народ мира, который до появления теории Дарвина связывал свое происхождение с обезьяной. Согласно одной из легенд, их прародителями были царь обезьян и горная ведьма. Преобразованная буддийской традицией, эта легенда рассказывается в средневековых тибетских сочинениях в нескольких вариантах, один из которых следующий.[3] У бодхисаттвы Авалокитешвары была в учениках обезьяна, которая могла творить разные чудеса. Посланная в Тибет заниматься созерцанием, она стала там царем многочисленных обитавших в тех краях обезьян. Здесь-то царя обезьян, прославленного своей красотой, заметила и воспылала к нему жгучей страстью демоница скал, горная ведьма, предложившая царю обезьян стать ее мужем. Принявший ранее монашеский обет царь обезьян всячески противился этому, но горная ведьма, одержимая любовью, стояла на своем:2. Он явился, испытывая сострадание к черноголовым
Первый легендарный тибетский государь — цэнпо, Ньятри-цэнпо, был сыном небесного божества (Лха) и спустился с неба по священной горе-лестнице, соединяющей небеса и землю. Он пришел по призыву людей, чтобы управлять ими. Его титул «цэнпо» свидетельствовал о его связи и с божеством Цэн, которое в отличие от Лха, принадлежавшего к небесной сфере Нам, относилось к промежуточной сфере Бар и жило среди людей. Люди обратились к нему с просьбой: «Поскольку ты — цэнпо, сошедший с неба, мы просим тебя быть нашим правителем». Они возвели его на трон и стали чествовать как государя — джалпо. Позднейшая буддийская традиция пыталась представить Ньятри-цэнпо в качестве правителя, ведущего свой род из Индии, от знаменитых Шакья, со времен Будды Шакьямуни. По легендарным представлениям, Ньятри-цэнпо обладал необычной внешностью. Глаза у него были, как у птицы, брови из бирюзы, зубы, как белая раковина, усы, как у тигра, между пальцами рук и ног были перепонки, как у гуся. В описании внешности Ньятри-цэнпо отразился тотем клана цэнпо, в котором преобладающими являлись черты, присущие птице. Источники подтверждают, что нижний Ярлунг был местом обитания тибетского клана Бья, клана птицы [64, 210–211].3. Великий Тибет
Утро выдалось на редкость солнечным и светлым. После ночной грозы воздух был свеж и прозрачен. Высвеченные в этом прозрачном воздухе солнцем вершины гор как бы приблизились и вплотную подошли к монастырю и реке, все еще не успокоившейся после дождя. Где-то там, за монастырской стеной, слышались голоса людей, хрюкнул як. В комнату проник запах хорошо сваренного чая, видно, повар не поскупился на чай и на масло. Сейчас ему подадут завтрак, и караван снова тронется в путь. Однако время шло, но подавать завтрак никто не спешил. Никто как будто и не собирался в путь. Не было слышно возбужденных голосов, брани и шуток, столь обычных при хлопотах по сбору каравана в дорогу. Дверь в комнату открылась, и появился начальник конвоя. Монгол старательно, далеко высунул язык, растопырил пальцы рук и почтительно склонился в тибетском поклоне. Не зная, как обратиться к низложенному божеству, он молча протянул Цаньян Джамцо бумагу. Это был приказ Лхавзан-хана начальнику конвоя задержаться на несколько дней в Нагчу для окончательного определения маршрута следования каравана с бывшим далай-ламой. Квадратный оттиск печати удостоверял подлинность документа. Может быть, есть еще какая-то надежда? Обрадованный хорошим, свежим утром и неожиданным отдыхом, Цаньян Джамцо совсем не как пленник, а как былой повелитель всех этих людей приказал: — К чаю подать чуру. После того как поем, проводите меня в монастырскую библиотеку! Завтрак подали обильный и вкусный: вареная и сушеная баранина, тибетская колбаса из кишок, начиненных кровью, осердием и цзамбой. Цзамба, ячменная мука, и сушеный творог — чура были свежими, чай крепок и щедро заправлен достаточно долго выдержанным маслом, именно так, как он любил. Стол сервирован китайским фарфором. Подливая в пиалу чай, слуга всякий раз гнулся в почтительном поклоне и приговаривал: — Сол-джа-ше! Сол-джа-ше! Пейте, пожалуйста! Этак они повезут его назад, в Лхасу, да еще в паланкине. Вот она, сила печати! Да, печать, печать! Наделенный магической силой, бесстрастный кусок металла, смоченный тушью, равнодушно заверяющий присутствие и добра и зла:4. Торжество буддизма
К сожалению, «дыра» в истории Тибета, образовавшаяся из-за отсутствия, и, очевидно, слабой изученности сохранившихся местных материалов конца IX — середины XIII в., во многом продолжает оставаться и в наши дни. Здесь еще должны сказать свое слово историки Тибета. Но некоторые основные тенденции и итоги развития страны в этот период достаточно ясны. Прежде всего, эти четыре столетия были периодом подлинного торжества буддизма в стране. Изгнанный из Центрального Тибета, буддизм закрепился на окраинах и одержал там свои первые решающие победы, и прежде всего в Амдо. Полагают, что гонения на буддизм в Центральном Тибете длились приблизительно 70 лет. Монастыри Амдо удержались, и этот прежде отсталый район страны дал своих подвижников и проповедников, среди которых особенно прославился Гонгпа Рабсал. В X в. было положено начало сращению религиозной и светской власти и концентрации ее в отдельных районах в руках одной семьи, члены которой были как светскими правителями области, так и главными духовными наставниками ее. По мере распространения буддизма вширь — среди подавляющего большинства населения страны, и вглубь — большего постижения как таинств веры, так и тех преимуществ, которые буддизм, как и всякая мировая религия, давал господствующему классу феодалов для укрепления своего господства над крестьянами и скотоводами, — каждый местный центр заводил свой монастырь и воспитывал своих проповедников, обучая их в Тибете или в Индии. Так, сидевший в Самьяй Ешей Джалцан, потомок Одсрунга, послал в Амдо учиться у Гонгпа Рабсала десять юношей, которые, пройдя курс обучения, вернулись домой и восстановили в Самьяй полузабытую веру на должном уровне. В X–XII вв. тибетские правители столь же активно посылали тибетских монахов учиться в Индию и приглашали в Тибет из Индии знаменитых пандитов. Это укрепило в Тибете позиции буддийской школы махаяна. Во второй половине X в. процветал монастырь Тхолинг в Нгари, в котором трудились знаменитые переводчики Ринчен Зангпо и Легпа Шейраб, получившие образование в Кашмире. Правитель Нгари передал свои права на управление областью младшему брату, а сам стал главой буддийской общины под именем Ешей Од. В 30-х годах XI в. он в первый раз пригласил в Тибет знаменитого в Индии буддийского проповедника, пандита из монастыря Викрамашила в Магадхе Атишу, но тот отказался. В Нгари в это время было неблагополучно. Шла война с некими гарлоками, с которыми связывают тюрок-карлуков, тем более что гарлоки жили к северо-западу от Нгари. Ешей Од попал в плен. В качестве выкупа за него победители потребовали такое количество золота, которое было бы равно весу пленника. Возможно, Ешей Од был человеком солидного веса, так как жители Нгари собрали все золото, имевшееся в области, но и его не хватило на то, чтобы выкупить главу буддистов. По преданию, Ешей Од предпочел умереть в плену, а собранное для его выкупа золото завещал потратить на вторичное приглашение Атиши. Чангчхуб Од, племянник Ешей Ода и его преемник, отправил новых послов в Индию. Атиша принял приглашение. С главы тибетской делегации Нагцо взяли клятву, что он через три года доставит Атишу обратно живым и невредимым. И вот в 1041 г. с 24 учениками Атиша пересек с юга на север Непал, а в 1042 г. прибыл в Западный Тибет, в монастырь Тхолинг. Через три года Атиша выехал из Тхолинга и двинулся в обратный путь. По дороге он остановился в Пуранге, где к нему присоединился Бром Тонпа, ставший его учеником. Однако выехать из Тибета Атише не удалось. В Кьяронге, на границе Тибета с Непалом, выяснилось, что путь в Индию отрезан из-за беспорядков в Непале. Атишу пригласили в Центральный Тибет. Вначале он жил в монастыре Самьяй, а затем в монастыре Тхангпоче. Через некоторое время, посетив Лхасу, Атиша обосновался в другом монастыре, Ньетханг, где прожил несколько лет и скончался в 1054 г. В отличие от старых последователей Падмасамбхавы, составивших секту Ньингмапа, последовательницу тантрического течения в индийском буддизме, приверженцы Атиши основали новую секту — Кадампа, с которой позднее была связана Гелугпа, главная секта тибетского буддизма, возглавляемая далай- и панчен-ламами. В эти же десятилетия оформляются другие буддийские секты Тибета. Создание сект закрепило торжество феодальных отношений в Тибете в идеологической сфере. Это была эпоха процветания «знатных домов» и монастырей, как правило управлявшихся теми же знатными домами. Религиозная власть стала передаваться по наследству от дяди по отцу к племяннику в одной и той же семье. Одни братья женились и продолжали род, другие становились монахами, и вся округа, насколько хватало сил и влияния, оказывалась в руках одного семейного клана, контролировавшего буквально все. В свою очередь, кланы не отказывались от возможности породниться друг с другом. Так, основатели Сакья, Кхоны, были связаны родственными узами с Че, державшими в своих руках монастырь Лхалу по соседству с Сакья. Позднее эти семьи вступили в альянс с правителями Гьянцзе. Семья Пхагмоду в союзе с кланом из Ланга и семьей из клана Гар фактически господствовала в Каме. Пхагмоду позднее закрепились в Дерге. Укреплению власти отдельных семей служила и зарождавшаяся в эти годы в секте Кармапа система взглядов о последовательном перевоплощении одного и того же лица, принятая позднее далай- и панчен-ламами [87, 53]. Постепенно монастыри стали подчинять себе светскую власть. Лишь в Гугэ и Ладаке сохраняли силу местные династии да на крайнем северо-востоке, в районе Кукунора, на короткое время сложилось государство, основанное Джалсе (Цзюзсыло), погибшее позднее, в XII в., в войнах с тангутским государством Да Ся, китайцами и чжурчжэнями. Остатки владений Джалсе составили ядро княжества Лин, игравшего впоследствии важную роль в истории этого региона.5. Чтобы обратить монголов в нашу веру, я должен одеваться, как монгол
Проведя несколько дней за чтением «Голубых анналов», Цаньян Джамцо как бы заново пережил то многое из великого прошлого своей страны, о котором он не раз слышал и читал в раннем детстве, но чему, к стыду своему, не придавал никогда большого значения, относя все это к той премудрости, которой его пичкали учителя, готовя к принятию монашеского обета. Думы о прошлом возвращали к настоящему, и становилось еще горче на душе от сознания того, что многое уже сделано не так, а самое важное, конечно же, не сделано совсем. Теперь поздно, чужеземное вмешательство лишило его не только радостей свиданий в Лхасе и Шоле. Он отстранен от дел, а значит, и от возможности взять в свои руки судьбы своей страны. Ветер с севера — он всегда приносит несчастье:6. Некие с «Переправы свиньи»
Пхамо Друпа (или Пхагмодупа) значит «Некто с переправы свиньи». Это было имя монаха Дордже Джалпо, родом из Кама, который в 1158 г. построил свой отшельнический скит у перевоза «Переправа свиньи», неподалеку от Цзетана. Вскоре там же появился монастырь Тхел, и при Пхагпа-ламе из этого монастыря был назначен первый трипон данного района, Дордже Пал, местопребыванием которого стал Недонг (Ун). Семья Ланг, к которой принадлежал Дордже Пал, захватила в свои руки власть в этом трипоне. Один из сыновей в семье Ланг всегда становился монахом и настоятелем монастыря Тхел, а другой — трипоном. Чангчуб Джалцан также был из этой древнейшей семьи. Он получил образование в Сакья и двадцати лет занял пост трипона в Недонге вместо своего дяди. В 1322 г. ему был торжественно вручен символ власти — печать из сандалового дерева, и он прибыл из Сакья в Недонг. Чангчуб Джалцан активно взялся за дело: он уменьшил налоги, обязал крестьян высаживать в долинах деревья, чтобы сохранить плодородие участков, заботился о дорогах, насколько это вообще в то время было возможно в Тибете, и построил мост через р. Шамчу. Одновременно он приступил и к осуществлению своего тайного замысла отколоться от Сакья. Он укрепил все поселения в своем трипоне, превратив некоторые из них в неприступные крепости. Для начала Чангчуб решил расквитаться с соседями. Еще до его правления трипон соседнего Цзана (Язанга) захватил у Недонга 280 семей крестьян с землей и не отдавал их обратно. Подготовившись к борьбе, Чангчуб напал на Цзан и вернул потерянное. О стычке между двумя трипонами из-за крестьян и земли стало известно пончену, тем более что к этому моменту Цзан получил поддержку другого трипона, Цальпы, и они совместными усилиями одолели Чангчуба, снова отобрав у Недонга землю и крестьян. Пончен и иерарх Сакья решили спор справедливо, в пользу Чангчуба, но, видя его чрезмерное усиление и сепаратистские устремления, пончен решил на всякий случай сместить Чангчуба. По его приказу Чангчуб был смещен с поста трипона, а так как он отказался покинуть его добровольно, то вскоре и арестован. Чангчуб ни за что не хотел отдавать новому трипону врученную ему ранее сакьяским иерархом и понченом сандаловую печать. И вообще он не хотел признавать нового трипона Недонга Соднам Джалцана, ссылаясь, что очень любопытно, в первую очередь на то, что тот не является его родственником, а следовательно, не имеет и права на должность, передаваемую по наследству в семье Ланг. Даже под пытками Чангчуб не отказался от своих слов и намерений. Сакья не решились казнить Чангчуба, опасаясь восстания в области Уй, и отпустили его домой. Но между трипонами Уй и Цзан начались новые, еще более ожесточенные свары и сражения. Чангчуб вновь напал на Цзан и в 1351 г. одержал над этим трипоном победу. В Сакья поняли, что пора принимать более действенные меры, если сакьяские иерархи хотят удержать власть над Тибетом. Был упразднен ряд трипонов, и теми областями, трипоны в которых были упразднены, стали управлять прямо из Сакья. Разумеется, коли все это было затеяно из-за Чангчуба, то и его трипон был упразднен первым. Но в Сакья или опоздали, или переоценили силу центральной власти в Тибете вообще. Чангчуб и еще кое-какие трипоны, например трипон Ярдок, не подчинились и готовы были оказать вооруженное сопротивление высланным в непокорные районы войскам Сакья. Вместе с тем авторитет власти Сакья (духовной и светской), за которым стояли, пусть и далекие, и уже битые в Китае монголы, был все еще прочен. Чангчуб, заняв крепости и подготовив войска к обороне, сам все же вышел на переговоры с Гава Дзангпо, представителем Сакья и главой карательных войск. Чтобы не отдавать столь милую его сердцу сандаловую печать трипона, он попросту предварительно сжег ее. Но на этот раз Чангчуб просчитался. Как только он явился в лагерь карателей, его немедленно арестовали, а войска, лишившись командира, не решились вступить в бой с правительственными отрядами. Чангчуба увезли в небольшой городок подле монастыря Сакья, где он снова попал в руки палача. Его опять жестоко пытали, а потом бросили в тюрьму. Врагам мало было сломить тело Чангчуба, они хотели сломить его дух. Почти все время он находился в колодках на улице, и прохожие забрасывали Чангчуба грязью. Казалось, что Чангчуб наконец-то сломлен. Но однажды он взял брошенный в него комок грязи, съел его на глазах сбежавшейся толпы и сказал: — Да, сейчас я ем грязь Сакья. Но скоро точно так же я буду есть самих Сакья [82, 80]. Действительно, вскоре вспыхнула распря между арестовавшим Чангчуба Гава Дзангпо и другим высшим сановником Сакья, Вангцоном. И Гава Дзангпо отпустил Чангчуба, надеясь обрести в нем своего союзника. В 1352 г. Чангчуб возвратился в Недонг и уже совершенно открыто восстал против власти Сакья. Монголы были далеко и уже ничем не могли помочь своим духовным наставникам иерархам Сакья. Войска Чангчуба оккупировали ненавистный Цзан и область Тхангпоче, в результате чего почти весь Уй и Цзан оказались в руках Чангчуба. Сакьяские иерархи, занятые внутренними ссорами, не смогли помешать ему. Более того, как только Вангцон одержал верх и добился отставки Гава Дзангпо, Чангчуб под предлогом оказания помощи «благодетелю», некогда выдавшему его палачу, пошел со своими войсками на запад, на Сакья, и овладел им, а значит, и всей верховной властью в Тибете. Он сместил правящего иерарха Сакья и уволил в отставку 100 чиновников, ведавших делами по всему Тибету, а Вангцона посадил в тюрьму. Затем он провел административную реформу и, понимая, что многие трипоны давно уже стали полунезависимыми, как и он сам в недавнем прошлом, ликвидировал все 13 трипонов, т. е. целиком упразднил весь централизованный аппарат Сакья по управлению Тибетом и ввел деление страны на многочисленные округа — дзоны, раздробив тем самым власть на местах. Во главе дзонов он поставил дзонпонов — правителей округов из преданных ему людей. В важнейших районах Тибета Чангчуб поставил свои гарнизоны, а на границах с Китаем — войска. Был проведен передел земли, в результате которого все противники Чангчуба были ослаблены и экономически, а для крестьян введена твердая ставка поземельного налога в размере шестой части урожая. Для улучшения сообщения внутри страны, ибо в Тибете дороги значили очень много, Чангчуб ввел на всех больших реках службу переправ на лодках, сделанных из шкур яков, а в местах, пользующихся недоброй репутацией из-за обилия разбойников, была улучшена служба охраны путников. На больших караванныхдорогах были открыты дома для ночлега, особенно для паломников, уже и тогда многочисленных в Тибете. Чангчуб отменил судопроизводство Сакья, которое основывалось на обычаях монголов, и восстановил то уголовное право, которое действовало в Тибете при великих цэнпо древности. В 1364 г. Чангчуб скончался. Ему наследовал его племянник, и в последующие годы власть над Тибетом оставалась в руках династии Пхагмоду. В конце XIV — начале XV в. каких-либо заметных контактов с царствовавшей в Китае династией Мин Тибет не поддерживал. В 1407 г. седьмой перерожденец секты Кармапа был в Китае в качестве наставника веры. В годы Юн-лэ (1403–1424) в Китай приглашали и знаменитого монаха Цзонхаву (1357–1419), ученики которого основали секту Гелугпа — «Те, кто следуют истинным трудам». Цзонхава в Китай не поехал, а послал туда своего ученика Джамчен Чхойдже Шакья Ешея, который стал личным ламой китайского императора. Как пишет Шакабпа, «заявление, что китайские императоры династии Мин (1364–1644) унаследовали права на Тибет от своих монгольских предшественников, исторически не обосновано» [82, 73]. Власть дома Пхагмоду над Тибетом держалась до 1434 г., когда после смерти Гонгма Дракпа его племянники начали борьбу за власть, положив начало периоду в истории Тибета, названному «Крушение дома Пхагмоду». Главным и важнейшим по последствиям событием тех лет было основание секты Гелугпа. Считая себя последователем Атиши, Цзонхава делал упор на необходимость монашеской дисциплины и постепенного продвижения различными способами по пути к полному освобождению от страданий. Вначале Цзонхава был монахом секты Кадампа («Старая Кадампа») в Радене, где в 1403 г. он и написал свой знаменитый труд «Большой ламрим», а затем его ученики основали новую секту. Они назвали секту вначале «Новая Кадампа», и только позднее она получила наименование Гелугпа [87, 57]. Новая секта заявила о себе в 1409 г.: было проведено первое большое религиозное празднество — монлам в Лхасе, впредь многие века проводившееся там ежегодно с 15-го дня первого месяца года, а также основан монастырь Галдан, первый монастырь секты Гелугпа в Центральном Тибете. В 1416 г. ученик Цзонхавы Джамджан Чхойдже Данги Палден (1379–1449) основал другой знаменитый монастырь Гелугпы, Дрепунг (Брайпунг), ставший самым большим монастырем Тибета. Наконец, уже упоминавшийся другой ученик Цзонхавы, Джамчен Чхойдже Шакья Ешей, который имел китайский титул «вана религии», основал в 1419 г. третий большой монастырь секты Гелугпа в Тибете — Сера. Все эти монастыри стали своего рода университетскими городами с различными факультетами (см. стр. 246, 247). Несмотря на поддержание традиций тантр, конечная суть деятельности Цзонхавы состояла в укреплении монашеской дисциплины. Вероятно, в этом в значительной мере и заключался успех новой секты, хотя подлинные причины ее относительно быстрого распространения по стране еще не изучены. Старые связи с сектой Кадампа, конечно, обеспечили благосклонное отношение к новой секте правителей династии Пхагмоду. Не случайно главные монастыри секты Гелугпа были заложены в Уй, вотчине династии Пхагмоду. Монастыри Гелугпы были построены также в Каме, Чамдо (в 1436–1444 гг.) и даже в Цзане (Ташилунпо, 1447 г.), но в Цзане секта Гелугпа не смогла стать господствующей. Здесь сидели феодалы, оппозиционные Пхагмоду и опиравшиеся на секту Кармапа, которая подразделялась на «Черные шапки» и «Красные шапки». Власть в Цзан была в руках клана Ринпунг, обосновавшегося в Шигацзе. Кармапа хотела построить свой монастырь подле Лхасы, но монахи из секты Гелугпа помешали этому. В 1480 г. войска клана Ринпунг вторглись в Уй и захватили там несколько округов. Началась война. К 1491 г. Ринпунги захватили Гьянцзе, а в 1492 г. их войска во главе с Доньо Дордже вступили в Лхасу. Ринпунги удерживали за собой Лхасу до 1517 г. Все эти годы в Лхасе торжествовала секта Кармапа, и монахам монастырей Гелугпы — Галдан, Дрепунг и Сера — запрещалось участвовать в монламе. В конце XV — начале XVI в. Ринпунги фактически правили Тибетом, контролируя весь Цзан и большую часть Уй. Тем не менее власть Ринпунгов оказалась и недолгой и непрочной. Пхагмоду все еще сидели в своем Недонге и удерживали за собой часть Уй. В 1515 г. от Ринпунгов отпал Шигацзе, захваченный их бывшим сторонником Цетон Дордже. Овладев Шигацзе, Цетон Дордже вступил в союз с Недонгом. В 1517 г. Ринпунги были изгнаны из Лхасы. В эти внутренние войны постепенно втягивались все светские и духовные феодалы Тибета. И то те, то другие стали прибегать к поддержке извне. На горизонте снова появились монголы. В конце XV — начале XVI в. они заселили районы Кукунора. Росла их сила и приверженность буддизму, и нередко они стали участвовать в борьбе феодалов и религиозных сект Тибета.7. Далай-ламы, монголы и маньчжуры
Цаньян Джамцо, конечно, мог задуматься над тем, когда монголы вообще появились в Тибете, но он не мог не знать, что своей властью далай-ламы если не целиком, то во многом были обязаны монголам. В XVI в. власть монгольских племен в Центральной Азии усилилась. Утверждалось и влияние буддизма среди монголов, особенно в среде господствующего класса. Тибетские секты вели успешную проповедь среди монголов, и все чаще главы сект и различные тибетские феодальные группировки, как уже отмечалось, пытались привлечь на свою сторону те или иные монгольские племена при решении внутренних споров. Так, Кармапа и феодалы Цзан поддерживали контакт с Даян-ханом (1470–1545). Не были в стороне и Сакья. Но наибольших успехов у монголов добилась секта Гелугпа, все более гонимая в своей стране. Монахом, объявленным позднее первым далай-ламой, был Гедун Дуб (1391–1474), уроженец Шабтода в Цзане. В 1415 г. он стал учеником Цзонхавы, а в 1447 г. основал в Шигацзе монастырь Ташилунпо. Идея перерожденцев, перевоплощенчества, вечной жизни духовной субстанции какого-то святого зародилась в Тибете еще в период господства Сакья. Обычно все видные перерождения в конечном итоге возводятся к временам Будды, к нему самому или к какому-либо из его учеников. Однако легендарные на первых порах, они, как правило, с определенного момента имеют конкретную историю. Если перерождения далай-лам восходят к Авалокитешваре, то это еще не значит, что далай-ламы являются прямыми перевоплощенцами, повторяющими каждый раз Авалокитешвару. Как и все прочие перерожденцы, далай-лама является перевоплощением исторического лица, которое в своей предшествующей жизни было звеном в цепи родословной, вначале исторической, а затем восходящей к святому мифических времен. Первый далай-лама, Гедун Дуб, который был назван первым через сто лет после смерти, был уже 51-м перерожденцем Авалокитешвары. В цепи этих перерождений 45-м был Бром Тонпа, ученик Атиши, а 26-м некий раджа Индии Гесар. Авалокитешвара, исходная точка перерождений, просто всегда присутствует в далай-ламе, как солнце, отражающееся в разных каплях воды, но каждый далай-лама в первую очередь является перевоплощением своего исторического предшественника, а не непосредственно Авалокитешвары. Перевоплощением Гедун Дуба был позднее признан Гедун Джамцо (1475–1542), уроженец Цзана. Он основал монастырь Чокхорджал в ста километрах от Лхасы, у озера, которое использовалось для предсказаний будущего. Но подлинным первым далай-ламой был III Далай-лама Соднам Джамцо (1543–1588). Он родился вблизи Лхасы и был сыном правителя дзонга — уезда. В 1547 г. он стал настоятелем монастыря Дрепунг, заняв пост, который ранее, с 1517 г., занимал II Далай-лама. В 1559 г. Соднам Джамцо посетил Недонг и получил от местного правителя, представителя увядшей династии Пхагмоду, печать и красную тушь — символы власти. В 1562 г. произошел небывалый по силе разлив р. Кичу и вся Лхаса оказалась затопленной. Соднам Джамцо ввел поэтому обычай, который требовал, чтобы все монахи в последний день ежегодного праздника монлам, праздника начала года, работали на ремонте дамб, отгораживающих город от реки. В 1569 г. Соднам Джамцо прошел курс наук в монастыре Ташилунпо, после чего оставил там своего представителя. В середине 70-х годов XVI в. Соднам Джамцо получил первое приглашение от хана монголов-тумэтов Алтан-хана посетить Монголию. По высокомерной традиции историков тибетского буддизма, первое приглашение было якобы отклонено, но за ним последовало второе, прибыла большая делегация с верблюдами, лошадьми и прочими дарами. Гелугпа держалась только в области Уй. И в XVI в. так называемая желтая вера отнюдь не была господствующей в Тибете. Политическая власть явно оставалась в руках Кармапы и других сект. Гелугпа остро нуждалась в поддержке извне, и поэтому настоятель Дрепунга Соднам Джамцо в 27-й день 11-го месяца года огня-быка (1577 г.) выехал из своего монастыря на север. Его провожали монахи до долины Дам. Путь через Чантан зимой потребовал 170 дней, и только летом 1578 г. Соднам Джамцо прибыл в ставку Алтан-хана во Внутренней Монголии, район Хух-Хото, в Коко-Хотан — Голубой город. Здесь лама-монах «непревзойденной учености» и монгольский хан столковались между собой. Алтан-хану была нужна гибкая и не очень заумная вера, чтобы укрепить власть монгольских феодалов в степи. Гелугпе и ее представителю Соднам Джамцо нужна была поддержка монгольских отрядов для ниспровержения соперничающих сект в Тибете. В итоге этой встречи и появились на свет далай-ламы, а среди монголов стал широко насаждаться буддизм в трактовке его сектой Гелугпа. После серии торжественных приемов и выполнения различных религиозных обрядов Алтан-хан выпустил манифест в поддержку буддизма в Монголии: «Мы, монголы, сильный народ, потому что наши предки происходят от неба, и некогда расширили пределы своей империи даже до Китая и Тибета. Буддийская вера проникла в нашу страну в давние времена, когда мы оказали покровительство Сакья Пандита. Позднее был у нас император по имени Темур, в царствование которого наши люди лишились религии, а наша страна пришла в упадок. Казалось, океан крови залил землю. Нынешний Ваш приезд помогает буддийской вере ожить вновь. Наши взаимоотношения покровителя веры и ламы могут быть похожи на таковые у солнца и луны. Океан крови станет океаном молока. Тибетцы, китайцы и монголы живут сейчас в этих странах и могут исполнять десять заповедей Будды. Более того, с этого дня впредь я устанавливаю некоторые правила поведения для монголов. Прежде, когда монгол умирал, его жена, его личные слуги, принадлежавшие ему кони и вещи приносились в жертву. В будущем запрещаю это. Лошади и скот покойного с обоюдного согласия сторон могут быть отданы ламам и монахам в монастыри, а семья в первую очередь должна требовать от лам помолиться за умершего. В будущем я запрещаю приносить в жертву животных, жен и слуг для блага усопшего. Все виновные в совершении человеческих жертвоприношений будут наказаны по закону, а их имущество конфисковано. Если в жертву будут принесены лошади или другие животные, то конфискации подлежит в десять раз большее число животных, чем то, которое было убито. Любой, кто оскорбит монаха или ламу, будет сурово наказан. Запрещается в дальнейшем приносить кровавые жертвы и онгонам — изображениям умерших, а все существующие статуэтки — изображения их — должны быть сожжены или сломаны. Если мы узнаем, что кто-то тайно хранит такие статуэтки, мы разрушим дом того, кто скрывал их. Вместо них люди могут держать в своих домах изображения Ешей Гонпо, тибетского божества, и приносить ему в жертву вместо крови молоко и масло… Короче, эти законы, уже существующие в Уй — Цзан, должны вступить в силу и в этой стране» [82, 94–95]. Алтан-хан пожаловал Соднам Джамцо титул далай-ламы. Обычно считают, что «далай» — перевод на монгольский тибетского слова «джамцо», означающего «океан». Это должно было свидетельствовать о глубине и безбрежности учености и мудрости ламы, сравнимых только с океаном, тем океаном, который подавляющее большинство тибетцев и монголов и в глаза никогда не видели. Далай-ламе, третьему по позднейшему подсчету и первому по существу, ибо первые два получили этот титул задним числом, так сказать посмертно, была вручена монгольским ханом печать с надписью: «Дордже-чанг» — «Держатель Громового скипетра», а Соднам Джамцо одарил Алтан-хана титулом «Царь веры, Брахма богов» и предсказал, что через 80 лет потомки хана станут правителями всей Монголии и Китая. Торжественно был заложен монастырь Тхенгчен Чонкхор. На обратном пути Соднам Джамцо остановился в Ланьчжоу, где китайские власти просили его повлиять на Алтан-хана и посоветовать ему ослабить набеги на пограничные районы Мин. В Нинся (современный Иньчуань) к нему для успеха проповеди приставили трех переводчиков. Сюда же прибыли подарки, посланные для Соднам Джамцо императором Китая. Поступило и приглашение посетить столицу минского Китая. Соднам Джамцо в Нанкин не поехал, так как уже до этого решил посетить Кам, оплот бон и враждебных буддийских сект. Оставив своих постоянных представителей при монголах, Соднам Джамцо отправился в Кам, где в 1580 г. основал монастырь секты Гелугпа в Литане. В Чамдо его застало известие о смерти Алтан-хана. Дело было слишком серьезно, и Соднам Джамцо в 1582 г. вновь вынужден был возвратиться в Монголию. По пути на месте рождения основоположника своей секты Цзонхавы он основал монастырь Гумбум. В Монголии Соднам Джамцо оставался до 1588 г. и умер в том же году в дороге, по пути в Тибет. Тело его было кремировано, пепел привезен в Лхасу и помещен в монастыре Дрепунг, настоятелем которого он был. Дальнейший ход событий еще прочнее привязал секту Гелугпа к монголам. Перерожденец Соднам Джамцо был «найден» в Монголии и оказался не кем иным, как внуком Алтан-хана. Он и стал IV Далай-ламой Йонтан Джамцо (1589–1617). Двенадцати лет от роду в 1601 г. IV Далай-ламу привезли из Монголии в Лхасу, где и был совершен обряд интронизации. Вместе с Далай-ламой в столицу прибыл отряд монгольской кавалерии. Йонтан Джамцо учился в монастыре Дрепунг, но его учителем был Ловзан Чхойджан из монастыря Ташилунпо. Ловзан Чхойджан получил от IV Далай-ламы титул «Великий Учитель» (панчен-лама) и стал, таким образом, первым панчен-ламой, основав новую линию перерожденцев, духовных учителей далай-лам. Панчен-ламы и далай-ламы находились друг с другом в сложных доктринальных отношениях. Панчен-ламы считаются перевоплощениями непосредственного ученика Цзонхавы — Гедуба (1358–1438), т. е., по существу, первый панчен-лама был уже четвертым перерожденцем к тому моменту, как он стал именно первым панчен-ламой. Вместе с тем до своей человеческой жизни в Гедубе панчен-лама является и перерожденцем будды Амитабы, так же как IV Далай-лама до своего перерождения в Йонтан Джамцо является и перерожденцем бодхисаттвы Авалокитешвары. Амитаба и Авалокитешвара также состоят в отношениях специфического родства. Амитаба как будда (т. е. достигший нирваны, полного просветления, освобождения от страданий) пребывает в состоянии вечного покоя (бездеятельности). Миссию по спасению на грешной земле всех живых существ исполняет бодхисаттва (будущий будда) Авалокитешвара, своего рода эманация (истечение) Амитабы. Поэтому будду Амитабу и бодхисаттву Авалокитешвару можно образно назвать «отцом и сыном». Именно перед Амитабой Авалокитешвара произнес свой обет бодхисаттвы — помогать всем живым существам и особенно Тибету. Так что в плане доктринальном панчен-ламы могут претендовать на некоторый элемент старшинства перед далай-ламами. IV Далай-лама жил под постоянной угрозой со стороны секты Кармапа и правителей Цзана, от которых в тот момент зависела и Лхаса. Тем более что Кармапа тоже не дремала и нашла себе покровителя в Монголии в лице чахарского Лигдан-хана. Но в эти же годы Кармапа начала ослабевать из-за внутренних распрей в секте между «Черными шапками», засевшими в Амдо, и «Красными шапками», опиравшимися на Цзан. Тем не менее в 1605 г. в стычке с Кармапой IV Далай-лама потерпел поражение, и отряды Кармапы вошли в Лхасу. Монгольский отряд, пришедший с IV Далай-ламой из Монголии, был изгнан из города. Начался последний этап борьбы Гелугпы и Кармапы за власть над Тибетом, борьбы областей Уй и Цзан за гегемонию в стране. Кармапа одолевала, и правитель Цзан Карма Тенсунг Вангпо отхватил несколько округов от Уй, а значит, и новых налогоплательщиков. Положение IV Далай-ламы было отнюдь не блестящим. В 1606 г. он предпринял поездку на юг, ему оказали хороший прием в Недонге, но, когда он прибыл в Шигацзе, чтобы быть избранным почетным надзирателем монастыря Ташилунпо, Карма Тенсунг Вангпо, резиденция которого находилась в Шигацзе, не только не вышел встретить его, но и отказал ему в приеме. Тенсунг Вангпо скончался в 1611 г., и его сын Карма Пхунцог Намджал в качестве независимого правителя контролировал весь Цзан, Тох, Западный Тибет и часть Уй. Он не раз самостоятельно воевал с Бутаном. Далай-лама не имел над ним никакой власти. В 1617 г. IV Далай-лама умер в Дрепунге в возрасте 28 лет. Тело покойного кремировали, а пепел, как и жизнь его, поделили на две части — одна осталась в Дрепунге в серебряном чортене, другую увезли на родину, в Монголию. Пользуясь случаем, Пхунцог Намджал в 1618 г. напал на Лхасу и, несмотря на отчаянное сопротивление монахов монастырей Дрепунг и Сера и мирян, захватил и разграбил город. Людей погибло множество, трупы усеяли весь холм у монастыря Дрепунг. Оставшиеся в живых монахи секты Гелугпа бежали на север в монастыри Раден и Таглун. Ряд, правда не самых крупных, монастырей секты Гелугпа в Уй были силой превращены в монастыри секты Кармапа. В Шигацзе, прямо против Ташилунпо Пхунцог Намджал тоже построил монастырь Кармапы, который он многозначительно назвал «Подавление Ташилунпо». Кармапа торжествовала. Казалось, крах Гелугпы был близок и неминуем. Найденного в 1619 г. нового перерожденца Йонтан Джамцо, V Далай-ламу Нгагбан Ловзан Джамцо (1617–1682), тщательно скрывали от чужих глаз, и никто не знал, кто он и где находится. Пора было монголам спасать дело рук своих. В том же, 1619 г., в Тибет «возвратился» отряд монголов, якобы бывший там еще при IV Далай-ламе. А в 1620 г. монголы попросту атаковали войска Цзана. Силы были примерно равны, и после ряда боев при посредничестве панчен-ламы стороны пришли к соглашению. Лхаса была оставлена ничьей — ее покинули и монголы, и войска Цзана. Монастыри Гелугпы, прежде насильно преобразованные в монастыри Кармапы, снова стали монастырями Гелугпы. V Далай-ламу воспитывали в Южном Тибете, в округе Е. В 1625 г. он был рукоположен в монахи панчен-ламой. Руководство секты Гелугпа, недовольное своим шатким положением, приняло решение искать помощь у своих новых покровителей — джунгаров (калмыков). Три посла Гелугпы во главе с Соднам Чойпалом прибыли к джунгарам, чтобы побудить их начать религиозную войну с врагами веры. Это было тем более необходимо, что, по некоторым сведениям, правители Цзан даже предприняли попытку убить V Далай-ламу [54, 124]. Под лозунгом оказания помощи V Далай-ламе были предприняты военные действия под руководством двадцативосьмилетнего хошута Турубайху, имевшего титул Гуши-хана, полученный им от маньчжуров. Его поддержали джунгарский Баатур-Хунтай-джи и торгоут Урлук. Положение монгольских племен также не было стабильным. С начала XVII в. на Дальнем Востоке и в Центральной Азии громко заявила о себе новая сила — маньчжуры. Они вели войны в современной Маньчжурии, нападали на Китай и монголов. В 1631–1632 гг. маньчжурами было разгромлено Чахарское ханство. Среди монголов Кукунора усилилось влияние буддийских сект, враждебных Гелугпе. Кукунорскне монголы были не прочь в пику Гуши-хану и его сторонникам поддержать врагов Далай-ламы — правителей Цзана и иерархов секты Кармапа, Халхи стали постепенно склоняться в пользу маньчжуров, против Китая. Междоусобицы терзали джунгаров. Здесь верх одержали чоросы, кочевавшие по р. Или. Пятьдесят тысяч торгоутов ушли в эти годы в низовья Волги, положив начало волжским калмыкам. Хошуты начали перекочевывать на Кукунор. В этой сложной обстановке Гуши-хан не сразу двинулся в Тибет, считавшийся у монголов святой страной, несмотря на то что междоусобная борьба значительно облегчала проникновение в страну. Под видом паломников его люди были отправлены разведать состояние дел в Тибете. Со своей стороны, Соднам Чойпал уведомил руководство Гелугпы об обещанной монголами поддержке. Гуши-хан немного опоздал, но получил удобный предлог для начала войны. В 1635 г. один из монгольских ханов Кукунора, сторонник Кармапы, послал в Тибет своего сына Арслан-хана для искоренения секты Гелугпа. Десятитысячный отряд Арслан-хана был перехвачен в Амдо, у оз. Тенгринор, войсками Гуши-хана. Арслану ничего не оставалось, как вступить в бой или сделать вид, что он и не намеревался предпринимать ничего особенного. Он предпочел последнее и вступил в Уй под видом паломника, только с личной охраной, оставив войска у Тенгринор. Стало неясно, чью сторону он примет, и монахи Кармапы, ждавшие его с войсками и уже готовившие «варфоломеевскую ночь» своим собратьям из Гелугпы, на всякий случай бежали из Лхасы. В монастыре Дрепунг Арслан-хан имел неоднократные свидания с V Далай-ламой, и тот взял с него слово не предпринимать враждебных действий против Гелугпы. Взбешенный таким поворотом дела, правитель Цзаиа Карма Тенкьонг известил отца Арслана об отказе сына начать войну с Гелугпой. Это стоило Арслану жизни — он и двое его людей погибли от руки подосланных убийц. В порядке ответной акции Гуши-хан напал на отца Арслана и разбил его в битве при Оланго. Часть кукунорских монголов бежала на юг. Остальные подчинились хошутам. Управление монгольским населением Кукунора Гуши-хан разделил между своими девятью сыновьями. Покинутый своим командиром, отряд Арслан-хана не решился вернуться домой, и эти монголы остались кочевать у оз. Тенгринор, заселив долины Замар и образовав группу населения, известную в Тибете как согде. В 1638 г. Гуши-хан лично совершает паломничество в Тибет. V Далай-лама возвел его на трон перед статуей будды в храме Джокхан и дал ему титул «Хана веры» — охранителя буддизма. В свою очередь, Гуши-хан дал сановникам из свиты Далай-ламы монгольские титулы дзаса, тайджи, та лама, даян, которые тибетские чиновники высших рангов носили до середины XX в. V Далай-лама отказался поехать к монголам, но послал к ним с Гуши-ханом своего постоянного представителя. Разгром кукунорских монголов — чогтху, сторонников Кармапы, войсками хошутов Гуши-хана побудил правителей Цзана на решительные действия. Они заключили союз с Камом, где были все еще сильны сторонники бон во главе с Доньё Дордже, ставка которого находилась в Бери. Их переписка была перехвачена агентами Гелугпы. В одном из таких писем, направленных Доньё Дордже в Цзан, говорилось: «То, что наши союзники — племена чогтху уничтожены, большое несчастье. Однако на следующий год я подниму войска Кама и введу их в Уй. В то же самое время Вы должны двинуть Вашу армию из Цзана. Вместе мы искореним Гелугпу, так что и следов ее не останется» [82, 105–106]. Не исключено, что это была фальшивка, изготовленная в тайных кельях монастырей Гелугпы с целью обвинить Кармапу в сговоре с врагами буддизма, представителями религии бон. Как бы там ни было, выступление приверженцев бон на стороне Кармапы дало Гуши-хану повод для похода в Кам. Вместе с монголами в Кам вступили и отряды тибетского племени парик из Амдо. После года боев, в 1640 г., глава бон Доньё Дордже был убит, а весь Кам оказался в руках Гуши хана. Неясно, сам ли или по приглашению V Далай-ламы Гуши-хан из Кама вводит отряды чоросов и хошутов в Уй и Цзан. Сопротивление тибетцев было слабым, за исключением осады Шигацзе, столицы Цзана. В осаде Шигацзе участвовали и отряды V Далай-ламы, возглавляемые Соднам Чойпалом. В первом месяце 1642 г. после упорных боев форт Шигацзе и монастырь секты Кармапа пали. Путь монголов по Тибету сопровождался грабежами и разрушениями. Победа Гелугпы над врагами была отмечена в Лхасе водружением флагов и сожжением благовоний. Правитель Цзана был привезен в Лхасу и брошен в тюрьму. Затем V Далай-лама прибыл в Шигацзе. Здесь в монастыре Ташилунпо состоялась церемония передачи ему от имени Гуши-хана верховной власти над Тибетом, несомненно в подражание тому, что уже имело место в XIII в. Были выставлены три трона. На центральный воссел V Далай-лама, по бокам сели Гуши-хан и Соднам Чойпал. Гуши-хан торжественно объявил, что верховную власть над всем Тибетом, от Ладака на западе и до Дацзяньлу на востоке, он передает V Далай-ламе. Все административное управление отдавалось Соднам Чойпалу, получившему титул «деши», нечто вроде премьер-министра. Считалось, что сам V Далай-лама должен вмешиваться только в те светские дела, которые представляют особую важность. Правительство единого Тибета было названо Ганденг Пходранг, а Лхаса официально объявлена столицей страны. Установление правления V Далай-ламы над Тибетом с помощью монгольского оружия не прошло гладко. В Гьянцзе вспыхнуло восстание, руководимое сектой Кармапа. Затем восстало Конгпо. Восстания были жестоко подавлены объединенными усилиями монгольских отрядов Гуши-хана и войск правительства V Далай-ламы, руководимых Соднам Чойпалом. Содержавшиеся до этого и тюрьмах Лхасы лидеры Кармапы и феодалы Цзана были казнены. В 1643 г. V Далай-лама был признан в качестве главы Тибета Непалом и Сиккимом. Монголы и тибетцы вмешались в дела Бутана, где против правительства восстали монастыри. В 1645 г. в Лхасе начались работы по возведению дворца далай-лам Потала. Строительство велось на одном из господствующих над местностью холмов, на котором еще оставались руины от дворца Трице Марпо, построенного в 636 г., т. е. за тысячу лет до этого, Сонгцэн Гампо. В 1648 г. ряд монастырей враждебных сект были насильно преобразованы в монастыри секты Гелугпа. Все население Кама было обложено налогом в пользу V Далай-ламы. Еще в 1639 г. маньчжурский император, в то время стоявший ближе к монгольским ханам, чем к императорам Китая, послал в Лхасу Чахань-ламу с письмом, в котором извещал Далай-ламу о том, что он будет покровительствовать буддизму и заботиться о его распространении. Зимой 1643 г. столицу маньчжуров Мукден посетило посольство из Тибета, которому там был оказан хороший прием [76, 10]. В 1644 г. маньчжуры взяли Пекин. Гуши-хан написал письмо императору Ши-цзу с просьбой пригласить V Далай-ламу в Пекин и освятить завоевание. В 1647 г. Далай-лама и Панчен-лама направили маньчжурскому императору поздравления с победой и золотые статуи будды. В ответ на это Шейраб-гелон, представитель маньчжурского двора, прибыл в Лхасу и пригласил обоих великих лам в Пекин. Предложение было принято. Тибетская сторона уверяла всюду, что сбывается предсказание III Далай-ламы о том, что потомки Алтан-хана через 80 лет станут правителями Монголии и Китая. То, что речь шла о маньчжурах, а не о монголах, было отнесено к числу несущественных деталей, учитывая, с тибетской точки зрения, этническое родство тех и других. V Далай-лама надеялся найти в лице маньчжуров столь же могущественных покровителей, какими были для иерархов Сакья юаньские императоры, тем более что, обращаясь к монголам, маньчжуры действительно любили выдавать себя за прямых наследников этих императоров. Маньчжуры и принявшие их сторону китайцы видели в монголах, явно также шедших к усилению, соперников, которых вначале нужно было нейтрализовать, а потом и подчинить. И здесь они делали ставку на V Далай-ламу, религиозный авторитет которого в монгольских степях все более рос. Далай-лама должен был помочь маньчжурам в данный момент, хотя бы нейтрализовать неспокойных монголов, которые, того и гляди, могли стать соперниками если не в дележе Китая, то, во всяком случае, в установлении господства в Центральной Азии. В 1652 г. V Далай-лама выехал в Китай. В Пекин прибыло его письмо с просьбой к императору встретить его за пределами китайской империи. Ритуал встречи и приема имел решающее значение для отношений сторон, и поэтому-то из-за него сразу же началась глухая, вежливая борьба. Ши-цзу издал указ, в котором объяснял приглашение Далай-ламы не величием его духовной власти, а обычной политической необходимостью привести в покорность с его помощью монголов халхи, которые пока еще не были покорены. Император, конечно, и не думал встречать Далай-ламу не только за пределами империи, но и на ее границах, да и вообще в сколько-нибудь отдаленных от столицы пределах. В Нинся Далай-ламу посадили в желтый паланкин. Затем его встретил один из министров двора и пообещал, что, возможно, скоро и сам император прибудет для встречи. Местом такой встречи тибетцы предлагали Хух-Хото (Гуйхуачэн) или Дангэ. Сославшись на обилие разбойников, император не поехал ни туда и ни сюда, а прислал вместо себя одного из князей императорской крови. Вероятно (из китайских источников и это не совсем ясно), император встретил Далай-ламу где-то подле Пекина, но и то не предприняв специальной поездки с этой целью, а как бы оказавшись случайно на его пути во время охоты. При встрече цинский император и V Далай-лама обменялись рукопожатием и приветствиями через переводчика. Далай-лама, очевидно, ожидал не такого приема. Поэтому он заявил, что климат Пекина для него не подходит и он должен уехать. На это император ответил, что и он вначале страдал от пекинского климата, жаркого и влажного летом, а потом привык. Пусть Далай-лама поживет в Пекине и дождется весны, когда будет созван съезд монгольских князей. Далай-лама остался и был поселен в храме Хуансы, специально построенном к его приезду. От участия в съезде монгольских ханов Далай-лама уклонился и весной тронулся в обратный путь. По дороге он посетил монастыри Амдо. В семи днях пути от Лхасы Далай-лама был встречен Гуши-ханом и официальными лицами своего правительства и в том же, 1653 г., благополучно возвратился в Лхасу. В 1654 г. с целью укрепления положения секты Гелугпа Далай-лама вместе с Гуши-ханом совершил поездку по стране. Были выделены значительные средства на постройку и ремонт храмов и монастырей. По приблизительным подсчетам, в то время в Тибете было 750 монастырей Гелугпы с 50800 монахами [81, 251]. Одновременно со строительством велось и разрушение замков и крепостей феодалов, оказывающих сопротивление новой власти. В 1654 г. в возрасте 73 лет скончался Гуши-хан. Его сыновья Даши-Баатур и Даян-хан правили первые пять лет совместно, но в 1660 г. решили произвести раздел своих тибетских владений. Даян-хан остался в Центральном Тибете, а Даши-Баатур получил Кукунор. В 1668 г. умер Даян-хан. У него, однако, не нашлось достойных преемников, и власть монголов в Центральном Тибете с его смертью пошатнулась. Монгольский цзайсан, правивший вместо покойного хана, вскоре был брошен тибетцами в лхасскую тюрьму, где через год скончался. И хотя позднее, в 1671 г., Даян-хану наследовал его брат Кончог Далай-хан, он прежней властью, которой пользовались в Тибете его отец и брат, уже не обладал. Отныне секта Гелугпа в лице V Далай-ламы фактически управляла всей страной. По его приказу было введено форменное платье для чиновников, табель о рангах и указание, какая униформа соответствует каждому из чиновничьих рангов. Данный табель о рангах начал действовать с 1672 г. Очередное укрепление власти секты Гелугпа и V Далай-ламы и на этот раз не обошлось без волнений в стране. Вспыхнуло восстание в Каме, которое было потоплено в крови тибетскими и монгольскими войсками. Как можно видеть, буддисты воевали, отнюдь не пугаясь крови и жестокостей, сражаясь при этом не только во славу буддизма вообще, но и за право существования отдельных буддийских сект, которые часто любыми средствами стремились захватить и удержать власть. Как раз в эти годы в Китае поднял восстание против власти маньчжуров У Сань-гуй. Император Кан-си обратился к V Далай-ламе с предложением, чтобы монгольские и тибетские войска напали на армии У Сань-гуя, закрепившегося в пограничной с Юго-Восточным Тибетом Юньнани, с тыла, но V Далай-лама или не захотел вмешиваться в дела Китая, или не имел реальных сил для военных действий по соседству с только что замиренным Камом и ответил отказом. В его письме к Кан-си говорилось: «Всегда существовали отношения религиозного покровительства между маньчжурскими императорами и Далай-ламами. Ваш отец, император Шунь-чжи, был особенно добр и милостив ко мне в то время, когда я посетил Китай, и я всегда молюсь за мир и процветание Вашей страны. Однако я думаю, что тибетские солдаты окажутся недееспособными в Китае, так как они не смогут сражаться в Вашем климате. Монголы — хорошие бойцы, но их трудно держать под контролем, и Вы приобретете больше забот, чем пользы. И монголы, и тибетцы не привычны к жаре и легко могут заболеть оспой, которая сейчас распространена в Китае. Поэтому я думаю, что для Вас было бы от них мало помощи, и чувствую, что было бы неразумно посылать их в Китай» [82, 120–121]. Вот это, возможно, и был не совсем разумный шаг. Кан-си, конечно, справился с У Сань-гуем и сам. Но участие монголов и тибетцев в походе в Юньнань могло бы укрепить позиции V Далай-ламы при маньчжурском дворе, являвшемся в те годы решающей силой на Дальнем Востоке и в Центральной Азии. Заставить тибетцев участвовать в войне силой Кан-си также не мог. В 1675 г, V Далай-лама сменил деши. Старый деши Соднам Чойпал, хотя и считался монахом, но открыто содержал любовницу. Далай-лама предложил ему удалить ее, но деши отказался, предпочтя оставить любовницу и покинуть высокий пост. Новым деши был назначен Ловзан Джинна, служивший до 1679 г., когда его сменил двадцатисемилетний Санджай Джамцо. При нем власти V Далай-ламы были подчинены Гуге, Пуранг и Рудок. Это произошло после похода тибетских и монгольских войск на Ладак. По договору 1684 г., была установлена новая граница с Ладаком, а вдоль нее размещены монгольские гарнизоны. Произошло это уже после смерти V Далай-ламы, скончавшегося в 1682 г. в возрасте 68 лет. V Далай-лама, безусловно, был выдающимся государственным и религиозным деятелем Тибета. Человек для своего времени широко образованный, знаток санскрита, религиозный поэт и писатель, он добился нового объединения Тибета и утверждения превосходства своей секты Гелугпа. При нем в Тибете были открыты две высшие школы, одна для монахов, а вторая, что особенно важно, для светских чиновников. В этих школах кроме обычных религиозных дисциплин и навыков управления обучали и языкам — санскриту и монгольскому. Учили также искусству стихосложения, стрельбе из лука и навыкам верховой езды. В историю Тибета V Далай-лама вошел под именем Великого Пятого. Но в его деятельности был один просчет, ставший для Тибета роковым. Власть далай-лам была установлена руками чужеземных завоевателей — монголов. Из-за этого далай-ламы так и не добились полноты власти и, более того, оказались настолько втянутыми в дела монгольских племен, а затем и монголо-маньчжурские отношения, что это имело для независимости Тибета неблагоприятные последствия.8. Жизнь, запечатленная в песнях
Итак, Цаньян Джамцо не очень-то следовало сетовать на монголов, потому что их силой утверждалась власть далай-лам, а кто платил, тот и музыку заказывал, в этом он убеждался теперь на своем опыте. Дорога к северу от Нагчу была трудной. Приближались к перевалу Данла. Кругом камни; во впадинах, несмотря на середину лета, кое-где нерастаявший снег и лед. Небольшие озерки воды вокруг голубых пятен этого подтаявшего льда и снега. Отдельными участками — густые поросли жесткой травы, которую монголы называют буха-чирик. Ее тибетского названия он и не знает. На перевалах всюду ларце (обо) — кучи камней, рогов яков, костей, лоскутки разноцветных тканей. Пасмурно, прохладно, грустно… Мог ли знать покровитель и наставник Санджай Джамцо, что не пройдет и десяти лет, как не станет его самого, а его любимца и надежду Цаньян Джамцо повезут под конвоем из Тибета. …Деши Санджай Джамцо было тридцать лет, когда скончался V Далай-лама. Великий Пятый не случайно заботился о том, чтобы еще при жизни передать власть в стране лично Санджай Джамцо. Судя по некоторым обстоятельствам, Санджай Джамцо был сыном Великого Пятого [66, 175]. Разумеется, вряд ли возможно это доказать. Санджай Джамцо начал свою деятельность с того, что скрыл смерть V Далай-ламы. Ее скрывали и в самом Тибете, и особенно от внешнего мира. Для того чтобы объяснить отсутствие Далай-ламы и его неучастие в делах, было объявлено, что он удалился от мира для глубокого созерцания на неопределенный срок. Такие действия деши были связаны со многими обстоятельствами. В начале 80-х годов XVII в. намечалось тибетско-джунгарское сближение. Джунгарский хан Галдан претендовал на роль объединителя монголов. Объединение монгольских племен привело бы к централизации монгольской церкви, которая признавала далай-ламу своим духовным руководителем. Выдвижение Галдан-хана было связано с Тибетом. В 1663 г. умер его отец Баатур-Хунтайджи. В начавшейся борьбе за власть погиб брат Галдана, Сэнгэ. И Галдан, который в те годы был монахом в Тибете, с позволения Великого Пятого отказался от монашества и уехал на родину. Его войны за власть с Очирту-ханом не принесли ему желанного успеха, так как маньчжуры помешали Галдану закрепиться в кукунорских степях. Тогда Галдан переносит военные действия на запад и подчиняет Восточный Туркестан. Уже после смерти V Далай-ламы он продолжает борьбу, на этот раз в Халхе. В 1688 г. ойраты вступили в Халху и разгромили Тумэту-хана, придерживавшегося проманьчжурской ориентации. Большинство халхаских ханов, и не помышлявших о единой и сильной Монголии, вместе с духовным главой Халхи, ургинским хутухтой, поддержавшим их, бежали в Китай под защиту Кан-си. Цинский император обещал защитить их при условии, что они перейдут в цинское подданство. Таким образом, положение было сложным, и Санджай Джамцо предпочитал все эти годы действовать от имени V Далай-ламы. Смерть Великого Пятого скрывали ни много ни мало 15 лет. Полагают, что даже панчен-лама узнал о ней только в 1697 г. К этому времени молчать уже не было смысла. Галдан, на которого делали ставку в Тибете, в 1696 г. был разгромлен о помощью маньчжуров, а в 1697 г. покончил с собой. Дело приняло дурной оборот еще и потому, что в 1691 г. халхаские монголы перешли в цинское подданство. Попытка объединения монголов лицом, угодным Тибету, и под эгидой Тибета не удалась. Цаньян Джамцо, VI Далай-лама (1682–1706), родился в Южном Тибете, в области Монъюл. Он был тайно признан перерожденцем в 1685 г., а в 1688 г. перевезен в Нанкарце, где и начал учиться у наставников, подобранных для него деши. В 1697 г. в Нанкарце был приглашен панчен-лама, который посвятил пятнадцатилетнего юношу в первую монашескую степень — гецула и дал ему монашеское имя Цаньян Джамцо — «Океан мелодий» за очевидную любовь этого юноши, еще мальчика, к стихам и песням, которые он и сам бойко сочинял. В том же, 1697 г. Цаньян Джамцо перевезли во дворец Потала, строительство которого было окончательно завершено в 1695 г. Санджай Джамцо сам уделял много внимания образованию будущего VI Далай-ламы и по мере возможности не обременял его религиозными науками. Зато он научил его скакать на коне, метко стрелять из лука, привил вкус к литературе и песням, старался обучить основам управления государством. Себе и своему тайному воспитаннику он готовил великое будущее правителей Тибета, господствующих и во всей Центральной Азии, — и просчитался. Разгром и гибель Галдана круто изменили ситуацию не в его пользу. Положение Тибета еще более осложнилось, когда былые покровители, хошуты, во главе которых стоял Лхавзан-хан, также предпочли сильного слабому и отныне стали союзниками маньчжурского императора Кан-си. После разгрома Галдана в письме к тибетскому представителю на границе с Китаем, находившемуся в Синине, Кан-си прямо обвинил Тибет и деши Санджай Джамцо в антицинских происках. А это уже было просто опасно. В таких трудных условиях VI Далай-лама пришел к власти. Вскоре было получено второе письмо от Кан-си, в котором тот снова писал, что именно Санджай Джамцо и Галдан виновны в тех беспорядках, которые происходили и происходят в Монголии и Тибете. Все подавалось так, что духовенство само не имеет отношения к былой проджунгарской ориентации Тибета и во всем виноваты только деши и покойный Галдан. Это не помешало Кан-си обвинить Санджай Джамцо и в причинении вреда учению Цзонхавы. Разгневанный император угрожал деши расправой. Санджай Джамцо немедленно принял ряд мер для нормализации положения. Ему, человеку умному, осведомленному и патриотически настроенному, было ясно, что союз монголов и Цинов против Тибета означает установление над Тибетом прочного чужеземного господства, на этот раз безраздельного, и сделает далай-лам лишь игрушкой в руках Китая. Его посол прибыл в Пекин и передал Кан-си письмо, в котором Сэнджай Джамцо отрицал все выдвинутые против него обвинения. Он утверждал, что скрывал смерть V Далай-ламы только ради того, чтобы не вызвать волнений в самом Тибете, и ждал совершеннолетия VI Далай-ламы. Его посол Джиром-хутухта находился постоянно при Галдане не для поддержки последнего, а, наоборот, с целью примирения Галдана с монголами Халхи и маньчжурами. Одновременно ко всем монгольским ханам прибыли посланцы из Тибета с известием о смерти V Далай-ламы и интронизации VI. По случаю восшествия на престол нового, VI Далай-ламы всем верующим секты Гелугпа предлагалось прекратить войны. Эти события имели и еще одно следствие. В Пекине отчетливо сознавали значительное влияние далай-лам и Тибета на часть монгольских племен и понимали, что для достижения поставленной цинскими властями цели — подчинения всех монголов — нужно установить контроль над Тибетом. Кан-си не был намерен возобновлять прежние отношения «бикшу — джинапати» — духовного наставника и государя-покровителя веры; вместо покровителя он хотел быть повелителем. В это тревожное для Тибета время юный Далай-лама мало думал о делах государственных и тем более духовных. Дни он проводил в парке, упражняясь в стрельбе из лука, а ночи в домах гостеприимных хозяек Лхасы и пригородной деревушки Шол. И всюду сочинял песни. С ним были друзья, и среди них первый друг Тхарджалнай, чиновник его администрации. Цаньян Джамцо был молод и влюбчив:9. Амбани в Лхасе
Объявили, что Цаньян Джамцо не является подлинным перерожденцем V Далай-ламы. Такового, следовательно, нужно было найти, и он был найден. Вторым VI Далай-ламой было предназначено стать молодому монаху Нгавану Ешею Джамцо, и он был водворен во дворец Потала. Явный ставленник Лхавзан-хана, новый VI Далай-лама не пользовался уважением народа, и к нему зачастую обращались не как к далай-ламам — Тхамчад кхьенпа («Всезнающий»), а просто со словом кушаб — господин. В 1710 г. маньчжуры специальным указом признали нового VI Далай-ламу. До этого, в 1709 г., в период неурядиц, после низложения Цаньян Джамцо и сильных землетрясений в Тохе и Цзане, китайцы пытались назначить в Тибет «управляющего делами Тибета», но тот не сумел утвердиться в Лхасе и в 1711 г. покинул ее [73, 15]. Тибетские ламы тоже не дремали, и в Литане (Кам) объявился VII Далай-лама, перерожденец Цаньян Джамцо, появление которого якобы предсказал сам поэт в стихотворении, обращенном к журавлю. Лхавзан-хан, естественно, старался утвердить своего VI Далай-ламу и избавиться от седьмого, но мальчика и его семью вначале перевезли в Дерге, а затем в Гумбум, на Кукунор, под защиту кукунорских монголов, где он находился с 1716 г. Годом ранее, в 1715 г., маньчжуры признали его подлинным перерожденцем VI Далай-ламы. Это было связано с тем, что Лхавзан-хан не сумел стать достойным проводником их влияния в Тибете, и они решили лишить его своей поддержки. Способствовало этому и поражение, которое Лхавзан-хан потерпел в 1714 г. в воине с Бутаном. В том же, 1714 г., ламы крупнейших монастырей Тибета тайно предложили джунгарскому хану Цеван Рабтану вступить в Тибет и лишить Лхавзан-хаиа власти, а в Потале водворить истинного, VII Далай-ламу. Тогда Цеван Рабтан заявил Лхавзан-хану о своем намерении выдать свою дочь за его сына Ганден Тендина, и ему было предложено приехать в их ставку и забрать невесту. Как только Ганден Тендин прибыл в Джунгарию, он был арестован, а затем казнен. В 1717 г. семитысячный отряд джунгарской конницы под командованием брата Цеван Рабтана Церии Дондуба вторгся в Тибет. Джунгары двигались в Центральный Тибет через Яркенд и северо-западные области страны. По пути они всем объявляли, что везут невесту сыну Лхавзан-хана. Лхавзан-хан получил первое известие о приближении джунгаров из Гартока. Он не подозревал о той судьбе, которая постигла его сына, но сведения о приближении сильного отряда джунгаров вызвали у него настороженность, и он выслал несколько своих людей навстречу с письмом к сыну, чтобы выяснить суть дела из первых рук. Четверых из прибывших джунгары арестовали, а пятерым удалось уйти. Лхавзан-хан смекнул, что дело неладно, и стал готовиться к войне. Джунгары, увидев, что их замысел раскрыт, заявили, что их войска прибыли от имени V и VI Далай-лам, чтобы отомстить за смерть деши Санджай Джамцо, вернуть власть в стране тибетцам и изгнать ложного VI Далай-ламу. Значительная часть тибетцев приняла сторону джунгаров, сражалась вместе с ними в битве в долине Дам. Потерпев поражение, Лхавзан-хан бежал в Лхасу, а когда джунгары взяли город, заперся в Потале. Второй его сын, тайно выехавший на Кукунор за подкреплением, был перехвачен джунгарами. 3 декабря 1717 г. Лхавзан-хан решился на отчаянную вылазку из Поталы и пал в бою. Он правил Тибетом 12 лет, с 1705 по 1717 г. Тибетцы быстро почувствовали, что променяли галку на ястреба. Джунгары назначили главой правительства Лхаджал Рантена. Второй VI Далай-лама, Ешей Джамцо, был низложен и заключен в Чакпори — здание медицинской школы, сооруженное еще Санджай Джамцо. Судьба его достоверно неизвестна, кажется, он был сослан, попал в Китай, где и умер в 1725 г. Часть его администрации была казнена. Полоная пытали, но не казнили, так как он был другом Лхаджал Рантена. Затем начались погромы монастырей секты Ньингмапа. Это вызвало недовольство в народе. VII Далай-лама жил в монастыре Гумбум под покровительством маньчжуров, и те не отдавали его джунгарам. Джунгары держались в Центральном Тибете, в Уй, и фактически не контролировали Западный Тибет и Цзан. Там-то и зрела против них оппозиция. Правитель Гартока Кхангченнай готовился к восстанию. Отмежевался от джунгаров и панчен-лама. Попытка джунгаров закрепиться в Шигацзе потерпела неудачу. Узнав о гибели своего бывшего союзника в Тибете Лхавзан-хана и возникших там волнениях, цинский двор решил воспользоваться случаем для установления своего контроля над Тибетом. Первый отряд маньчжурских войск под командованием Эрентея прошел через Цайдам к Нагчука. Здесь он был разбит и почти полностью истреблен. Тогда Кан-си решил выслать в Тибет армии по двум дорогам — через Цайдам и Кам. Армия под командованием 14-го сына Кан-си, князя Юн Ти, везла из Гумбума VII Далай-ламу. С тыла на Лхасу двигались Кхангченнай и Полонай. Подавив сопротивление местного населения Кама, действовавшего под предводительством правителей Литана и Батанга, к Лхасе подходила и вторая китайская армия под командованием Гарби. Почувствовав, что дело плохо, джунгары подвергли святой город самому низменному ограблению и ушли на северо-запад. Еще до прибытия китайско-маньчжурских войск Полонай и Кхангченнай заняли Лхасу. Подошедшие армии Кан-си вошли в город и возвратили в Поталу VII Далай-ламу, Калзанг Джамцо. Правда, седьмым его считали только тибетцы. Кан-си, чтобы избежать вопроса об истинности VI Далай-ламы — ведь, как мы помним, маньчжуры не признавали Цаньян Джамцо истинным перерожденцем, — дал VII Далай-ламе золотую печать, на которой по-тибетски, по-монгольски и по-маньчжурски было — «Печать VI Далай-ламы». Двух прежних шестых, Цаньян Джамцо и Ешей Джамцо, для Кан-си не существовало. Деши и все помогавшие джунгарам чиновники были казнены. В Лхасе остался цинский гарнизон, которым командовал монгол Цеван Норбу. Стены Лхасы были разрушены. Для управления страной был создан совет министров из четырех человек, двое из них считались старшими, а двое — младшими. Главой совета стал Кхангченнай, имевший титул Дай Цин Батур. Вторым старшим был назначен Нгабо, правитель Конгпо. Все четыре калона-министра были светскими лицами. Реальная власть далай-ламы тем самым была ограничена. Китайские гарнизоны стояли в важнейших пунктах дороги Лхаса — Литан. Все земли к востоку от Батанга и Литана были отторгнуты от Тибета и включены в состав китайской провинции Сычуань. В 1723 г. император Юн-чжэн вывел маньчжурские войска из Лхасы, оставив только гарнизон в тысячу человек в Чамдо. Кхангченнай, не слишком уверенный в своих силах, не очень обрадовался отводу цинских войск. Представитель Юн-чжэна, чиновник цинского министерства иностранных дел Орай, прибыл в Лхасу и для поддержания авторитета Кхангченная совершил с ним поездку в Нгари. Осенью этого же года кукунорские монголы-хошуты в союзе с джунгарами начали войну с Китаем. Цинские войска довольно быстро разгромили монголов и в феврале — марте 1724 г. Кукунор со всеми прилегающими к нему областями был присоединен к Китаю. Императорским указом были установлены размеры монастырских построек и число монахов для каждого монастыря. Совет калонов раздирали противоречия, отражавшие местные, сепаратистские тенденции различных областей Тибета. Этот своеобразный совет министров мало уделял внимания делам страны. В Тибете вновь назревала гражданская война. Повод к ее началу дали маньчжуры, рекомендовавшие в 1724 г. своему человеку в Тибете, Кхангченнаю, начать репрессии против старейшей секты Ньингмапа, влиятельной во враждебном Кхангченнаю Цзане. Кхангченнай с неразумной активностью взялся за дело. Полонай заявил протест, а когда его протест не был принят, в 1727 г. под предлогом болезни жены покинул Лхасу и выехал в Цзан. 7 августа 1727 г. совет калонов собрался на заседание в верхней комнате главного храма Лхасы Джокхана. Во время заседания Кхангченнай был схвачен и убит тут же, в храме, его охрана перебита, дом разграблен и две жены тоже убиты. Одновременно в Цзан были высланы люди с приказом убить Полоная, но Полоная предупредили его союзники. Полонай бежал в Западный Тибет, набрал там армию и снова возвратился в Цзан и захватил Шигацзе. Лхасские заговорщики Нгабо, Лумпа и Джаранай, мобилизовав войска областей Уй и Конгпо, двинулись на Цзан в направлении Гьянцзе. Гражданская война началась. Бои шли с переменным успехом, и война грозила быть затяжной. Представители далай-ламы, панчен-ламы и сакья-ламы выступили за прекращение вражды, и 11 апреля 1728 г. перемирие, казалось, было уже заключено. Однако, воспользовавшись ослаблением бдительности противника, девятитысячная армия Полоная внезапно двинулась на Лхасу. Ей помогли давно уже обиженные на судьбу монголы из долины Дам. 3 июля 1728 г. войска Полоная вступили в город. В тот же момент стали очевидны и подлинные мотивы совета, данного маньчжурами покойному Кхангченнаю. Под предлогом защиты далай-ламы на время гражданской войны большая цинская армия оккупировала Лхасу. В ноябре калоны-заговорщики и их сторонники были казнены, причем Нгабо, Лумпа и Джаранай публично медленно разрезаны на мелкие куски. Все семьи осужденных отправили в рабство в Китай. Поскольку заговорщиков поддерживал и отец VII Далай-ламы, то «защитники» сослали и отца, и самого Далай-ламу в Гартхар близ Литана. Управление страной возглавил Полонай, который активно сотрудничал с Цинами. Кам был в ведении администрации далай-ламы, а район Шигацзе отдан в управление панчен-ламе. Как видим, расчленение Тибета на отдельные области — давняя китайская традиция. Разделив Тибет, цинские власти оставили в Лхасе и Шигацзе гарнизоны по 2 тыс. человек в каждом городе и назначили двух амбаней, представлявших цинскую администрацию в Тибете. Амбани с перерывами оставались в Тибете вплоть до 1912 г. Полонай поощрял торговлю в стране и стремился привлечь на свою сторону крупные монастыри, раздаривая им земли, ибо в них он прежде всего ощущал силу, способную влиять на жизнь Тибета. Для приобретения же авторитета среди монашества, а также, несомненно, и личных религиозных заслуг с целью получить лучшее перерождение им с государственной помощью были предприняты ксилографические издания буддийского канона — Канджура и Танджура. Это было гигантское и дорогостоящее предприятие, так как огромный канон печатался с досок, на которых предварительно вырезался его текст. К 1732 г. были приготовлены доски для Канджура. Их хранили в Нартане, и издание Канджура благословил лично панчен-лама. Через десять лет, в 1742 г., было закончено резание досок для печатания Танджура. Эти доски также хранились в Нартане. Благословил издание Танджура сам VII Далай-лама. Канон, отпечатанный с этих досок, считается в Тибете и среди зарубежных специалистов самым знаменитым его изданием. В 1730 г. Тибет начал войну с Бутаном и в 1731 г. одержал над ним победу. С 1731 по 1950 г. Бутан высылал своих представителей к тибетскому правительству и подносил ему дары. Вслед за Полонаем маньчжуры также стали поддерживать монастыри. Они начали финансировать их, выделяя для их нужд ежегодно 5 тыс. лан серебра, и усиленно поощряли монашество. Это была вполне оправданная политика: чем больше в Тибете становилось монахов, тем меньше там было солдат. В 1733 г. цинские власти сократили гарнизон в Лхасе до 500 человек, а в 1735 г. VII Далай-ламе было позволено переехать из Гартхара в Лхасу. В 1747 г. Полонай умер от заражения крови. В годы своего правления Полонай, опираясь на поддержку маньчжуров, пытался поставить себя над VII Далай-ламой. Говорят, что VII Далай-лама однажды высказался даже так: «Возможно, Полонай был бы счастлив, если бы я удалился в Дрепунг или какой-нибудь отшельнический скит». Полонай стремился к сильной централизованной власти в Тибете и с этой целью сделал ставку на маньчжуров. Это, безусловно, имело для Тибета неблагоприятные последствия. Вместе с тем было бы нелепо возлагать какую-то личную вину за судьбы Тибета целиком на Полоная. Ситуация в самом Тибете и в Центральной Азии в XVIII в. была такова, что установление контроля Цинов над Тибетом представлялось неизбежным. Сын Полоная Далай Батур Гумей Намджал, унаследовав власть после смерти отца, сразу же занял антиманьчжурскую позицию. Он объявил, что маньчжурский гарнизон в Лхасе не нужен, так как тибетцы сами в состоянии обеспечить порядок в своем доме. Император Цянь-лун пошел в какой-то мере ему навстречу и сократил китайский гарнизон Лхасы до ста человек, которые должны были охранять амбаней. Но цинский император не соглашался на создание тибетского гарнизона в Лхасе. В 1750 г. Гумей Намджал повторил свою просьбу о сформировании тибетского гарнизона Лхасы, Получив и на этот раз отказ, он тайно начал собирать тибетские отряды и установил контакт с враждебными Китаю джунгарами. Через своих шпионов амбани разузнали об этом, срочно известили Пекин и одновременно решили действовать сами. Пригласив Гумей Намджала в свою резиденцию — бывший замок Лхавзан-хана якобы за подарками, присланными ему цинским императором, они предательски убили его. Известие о случившемся вызвало восстание в Лхасе. Оба амбаня и большинство китайцев, находившихся в Лхасе, были убиты. Оставшиеся в живых нашли приют в Потале у Далай-ламы, который враждовал с Гумей Намджалом. Восстание было подавлено цинскими войсками, его руководители казнены. На этот раз сами китайцы решили передать всю верховную власть над Тибетом VII Далай-ламе. При нем был учрежден кашаг — совет, состоящий из калонов, или шапе, — министров, каждый из которых имел свою печать. Калоны назначались лично далай-ламой, и весь кашаг приносил ему клятву верности. Калоны — их было четверо — назначались пожизненно. Помимо далай-ламы каждый из калонов утверждался еще ламой-оракулом и цинским императором [81, 310]. Калоны не ведали каждый в отдельности какой-либо сферой управления и соответственно не несли ни за что конкретно личной ответственности. Все четверо должны были принимать одно и то же решение по любому делу, важному или незначительному, включая и назначения правителей округов, дзонов — дзонпонов. Различные отраслевые управления возглавляли чиновники, ответственные перед кашагом. Но и по их делам окончательное решение часто принималось не ими, а кашагом. Короче, никто не хотел принимать каких-либо серьезных решений. Эта система управления страной просуществовала 200 лет и очень «препятствовала прогрессу страны» [82, 150]. Была создана и тибетская армия. Каждая владевшая землей семья была обязана в случае нужды выставить одного солдата. В Уй был размещен гарнизон, состоявший из тысячи солдат с двумя генералами, в Цзане — из двух тысяч солдат с четырьмя генералами. Китайцы увеличили гарнизон Лхасы на полторы тысячи человек и подчинили его амбаням. Тибету было запрещено вступать в контакт с джунгарами [15, 483]. 22 марта 1757 г. умер VII Далай-лама. Он был человеком образованным и оставил после себя восемь томов сочинений. VIII Далай-ламу нашли в Тхонджале (Цзан) и доставили в Лхасу в 1762 г. в возрасте четырех лет. Звали его Джампал Джамцо. Он открыл серию малолетних далай-лам. Регентом при нем стал Демо Трулку Джампал Делег, первый регент при малолетних далай-ламах. 1759 год оказался годом разгрома джунгаров, почти поголовно истребленных Цинами в Восточном Туркестане, и, следовательно, новым усилением Китая. Монголы были полностью подчинены Цин, и в результате Тибет с его далай-ламами стал менее нужен Китаю как центр влияния на монголов. Да и первые 50 лет XVIII в. показали, что далай-ламы не были самостоятельными правителями Тибета, а стали лицами, положение которых не почетно-духовное, а фактическое, как правителей страны, зачастую зависело от покровительства монголов или маньчжуров. Не далай-ламы влияли на состояние дел в Монголии и Китае, а монголы и маньчжуры через далай-лам, вынужденных оспаривать власть у местных, тибетских феодалов, устанавливали свой контроль над Тибетом. Признание принципа примата духовной власти над светской централизованной сыграло в судьбах Тибета роковую роль. 21 июня 1781 г. VIII Далай-лама Джампал Джамцо взял верховное управление страной в свои руки. В 1783 г. было завершено строительство летней резиденции далай-лам с великолепным парком, получившей название Норбулинка, т, е. Яшмовый сад. Регент Нгаван Цултим проводил курс на ограничение влияния амбаней на тибетские дела. В 1786 г. он был приглашен в Пекин якобы в гости и задержан там. Это было сделано для того, чтобы укрепить влияние амбаней на далай-ламу. К этому времени как раз назрел конфликт Тибета с Непалом, имевший экономическую подоплеку. В 1769 г. гурки во главе с Притхви Нарайаном объединили Непал, раздробленный до того на ряд княжеств. Роль Непала в экономической жизни Тибета была велика. Непал являлся главным торговым партнером Тибета, особенно его центральных областей. Еще в XVIII в. в Лхасе сложилась постоянная колония непальских купцов. Непал был главным поставщиком риса, меди для культовой скульптуры и отливал серебряную монету, имевшую хождение в Тибете. Из Тибета в Непал везли соль, скот, шерсть, золото, которое непальцы выгодно перепродавали в Индию. Торговая пошлина на ввоз товаров в Тибет была незначительной — всего несколько монет с тюка товаров [59, 130]. Тибет был в основном страной натурального хозяйства. В XVIII в. вся земля, находившаяся в ведении лхасской администрации, считалась собственностью далай-ламы. Но правительство получало доходы лишь с части земель, так как много земель вместе с крестьянами было в пользовании монастырей и служилого сословия. Крестьяне платили за землю налог натурой и ходили на отработки. Жалованье чиновникам также выплачивалось главным образом натурой. Поэтому Тибет не очень нуждался в собственной монете и вполне обходился тем, что получал из Непала. После изгнания джунгаров из Тибета в 1720 г. в Тибете оказалось много серебра. Серебро получали для монастырей из Китая. Тибетцы передавали серебро в Непал по весу и по весу же получали такое же количество монеты обратно. Постепенно непальцы стали добавлять в отливаемую монету медь и тем самым обесценивать ее. В 1751 г. VII Далай-лама потребовал от непальских князей прекратить порчу монеты. В 1763–1764 гг. тибетцы в Демо (Конгпо) пытались наладить выпуск собственной монеты, но дело не было организовано нужным образом. В 1775 г. гурки, ставшие владыками Непала, атаковали Сикким. Тибет принял в этой войне сторону Сиккима и оказал ему помощь продовольствием. Гурки остались недовольны этим и стали искать повода для конфликта с Тибетом. Случилось так, что два брата IV Панчен-ламы не поделили с ним имущество семьи. Один из них, Шамар Трулку, IX верховный лама секты Кармапа, решил для подкрепления своих претензий использовать недовольство гурок Тибетом. Гурки потребовали изъять из обращения в Тибете старую монету с примесями и заменить ее новой, высокопробной монетой, закупаемой в Непале. Эта акция должна была причинить убытки тибетским торговцам, денежное состояние которых обесценивалось, и принести доход Непалу, который выгодно продавал партию новой монеты. От тибетцев непальцы также потребовали поставлять в Непал более высококачественную соль. В случае отказа принять их требования непальцы угрожали захватить три тибетских округа, Ньянанг, Ронгшар и Кийронг, а в качестве, правда, добровольного, заложника оставить у себя брата IV Панчен-ламы, иерарха секты Кармапа Шамар Трулку. Шамар Трулку тоже прислал VIII Далай-ламе письмо, предлагая выкупить его на предложенных гурками условиях. Кашаг выдвинул встречные требования, главным из которых было требование к Непалу продолжать выпускать обе монеты, и полноценную и неполноценную, ибо единовременное изъятие из обращения всей старой неполноценной монеты сразу могло поставить Тибет, даже при его преобладающем натуральном хозяйстве, в затруднительное положение. Кашаг действовал разумно и предлагал постепенно произвести девальвацию старой, неполноценной монеты, чтобы потом вообще изъять ее из обращения, заменив новой. За качеством ввозимой в Непал тибетской соли было предложено следить на пограничных таможенных пунктах специальным непальским и тибетским инспекторам. Что касается Шамара Трулку, то гуркам, как и следовало ожидать, было объявлено, что он уехал в Непал по собственному желанию и Тибет не собирается заботиться о его судьбе. Непал не принял встречных претензий Тибета, и гурки двинулись на Тибет. Их войска шли по трем направлениям, имея в качестве проводников людей Шамар Трулку. В 1788 г. были заняты три упомянутых выше округа, а затем гурки двинулись на Дзонка и Шекар, из которого шла прямая дорога на Шигацзе. Командующим тибетскими войсками был назначен калон Ютхог. Амбани немедленно информировали Пекин о нападении гурок на Тибет. Цянь-лун выслал в Тибет свои войска. Эти вновь прибывшие из Китая войска заняли Шигацзе. Вытеснив гурок из большинства оккупированных ими районов Тибета, китайские и тибетские войска встали на зимние квартиры в Шекаре. Поскольку гурки одновременно вели военные действия и в Сиккиме, несколько тибетских отрядов были посланы на помощь Сиккиму, и совместными усилиями тибетских и сиккимских войск гурки были изгнаны из Сиккима. Но ряд тибетских территорий, в том числе и Дзонка, продолжал оставаться в руках гурок. С наступлением весны тибетцы потребовали от цинских войск немедленного наступления, но китайцы настояли на начале переговоров. Переговоры состоялись в Кийронге. Итоги их были записаны в дневнике одного из представителей тибетской стороны, калона Доринга: «Мы договорились снизить стоимость всей неполноценной монеты, имеющей хождение в Тибете. Старая монета, которая не была обесценена примесями, будет иметь ту же цену, что и новая, отливаемая в Непале. Согласились, что тибетская соль не будет содержать никаких примесей и что пограничные инспекторы будут строго исполнять свои обязанности. Рис и соль должны будут оцениваться по непостоянным, рыночным ценам, которые, конечно, никак не могут быть строго ограничены. Любые непальские торговцы рисом могут приезжать в Тибет, и им будет предоставляться по их выбору приют в гостиницах и топливо, но 10 % их доходов от продажи риса должны быть отданы владельцу гостиницы. Тибетским же торговцам запрещается посещать Непал в любых целях торговли или обмена. Если непальский подданный совершит какое-либо преступление на территории Тибета, то его судят и наказывают непальские представители в данном районе. Тибетские власти в таких случаях не осуществляют никакой юрисдикции. В качестве возмещения за четыре округа, захваченных гурками, Тибет обязуется выплачивать Непалу ежегодную контрибуцию… Непальцы согласились вывести свои войска сразу же после получения ими первой выплаты за один год» [82, 161]. Китайцы, третья сторона в переговорах, пеклись лишь о своем престиже. Они предложили и непальцам, и тибетцам послать в Пекин делегации, которые бы от имени своих правительств поблагодарили императора за его заботу об их благополучии. И та и другая сторона согласились выполнить этот «совет». Цинские войска вели себя в Тибете как завоеватели. Тот же Доринг в письме отцу писал: «Между гурками и китайцами мало разницы. Первые грабят и убивают потому, что они пришли как враги, а китайцы делают то же самое, потому что они пришли как друзья» [82, 162]. В 1789 г., получив от тибетцев первый взнос в счет уплаты контрибуции, гурки сдержали свое слово и покинули все оккупированные ими территории Тибета. В 1790 г. по приказу VIII Далай-ламы из Пекина был отозван продолжавший «гостить» там регент Нгаван Цултим. Китайцы отпустили его неохотно и то после того, как в Пекин в качестве нового своеобразного тибетского заложника уехал заместитель регента Тенпай Генпо Кунделинг. Тибет начал с Непалом переговоры об уменьшении суммы ежегодной контрибуции. Непальский раджа, получив от Цянь-луна титул го вана, князя государства, объявил две тибетские делегации, прибывшие на переговоры, непредставительными. Нгаван Цултим, человек решительный, отказался от дальнейших попыток начать переговоры и от уплаты контрибуции одновременно, заявив, что если непальцы хотят еще что-то получить с Тибета, то пусть придут и возьмут нужное сами. Непальцы только и ждали такого ответа. Внезапно 29 апреля 1791 г. регент скончался. Кашаг тут же отказался от принятого перед его смертью решения и в срочном порядке выслал высших сановников Тибета в Непал на переговоры. Но в Ньянанге тибетские послы были схвачены непальцами, уже пересекшими границу Тибета, закованы в цепи и увезены в Непал. Среди арестованных оказался и калон Доринг. В седьмом месяце 1791 г. отряды гурок снова двинулись на Шекар, и война возобновилась. На этот раз гурки заняли Шигацзе и Ташилунпо. Положение было угрожающим. Маньчжурские амбани предложили VIII Далай-ламе и панчен-ламе покинуть Центральный Тибет и переехать в Чамдо (область Кам). В 1792 г. в войсках гурок вспыхнула эпидемия. Тибетцы перешли в наступление и изгнали гурок из Шигацзе. К этому времени подоспела помощь из Китая. Тринадцатитысячная армия под командованием Фу Кананя прибыла в Тибет. Сиккиму было предложено атаковать Непал с его территории. В битве у Кийронга гурки были разбиты, и китайские и тибетские войска вступили в Непал. Го ван и правитель Непала раджа Рана Бахадур Шах бежали. Шамар Трулку, зная, что его ожидает, если он попадет в плен, отравился. Его семья, люди и имущество были выданы тибетцам. Тибетские дипломаты, арестованные непальцами, были освобождены и вместе с непальскими послами выехали навстречу войскам. Переговоры о мире начались в Хоркхане. И на этот раз они были трехсторонними. Гурки возвращали пленных и все награбленное имущество — это было в пользу Тибета. Раз в пять лет они согласились присылать в Пекин посольства с дарами императору — это было в пользу Китая. Специально созданная комиссия должна была установить границу Тибета с Непалом. Цянь-лун расширил права амбаней в Лхасе. Они получили те же полномочия, что и генерал-губернатор Сычуани, и отныне все петиции из Тибета должны были подаваться не прямо в Пекин самому императору, а только через амбаней. Пекин также решил взять под контроль и избрание самих далай-лам. В 1793 г. в Лхасу была прислана от Цянь-луна золотая урна, с помощью которой впредь далай-ламы и панчен-ламы должны были выбираться по жребию при участии амбаней. Помимо Лхасы китайские гарнизоны остались в Шигацзе и Дингри. Китайцы подозревали, что в нападении гурок на Тибет какую-то роль сыграли англичане. Неясно, в соответствии с китайской политикой или по собственной инициативе, но после 1792 г. двери Тибета оказались закрытыми для иностранцев [75, 71]. Несмотря на усиление китайского влияния в Тибете после непало-тибетской войны, исследователи полагают, что «в сущности китайская власть в Тибете практически не стала больше, чем она была до этого» [75, 72]. Немногие европейцы, например Гюк и Габе, с трудом попавшие в Тибет в начале XIX в., свидетельствуют, что тибетцы рассматривали «амбаней в качестве послов, присланных наблюдать за тем, что делают тибетцы» [75, 72]. 19 ноября 1804 г. скончался VIII Далай-лама. В 1807 г. были найдены два кандидата в перерожденцы, один из Кама, другой из Амдо. Оба были привезены в Лхасу и подвергнуты испытаниям. Претендент из Кама «опознал» вещи покойного VIII Далай-ламы, т. е. «свои» вещи, которые он знал в прошлом перерождении, и был признан IX Далай-ламой Лунтог Джамцо (1806–1815). 26 марта 1815 г., по официальной версии, простудившись во время монлама, IX Далай-лама умер от воспаления легких. Из пяти кандидатов в далай-ламы отобрали вначале трех и привезли в Ньетханг. Здесь окончательно был выбран один из них, уроженец Литана. В 1837 г. умер X Далай-лама. Короткая жизнь далай-лам не может не навести на мысль о насильственных методах ее пресечения к выгоде тех лиц, которые действовали от их имени, т. е. к выгоде регентов. Два кандидата на роль XI Далай-ламы были в 1841 г. привезены в Лхасу и подвергнуты испытаниям. Окончательный выбор был произведен по жребию, с использованием золотой урны, пожалованной некогда Цянь-луном. Один из амбаней вынул билетик с именем «истинного» перерожденца, коим оказался уроженец Гартхара из Кама по имени Кхайдуб Джамцо. Он и стал XI Далай-ламой, который разделил участь своих предшественников. В 1855 г., еще не достигнув совершеннолетия, он скончался. Новый, XII Далай-лама, уроженец Олга (Южный Тибет) был выбран по жребию из трех кандидатов и получил имя Принлай Джамцо. В 1855 г. гурки снова напали на Тибет и оккупировали Ньянанг, Ронгшар, Дзонка и Пуранг. Тибетские войска оказались в состоянии лишь остановить дальнейшее продвижение гурок, но не смогли изгнать их из оккупированных округов. 24 марта 1856 г. был подписан мирный договор, по которому Тибет обязался ежегодно платить гуркам 10 тыс. непальских рупий. На этих условиях, а также на условии подтверждения для непальских купцов привилегий свободы торговли в Тибете гурки оставили оккупированные ими области Тибета. Цинский Китай, занятый опиумными войнами и улаживанием собственных дел с западными державами, участия в переговорах не принимал. Среди тибетской правящей верхушки продолжались разлады. Один из калонов, Шатра, начал борьбу с регентом, опираясь на поддержку главных монастырей. Регент бежал в Китай, его имущество было конфисковано. Шатра принял старый титул — «деши», надеясь сохранить в своих руках власть и после совершеннолетия далай-ламы, на что регент прав не имел. В 1863 г. войну против соседей начал ньяронгский феодал Гомпо Намджал. Он поставил своей целью подчинить весь Кам и действовал нагло и жестоко. В Лхасу и Центральный Тибет хлынул поток беженцев из Дерге, Горкхола, Литана. Центральному правительству потребовалось вести войну два года, чтобы подавить сепаратистское движение. В Ньяронг был назначен губернатор из Лхасы, а повсюду были восстановлены в своих правах местные вожди и феодалы. В 1864 г. правитель Тибета при малолетнем XII Далай-ламе, деши Шатра, умер. Далай-лама получил нового регента — Палдан Дондуба. Это был человек суровый и властный. У входа в свою канцелярию он приказал всегда держать свежеснятую шкуру быка или яка. Провинившихся немедленно после установления вины заворачивали в еще сырую шкуру, которая, высыхая на солнце, стальным панцирем, как обручем, стягивала жертву, причиняя ей страшные мучения, после чего ослушника бросали в реку, где он и тонул. Палдан Дондуб быстро привык наслаждаться неограниченной властью, и подрастающий XII Далай-лама становился для него неприятной помехой. Для начала Палдан Дондуб задумал засадить малолетнего XII Далай-ламу в отшельнический скит, назначив ему постоянное небольшое содержание. Кашаг, естественно, восстал против подобного плана. Палдан Дондуб арестовал трех калонов, а калона Цого завернул в свежую шкуру и велел бросить в реку. Советник Далай-ламы Кхепраб Вангчуг поднял против Палдан Дондуба войска. Загнанный в угол, видя безвыходность своего положения, Палдан Дондуб покончил с собой. Но его гибель не спасла XII Далай-ламу. В 1875 г. он внезапно скончался. Семьдесят лет, с 1804 по 1875 г., далай-ламы были фактически игрушками в руках тибетской знати, вершившей от их имени все дела. Если к этому добавить еще и годы несовершеннолетия XII Далай-ламы, то практически почти целоестолетие, весь XIX век, далай-ламы не играли никакой самостоятельной роли ни в управлении страной, ни в делах церкви. Те, кто управлял за них, регенты и прочие, наживались на своих должностях без меры; не случайно имущество всех свергнутых регентов конфисковалось, и они вели между собой борьбу за власть, продвигая на все посты своих людей. В 1879 г. во дворце Потала был водворен новый мальчик, XIII Далай-лама Нгаван Ловзан Тхубтан Джамцо (1876–1933). Конец XIX в. не внес никаких существенных изменений в жизнь Тибета, продолжавшего оставаться страной, в которой процветало средневековье. Разве что в 1894 г. был принят закон, указывающий на необязательность передачи должностей калонов в кашаге по наследству и допускавший возможность предоставления прав на эти должности просто способным людям. Зато во внешнеполитическом аспекте эти годы прошли под знаком настойчивого стремления англичан, действовавших из Индии, открыть двери Тибета. Британская империя была тогда в расцвете сил. В 1865 г. англичане поставили в зависимость от себя Бутан. В 1890 г. был установлен британский протекторат над Сиккимом. Раздел сфер влияния между крупнейшими империалистическими державами в конце XIX — начале XX в., как известно, захватил и Китай и не мог не коснуться Тибета. 6 ноября 1903 г. отряд английских войск под командованием генерала Макдональда и полковника Янгхазбенда получил приказ о вступлении в Тибет. 22 декабря англичане овладели крепостью Пари, контролировавшей долину Чумби, которая служила воротами из Индии в Тибет. Заняв в начале июня Гьянцзе, английские войска двинулись к Лхасе и 4 августа 1904 г., через 14 месяцев после вторжения, вступили в столицу Тибета. Далай-лама еще до этого покинул город и выехал в Монголию, оставив вместо себя в качестве регента Три Ринпоче. Англичане начали переговоры с правительством Тибета и 7 сентября 1904 г, подписали с ним двухстороннее соглашение. По этому англо-тибетскому договору правительство Тибета обязывалось признать границу между Сиккимом и Тибетом, установленную англо-китайским договором 1890 г., открыть рынки для торговли в Гьянцзе, Гартоке и Ятунге, выплатить контрибуцию в 500 тыс. фунтов стерлингов. До тех пор пока вся контрибуция не будет выплачена, англичане должны были сохранить оккупационные войска в долине Чумби. 23 сентября 1904 г. англичане покинули Лхасу. Усиление английского влияния в Тибете было невыгодно России. Поэтому вопрос о Тибете стал важным моментом в судьбе наметившегося англо-русского сближения. Англия была вынуждена дать заверения, что не намерена аннексировать Тибет. Это было заявлено 27 апреля 1906 г. в англо-китайской конвенции о Тибете и затем, 31 августа 1907 г., в англо-русском соглашении. В последнем Россия и Великобритания признавали сюзеренитет Китая над Тибетом. Английское вторжение в Тибет не на шутку встревожило Китай. Цинское правительство стало выплачивать контрибуцию, наложенную англичанами на Тибет, и одновременно более интенсивно принялось за «освоение» Кама, начатое еще в 1896 г. В том же году китайские войска вмешались в междоусобный конфликт между правителями Ньяронга и вождями Чакла. Китайские войска под командованием Тан Ли заняли Дерге. Правитель Дерге бежал, его родители, взятые китайцами в плен, умерли в тюрьме в Сычуани. В 1903 г. китайские войска заняли Гартхар. После того как в Ба монахи убили китайского амбаня, который находился там проездом и обрушился на них с репрессиями, новая китайская армия под командованием Ма Дин-тая вступила в Кам из Сычуани. 332 монаха, подозреваемые в убийстве амбаия, были арестованы, их имущество конфисковано. Монастырь был разрушен. В 1905 г. отряды Чжао Эр-фына повторили поход на Ба и Чатинг. Были разрушены монастыри, убито более 1200 монахов, медные предметы культа вывезены из Кама в Сычуань и перелиты в монету. Репрессии были столь велики, что тибетцы прозвали генерала Чжао Эр-фына «Чжао-мясннк». На оккупированных территориях была создана новая провинция Китая — Сикан. В 1906 г. гарнизон Лхасы был увеличен до 6 тыс. человек, а все местные тибетские войска обязаны были подчиняться цинскому командованию. Кашаг отказался признать этот приказ. В декабре 1909 г. XIII Далай-лама возвратился в Лхасу после того, как покинул ее в 1904 г. из-за приближения англичан. А в 1910 г., когда китайские войска, продвигавшиеся на запад из Кама, вступили в Лхасу, Далай-лама снова бежал, на этот раз на границу Тибета с Индией. Панчен-лама, оставшийся в Тибете, более благосклонно отнесся к китайцам и даже согласился исполнять некоторые религиозные функции Далай-ламы. Именно с этого момента оформились не очень четкие до той поры противоречия между далай-ламами и панчен-ламами, практически не изжитые и поныне. Пекинские власти опубликовали указ о низложении и разжаловании XIII Далай-ламы. Вспыхнувшая в 1911 г. в Китае революция привела к свержению маньчжурской династии Цин и круто изменила ход событий. Китайские войска покинули Лхасу, а затем и Тибет. Далай-лама возвратился в Поталу полным хозяином страны. Китайцы покидали Тибет через Индию, и последняя группа их выехала туда в январе 1913 г. По возвращении в Лхасу XIII Далай-лама выпустил прокламацию, в которой, в частности, говорилось: «Во времена монгольских Чингисхана и Алтан-хана, при китайской минской династии и при маньчжурской династии Цин Тибет и Китай сотрудничали на основе обоюдной выгоды и религиозных отношений. Несколько лет назад китайские власти в Сычуани и Юньнани пытались колонизовать нашу территорию. Они послали крупные воинские отряды в Тибет под предлогом охраны рынков. Поэтому я оставил Лхасу и вместе с несколькими министрами уехал на индо-тибетскую границу в надежде разъяснить маньчжурскому императору по телеграфу, что существующие между Тибетом и Китаем отношения являются отношениями покровителя и священнослужителя и не основываются на подчинении одним другого» [82, 246–247]. В Тибете были выпущены первые бумажные деньги — тамка, первые почтовые марки, отлита новая золотая и серебряная монета. Первые четыре тибетца отправились учиться за рубеж, в Англию, электротехнике и военному делу. В том же, 1913 г. в тибетскую армию был приглашен японский военный советник Ясудзиро Ядзима. В середине октября 1913 г. открылась тройственная конференция по вопросу о Тибете в Симле (Индия), в которой участвовали Китай, Тибет и Англия. В конвенции, подписанной в 1914 г. правительствами Англии и Тибета, стороны признавали, «что Тибет находится под сюзеренитетом Китая, и признавали также автономию Внешнего Тибета, обязуясь уважать территориальную целостность этой страны» [75, 269]. Китайское правительство обязывалось не превращать Тибет в провинцию Китая, а правительство Великобритании обязывалось не аннексировать Тибет или какую-либо часть его. В Лхасе мог находиться китайский чиновник с эскортом в 300 солдат. Конвенция предусматривала преимущественные права Великобритании в торговле с Тибетом. После того как стороны пришли к соглашению и текст конвенции был уже составлен, буквально в последнюю минуту делегация Китайской республики отказалась подписать ее. На этом основании нынешнее, находящееся в эмиграции правительство XIV Далай-ламы считает, что конвенция, составленная в Симле, заставила китайцев признать автономию Тибета, а тибетцев — сюзеренитет Китая. Поскольку китайцы не подписали соглашения, то, следовательно, они никогда не требовали сюзеренитета в этой фактически законной форме. Тибет был независим, но его независимости не была придана законная международная форма [71, 70]. В 1917 г. тибетские войска начали отвоевывание Кама и заняли Чамдо. В августе 1918 г. при посредничестве англичан между Китаем и Тибетом было заключено соглашение, в соответствии с которым «линия, проходящая примерно вдоль верховий Янцзы, почти по исторической границе маньчжурского периода, была признана в качестве временной границы» [75, 119–120]. Успехи администрации XIII Далай-ламы по установлению власти по всему Тибету углубили ранее наметившиеся противоречия между XIII Далай-ламой и IX Панчен-ламой. Пользуясь большим престижем, IX Панчен-лама не хотел, чтобы монастырь Ташилунпо и область Шигацзе стала обычной, несамостоятельной областью Тибета, лишенной былых привилегий. В 1922 г. IX Панчен-лама обратился к правительству Великобритании с просьбой выступить посредником в его разногласиях с XIII Далай-ламой. Поводом для конфликта на этот раз послужило требование, предъявленное администрацией Далай-ламы к подчиненным IX Панчен-ламе районам выплатить суммы, причитающиеся с них на содержание тибетской армии. Англичане ответили, что не могут вмешиваться во внутренние дела Тибета. Не желая подчиняться требованию администрации XIII Далай-ламы, IX Панчен-лама в 1923 г. покинул Тибет, выехав вначале в Синин, а затем в Пекин. Он так и оставался в Китае до самой смерти в 1937 г. XIII Далай-лама скончался 17 декабря 1933 г. В 1934 г. из Нанкина В Тибет для выражения соболезнования по поводу его смерти прибыла делегация гоминьдановского правительства во главе с генералом Хуан Му-суном. Тибетские власти встретили ее приветливо и, хотя отказались дать согласие на признание Тибета неотъемлемой частью Китая, тем не менее допустили открытие в Лхасе постоянной миссии китайского правительства, которая позднее обзавелась радиостанцией и поддерживала связь с центром [10, 53]. Для равновесия в Лхасе была учреждена и индийская миссия во главе с Рай Бахадур Норбу Тхон-дином. С Индией Тибет еще в 1922 г. был связан телеграфной линией. После нападения Японии на Китай и блокады морских путей в страну Тибет мог стать важным районом, через который США и Англия имели бы возможность поставлять Китаю оружие, боеприпасы, продовольствие. Однако этого не произошло — важные стратегические дороги в Китай были построены через Бирму, Тибет сохранял нейтралитет во второй мировой войне и «отказался допустить транспортировку военных материалов из Индии в Китай через тибетскую территорию» (71, 70–71]. В Лхасе было создано Бюро иностранных дел, с которым сотрудничали иностранные представители, находящиеся в Лхасе. Постоянное китайское представительство в Тибете возглавлял в годы войны Чэнь Си-чжан. Признать существование Бюро иностранных дел Тибета китайские представители отказались. В 1942 г. в Лхасе появились американцы — подполковник Илья Толстой и капитан Доллап Брук. После окончания второй мировой войны, в годы победоносной борьбы Народно-освободительной армии Китая и китайского народа против гоминьдановцев, поддерживаемых США, Тибет пытался создать свои современные вооруженные силы. В 1948 г. тибетская армия насчитывала всего 8 тыс. 500 человек и на ее вооружении было 50 орудий, 200 пулеметов, 250 минометов [71, 73]. В ходе освободительной борьбы Коммунистическая партия Китая выдвинула лозунг равноправия всех народов Китая и автономии для них. Эта программа касалась и тибетского народа. 1 октября 1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика. 1 ноября 1949 г. X Панчен-лама Чинле Лхундуб, признанный перерожденцем в августе 1949 г., мальчик в возрасте около десяти лет, обратился к Центральному правительству КНР с просьбой освободить Тибет. В ответ на это 4 ноября регент Доктра Ринпоче через американское телеграфное агентство Юнайтед Пресс заявил о независимости Тибета и обратился ко всем государствам с просьбой о помощи [10, 112–113]. В марте 1950 г. из Лхасы с намерением прибыть в КНР выехала делегация для переговоров о будущем Тибета. Возглавлял ее цзепон Шакабпа. В Индии британские власти отказали делегации в выдаче виз на въезд в Гонконг. Тогда делегаты объявили, что они будут ждать прибытия китайских представителей в Индию. 25 июня 1950 г. началась война в Корее. Это еще более осложнило обстановку в Азии. 7 октября 1950 г. правительство КНР отдало командованию НОА приказ о начале наступления на Тибет через Сикан. Китайские войска двигались через Сычуань, Сикан и из Цинхая. Небольшие силы НОА вступили в Тибет с территории Синьцзяна. 19 октября был взят Чамдо. Его тибетский гарнизон разбежался. Однако к северу от Чамдо начались бои, части НОА разгромили тибетские войска Кама, а командовавший ими губернатор Чамдо Нгаво Нгаван Джигмед попал в плен. В ноябре 1950 г. в Каме был создан первый тибетский автономный район провинции Сикан с центром в Кандине. 17 ноября 1950 г. вся полнота власти в Центральном Тибете была передана XIV Далай-ламе. 19 декабря Далай-лама покинул Лхасу и сделал своей резиденцией монастырь Донгкар близ Ятунга, на границе с Индией. В январе 1951 г. из Индии была отозвана делегация, возглавлявшаяся Шакабпой, и для переговоров с Центральным правительством КНР была сформирована новая делегация во главе с отпущенным из плена Нгапо Нгаван Джигмедом. На переговоры в Пекин выехал и X Панчен-лама, проживавший в провинции Цинхай, в Китае. 21 июля 1951 г. XIV Далай-лама возвратился из Донгкара в Лхасу, а 9 сентября 1951 г. в Лхасу вступили передовые части НОА. Всекитайский Комитет Народного Политического Консультативного Совета Китая 1 ноября 1951 г. избрал своими членами далай-ламу, панчен-ламу и калона Нгаво Нгаван Джигмеда. В начале 1952 г. в Тибете был образован Тибетский военный округ НОАК, командующим которого стал генерал Чжан Го-хуа. В феврале в Пекине было открыто постоянное представительство XIV Далай-ламы, а в Лхасе — постоянное представительство Центрального народного правительства КНР. Из Китая в Тибет срочно было начато строительство двух шоссейных дорог — Сикантибетской протяженностью 2300 км, от Яаня до Лхасы, и Цинхайтибетской протяженностью 2100 км, от Синина до Лхасы. С 25 декабря 1954 г. по обеим дорогам было открыто регулярное движение. Из Китая в Тибет была проложена и авиалиния. Соглашение 1951 г. было компромиссным. Реальная политическая обстановка вынудила правящие круги Тибета согласиться на признание верховной власти КНР над Тибетом и ввод китайских войск в Тибет, которые все равно вошли бы туда силой, а Центральное правительство КНР в статьях 4, 5 и 6 Соглашения обещало сохранение в Тибете существующей системы статусов далай-лам и панчен-лам и предоставление ему национальной областной автономии. Страна была разделена на ряд самостоятельных административных единиц. В пределах провинций Цинхай, Ганьсу, Сычуань и Юньнань были образованы тибетские автономные округа, уезды и области: в Цинхае — тибетские автономные округа Хэмбэй, Хэйнань, Хуанань, Юйшу и Голо, в Ганьсу — Ганьсуйский тибетский автономный округ, Тибетский автономный уезд Тяньчжу; в Сычуани — Ганьцзыский тибетский автономный округ, Тибетский автономный округ Аба, Тибетский автономный уезд Мули; в Юньнани — Дицинский тибетский автономный округ. Район Чамдо был выделен в особую область с непосредственным подчинением Пекину. Западный Тибет (Цзан) был передан правительству X Панчен-ламы. Власть правительства далай-лам была ограничена областью Уй, центральными районами Тибета. Начальники округов — дзонов — перестали получать участки земли в кормление вместо жалованья, а светские феодалы были лишены права взимать налоги. В августе 1956 г. был создан Подготовительный комитет по образованию Тибетского автономного района. В июне 1958 г. в Тибете начали работать отделения Верховного суда и Прокуратуры КНР. Это было вызвано тем, что восстания, начавшиеся в Восточном Тибете, перекинулись и на Центральный Тибет, охватив особенно районы к югу от р. Цангпо. 17 марта 1959 г. XIV Далай-лама бежал из Лхасы в Индию. Старое тибетское правительство было ликвидировано, а строительство национальной автономии началось на основе ликвидации старых социально-экономических и политических отношений. Распущено было также правительство X Панчен-ламы. Основой социальных преобразований явилась аграрная реформа, старые феодальные производственные отношения ликвидировались, земли феодалов и монастырей раздавались крестьянам. К осени 1960 г. аграрная реформа была завершена, а в 1961 г. около половины тибетских крестьян были организованы в бригады взаимопомощи, крестьянские союзы и союзы скотоводов. Административной реформой вместо бывших старых 147 дзонов было образовано семь особых округов, разделенных на 80 уездов. Город Лхаса был выделен в отдельную административную единицу. На основании закона от 30 марта 1963 г. были проведены многоступенчатые выборы органов власти. 23 августа 1965 г. Государственный Совет КНР принял решение об образовании Тибетского автономного района. В сентябре Собрание народных представителей Тибетского автономного района избрало правительство — Народный комитет Тибетского района под председательством Нгаво Нгаван Джигмеда. В 1967 г., когда волны «культурной революции» докатились и до Лхасы, отряды хунвэйбинов и цзаофаней разгромили местные органы власти, в том числе и Народный комитет Тибетского автономного района. Вся власть в Тибете перешла в руки армии. 5 сентября 1968 г. были созданы ревкомы Тибетского автономного района и города Лхасы. Затем ревкомы появились в округах, уездах и волостях. Еще в марте 1935 г., когда Китайская Красная армия во время Великого похода проходила через восточные районы Тибета, возникла первая тибетская коммунистическая ячейка. Позднее некоторые из первых тибетских коммунистов, Таши Ванчуг, Ло Тенга, Пунцог Ванджан и Нгаван Калзанг, были обвинены маоистами в национализме и казнены. Однако двое старых тибетских коммунистов, Санджай Ешей (китайское имя Тянь Бао) и Шейраб Дондуб (китайское имя Ян Тун-шэн), сейчас являются секретарями созданного в августе 1971 г. парткома Тибетского автономного района. Третьим секретарем этого парткома стала Пасан, активистка женского движения. Она же вместе с тибетской коммунисткой Янзом и Санджай Ешеем на X съезде КПК в августе 1973 г. вошла в состав ЦК КПК. Всего десять с небольшим лет назад Тибет совершил трудный переход от средневековья к современности. Несомненно, в Тибете происходит крутая ломка не только социальных отношений. Меняются люди, часть из них постепенно отходит от религии. Новые формы ведения хозяйства, знакомство с современной техникой формируют кадры, готовые и способные усвоить и претворить в жизнь все лучшие достижения современной культуры. Тибет — страна, имеющая давнюю историю и самобытную культуру. Признавая его частью КНР, нельзя согласиться с теми авторами, которые полагают, что «на протяжении длительного исторического периода Тибет никогда не был независимым государством и всегда составлял часть Китая» [24, 216]. Такие заявления продиктованы великодержавными устремлениями и противоречат исторической действительности. К описанию жизни тибетского народа в средние века, его религии и культуры мы и перейдем в следующих разделах нашей книги. Многое из того, что будет описано ниже, еще живо, но многое уже ушло или уходит в прошлое. И возврата к нему нет. «Не стоит тянуть ледник назад», — говорит старая тибетская пословица.10. Жизнь без начала и конца
Принадлежность к тибетцам определялась рядом признаков: языком и местом проживания, образом жизни, обычаями, религией, а также миригчиг — внешним физическим обликом данного лица, обусловливающим принадлежность его к тибетцам как к людям одного происхождения, хотя допускаются физические различия и смешанное происхождение от браков со всеми соседями — от персов до китайцев. Чтобы быть тибетцем, надо было жить, как тибетец. Тибетцы считали, что их образ жизни отличается от образа жизни других народов, особенно питанием и запретами. Тибетец должен был говорить по-тибетски. Наконец, тибетец должен быть буддистом, хотя и не обязательно, ибо последователи бон — это тоже подлинные тибетцы. Тибетцы — земледельцы и скотоводы. Именно земледельцы и скотоводы, а не наоборот, и это надо подчеркнуть, так как и сегодня ряд ученых считает тибетцев прежде всего кочевниками-скотоводами, а уж потом, в меньшей степени, земледельцами. А между тем факты показывают, что пять шестых населения современного Тибета занимается земледелием [87, 83]. С древности и до сегодняшнего дня культурные центры Тибета находились и находятся в районах интенсивного земледелия. Еще в XI в. самыми подлинными тибетцами — бодпа считались земледельцы в отличие от людей пастбищ — дрогпа. Некоторые ныне скотоводческие племена Тибета происходят от оседлого населения, от тех воинов, которых войны великого Тибета в IX в. разметали по его северным и северо-восточным окраинам. Традиционное тибетское начало нового года — сонам лосар (десятый и одиннадцатый месяцы лунного календаря) — это новый год земледельцев, он отличается от «королевского нового года» — джалпо лосар (первый лунный месяц), китайского по происхождению и введенного в Тибете монголами. Само тибетское слово «ло» значит одновременно и «год», и «сбор урожая». В Тибете земледелие было богарным или поливным. Полив производился из рек, воду иногда на большие расстояния подводили к полям по деревянным желобам, выдолбленным из древесных стволов и установленным на козлы. Там, где полив производили из рек, каждая семья имела свои оросительные сооружения. Там же, где поля были выше воды, возводились дамбы, плотины, и для пользования водой семьи объединялись в группы, а каналы принадлежали тем семьям, которые их построили или на средства которых они были сооружены, либо общине, если они возводились общими усилиями ее членов. Владельцы каналов распределяли воду за плату. Конфликты, связанные с распределением воды, обычно решались местными властями. Главная культура Тибета — ячмень, единственный злак, который хорошо растет и в долинах, и на больших высотах. Второе место принадлежит гречихе и пшенице. Сеют тибетцы также овес, просо, горох и бобы. Очень много высаживается редьки, репы, моркови. На огородах выращивают капусту и последнее столетие — картофель. В теплых долинах, например в Батанге, вызревают арбузы, в садах Южного и Центрального Тибета можно встретить яблоки, грушу, грецкий орех, абрикос и виноград. Обычный урожай ячменя сам-шест, в лучшие годы — сам-десят, Размеры поля в Тибете определялись количеством семян, необходимых для его засева по традиционным нормам. Такой мерой был кан — площадь земли, на которой можно посеять приблизительно 16 кг зерна. В области Сакья это был кхал, равный примерно трети американского бушеля и соответствующий одной десятой акра земли. Средняя крестьянская семья имела около 20 кхалов земли. По тибетским преданиям, хозяевами поверхности земли являются сверхъестественные существа — садаги («хозяева земли»). Они поделили землю между собой и владеют каждый своим участком, так же как люди. Эти существа негодуют на земледельцев, когда те обрабатывают и «приводят в беспорядок» землю. Земледельцы должны задобрить их молитвами и пожертвованиями. Несмотря на это, хозяева земли бывают часто недовольны и причиняют крестьянам всяческие неприятности. Пахали тибетцы землю деревянным плугом с деревянным лемехом, иногда с насаженным на него железным наконечником. Обычно плуг делался из ивы. Плуг тянула пара быков, чаще всего чжо (дзо) — помесь дикого яка с коровой. Тибетцы не пользовались ярмом. К рогам быков привязывали деревянный поперечный брус, к середине которого крепили дышло. Быки тянули плуг головой и рогами. Поле пахали наискосок, чтобы постепенно согнать с земли всех злых духов в один угол и привалить их там потом камнем потяжелее. Пары быков было достаточно для обработки земли в хозяйстве, имевшем 20 кхалов земли. Начало пахоты сопровождалось религиозными обрядами и торжественным надеванием упряжки на яков. Быков покрывали шерстяными накидками, выкрашенными в яркие цвета и украшенными кистями из хвостов яков, красными, синими, желтыми, зелеными, а также раковинами. Упряжь увешивалась колокольчиками. Во время праздника начала весенних полевых работ часто проводились состязания по пахоте. Бороновали землю деревянными боронами, иногда с зубьями из рогов яков. За пахарями шли пестро и красиво одетые женщины и засевали землю, разбрасывая зерно из корзин. Обычно пахота и сев происходили в марте. После сева за полем в основном ухаживали женщины. Они поливали его, вначале раз в несколько недель, потом, когда посевы поднимались, раз в несколько дней. Засеянное поле и всходы также берегли от злых духов. Лама мог соорудить у поля палатку, украшенную молитвенными флагами. Всходы благословляли, поднося цзамбу, увенчанную фигурками из масла, и читая священные тексты буддийского канона. На земле чертили свастику, колесо дхармы и другие священные символы буддизма. Цзамбу через три дня разбрасывали по земле, что означало передачу ее духам. Когда посевы подрастали, по полям носили книги канона, чтобы получить хороший урожай. Спелость зерна проверяли так: раскусывали одно из зерен и потом снова складывали половинки раскушенного зерна. Если они не деформировались и совпадали и зерно снова выглядело почти как целое, значит ячмень созрел. Уборка зерна производилась в августе. Убирали хлеб серпами и женщины и мужчины. Женщины во время работы пели религиозные гимны и приносили богам в жертву пучки ячменя, пшеницы или гороха. Сжатый хлеб вязали в снопы, которые свозили на тока или на плоские крыши домов. Если хлеб был не очень сухим, то снопы, особенно в северных районах, сушили на специальных сушилках. Зерно вылущивали из колосьев следующим образом: все члены семьи ходили по разложенному хлебу и вытаптывали зерно или это делал скот, быки, коровы, причем им на морды надевали плетеные корзины, чтобы не поедали зерно. Молотили также и цепами с однорядным билом. Во время молотьбы юноши становились с цепами с одной стороны, девушки с другой. Работа сопровождалась шутками и пением. Веяли зерно с помощью совков там же на токах или на плоских крышах домов. Солому хранили в скирдах, иногда тоже прямо на крышах. Мололи зерно ручные или водяные мельницы. В качестве платы за помол брали десять процентов полученной муки [57, 263]. В целом урожаи в Тибете были невысокими. И хотя землю удобряли, в основном золой и навозом, религиозный запрет убивать все живое мешал борьбе с вредителями, и много хлеба поедали насекомые, грызуны и птицы. Примитивная техника вспашки — глубина ее не превышала 10 см, также не обеспечивала высоких урожаев. Среднегодовой прожиточный минимум определялся в 18–20 кхалов ячменя [57, 279]. После уборки урожая богатые крестьяне могли разрешить бедным собирать на их полях колосья. В Тибете земля рассматривалась как собственность государя, в последние века — далай-ламы Ц56, 28]. Далай-лама как владелец всего назывался дагпо ченпо — «великий владелец». Правитель или владелец-распорядитель либо давал землю непосредственно крестьянам, обязанным платить за нее налог и ходить на отработки, либо жаловал ее монастырю, местному правителю и чиновнику за службу, и тогда доход с этой земли шел полностью или частично тому лицу, которому земля была пожалована. Существовали земли, на которые владельцы имели почти полные права, в том числе права и на их недра, несмотря на запрет горных разработок. Однако и в данных случаях были ограничения прав владения землей — землю можно было продать, но ее нельзя было выставить в качестве дополнительного обеспечения займа, и заимодавец не мог конфисковать ее при неуплате должником долга. В счет уплаты долга могли идти только доходы с земли, и в любое время первоначальный владелец участка мог вернуть землю, даже выплатив только сумму долга без процентов [57, 238]. Государство могло конфисковать землю только в случае совершения ее владельцем серьезных преступлений, таких, как государственная измена, мятеж и т. д. Существовали и некоторые ограничения на продажу земли — в Сакья, например, представлявшей собой не только самостоятельную религиозную секту, но и полунезависимое княжество, землю можно было продавать только людям, связанным с Сакья [57, 238–239]. Крестьяне наделялись не только землей, а иногда и землей, и семенами. В крестьянской семье эта земля передавалась по наследству, но, получив землю, крестьянин лишался права оставить ее по своей воле, на это требовалось разрешение властей, которое давалось весьма редко. Фактически государственный крестьянин, кхралпа — «обязанный платить налог кхрал», был прикреплен к земле, составляя с ней единое целое, — источник налога, дохода для государства. В случае нужды власти могли перераспределять землю. Крестьянин чаще всего использовал данную ему землю так, как считал наиболее выгодным для себя, ибо был обязан ежегодно вносить за нее твердую плату, обеспечиваемую не только доходами с земли, но и всем его достоянием. Такой же порядок существовал и на монастырских землях. Сумма налога определялась количеством и качеством земли. В каждом дзоне имелись описи земель и списки семей, которым была выдана земля. В этих списках значилась и причитающаяся за каждый участок земли сумма налога. Эта сумма в разных местах и на разных землях была различной и составляла от 25 до 40 % урожая [57, 238–246]. Налог чаще всего исчислялся в ячмене, но нередко вместо ячменя власти требовали поставки другого зерна, овощей или даже продуктов скотоводства и ремесла. Налог собирали дважды в год — летом и осенью. За сбор налога отвечали местные власти. Кроме того, крестьяне должны были ходить на отработки, на ремонт и строительство общественных зданий, мостов, дорог и т. д. Самой тяжелой из отработок была транспортная повинность — ула. Размеры этой повинности также зависели от участка земли, которым владела семья. Лицо, имевшее от правительства право на проезд, обеспечиваемый улой, снабжалось подорожной — ламиг. По этой подорожной местные власти и на жалованных землях их хозяева и управители обеспечивали проезжающего транспортными животными, продовольствием и людьми. При зачете вьючных животных два осла засчитывались за одну лошадь. Транспортная повинность наносила большой ущерб хозяйству, так как отвлекала людей от работы, а проезжающие по подорожной часто требовали высококачественных продуктов — мяса, масла, яиц, сыра и т. д., разоряя крестьян иной раз дотла. Монастыри сдавали свои земли крестьянам-арендаторам — лхабранам, которые вместо арендной платы отдавали треть полученного урожая. С жалованных земель лицо, получившее пожалование — герпа, присваивало себе или весь доход, или часть дохода. Земли, пожалованные за службу, не передавались третьим лицам и наследовались в семье по мужской линии вместе с наследованием должности, Это была своеобразная форма жалованья, за которое члены семьи должны были служить правительству. Получивший пожалование имел те же права на налог с земли, что и государство. Прикрепленные к земле крестьяне также были обязаны платить налог натурой и в форме отработок, в том числе выполнять в доме хозяина обязанности слуг и ремесленников: ткать сукно, заниматься пошивом одежды, кузнечными работами и т. п. Были семьи, принадлежавшие к знати, которые владели сотнями и даже тысячами семей крестьян и большим количеством земли. Пожалование земли давало не только право на доход с нее, но и административные права над людьми, проживающими на ней, в частности право суда за некоторые преступления. Крестьянин мог попроситься уйти с земли держателя пожалования, подав прошение об этом — «петицию на выделение человека», митрошува, но в случае, если хозяин удовлетворял его просьбу, отпускаемый обязан был выплатить хозяину в качестве выкупа большую сумму. За самовольный уход крестьян сурово наказывали и возвращали к хозяину. Предпочитали поймать беглого и заставить его взять обратно землю и все связанные с ней повинности, чем конфисковать эту землю и передать ее другому держателю. «Даже маленькие участки, выделенные старшим представителем семьи работнику, не могли быть взяты им обратно, если работник платил налоги, исполнял службу, и даже в том случае, если он сам построил свой дом» [87, 109] на этой земле. Вообще акт постройки дома свидетельствовал в определенной мере о вступлении во владение той землей, на которой он был построен. Тибет — страна, имеющая благоприятные условия для развития скотоводства. Там налицо «три великие блага для скота — обилие соли в почве, отсутствие летом кусающих насекомых и простор выпасов» [31, 257]. В целом по Тибету 15 % населения занято только скотоводством [57, 268]. Скотоводческие районы Тибета лежат на его северо-западных, северных и северо-восточных окраинах, в Каме — к северу от Чамдо, в Уй и Цзане — в основном к югу от озера Ямдок. Пастбища расположены на высоте 4–5 тыс. м, скот пасут в долинах. У тибетцев-кочевников скотоводство экстенсивное, укрытий для скота кочевники, как правило, не сооружают. Тем не менее во многих местах скотоводы стараются сделать хотя бы минимальные запасы кормов на зиму. В Каме заготовленное на зиму сено свивалось в длинные жгуты и вешалось на изгороди и на ветви ближайших к дому деревьев [18, 28]. В земледельческих районах скот зимой подкармливают соломой и горохом. Главным домашним животным тибетцев был як: шалу — як-бык; ди — самка яка; чжо (дзо) — бык от скрещивания быка крупного рогатого скота и самки яка, чжомо (дзомо) — корова, помесь яка и коровы. Тибетцы также в большом количестве разводили овец, лошадей, коз, ослов, мулов. Верблюдов в Тибете не было. Роль скотоводства в жизни страны, несмотря на сравнительно небольшой процент населения, занимающегося только им, была велика, и это позволяет некоторым исследователям говорить о двойной морфологии жизни тибетцев, т. е. одна и та же группа населения может жить по-разному в зависимости от сезона (летом и зимой) или две группы населения — скотоводы и земледельцы, живущие по соседству, традиционно обмениваются продуктами своего труда. В тех местах, где сосуществовали скотоводство и земледелие, «когда наступало лето, то отправлялись на пастбища, где была хорошая трава, когда наступала осень, то возвращались в деревни, где была хорошая земля» [87, 94]. Нередко одно племя делится на две части — группу земледельцев, живущих в долине, и группу скотоводов, живущих на пастбищах. Обе группы имеют одно племенное имя и одного вождя. Есть группы скотоводов, которые имеют точно определенные пастбищные территории и постоянные зимние стоянки с домами, где вся группа, разбредшаяся летом, собирается зимой. При домах имеются стойла для скота и поля овса, обычно у каждой семьи отдельно. Овес скашивается на корм скоту зимой. В древнем Тибете цэнпо и знать зиму жили в укрепленных замках, а лето — во временных укрепленных летних лагерях, в палатках. Они разъезжали по стране, чтобы держать в повиновении подданных и собирать с них налоги. Такие летние лагеря были известны в XII и даже в XVII вв. Зажиточные тибетцы часто любили пожить летом в палатках, особенно во время путешествий. Группа населения, ведущая скотоводческое и земледельческое хозяйство, обычно контролировала не только пахотные земли, но и пастбища, целинные земли, леса, дороги и распределение воды. Як был воистину кормилец и поилец Тибета, недаром тибетскую цивилизацию иногда называют «цивилизацией яка». На яке и его помесях земледелец пахал свое поле, а потом боронил его бороной из ячьих рогов. Молоко и мясо яка составляли основу питания скотовода. «Даже кости яка не выбрасывают, а хранят месяцами под слоем камней, чтобы в голодный день сварить из них суп. Из ячьей шерсти вьют веревки, ткут полотнища палаток. А разве можно было бы прожить без аргала, сухого ячьего навоза, единственного топлива, которое человек может найти в этом горном краю» [26, 125]. Добавим к этому использование шкуры яка и вывоз хвостов яка в Индиго и Китай на опахала. Як также транспортное животное. Он везет 115–120 кг груза, проходит в день 15–20 км и ходит под вьюком до 30 лет. Ячиха — ди дает в день два литра молока, и оно обладает лучшими вкусовыми качествами. Стригут яков обычно в феврале, первую дойку коров проводят в четыре часа утра. Пасут яков, погоняя их свистом или окриком, отбившихся от стада водворяют на место камнями, которые пастухи ловко бросают с дальних расстояний при помощи специальной пращи. Стерегут стада огромные тибетские собаки, напоминающие по величине догов. Хорошо приспособлены к местным условиям и тибетские лошади. «Лошади тибетские небольшого роста с грубыми статями и длинною шерстью, но весьма сильные и выносливые, нрава смирного. Они довольствуются самым скудным кормом. Кроме травы, взамен зернового хлеба, едят сушеный творог (чуру), а некоторые даже сырое мясо. Тем и другим туземцы кормят своих коней, когда пастбища станут уж чересчур плохи, а также во время сильных зимних морозов. Родившись и выросши на громадной абсолютной высоте, тибетские лошади не чувствуют усталости в здешнем разреженном воздухе и с седоком на спине быстро взбираются даже по крутым горам. К такому лазанью применены и вполне ступковидные, не знающие подков копыта описываемых лошадей» [31, 257]. Все тибетские домашние животные «отличаются низким ростом и вообще некрасивым видом, но зато чрезвычайно выносливы и невзыскательны в пище и уходе за ними» [48, 172]. Тибетская овца — нао помимо обычного использования в хозяйстве (шерсть, мясо, молоко и т. д.) применяется еще и для перевозки грузов. Овца может нести через перевал 8–12 кг груза. Если овца везла груз на рынок, то и ее продавали там вместе с товаром. Свиноводство в Тибете, распространенное повсюду, выпасной характер носит лишь в Дагпо. Здесь разводят большие стада свиней в 200–300 голов, которые пасутся в лесах и на островах реки Цангпо, где нет хищников. В лесах свиней на ночь запирают в специальные загоны, а на островах часто оставляют прямо без присмотра. В скотоводческом хозяйстве идеальным считалось следующее соотношение животных: на сотню овец — 40 яков и четыре лошади. В Каме бедным считался тот, кто имел 50 овец, шесть яков и лошадь, богатым тот, кто имел 100 яков, 3 тыс. овец и 20 лошадей. Налог с животных исчислялся в размере 1 % с приносимых ими доходов [57, 266]. Кочевники платили дань вождям или покорившим их правителям, но, как правило, регулярного налога не вносили. Может быть, этим объясняется тот факт, что, по некоторым сведениям европейских наблюдателей, скотоводы в целом были состоятельнее горожан и крестьян. Кочевники Восточного Тибета — хорпа, подчинявшиеся лхасскому правительству, имели в каждой семье по три-четыре лошади, от 20 до 50 яков и от 100 до 300 овец и были обязаны поставлять правительству масло, шерсть и кожи [33, 41–42]. Были случаи, когда кочевники пасли не принадлежавший им скот. Так, в районе Тангла Ю. Н. Рерих встречал стадо яков в 500 голов, принадлежавшее торговцу из Нагчука. Со своего стада, отданного пастухам, торговец получал определенное количество шерсти, кож, масла и ячьих хвостов [33, 42]. Живут кочевники в черных палатках — банаг, сделанных из ткани, сотканной из черной шерсти яка. Палатку обычно натягивают не прямо над землей, а над невысокими стенами из глины и камня, возведенными у ее основания. Натягивают ее из двух полотнищ, связываемых веревками из ячьей шерсти на крыше и закрепленных на двух столбах, соединенных перекладиной. Вверху оставляют продолговатое отверстие для дыма и света. Стенки палатки удерживаются длинными веревками, закрепленными колышками в земле, иногда рогами яков, антилоп и т. д. Такая палатка имеет два входа, спереди и сзади. В середине ее находится один или несколько очагов. Вот как описывает банаг недавний очевидец: «Вокруг палатки прямоугольником сложена стена из аргала — лепешек сухого ячьего навоза. Это и запас топлива, и загон для овец. У входа в него навалено несколько сухих кустов тамариска, обвешанных тряпьем, которое колышется на ветру. По ночам это своеобразное пугало отпугивает волков… Мы входим внутрь палатки. Горьковатый дым аргала с непривычки ест глаза, сушит дыхание. Щель наверху, которая служит одновременно и окном и дымоходом, пропускает достаточно света, чтобы осмотреться. В глинобитных стенах сделаны ниши. В них, как в шкафчиках, сложена незатейливая утварь — деревянные ведерки, бычьи рога для дойки овец, медные ковши. На очаге из камней стоит прокопченный котел. Вдоль одной из стен сложены кожаные мешки с маслом и солью. В переднем углу перед глиняной фигуркой Будды теплится несколько лампад и висит серая от пыли хата. Тут же лежит допотопное ружье» [26, 139]. Палатка вождя всегда больше и выше других. Вождь мог иметь и несколько палаток: отдельную палатку-столовую с кухней, палатку для приемов, палатку-спальню. На стойбище всегда отдельно имеется и палатка-храм. Перед палаткой привязывали громадного голубоглазого пса. У тибетцев считается, что люди с голубыми глазами обладают способностью видеть в земле драгоценные металлы, а собаки — узнавать пришедших с дурными замыслами. В одном лагере могло быть до 15 палаток, хотя на большинстве стойбищ их обычно три или четыре. Число семей, живущих в одном месте, определялось качеством и удаленностью пастбищ, т. е. тем, сколько скота можно было прокормить подле лагеря на доступном от него расстоянии. Жизнь скотоводов проходила в непрестанном труде: «Первой в семье вставала старуха мать. Она приносила несколько лепешек аргала и раздувала меховым рукавом огонь в очаге. Жена, взяв деревянную кадушку, отправлялась к ручью за водой. Дочери уходили доить овец и яков» [26, 144]. Мужчины, особенно молодые, выгоняли на пастбища скот, старые и более опытные — пряли ячью шерсть, ткали из нее полотнища для палаток, вили веревка. Зимой мяли шкуры, шили на всю семью одежду и обувь. Женщины сбивали масло сразу же после каждой дойки, делали чуру, выкармливали ягнят и телят, которые всю весну жили вместе с людьми в одной палатке. Летом кочевники перегоняли скот на высокогорные пастбища, зимой спускались ниже, в теплые, солнечные долины. Массовый забой скота на мясо в Тибете обычно производился в ноябре. Туши замораживали, и мясо прекрасно сохранялось в замороженном виде. В тех местах, где пастбищ не хватало, скотоводы приарендовывали пастбища. Арендаторы пастбищ платили «ежегодно собственникам по два фунта масла с каждого яка-самки и по два фунта шерсти с каждой овцы» (11, 276–277]. Правительство также имело собственный скот, в частности табуны лошадей. Проблема собственности на пастбища является непростой и малоизученной, как и вопрос земельной собственности в Тибете в целом. У скотоводов, кочевников и полукочевников, особенно там, где сохранялась племенная организация, пастбища составляли собственность всей племенной группы, тогда как скот был собственностью отдельных семей. Согнать с пастбища племя можно было только военной силой: угрозой истребления или полным уничтожением. Истоки тибетской семьи корнями уходили в первобытнообщинную эпоху. Потомки от общего предка по мужской линии образовывали один руй— «кость», «клан» или «род», объединение экзогамное, ибо его члены не могли брать в жены женщину, принадлежащую к этому же клану. Жены, взятые из других кланов, назывались плотью — ша. Отцовская кость и материнская плоть давали нового члена тибетского общества. Брак был патрилокальным, т. е. жена приходила жить в семью мужа. В доисторическую эпоху в Тибете существовал кросскузенный брак, т. е. двоюродные братья и сестры могли вступать в брак между собой. Слово «шанг» в древности означало одновременно дядю по матери, деда по матери, а также тестя или свекра. Точно так же слова «цха» и «бон» (дбон) обозначали одновременно младшего сына, племянника (оба со стороны отца и матери) и зятя [87, 70]. В клане-кости группа отца и его братьев образовывала группу отцов и дядьев — пха-кху, а группа сыновей и их братьев (племянников) — группу старших и младших — пху-ну, допуская неразличение родных братьев и двоюродных — кузенов. Месть за убийство брата возлагалась как на родных братьев, так и на кузенов, а кузены и кузины одной кости называли себя братьями и сестрами. Экзогамный род назывался пха-спун, отцы и кузены или кузенные братья тех же отцов. Объединение находило свое выражение и в общем культе предка, божества отца — пхалха. В древнем и средневековом Тибете существовали три формы брака: моногамия, когда у одного мужа была одна жена (особенно характерно для Амдо); полигамия, когда у одного мужа было несколько жен (характерна для богатых семей), в древности существовал обычай брать в жены и сестер жены, особенно после смерти жены, а кроме того, брали нескольких жен из разных кланов по политическим, а иногда и культовым соображениям; и, наконец, полиандрия, когда у одной жены было несколько мужей одновременно. Полиандрия известна и у земледельцев, и у кочевников по всему Тибету, кроме Амдо. Обычно чаще всего имела место «братская полиандрия», когда несколько братьев имели одну жену. В таких случаях жена выполняла свои супружеские обязанности с каждым из братьев по очереди, которая велась очень строго [17, 168]. Один из братьев выставлял свою обувь у дверей спальни, чтобы другие братья могли знать о том, что он в данный момент находится с женой. Но одна женщина могла быть женой нескольких мужчин и не состоявших в родстве. Это было возможно тогда, когда женщина, будучи женой одного мужчины, добивалась его позволения быть женой и других, или же когда несколько друзей объявляли себя спунзла — братьями-кузенами, связанными клятвой, и брали себе на всех одну жену. Когда одну жену брали братья, то только старший брат выбирал женщину, и только один раз совершался брачный обряд, а остальные братья лишь фактически становились мужьями жены старшего брата и образовывали группу, которую представлял старший брат. Важно отметить, что и дети от такого брака не считались общими, а только старшего брата, который один рассматривался в качестве их подлинного отца. Только старший брат имел право на развод с женой, хотя для этого и требовалось согласие всех братьев. Любой младший брат мог взять себе свою жену, если он выделялся из семьи со своей землей, домом и женой. В этом случае он терял право на жену старшего брата и на имущество своей прежней семьи. Иногда младший из братьев мог иметь жену на стороне, так называемую «тайную жену». Эта жена стояла вне семьи мужа и, даже если у нее были дети, не получала какой-либо помощи. Землей и имуществом владела семья. Группа братьев делила одну жену, дом, землю, но их коллективная собственность была как бы сконцентрирована в личности старшего брата. Вся собственность любой тибетской семьи была нераздельной ее собственностью, представленной при любой форме брака ее главой. Известна еще одна форма полиандрии, когда к нескольким братьям с их согласия и с согласия их жены присоединялся посторонний мужчина, не состоявший в родстве с братьями. Делалось это в тех случаях, когда в семье не было детей и с помощью такой меры семья надеялась получить наследника. Если ребенок рождался, то он считался ребенком старшего брата. Если в большой неразделенной семье жили вместе женатые сыновья и племянники с родителями и дядьями, то бывали случаи, «когда дядя или отец мужа предъявляли права на его жену. В высших кругах признаются, как общее правило, супружеские права отца» [22, 123]. Если бедные люди в Тибете могли позволить себе вступить в брак по любви, то среди богатых брак чаще всего был имущественной сделкой. Брак устраивался родителями, не считавшимися с волеизъявлением будущих супругов, которые могли даже не знать друг друга. Преобладающей формой брака в Тибете во все времена была моногамия. Считают, что из 10 браков семь были моногамными, один полигамным и два — в форме полиандрии [60, 87]. Вдова с детьми, доказавшая, что она может способствовать продолжению рода, как правило, легко могла найти мужа моложе себя. Девушка, соглашавшаяся выйти замуж по любви, дарила суженому подвязки своих чулок, которые бережно хранились юношей. Свадебные обряды не были одинаковыми, а зависели от местности и состоятельности родителей жениха и невесты. У племени хорпа (Кам) невесту вначале похищали, а затем выплачивали за нее «возмещение убытков». Иногда церемония начиналась с того, что в дом невесты шли друзья жениха, неся с собой старую стрелу с новым бирюзовым наконечником. Стрела обертывалась в белые, красные, синие и желтые хадаки (куски материи). Эти цвета символизировали окружающую природу. Стрела, являющаяся символом вечности, указывала на вечную любовь, а бирюза — символ человеческой души — на глубину чувств жениха. Бело-красно-сине-желтый флаг (дахдар) вывешивался также на доме жениха. Невесту везли в дом жениха на недавно ожеребившейся кобыле, что должно было символизировать плодородие и предвещать много детей. Покидая дом родителей, невеста трижды кланялась домашнему алтарю, отцу и матери. По пути к дому жениха невеста должна была поплакать. На пороге дома жениха его мать подносила невесте кувшин молока. Невеста ставила его на очаг и, обмакнув в молоко пальцы, стряхивала в пламя несколько капель молока, принося жертву божеству домашнего очага этого дома в знак своего приобщения к нему. Затем она кланялась домашнему алтарю жениха и его родителям. Входящую в дом будущего мужа невесту заставляли наступить на мешок с зерном, прикрытый шкурой, для того чтобы в доме был достаток. С этой же целью на дверях дома рисовали кота с яшмой в зубах. Часто жених платил «цену груди» — делал теще подарок за воспитание дочери, его невесты. Нередко родители невесты, прежде чем дать жениху ответ, советовались с гадальщиками, будет ли счастлив брак их дочери. Иногда то же делали и родители жениха. Дурными женами могли стать девушки, родившиеся в год змеи, и поэтому им было намного труднее выйти замуж. Часть приданого невесты, в первую очередь земля, отдавалась ее родителями жениху только после рождения у молодых супругов первого ребенка. Не говоря уже о бедных семьях, даже в зажиточных женщина должна была постоянно работать. Снабжение семьи топливом и водой считалось чисто женским делом. Сурово наказывалась женская неверность. Муж, заставший свою жену с другим, прямо на месте преступления мог убить прелюбодеев или в наказание отрезать своей жене кончик носа. Развод в Тибете был допустим, как и повторные браки, сложность его заключалась в разделе детей и имущества семьи. Общим правилом считалось, что при распадении семьи сыновья остаются с отцом, а дочери с матерью. В остальном условия развода диктуются сопутствующими ему обстоятельствами, причиной, стороной, начавшей дело о разводе, и т. д. «Муж, желающий избавиться от жены и обвиняющий ее без оснований, в то время как она желает продолжать жить с ним, должен выплатить ей 12 шо золотом (около 90 рупий) и, сверх того, выдать два килограмма ячменя за день и столько же за каждую ночь, проведенную с ним со дня свадьбы. Все сделанные жене подарки остаются за ней, равно как и драгоценности, полученные ею от родственников. Когда ищет развода жена, а муж, признанный невиновным, желает продолжать жить с ней, то она за свою свободу должна заплатить деньгами или ценностями, вдвое превышающими стоимость принадлежащей ей обстановки. Если же невиновность мужа остается под сомнением, то жена имеет право выдать ему только один костюм и одну пару сапог, коврик, одеяло и шарф» [22, 123–124]. Имущество, положение семьи и, как правило, должность и ранг отца наследовал старший сын. Иногда отец сам выбирал наследника своего титула и семьи и подыскивал занятия для других сыновей. Если у старшего брата не было сыновей, то ему могла наследовать дочь при условии, что она брала мужа-зятя — томаг, который принимал ее имя, имя ее владений и поселялся у нее. Положение такого мужа-зятя было тяжелым и напоминало, скорее, положение раба. Его задача состояла в одном — он должен был обеспечить семье мужское потомство. Муж-зять не мог развестись с женой или сам стать наследником. Другим способом обеспечения преемственности было усыновление, в первую очередь родственника, а если такового не оказывалось, то и чужого. Усыновление, как и появление в семье мужа-зятя, допускалось в том случае, если против этого не возражал младший брат отца. Дядя сам мог наследовать старшему брату, даже в том случае, когда он был монахом. При этом он мог взять себе жену старшего брата, если она была не слишком старой, или другую жену. Иногда два-три сына разделяли титул и собственность семьи и сохраняли род посредством полиандрии, т. е. не создавали самостоятельных семей. В знатных феодальных семьях женатый брат, чаще всего старший, наследовал светскую власть и владения семьи по линии от отца к сыну, а его брат, чаще всего младший, религиозную власть и имущество секты, монастыря и т. п. по линии от дяди по отцу к племяннику. В нереформированных сектах, где настоятели могли официально жениться, один и тот же иерарх мог сосредоточить в своих руках светскую и религиозную власть. В некоторых сектах, например Сакьяпе, Бригунгпе (Дигунгпе), братья просто менялись местами — старший брат становился настоятелем, а младший женился. В клане Гар, управлявшем Дерге, старший брат становился настоятелем монастыря и держал в своих руках политическую и духовную власть Он не женился, но имел право состоять в брачных отношениях с женой своего младшего брата. Младший же брат женился, становился главой семьи и обеспечивал продолжение рода. Если в семье были еще и другие братья, то они становились монахами. Когда в семье был один сын, он становился монахом и женился, оставаясь и главой семьи, и настоятелем монастыря. Женщина сохраняла свои права на недвижимое имущество. Семья была основной экономической ячейкой тибетского общества. В земледельческих областях все ее трудоспособные члены работали на полях, в скотоводческих районах — пасли скот и были заняты утилизацией и обработкой продуктов скотоводства. Члены семьи работали и за тех своих сыновей и братьев, которые ушли в монахи (число женщин-монахинь в Тибете всегда было незначительным). В каждой семье с достатком, имевшей своего монаха в монастыре, существовало отдельное «поле ламы» — ламаи-шинг, доходы с которого шли исключительно на содержание и обучение этого монаха. Помимо земледельцев и скотоводов в Тибете были семьи, занимавшиеся преимущественно рыбной ловлей, охотой, каким-либо ремеслом, не говоря уже о горожанах-ремесленниках, и, конечно, торговлей. Рыбу ловили в реках и озерах сетями или удочкой, насаживая на крючок цзамбу. Пойманную рыбу солили или вялили. Реки и озера Тибета изобиловали рыбой, потому что далеко не всякий ловил и ел ее из-за религиозных соображений, а в лесах, горах и степях водилось много разного зверья. Охотник выходил на охоту с силками, в древности — с луком, позднее — с ружьем. Охотились преимущественно на пушного зверя и зверя, рога, жир, печень и другие части тела которого использовались для приготовления лекарств. Охота ради мяса стояла отнюдь не на первом месте. Охотники, как и рыбаки, по религиозным причинам считались людьми, покушавшимися на живое, а потому людьми одной категории с теми, кто не верит в Будду, т. е. людьми второго сорта. При монастырях и святых местах существовало много заповедных парков. Убийство животных в этих святых местах жестоко каралось: смертью, отсечением руки или ноги, ослеплением на один или даже на два глаза. Работа — источник благополучия. «Человека делает нищим не его страна, человека делает нищим неумение работать», — говорится в тибетской пословице. Тибетцы умели работать, и Тибет издавна славился продуктами ремесла, сукнами и разными шерстяными тканями, коврами, упряжью и изделиями из кожи, холодным оружием — кинжалами, мечами и т. п., художественным литьем из меди и бронзы, ювелирными изделиями. Отдельные районы Тибета были известны своими ремеслами на всю страну: Гьянцзе — производством ковров, Дерге — кинжалов, Нагчука — сбруи, Шигацзе — серебряных украшений. В Гьялцзе ткали «ковры двух родов: тибетские и обыкновенные. Тибетский ковер приготовляется из одноцветной шерсти, выкрашенной в коричневый, желтый, синий и зеленый цвета, и ткется узкими полосами, соединяемыми между собой простым пришиванием одной полосы к другой. Обыкновенными называют ковры из разноцветной шерсти с вытканными узорами… Все изделия приготовляются из чистой овечьей шерсти» [48, 383]. Производили ковры в специальных мастерских. В такой мастерской постоянно работало до сотни женщин. Производственные операции были разделены: одни очищали шерсть, другие мяли ее, третьи пряли, четвертые ткали и т. д. Шерсть окрашивалась в каменных чанах органическими и минеральными красителями. Станок был предельно прост — две параллельные жерди, между которыми натянута хлопчатобумажная основа. Контуры будущего рисунка ковра наносились заранее на основу. В мастерской поддерживалась суровая дисциплина. За опоздание на работу полагались плети, за кражу шерсти — плети и тюрьма [11, 276]. В Тибете «ткани ручной работы ткутся многих сортов, вообще тибетский простой народ сам ткет из овечьей шерсти ткани и главнейшие сукна» [39, 234]. Тибетский ткацкий станок представлял собой грубую деревянную раму, стыки которой связывали ремнями, с деревянным челноком. Одежду из тканей шили не только в каждой семье, но и специализировавшиеся на пошиве одежды ремесленники-портные. Работа портного считалась почетной. Портные шили и на дому, и в доме заказчика за харч и плату по договоренности. Работал тибетский портной самодельной железной иглой, вместо наперстка надевал на концы пальцев колпачки из твердой кожи. Хороший портной мог сшить шубу из овчины или суконный халат за два дня. Так же осуществлялся и пошив суконной обуви. Кухонную посуду тибетцы делали почти целиком из хорошо обожженной глины и глазуровали. На весь Тибет славились горшки и чашки из деревень Тапаг и Лхолин в Южном Тибете. Для производства глиняной посуды употреблялись вогнутые деревянные формы. Горшок лепился на них при помощи куска дерева или просто пальцев, форму по мере надобности мастер постепенно поворачивал. У богатых людей было немало посуды из красной и желтой меди. Глиняную посуду нередко отделывали серебром. Все изделия изготовлялись с большим художественным вкусом. «То, что сделано с мастерством, доставляет радость другим», — говорят тибетцы. Тибетцы были признанными мастерами выделки кож. Они могли не только придавать коже мягкость, но и окрашивать в красивые тона, особенно красные или зеленые. Обработка кож считалась не очень почетным делом. Кожевник работал с материалом, полученным в результате убийства живой твари. Шкуру домашнего или дикого животного вначале пять-шесть дней вымачивали в воде, затем очищали от шерсти и жира. После этого кожу мяли руками и ногами, выжимая из нее воду, втирали в нее масло, животное и растительное, и вывешивали на солнце, чтобы она пропиталась маслом. Далее кожу опять сворачивали и клали на вымочку на короткое время, снова растирали и растягивали руками или клали в кожаный мешок и мяли ногами. Обработанную таким образом кожу развешивали и били палками, затем двое, взявшись за края, дергали и растягивали ее до тех пор, пока она не становилась сухой и мягкой. Когда кожа была готова, ее окрашивали в разные цвета. Выделка кож была тяжелой работой, но недаром тибетцы говорили: «Если мы не будем делать тяжелой работы, мы не будем есть легкой пищи». Не была почетной в Тибете и профессия кузнеца. Кузнец делает орудия убийства, и поэтому наряду с теми, кто убивает, эта профессия находилась в конце списка профессий ремесленников по их почнтаемости. На первом месте были живописцы и медники — они создавали образы богов, затем шли ювелиры, ковровщики, плотники, каменщики и т. д. И наконец, кузнецы и мясники. Однако кузнецы, люди не очень уважаемые, были в Тибете большими мастерами и делали не только железные насадки к плугам, серпы, ножи, но и великолепные кинжалы с насечкой, мечи, разукрашенные разными рисунками, искусно сделанными резцом, и т. п. Широко славилось мастерство тибетских ювелиров. Они изготовляли серьги, кольца, гау — ящички для амулетов, носимые на груди, лампады, кубки и т. п. «На низком чурбаке сидит в своей каморке ювелир. Положив на крупную металлическую колодку серебряную монету, он бьет по ней молотком… Кусочек серебра постепенно расплющивается и приобретает форму чаши. Наверное, это будет лампада или кубок. Оглядев изделие придирчивым взглядом, ювелир берет молоточек поменьше и крохотную стамеску… Тихонько постукивает молоточек, пальцы едва заметно передвигают острие стамески. А на серебре, словно по волшебству, ложится чеканный узор: легендарная птица чол с человеческими руками, окруженная орнаментом из цветов лотоса» [26, 204]. Ювелирные изделия тибетцев инкрустировались голубой бирюзой и «ячьим глазом» — полупрозрачными оранжевыми сердоликами, темно-синим, с золотым блеском лазуритом, привозными кораллами. Золото для ювелирных работ добывалось по всему Тибету. Делалось это так. «Почва копалась прямо с поверхности не глубже, как на 2 фута. Орудием для такой работы служили несколько маленьких деревянных лопат вроде нашего совка, главным же образом развороченные на широком своем конце рога дикого яка. Для промывки употреблялись небольшие (фута 2 в длину и от 1 до 1 1/2 фута в ширину) деревянные корытца. Их наполняли золотоносною почвою и ставили тут же в речку под наклонную струю воды, которая уносила песок и гальку, оставляя на дне лишь более крупные кусочки золота; мелкий золотой песок также уносился водою, да за ним не стоило и гоняться при обилии крупных зернышек» [32, 213]. Дерево легче поддавалось обработке, чем металлы. Тибетские столяры делали из него низкие столики, шкафы для посуды, ложки, чашки для цзамбы, ковши, бочки для воды, молитвенные колеса, доски для письма и т. п. Столяр или плотник работал в доме заказчика, получая еду и плату за работу деньгами или продуктами: мясом, маслом, зерном и т. д. Мастерами своего дела были и тибетские каменотесы. «В Тибете каменосечцы достигали до высочайшей утонченности… Вырезаемые изображения людей и растений очень естественны», — писал китаец Ли Хуа-чжу, посетивший Тибет в середине второй половины XVIII в. [28, 169]. В городах ремесленники были объединены в цехи. Цех возглавлял мастер — цимо. Ремесленник часто сам делал и сам продавал изделие. Его дом был мастерской и лавкой одновременно. Часть своего заработка он должен был отдавать цеху. Мастер представлял ремесленников своего цеха перед властями. Состоя в цехе, ремесленник утрачивал в какой-то мере личную свободу, так как был лишен права покидать город без разрешения мастера. Мастер же распределял между ремесленниками повинности и налоги цеха, в частности назначал ремесленников на улу. В середине 50-х годов нашего века из 50 тыс. жителей Лхасы 15 тыс. составляли ремесленники [26, 103]. Одним из источников дохода богатых семей было ростовщичество. Процент при займах составлял 10–25 годовых, чаще всего в среднем — 16 годовых [57, 276]. Торговля, какая бы она ни была, меновая или на деньги, начиналась с дороги, а дорог в общепринятом смысле слова, так же как колесных повозок, в Тибете практически не было. Груз по тропам и караванным путям везли яки и овцы, а владельцы груза путешествовали верхом на тех же яках или лошадях. Расстояния измеряли «тем расстоянием, до которого доходит глаз», — коцзаца (оно составляло от 100 до 500 м) и полупереходами и переходами — цапо, кацза. Полупереход мог быть от 7,5 до 15 км. Вот как выглядела в середине XIX в. «большая дорога» — чжалам — из Южного Тибета в Лхасу: «Большая дорога на Лхасу, — писал С. Ч. Дас, — напоминала мне выбоистые проселки Индии. Колесного движения до сих пор нигде не встречал во время своих поездок, и, как я узнал, во всем Тибете о нем не имеют никакого представления» [11, 165]. Отсутствие дорог, особенно в горах, естественно, объяснялось не только полным невниманием к их строительству со стороны властей, но и трудностями прокладывания и поддержания в сложных природных условиях. Позвякивая колокольчиками, брели по тибетским дорогам-тропам караваны черных длинношерстных яков. Навьюченный на них груз был прикрыт от влаги, жары и холода плотными циновками, сплетенными из соломы. Перед отправлением в далекий путь путешествующие — торговцы, паломники, лица, едущие по делам, — составляли караваны и, соорудив из земли и дерна жертвенник, при участии лам сжигали на нем собранные со всех едущих масло, муку, благовония. Приглашенные ламы читали молитвы о благополучии в пути и благословляли оружие, предназначенное защитить путешествующих от разбойников. После прочтения молитв все уезжающие, разобрав оружие, ходили вокруг жертвенника с криком: «Лха джалло!» («Бог победит!») и собирались на сход выбирать главу каравана. Выбранный глава, вступив в должность, сам устанавливал распорядок дня и порядок движения каравана, время выступлений и привалов, места ночлегов и дневок для кормления и отдыха животных, следил за организацией безопасности каравана. Любые передвижения по Тибету осложнялись из-за переправ через многочисленные реки и речки. Там, где это было возможно, переправлялись всегда вброд. Иногда вброд переправлялись только животные, а людей перевозили на кодру — легких кожаных лодках (из шкур яков) на деревянном каркасе, прямоугольных по форме. Перевозчик, подыскивая клиентов, носил такую лодку вдоль берега реки прямо на себе. Более крупные кожаные лодки делались из гнутых палок и шкур четырех яков, сшитых вместе. Швы промазывались своеобразным клейстером, приготовленным из пшеничной муки и свиной крови. «Багаж и пассажиры размещаются на дне в кормовой части, гребец, один на лодку, садится на носу и гребет двумя веслами, обратившись лицом к корме» [48, 389]. Такие перевозчики обычно работали на себя и брали с пассажиров плату за перевоз. На больших реках, где переправы содержались постоянно, переправлялись на «водяных деревянных конях» — чхушингта. Длина такой лодки, сделанной из ореховых досок, с квадратными углами, «около пяти саженей, ширина в кормовой части около двух саженей, а в носовой — около сажени, дно плоское и животных ставят прямо на него» [48, 361]. Обычно такие лодки — пятивесельные, с двумя парами весел по бокам и одним кормовым, рулевым веслом. Команда парома часто была смешанной: и мужчины, и женщины. Такая лодка могла поднять 20 лошадей, дюжину людей и тонну груза [45, 228]. Большие барки были закреплены на канатах, которыми лодку подтягивали с берега. На больших, но мелких реках толкались шестами. Перевозчики в такт своим усилиям громко распевали песни. Через ручьи и речки сооружались мосты: с одного берега на другой перекидывались бревна или — на юге — толстые бамбуки и закреплялись камнями. Через некоторые реки были перекинуты цепные мосты, которые служили только для переправы людей. Две цепи параллельно на расстоянии примерно метра или полутора метров друг от друга натягивались через реку от быка к быку, которые, кстати, часто делались в форме чортенов. Между цепями протягивали кожаные ремни или веревки из шерсти яка, а на них укладывали узкие доски или жерди. По такому мосту мог пройти только один человек, да и то с риском свалиться в воду. Тем не менее эти мосты, особенно восемь знаменитых цепных мостов, выстроенных в XV в., бесспорно свидетельствуют о знакомстве тибетцев со строительной техникой и, по заключению специалистов, представляли «собою великолепный образец инженерной работы» [45, 230]. В некоторых местах переправы принадлежали монастырям, и плата за переезд поступала в их пользу. Путник ехал верхом на яке, лошади или муле. Это касалось и самых высокопоставленных лиц, равно светских и духовных, мужчин и женщин. Лишь пять человек в позднесредневековом Тибете составляли исключение: далай-лама, панчен-лама, регент и амбани могли пользоваться носилками-паланкином. Прочим это было запрещено, так как считалось «неприличным заставлять людей исполнять роль вьючного скота» [11, 167]. Трудности передвижения по тибетским дорогам часто приходилось испытывать торговцам. Торговым сезоном считались зимние месяцы, когда земледельцы были свободны от сельскохозяйственных работ, а кочевники меняли и продавали продукты скотоводства, накопленные за лето. В последние столетия все товары в Тибете имели цену в денежном выражении, но в основном торговля была меновой. Высшей денежной единицей Тибета являлся доцхад, в одном доцхаде было 50 сранг, а в одном сранге — 10 шо. Внутри страны обмен совершался в двух направлениях — земледельцы и скотоводы обменивались продуктами своего труда, а те и другие обменивали свои продукты у ремесленников на продукты ремесла, начиная от предметов первой необходимости и кончая украшениями и предметами роскоши. В больших городах, таких, как Лхаса, Шигацзе, Гьянцзе и другие, помимо рынков имелись постоянно работавшие лавки. Они образовывали торговые ряды. Оптовые сделки совершались в кредит, оформлялись на бумаге, иногда в случае заключения долговременных сделок с обязательством выплат в знак совершения договора ломали камень, и каждая из сторон хранила свою половину. Шкуру и голову проданной овцы отдавали продавцу, так как их стоимость не входила в плату за нее, покупающий оплачивал только мясо. На местах торговыми центрами были монастыри — центры культурной и духовной жизни района. В таких случаях монастырь облагал торгующих налогом. Монастырю, особенно на городских рынках, могли принадлежать и лавки, которые он сдавал торговцам в аренду, также за соответствующую плату. Обычно рынок открывался в 10 часов утра и торговля продолжалась три часа в день. На рынках вывешивали указы и объявления властей. Лавки ремесленников были прямо при мастерских — обычно отдельные комнаты или часть комнаты с дверью наружу, в которых был сложен напоказ готовый к продаже товар. Бродячие торговцы, приезжая на пастбища кочевников, раскидывали свои небольшие палатки рядом со стойбищем. Тибетцы всегда вели активный торговый обмен с соседями. В Китай ввозили шерсть, ячьи хвосты, кожи, сукно в обмен на сахар, хлопчатобумажные ткани, железные орудия, шелк, фарфор. Крупнейшими центрами этой торговли являлись города Синин и Дацзяньлу. С юга из-за Гималаев в обмен на те же товары, а также драгоценные металлы в Тибет везли рис (тибетцы называют Сикким Дрендусонг — «страна риса»), пряности, предметы роскоши, например кораллы, и хлопчатобумажные ткани. С иноземных купцов тибетские власти взимали пошлину в размере одной десятой стоимости привезенных ими товаров [40, 42]. Внешнюю торговлю поддерживали в основном не тибетские купцы, а непальцы — балпо и выходцы из Кашмира — хаче. Оптовыми торговцами в Лхасе часто были китайцы. «При этом нужно заметить, — писал о таких „китайцах“ Г. Ц. Цибиков, — что природных китайцев гораздо меньше, чем их потомков от тибетских матерей. Эти тибето-китайцы носят китайские костюмы, хотя часто не знают китайского языка» [48, 148). Не индивидуум, а семья или какая-либо иная социальная группа составляли и ячейку политической структуры средневекового тибетского общества. Первое место в иерархии принадлежало ламам, людям благословляющим, второе — представителям власти, людям, занимающим высокое общественное положение, которые вершат делами общества, третье — людям богатым, четвертое — людям родовитым, племенным и прочим вождям. В древнем Тибете особым почетом пользовались воины. В живой речи не только лексикой, но и грамматическими средствами выделялись три типа диалога: с равным, с высшим и с низшим. Семьи земледельцев объединялись в общины, кочевников — чаще всего в племена. Община каждой деревни управлялась старостой деревни, который собирал с крестьян налоги и передавал их государственному чиновнику или тому лицу, которое владело деревней. Старосту избирал сход, обычно на три года, но часто благодаря своему престижу, влиянию и богатству его переизбирали неоднократно. Сход мог снять старосту с должности. В некоторых случаях должность старосты становилась даже наследственной. Старосте помогал совет старейшин, который формировался самим старостой. Совет нередко выполнял функции суда. Староста и совет ведали землями общины — горными пастбищами, лесами, полями, на доходы с которых содержался храм общины, большими оросительными каналами. Иногда деревней правили двое старших — гонпо, причем один из них занимался внутренними делами деревни, а другой — сношением деревни с властями. Племя управлялось вождем, иногда избираемым. При вожде также был совет старейшин. Вождь мог быть избран старейшинами, которые, в свою очередь, были сами избраны племенем. Были племена, вообще не имевшие вождя, а управлявшиеся советом стариков. Вождь племени мог передать власть своему сыну, но только в том случае, если сын был сильным и способным человеком. Не все члены общины были равноправны. Право решать какие-нибудь дела принадлежало основным налогоплательщикам — треба, а владельцы мелких участков — арендаторы-дуджунг — не имели в деревне прав и жили там с позволения основных налогоплательщиков. Наиболее богатые семьи пользовались всеми правами, в том числе и административными, и извлекали выгоду из того, «что правительство рассматривало деревни… как политико-экономические корпорации и облагало деревню налогом больше как коллектив [в целом], чем отдельные семьи треба» [61, 6]. Для уплаты налога жители деревни подразделялись на «внутренние каны». Все налогоплательщики-треба были равны в правах, статус всех арендаторов-дуджунг был ниже статуса треба. Треба регулярно собирались на собрания, которые решали деревенские дела, в частности и вопросы уплаты налогов. Дуджунгн арендовали землю у треба и работали за плату на треба. В некоторых деревнях Центрального Тибета треба составляли лишь богатый высший слой крестьянства, а дуджунги — его основное большинство [61, 1–27]. В древности подданные цэнпо делились на «близких его сердцу», т. е. верных, преданных, и «далеких от его сердца», т. е. мятежных. Подданные приносили цэнпо клятвы верности: малые — раз в год, большие — раз в три года. При этом приносились в жертву животные и призывались в свидетели божества. Цэнпо тоже давал клятву подданным обеспечивать их благосостояние, безопасность и сохранять привилегии, данные им и их потомкам. Эти привилегии в первую очередь выражались в праве наследования должностей, т. е. в подборе кандидатов на должности из одних и тех же семей, родов, в частности в прямой передаче должности от отца к сыну. Кандидатство на должность существовало как институт. Кандидатами на должность становились юноши с 20 лет, и на одну должность могло быть от пяти до 13 кандидатов [67, 136–137]. Тибетское слово шунг — «правительство» одновременно означало и центр, поскольку правительство было центром, средоточием власти. С момента утверждения власти секты Гелугпа и далай-лам глава желтошапочной секты (далай-лама) стал признаваться всеми тибетцами, независимо от того, к какой секте они принадлежали, в качестве религиозного и политического лидера Тибета, символом всего тибетского, владыкой и владельцем Тибета, а его правительство стало рассматриваться в качестве центрального правительства. Это не мешало тому, что местные правители и иерархи не считали правомочными действия далай-ламы и его правительства, если тот обращался к их подданным не через них и их чиновников, а непосредственно. Далай-лама осуществлял функции власти через свое правительство. Оно состояло из двух силонов — премьер-министров, светского и духовного, двух советов: кашага — совета министров и игцана — совета монахов. При малолетних далай-ламах был регент, обычно из числа «живых будд» второго ранга, так называемых королевских перерожденцев. Как было официально провозглашено, «Тибет является страной, в которой политические и религиозные дела вершатся одновременно с главной целью проповеди буддизма и поисков счастья для всех душ на земле» [56, 80]. Примат духовной власти над светской выражался в том, что главой правительства был всегда монах. Кашаг — совет министров состоял из четырех министров — калонов: трех светских и одного монаха. Это был исполнительный орган далай-ламы, солидарно ответственный перед ним. Кашаг являлся высшей судебной инстанцией страны. Кашаг назначал и смещал губернаторов, издавал некоторые законы и декреты, но только по текущим делам, так как не являлся законодательным органом. Один из калонов, царонг шапе, был главнокомандующим тибетской армией и начальником монетного двора. Прочие калоны не возглавляли какие-либо управления, а обязаны были исполнять поручения далай-ламы и кашага, посещать заседания кашага и принимать участие в решении государственных дел. Кашаг собирался на свои заседания ежедневно, кроме субботы. По четвергам в заседании кашага принимал участие далай-лама. В этот день кашаг заседал во дворце Потала и на заседании обсуждались дела страны за истекшую неделю. Игцан — совет монахов состоял из четырех монахов-чиновников и ведал делами церкви. Он вел списки монастырей, монахов и служащих церковной иерархии страны, ведал имуществом церкви и был ответствен за обучение и подготовку монахов-администраторов. Непосредственно светским аппаратом управления и финансами страны ведал орган под названием цекханг. Его возглавляли четыре министра финансов — цепона, управлявших непосредственно светской администрацией. Цекханг ведал государственной собственностью, вел учет состояний светской знати и нес ответственность за подготовку светских чиновников. Теоретически законодательные функции с далай-ламой или действовавшим от его имени регентом разделяла национальная ассамблея — цонгду. В нее входили четыре члена игцана и четыре цепона, а также представители трех главных монастырей — Дрепунг, Сера и Галдан и несколько высших чиновников, всего обычно около 20 человек. Это был узкий, практически рабочий состав цонгду. Могла собираться и Большая национальная ассамблея, в которой были представлены все монастыри страны, но ее созывали крайне редко. Калоны в заседаниях, цонгду не участвовали. Им разрешалось только следить за ходом заседания цонгду из маленькой комнаты, расположенной по соседству с залом заседаний. Различными отраслями хозяйства и ведомствами руководили управления — сельского хозяйства, налоговое, почт и телеграфа, обороны и т. п. Часто в каждом из них было два начальника, один светский и один монах. Высшая местная администрация также имела двух начальников, светского и монаха, при этом считалось, что монах имел приоритет. Административно Тибет был поделен на 53 округа — дзоны (от дзон — «замок», «крепость»), возглавлявшихся двумя дзонпонами — начальниками округов, один из которых тоже был монах, а один — мирянин. Ряд городов и областей были выделены в самостоятельные административные единицы, управляемые губернаторами высших рангов. При дзонпонах были управления, ведавшие хозяйственными и религиозными делами округов. Будущие чиновники, светские и монахи, проходили предварительную подготовку, первые — как стажеры в правительственных учреждениях, а вторые — в специальной Высшей школе. Трижды в году чиновники игцана и цекханга представляли далай-ламе на утверждение возможных кандидатов на должности. Карьера чиновника начиналась с того момента, когда он получал должность. Все чиновники имели ранги, которые распределялись по семи разрядам — рим. Высшим был ранг, который, имел один далай-лама, вторым — ранг регента. Третий ранг имели калоны, четвертый — члены игцана и цекханга и местные правители высшего разряда. Дзонпоны наиболее важных округов получали пятый ранг, средних по значению округов — шестой, наименее важных округов и различные чиновники — седьмой. Чиновник назначался на службу обычно на три года, и только незначительная часть должностных лиц получала повторное назначение на ту же должность. Тибет разделялся на ряд больших полунезависимых областей, таких, как Сакья или владения панчен-ламы или крупнейших монастырей. Эти регионы, а также владения крупных знатных кланов контролировали более 50 % всех обрабатываемых земель, причем зачастую лучших. Правители этих областей имели сотни тысяч крестьян, личная свобода которых нередко была ограничена, ибо если крестьяне разных хозяйств вступали в брак, то они могли это сделать только с позволения своих хозяев. За работницу, которая в результате такого брака уходила от одного хозяина к другому, следовало платить выкуп. Такие регионы были полунезависимыми потому, что они не имели своих сил для поддержания порядка. Даже судебная власть их, дающая им право наказания за ряд преступлений, была неполной и неокончательной, так как их подданный всегда имел право обжаловать их решение у центрального правительства. Центральное правительство единовластно держало под своим контролем такие средства коммуникаций (общетибетская система — сациг), как почтовые ямские станции, учрежденные по всему Тибету на расстоянии 15–30 км друг от друга. Оно отливало монету и осуществляло все зарубежные контакты, в том числе и внешнюю торговлю. При всей сложности своей структуры и социальной иерархии тибетское средневековое общество подразделялось на два основных класса: класс трудящихся, крестьян, скотоводов, ремесленников, положение которых было очень близким к положению крепостных, и класс духовных и светских феодалов, иерархов церкви и «живых будд», членов аристократических кланов и сановников, чиновников центрального и местного аппарата управления, которые составляли господствующий класс тибетского общества, ориентированный главным образом на то, чтобы обеспечивать для себя постоянный приток богатств. Тибет был государством церковным. Обычай отдавать в монахи младших братьев в семье укреплял контакты между властью светской и церковной, хотя и не исключал постоянных трений между ними. Роль церкви в жизни страны можно проиллюстрировать следующими цифрами. По переписи 1663 г., в Тибете насчитывалось 1800 монастырей со 100 тыс. монахов и монахинь. В 1885 г. только монастырей секты Гелугпа было 1026 и в них 491 242 монаха, а всего в Тибете на конец XIX в. было 2500 монастырей с 760 тыс. монахов и монахинь, что составляло одну пятую часть всего населения страны. На начало XX в. население Лхасы составляло 40 тыс. человек, а в трех больших соседних монастырях — Галдан, Сера и Дрепунг — в это же время было 20 тыс. монахов [57, 57]. Монастыри были освобождены от налогов, контролировали обширные земли с большим числом крестьян и осуществляли в своих владениях некоторые функции власти, например имели право суда за незначительные преступления. К этому следует добавить доходы монастырей от совершения различных обрядов для верующих. Владельцем всех имуществ и доходов монастыря могла рассматриваться или вся братия, представленная управляющим делами монастыря, или одно лицо — его настоятель, прежде всего в тех случаях, когда это был видный перерожденец. Внутри монастыря имущественного равенства между монахами не было. Они и происходили из разных по состоятельности семей, а кроме того, монахи имели свою собственность, могли заниматься торговлей и имели личные доходы от совершения каких-либо обрядов для верующих. Бедные монахи работали в качестве слуг богатых коллег. В старых сектах, где монахам можно было жениться, женатые монахи жили в деревнях и занимались хлебопашеством. Но и бедные монахи Гелугпы в период сева и страды часто уходили домой в деревню, чтобы помочь семье в сельскохозяйственных работах. Не имея средств долго учиться, бедные монахи обычно не получали хорошего образования и оставались полуграмотными, а некоторые и неграмотными. Наука стоила недешево, еще тибетский поэт Миларепа говаривал: «Невозможно обойтись без подарков, без имущества не познаешь религии» [87, 121]. В больших монастырях существовали военизированные отряды монахов — добдоб, которые несли караульную службу, обеспечивали порядок на праздниках, например во время монлама в Лхасе, приводили в исполнение приговоры, связанные с телесными наказаниями, и т. п. Добдобы носили особую форму, а волосы укладывали в прическу, похожую на закрученные за уши рога барана. «Духовенство, по законам религии, считается „вышедшим из дому“, поэтому оно свободно от податей и подчиняется только своей монастырской администрации» [48, 151]. В администрацию монастыря входили настоятель, который назначался на три года, шамо — «правитель добродетели великого собрания», следивший за соблюдением монашеской дисциплины и выполнявший обязанности судьи (назначался на один год), и шабдогпа — помощник шамо (назначался на шесть месяцев). Каждый внутренний подраздел монастыря — дацан управлялся теми же административными лицами. Нравы в тибетских монастырях зачастую, как говорится, оставляли желать лучшего. «В наши дни, — писал автор XVIII в., — ламы убивают животных и вкушают их мясо и кровь, не испытывая ни малейшего стыда» [87, 123], Многие путешественники отмечают, что монахи постоянно вступали в связь с женщинами вне монастыря, а в самих монастырях процветал гомосексуализм. В списке сексуальных связей, считавшихся у тибетцев наиболее предосудительными, указана и связь учителя и ученика. А в XVI в. от монастыря к монастырю бродил певец и поэт Дугпа Кунлег, в песнях своих высмеивавший монастырские порядки:III. БОГИ
Могущественный владыка-всевышний зрит издалека Все наши деяния, словно они совершаются близко. Боги знают все, что делают люди, хотя люди Склонны скрывать свои поступки.(«Ахтарваведа»)
Человек совершает жертвоприношения, говоря богу: «Если Ты дашь мне, я дам Тебе; Если Ты наградишь меня, я награжу Тебя».(«Ваджасанея-самхита»)
1. Бон первоначальный
Все знают, что религия Тибета — буддизм, который проник туда в VII в. н. э. из Индии. А была ли религия в Тибете до буддизма? И если да, что она собой представляла? И оказала ли эта религия сопротивление проникновению буддизма? И наконец, самое главное — какова ее судьба? Надписи на каменных обелисках VIII–IX вв. и Дуньхуанские хроники IX–X вв. не содержат названий древней тибетской религии. Но эти ранние источники называют священнослужителей, которые совершали явно не буддийские обряды, — бонпо и шен («заклинатель» и «жертвователь»). Бонпо, как говорилось ранее, якобы встречали вместе с главами племен легендарного Ньятри-цэнпо, первого верховного владыку Тибета. Тибетские авторы традиционно считают их самыми ранними служителями религии бон. О происхождении шен можно узнать только из поздних (XIV–XVI вв.) бонских источников, весьма немногочисленных, где их появление расценивается как начало новой бон. Чем же характеризуются верования тибетцев в то далекое время, когда не было буддизма? Они были убеждены, что мир населен множеством духов, очень обидчивых и мстительных. Человек должен вести себя так, чтобы как можно меньше мешать им, как можно реже становиться у них на пути, потому что врожденная мстительность духов легко выльется в действия, которые принесут человеку несчастья, болезни и даже смерть. Каждая гора, река, озеро, дерево и поле имели своих духов, позднее ставших божествами, которых требовалось задабривать жертвами, чтобы без страха, сомнений и грозных последствий пользоваться плодами землепашества, скотоводства, охоты и рыболовства. Все эти божества делились на три больших класса: боги неба, воздуха и земли. Соответственно и мир состоял из трех частей: неба, воздуха и земли. Место воздуха мог занять подземный мир, поэтому в этом варианте вселенная подразделялась на небо, землю и подземный мир. Небесная область богов была белого цвета, земная область людей — красного и нижний мир водяных богов — синего цвета. Через все области, или сферы, прорастало громадное мировое дерево. Оно — путь, по которому сферы общаются между собой. Культ мирового дерева известен у многих народов. Он — следствие одухотворения и почитания деревьев, которые рассматривались как вместилище божественного духа. Боги неба, воздуха и земли не любили делать добрые дела даром. Они очень легко мстили людям, которые приносили мало жертв. Так, болезни на людей, если те вели себя непочтительно, насылали боги Ньян. Каждая гора имела свое персональное божество, и все они объединялись в группу Ньян. Место божества в иерархии горных богов нередко определялось тем, насколько высока и труднодоступна была гора, имя которой оно носило. На юге Тибета самыми великими и могущественными горными богами были те, которые носили имена высочайших вершин Гималаев, в том числе Джомолунгмы (Эверест) и Канченджонги, хотя они и находились за пределами тибетской территории. К группе Ньян относились также духи скал, камней и деревьев. Старые тибетские народные песни иногда упоминают Ньян солнца, луны и звезд, что придает этим божествам более всеобщий характер и почти повсеместное распространение. Появлялись Ньян в виде бесплотных призраков из тумана. Важной особенностью Ньян следует признать преобладание в их поведении враждебности к людям. Боги Лу обитали в воде рек, озер, родников и колодцев, Садаги («Хозяева земли») занимали поверхность земли.2. Принц Сиддхартха становится буддой Шакьямуни
Шли затяжные дожди. Караван встал. Цаньян Джамцо рад этому, он давно устал. Не телом — нет, только духом. Но, видно, нет большей усталости, чем эта. Заночевали в палатке, на стойбище скотоводов. Тускло светила масляная лампа. Цаньян Джамцо взял из небольшого тюка сверток, размотал ремешок, развернул шелк, ослепительно желтый, как солнце, и поднял деревянную крышку. Да, не первый раз в чтении древних книг он ищет отдохновение для души. Рукопись была не толще ладони. Стопка черных лакированных листов; шесть строк каждого листа были попеременно написаны золотом и серебром. Он прочел название: «На языке Тибета — Великая поэма под названием „Жизнь Будды“». Да, Ашвагхоша, автор этого стихотворного описания жизни Учителя, был великим поэтом Индии, целиком преданным проповеди единственного истинного, по его убеждению, Учения, которое поведал миру Шакьямуни. И Цаньян Джамцо вспомнил старинную легенду. Говорят, что как-то Шакьямуни гулял с учениками в чудесном парке. Соловей, увидев Будду, ощутил прилив небывалого счастья и спел так прекрасно, что Будда растрогался и сказал: «Пусть в следующем рождении он будет человеком». Так и случилось. Соловей родился человеком, который получил имя Ашвагхоша («Голос коня»), могучий и трепетный голос поэта. Цаньян Джамцо читал рукопись медленно, часто откладывал ее и задумывался. Перед его мысленным взором проходила жизнь Шакьямуни, навечно запечатленная в чеканных строках Ашвагхоши. Где-то в северной части долины Ганга, почти у самых Гималайских гор, находилось могучее государство племени шакьев, в котором царствовал род Гаутама. Столицей царства был самый красивый город на земле — Капилавасту. В один прекрасный день бодхисаттва («Тот, чья сущность — знание»; существо, которое в силу святости может стать буддой, но откладывает это, чтобы руководить спасением других) вошел в виде белого слона с шестью клыками в бок царицы Майи, супруги царя, правителя Капилавасту. Так свершилось непорочное зачатие. Таким же было и рождение: сын чудесным образом родился из бока матери. Новорожденный сразу же сделал семь шагов по земле. Престарелый придворный мудрец услышал голос неба: «Для знанья высочайшего родился царевич». Затем он увидел на теле новорожденного знаки высокого рождения (на детской ступне был знак колеса, между бровями — светлый круг волос и т. д.) и оповестил царя о прекрасном будущем наследника, который уйдет из дома и оставит царство, чтобы познать высшую правду и открыть ее миру. Поэтому царевичу и дали имя Сиддхартха («Исполняющий предназначение»). Царь-отец был искренне рад такому пророчеству, но все же не хотел лишаться сына и наследника. Он сделал все, чтобы оградить сына от близкого знакомства с той жизнью, которая окружала дворец. Жизнь Сиддхартхи текла без тревог и волнений, он видел только светлые ее стороны. Вскоре он вырос, возмужал, женился, и его жена Ясодхара, прекраснейшая из прекрасных, родила ему сына Рахулу. Так безмятежно прожил Сиддхартха до 29 лет. Но как-то отправился он в золотой колеснице в лес, чтобы насладиться пением птиц. И по дороге туда вдруг увидел дряхлого старика, образ которого сотворили боги специально для этой встречи, чтобы царевич познакомился со всеми сторонами жизни и обрел просветление. Сиддхартха, необычайно удивленный, спросил возницу:3. Буддизм. Краткая история и сущность учения
Едва ли не самым сложным в истории буддизма следует признать выяснение обстоятельств и причин его зарождения, так как сведения об этом можно почерпнуть в основном из буддийских же сочинений, появившихся через несколько веков после фактического оформления вероучения и созданных панегирически настроенными авторами в древней Индии. Ослабление общинных и родоплеменных связей, развитие рабовладения и изменение форм государственности способствовали увеличению числа людей, которые не могли найти себе места в обществе. Время возникновения буддизма было периодом и большого духовного брожения в жизни древнеиндийского общества. «В VI–V вв. до н. э., в период, непосредственно предшествовавший зарождению буддизма, Индия бурлила от философских спекуляций. Возникло огромное разнообразие взглядов и систем, активно распространявшихся среди различных классов населения» [86, 2]. Новая философия часто отрицала не только старую философию, но и старый уклад жизни, включая систему варн (сословно-кастовое деление общества) и ее идеологию — ведийскую религию. Отношение буддизма к ведийской религии не ограничивалось простым ее отрицанием. Буддизм многое взял из нее. Так, ведийская религия учила, что в живом существе главное не материальное тело, которое не способно чувствовать, мыслить, желать, а поэтому смертно, но бесплотная душа, которая — и только она — познает мир и по этой причине бессмертна. Когда гибнет бренное тело, то самое ценное — душа — переселяется в другое тело. Все живое после смерти рождается снова, и этот круговорот перерождений (сансара) вечен. Учение о цепи перерождении мы видим и в буддизме (хотя он и отрицает существование души, но признает передачу индивидуального духовного начала человека, о чем скажем далее), который «спасением» считает прекращение рождений. Из ведийской религии заимствован и закон кармы (карма — «деяние»), который управляет порядком перерождений: добрые дела в данном рождении позволяют родиться в будущем в той телесной оболочке, которая будет принадлежать человеку более высокого общественного положения. Так, раб может стать в следующем перерождении царем, а злые дела царя могут заставить его родиться животным. Ряд ведийских богов (например, Брахма и Вишвакарма) заняли почетное место в буддизме, который заимствовал и ведийскую религиозную символику (почитание знака свастики, лотоса, погребальных ступ и т. д.). Буддийские проповедники не столько отрицали истинность ведийского вероучения, сколько объявляли следование ему совершенно недостаточным для «спасения», т. е. прекращения рождений в мире страданий. Самая древняя часть буддийского канона, содержащая основу вероучения, была зафиксирована письменной традицией только через несколько веков. Буддийскаятрадиция, естественно, объявила буддизм созданием одного человека, обладателя сверхъестественных качеств, который, обретя истину, стал Буддой. Буддисты считают, что в мире было, есть и будет бесчисленное множество будд. Каждый из них приходит к людям, чтобы возвестить истинный Закон, или Дхарму (учение буддизма) (см. стр. 185–186). Это происходит во время кальпы, понятие которой также заимствовано из ведийской религии, где оно обозначает период времени, равный существованию вселенной. К концу кальпы все погрязает во тьме невежества и появляется множество несовершенных учений о спасении. И только своевременный приход Будды, подобно солнцу, рассеивает тьму. Поэтому и приход в мир Будды Шакьямуни также фатально предрешен. Его «явление» происходит именно с целью спасения всех живых существ. Прежде чем прийти в мир в качестве Шакьямуни, он имел множество перерождений, из которых несколько сот описаны в 547 джатаках (рассказах о перерождениях Шакьямуни) на пали, языке древней Индии [68]. Наиболее древние жизнеописания Будды Шакьямуни были составлены через 400–600 лет после его предполагаемой смерти. Тем не менее современная наука согласна признать проповедника Шакьямуни реально существовавшим историческим лицом, но не как единственного создателя буддийской религии, а как основателя или участника основания буддийской монашеской общины (сангха) и наставника, чья теоретическая и практическая деятельность способствовала рождению буддийского вероучения [6, 430]. Буддийская традиция считает, что Шакьямуни жил с 623 по 543 г. до н. э., большинство ученых — в 564–483 гг. Как уже говорилось, биография Будды Шакьямуни оформилась значительно позднее появления самого буддизма. Легендарная биография Шакьямуни в основных своих пунктах повторяет традиционный жизненный путь древнеиндийского брахмана, последователя ведийской религии, который в своей жизни должен был накопить имущество, создать семью и затем уйти в аскеты, чтобы отречением от мира страданий и грехов получить спасение и слиться путем созерцания с богом Брахмой. Необычайно велика популярность образа Будды, созданного буддийской биографической традицией. Под разными именами этот образ можно обнаружить в христианской, мусульманской, манихейской и зороастрийской религиях. Например, под именем Иосафата он с XVI в. входит в круг канонизированных святых христианской церкви. Это произошло благодаря популярности «Повести о Варлааме и царевиче Иоасафе», которая попала в Европу с Востока. Буддийская литература объединяется в собрание канонических текстов, которое называется Трипитака («Три корзины Учения») и состоит из трех больших частей: Винайя-питака («Корзина устава», т. е. дисциплинарный кодекс), где излагаются правила приема в монашескую общину и исключения из нее, нормы поведения монахов и мирян, перечень 227 проступков и соответствующих им наказаний; Сутра-питака («Корзина изречений Учителя», «Корзина наставлений Учителя»), в которой содержатся изречения, беседы, проповеди якобы самого Будды, поведавшего учение; Абхидхарма-питака («Корзина объяснений Учения»), где комментируется в метафизическом и этико-психологическом планах содержание второго раздела, т. е. Сутра-питаки. Хотя большинство ученых и считает проповедника Шакьямуни реальным историческим лицом, они полагают, что нет никаких точных свидетельств истинной принадлежности даже одного слова какого-либо канонического текста самому Шакьямуни. Поэтому тот буддизм, каким мы его знаем, основываясь на канонических текстах, вполне мог иметь определенные отличия от учения, которое проповедовалось при жизни Шакьямуни. Канонические буддийские тексты главным в деятельности Будды Шакьямуни считают открытие «мира страданий» и пути выхода из него. Буддийская традиция настойчиво подчеркивает, что он объявил совершенно бесполезным тратить время и духовные силы на схоластические споры и метафизические размышления, когда все живое вокруг страдает. «Он просил своих последователей отвернуться от „мнений, касающихся начала и будущего вещей“, ибо какой толк в том, чтобы вести себя подобно глупцу, который, будучи пронзенным стрелой в бок, тратит время на размышление о том, откуда она взялась и кто ее изготовил, вместо того чтобы сразу же вытащить ее вон» [49, 179]. Буддийские тексты утверждают, что Шакьямуни просто-напросто отказался отвечать на вопросы о том, есть ли душа у человека, отлична ли она от тела, бессмертна ли, конечен или бесконечен мир, бессмертен или смертен тот, кто познал истину, не будет ли познавший истину одновременно смертен и бессмертен и т. д. Традиция выделяет эти вопросы и называет их «десятью неразрешимыми». Вместо бесполезных попыток разрешить подобные метафизические проблемы следует стремиться ответить на практические вопросы дела «освобождения от страданий»: что такое страдание, каково его происхождение и каков путь его прекращения. Именно ответы на эти вопросы и составляют, по мнению буддийской традиции, главное в буддизме — учение о «четырех благородных истинах», поведанное Шакьямуни уже в первой проповеди в Бенаресе. Буддийская теория считает, что Шакьямуни стал Буддой, т. е. достиг «просветления», только тогда, когда под деревом бодхи прошел решающую ступень познания истины — открыл наличие «четырех благородных истин» и так называемый «восьмеричный путь», изложение которых — основное в большинстве проповедей Шакьямуни. Первая истина. Все есть страдание. Жизнь всегда и везде приносит неисчислимое множество страданий, моральных и физических. «Вот, о монахи, благородная истина о страдании. Рождение есть страдание, старость есть страдание, болезнь есть страдание, соединение с нелюбимым есть страдание, разлука с любимым есть страдание, всякое неудовлетворенное желание есть страдание; короче говоря, пятикратная привязанность (к земному) есть страдание» — так сказано в первой (бенаресской) проповеди Шакьямуни [49, 177]. Как и всякая религия, буддизм явно преувеличивает количество страдания в мире, намеренно концентрируя внимание на мрачных, мучительных сторонах жизни, потому что в этом случае буддийский путь освобождения от страданий приобретает особую «истинность» и «ценность». Чем лучше мир, тем бесполезнее любая религия. Буддизм, даже будучи глубоко проникнутым пессимизмом, тем не менее не впадает в полную безысходность, так как верит в способность человека к моральному усовершенствованию, нравственному перевоспитанию и конечному спасению. Но это «спасение» (т. е. освобождение от страданий) может быть достигнуто не сразу, не скоро, а через бесчисленное количество перерождений. Позднее, в первых веках нашей эры, в буддизме оформилось учение о более быстром спасении с помощью магии, которая может способствовать достижению просветления даже в течение одной жизни. Вторая истина. «Вот, о монахи, благородная истина об источнике страдания: это — жажда (бытия), ведущая от рождения к рождению, связанная со страстью и желанием, находящая удовлетворение там и тут, а именно: жажда удовольствий, жажда бытия, жажда могущества» [49, 177]. Все имеет свою причину. Ничто не происходит случайно, без причины, ничто не исчезает бесследно, безрезультатно. Каждое страдание имеет свои причины, главная из которых — неуемная жажда жизни. Существует цепь причинной зависимости страдания, состоящая из 12 звеньев, вытекающих последовательно одно из другого. Эти 12 звеньев обычно группируются в три большие группы: I. Элементы прошлой жизни (неведение; заблуждение; впечатления). II. Элементы настоящей жизни (первоначальное сознание; тело и разум; шесть органов чувств; чувственное соприкосновение; чувственное восприятие; жажда, желание; привязанность). III. Элементы будущей жизни (стремление к бытию; новое рождение; старость; смерть). Здесь совершенно четко прослеживается беспрерывность процесса существования, что буддистами часто символически изображается в виде колеса жизни (безначальный круг существований). В этом случае цепь причинной зависимости трактуется как состоящая из последовательных фаз бытия. В схеме причинной зависимости проявляется закон кармы. Жажда бытия, желания, стимулированные неведением (а то и невежеством), вызывают волевое стремление жить, которое проявляется в соответствующем действии. Карма — сумма хороших и плохих поступков человека, влияющих на его последующее рождение. Человек, который рождается, — совершенно новое существо душой и телом, но в то же время, согласно закону кармы, — наследник действий того, кто умер. Закон кармы объяснял различия, существующие между людьми (почему один богат, а другой — беден, один здоров, другой — болен и т. д.), их заслугами и прегрешениями в прошлой жизни. Из теории причинной зависимости происхождения всего сущего вытекает теория преходящей природы вещей. Все подвержено изменению, в мире нет ничего постоянного. Имеющее начало имеет и конец. Буддийская теория «мгновенности» («моментальности»), тесно примыкающая к теории зависимого происхождения, считает, что проявления всего могут существовать неизменными только в течение необычайно малого отрезка времени, равного, например, вспышке молнии. Но эти проявления существуют в сознании, которое буддизм сравнивает со светильником, пламя которого состоит из мгновенных последовательных вспышек. Нет неизменного потока пламени, как нет и неизменного потока мысли, все изменяется, и эти перемены имеют причины. Такой взгляд на изменчивость всего можно назвать стихийно диалектическим: все находится в движении, все изменяется, «все есть» и «все не есть», все взаимосвязано и взаимообусловлено. Но этот диалектический взгляд использовался в основном для того, чтобы доказать грядущую гибель всего сущего и необходимость борьбы за свое спасение в нирване: нет вечного бытия, вечно только изменение (рождение и смерть); безначален не окружающий мир, но волнение дхарм (см. стр. 185–186), которое со временем прекратится, так как мир волнующихся дхарм (т. е. сансара) постепенно (один комплекс дхарм за другим) придет к вечному успокоению (т. е. к нирване). Третья истина. Только освобождение от всех желаний дарует прекращение страданий. «Вот, о монахи, благородная истина о прекращении страдания: это уничтожение жажды путем полного подавления желания, ее удаление и изгнание, отделение самого себя от нее, ее недопущение» [49, 177]. Вторая «благородная истина» утверждает причинную зависимость страданий от различных определяющих условий. Третья истина является логическим развитием второй, так как считает, что если есть причины, вызывающие страдания, то устранение этих причин вызовет желанное прекращение страданий. Избавление от страданий соответствует достижению нирваны, когда человек освобождается от участия в постоянном процессе возрождения. Именно нирвана — конечная цель буддизма. Если ведийская религия считала, что число страданий прямо связано с числом и тяжестью грехов в предшествующем рождении (прекращение грехов — прекращение страданий), то буддизм, сохраняя эту связь между грехом в одном рождении и страданием в последующем, добавил положение, утверждающее, что действительное прекращение страданий возможно только с прекращением рождений, т. е. с достижением нирваны. Четвертая истина. Прекращение страданий возможно только при следовании по определенному пути, указанному Буддой. «Вот, о монахи, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страданий. Это священный восьмеричный путь, а именно: праведная вера, праведное намерение, праведная речь, праведные поступки, праведный образ жизни, праведное стремление, праведная память, праведное самососредоточение» [49, 177]. Эти восемь ступеней имеют весьма конкретный характер. Так, «праведная вера» означает веру в истинность буддийского учения, и прежде всего в решающую роль «четырех благородных истин», для освобождения от страданий. А «праведное намерение» заключается в необходимости вести себя так, как того требуют эти же четыре истины. Важным условием «праведных поступков» является заповедь не причинять ни малейшего вреда любому живому существу. И остальные ступени этого «пути спасения» трактуются в том же сугубо практическом смысле. «Праведная память» расшифровывается как постоянное присутствие мыслей о том, что сделано на «праведном пути» и что еще надо совершить. Человеческая память не должна удерживать впечатления, связанные с земным существованием, это способствует уходу от любой связи с земным миром. Тем более что внешний мир всегда был, есть и будет всего лишь иллюзией. И наконец, «праведное самососредоточение» (самосозерцание, самоуглубление и т. д.) — последний и самый важный шаг из всех восьми, который состоит в том, чтобы добиваться максимальной отрешенности от всех земных дел и привязанностей, чтобы достичь глубочайшего внутреннего покоя и самой полной невозмутимости духа. И при этом надо исключить даже небольшое проявление малейшего чувства радости и удовлетворения по поводу благополучного совершения предыдущих семи шагов. Тот, кто благополучно пройдет весь восьмеричный путь, достигнет нирваны, т. е. настоящего освобождения от страданий. Найти реальный путь устранения страданий в древней Индии середины I тысячелетия до н. э. было, конечно, невозможно, и поэтому буддизм нашел тот путь, который представлялся его основателям истинным: «…осуществить такое психологическое преобразование личности, при котором чувство переживаемого несчастья может быть преодолено» [49, 189]. Но подобное преобразование являет собой цель, скорее, идеальную, чем реальную, так как не сопровождается какими-либо социально-экономическими переменами. Призыв к людям избавляться от страданий, следуя по пути религии, содержится в третьей истине, которая в зародыше содержит концепцию нирваны, этой главной и вожделенной цели каждого буддиста. Нирвана — состояние покоя, безмятежности, не жизнь, но и не смерть, а своего рода сверхбытие, высшее духовное и физическое состояние человека, все ощущения которого, т. е. жизнедеятельность, сосредоточены в нулевой точке. В нирване нет пространства, времени, желаний, нет ни бытия, ни небытия. Теория нирваны — теория спасения от мира страданий путем ухода из него в какое-то другое, неземное существование. Утверждается, что в нирване прекращается действие закона кармы, человек более не возрождается и тем самым покидает круговорот бытия, т. е. сансару. Дхармы, составляющие тело и духовное начало человека, также приходят в состояние покоя. Теория дхарм характеризуется большой сложностью. Она разрабатывалась многими буддийскими авторами на протяжении почти тысячи лет. Надо иметь в виду, что в буддизме слово «дхарма» обозначает как буддийскую религию, буддийское вероучение, так и мельчайшие элементы, составляющие проявления бытия. Как известно, буддизм (большая часть его школ) отрицает существование внешнего мира, который объявлен иллюзией, миражем человеческого сознания. «Кто смотрит на мир, как смотрят на пузырь, как смотрят на мираж, того не видит царь смерти», — утверждает Дхаммапада [13, 88]. Если человек видит солнце, то это не значит, что солнце существует, «с буддийской точки зрения самостоятельно существующих неодушевленных предметов нет: солнце, камень и т. д. всего только мимолетные образования на фоне потока сознательной жизни с ее содержанием; предметы внешнего мира существуют только в смысле временных иллюзий; то, что скрывается за ними, рассматривается как результат проявлений дхарм» [37, 216]. Но нет не только солнца, которое видит человек, нет и самого человека. «С буддийской точки зрения не может быть речи ни о „вещах в себе“, ни о „я в себе“. Ведь объект и субъект — одинаковым образом иллюзии, и только вместе, как одно целое, они восходят к потоку дхарм» [37, 216–217]. Но следует заметить, что отношение буддизма к реальной действительности сложнее простого ее отрицания. Для буддиста нет однозначной реальной действительности, так как она трактуется буддийской теорией только в прямой зависимости от психологического опыта человека, ступившего на путь освобождения от страданий. В соответствии с этим существуют три типа «реальности»: «мир желаний» (мир людей, не следующих по пути спасения или только вступивших на него), «мир форм» (мир людей, давно идущих по пути спасения, т. е. практикующих первые четыре дхьяны — ступени сосредоточения, созерцания) и «мир отсутствия форм» (мир тех, кто практикует четыре следующих, высших дхьяны — ступени созерцания; чаще всего это мир бодхисаттв, занятых созерцанием). Для того, кто находится в мире желаний, этот мир существует реально; более того, этот мир — единственная реальность, данная ему в ощущениях, понятиях, представлениях. И для него мир форм и мир отсутствия форм, несомненно, не существуют. Но если кто-то уже ступил на путь спасения от страданий, то по мере продвижения по этому пути мир форм и мир отсутствия форм могут для него существовать реально. Для бодхисаттвы, достигшего мира отсутствия форм, оба предыдущих мира существуют реально в том смысле, что он может посетить их, чтобы помочь другим живым существам идти по пути спасения (его долг как раз и состоит в том, чтобы вести за собой других по этому пути). Все три мира составлены из дхарм, их различные комбинации составляют самые разнообразные объекты. Путь спасения — это переход из мира желаний в мир форм, а затем в мир отсутствия форм, а оттуда в нирвану. Человек достигает с помощью святости, например, мира отсутствия форм, где число разновидностей дхарм (их комбинации, повторяем, составляют тело и духовное начало человека) уменьшилось с 18 до 3. В нирване же бытует только один вид дхарм, находящихся в состоянии покоя. Свести разновидности «своих» дхарм только к одной и прекратить волнение этих дхарм — цель пути спасенья человека. Подчеркнем, что все три мира не являются мирами в космическом смысле слова. Они не занимают какого-либо места в пространстве, т. е. не включаются в систему пространственной ориентации. Их точнее следовало бы называть не «мирами», а своего рода уровнями психологического совершенства людей, т. е. уровнями развития сознания людей, идущих по пути спасения от страданий. Таким образом, эти три мира реальны только на ментальном уровне (т. е. на уровне сознания). Практически же рядом могут находиться люди, чье сознание в соответствии со степенью своей чистоты и совершенства может относиться к любому из трех миров. Итак, тело и духовное начало состоят из неких непознаваемых элементов — дхарм, которые то объединяются в определенные группы, то распадаются. Это соответствует то рождению, то гибели. И только они, эти дхармы, существуют реально. Однако реальное существование дхарм достаточно условно, если вспомнить слова Дхаммапады, одного из самых древних буддийских текстов (III–II вв. до н. э.): «Дхармы обусловлены разумом, их лучшая часть — разум, из разума они сотворены. Если кто-нибудь говорит или делает с нечистым разумом, то за ним следует несчастье, как колесо за следом ведущего. Дхармы обусловлены разумом, их лучшая часть — разум, из разума они сотворены. Если кто-нибудь говорит или делает с чистым разумом, то за ним следует счастье, как неотступная тень» [13, 59]. Человеческое же тело и духовное начало существуют не менее условно. После смерти человеческого тела духовный мир его, и прежде всего элемент сознания, не исчезает совершенно, так как он проявится вновь в другой форме и в другом месте. «В своей научной, философской форме закон перерождения душ есть не что иное, как факт душевной преемственности… в действительности всякое перерождение есть уже новое лицо, или, выражаясь еще точнее, совершенно новое собрание элементов (т. е. дхарм), связанное, однако, со своим прошлым неизбежным законом причин и следствий» [51, 20]. О. О. Розенберг характеризовал процесс перерождения так: «ничего, собственно, не перерождается, происходит не трансмиграция, а бесконечная трансформация комплекса дхарм, совершается перегруппировка элементов — субстратов, наподобие того, как в калейдоскопе те же частицы группируются в новые, более или менее похожие друг на друга фигуры, но все же индивидуально различные, никогда не повторяющиеся. Каждая отдельная фигура до известной степени обусловлена или связана с предыдущей и в известном смысле влияет на последующую» [37, 229–230]. Связь с прошлым определяется законом кармы, в соответствии с которым комбинация (или комплекс) дхарм тела и души человека в данном рождении самым непосредственным образом связана с комбинацией дхарм как в прошлом рождении, так и в будущем. Каждый индивидуальный комплекс дхарм реален только как собрание дхарм, человеческая же личность, составленная из групп дхарм, — своего рода «эмпирическая иллюзия» (термин О. О. Розенберга). Индивидуальный поток дхарм безначален во времени, он составляет бесчисленное множество последовательных комбинаций, каждая из которых — только часть бесконечного процесса бытия этого потока дхарм. Безначальное волнение (движение) дхарм все время проявляется в виде живых существ, находящихся в круговороте бытия, т. е. в мире страдания. Но среди этих дхарм есть и такие, которые несут в себе «чистую мудрость», «совершенную мудрость» (праджня) и помогают человеку прозреть, достичь просветления. Именно эти дхармы содействуют окончательному достижению момента прекращения мучительного круговорота бытия. И только в нирване дхармы обретают вечный покой, так как не образуют новые комплексы или группы, проявляющиеся в виде страдающих живых существ. Успокоение дхарм в конечном счете вызывает прекращение перерождений, что, в свою очередь, освобождает от страданий. Таков главный завет буддизма. В течение многих рождений человек должен накопить большое число заслуг, праведных деяний; в последнем же рождении ему следует уйти в монахи, как это сделал Будда Шакьямуни, и погрузиться в глубокое размышление о смысле жизни, а затем отдаться самосозерцанию, которое можно охарактеризовать как состояние гипнотического транса. Именно такое экстатическое состояние и есть последний, восьмой шаг на пути к просветлению. Спасение, т. е. прекращение страданий, зависит главным образом от поведения самого человека, от его индивидуальных усилий, от его самоусовершенствования. Поэтому ранний буддизм отрицал необходимость какой-либо обрядности, жертвоприношений. Важно и то, что сословно-кастовая принадлежность не играла роли в достижении спасения, так как представители любой касты, став буддистами, могут достичь нирваны. Морально-этические положения буддизма заключаются в следующем. Идеалом буддиста, его главной добродетелью считается проявление глубочайшей любви ко всем живым существам и непричинение им вреда. Надо обладать и беспредельной кротостью, постоянным смирением, твердым непротивлением злу. «Да победит он гнев отсутствием гнева, недоброе — добрым, да победит он скупость щедростью, правдой — лжеца» [13, 97]. Эти качества нуждаются в постоянном воспитании, иначе они могут исчезнуть. Покорность буддиста своей судьбе должна быть доведена до крайних пределов. Никакие мучения (свои и чужие) не должны поколебать спокойствие и бесстрастность буддиста. Ведь все страдания — не более чем мираж иллюзорного мира. И необходимо преодолевать ощущение страдания. Страдания причиняет внешний мир, который человек не может изменить. Поэтому следует освободиться от всяких земных привязанностей, так как это поможет более полному отказу от жажды жизни, что является одним из важных условий прекращения перерождений, а в конечном счете и страданий. Подчеркнем, что буддийское требование покорности перед страданиями означало примирение с тяжелыми социально-экономическими условиями существования. Более того, подчеркивание тесной связи между данным рождением и заслугами в прошлом (например, трудолюбивый и верующий крестьянин может родиться царем) приводило к тому, что высокое социальное положение человека и его богатство легко объяснялись добрыми деяниями в предыдущем рождении. По сути дела, буддизм призывал угнетенных к пассивности, давая надежду на лучшую долю в будущем возрождении. Но в то же время буддизм имел и некоторое прогрессивное содержание но сравнению с ведийской религией, так как, отрицая систему варн и проповедуя возможность спасения для всех (а не только для избранных), способствовал разрушению родовых связей и укреплению индивидуального начала в общественной жизни, что содействовало оформлению гражданского общества. Большой заслугой верующих буддийские канонические тексты объявляют щедрость милостынедателей, т. е. тех, кто предоставляет монахам пищу, кров и т. д. И это понятно, потому что монашеская община обязана была жить исключительно подаяниями. Но впоследствии, в монастырях, часть монахов низших званий своим трудом содержала своих собратьев более высоких рангов. Одним из обязательных условий спасения было вступление в буддийскую монашескую общину. Член общины был обязан брить голову, носить желтое платье, иметь наставника и выполнять определенные правила (их около 250) поведения, изложенные в Винайя-питаке. Каждому вновь вступившему сообщались четыре следующих запрещения: «Посвященный монах не должен иметь полового сношения ни с кем из живых существ… Посвященный монах не должен брать того, что ему не дают — это называется воровством, — хотя бы это и была соломина… Посвященный монах не должен сознательно лишать жизни какое бы то ни было существо, хотя бы это был червь или муравей… Посвященный монах не должен хвастаться никаким нечеловеческим совершенством» [27, 273–275]. Монах не должен был иметь собственности, кроме одежды и чаши для сбора подаяний. Пищу следовало получать не за счет своего труда, а из рук мирян. Все свое свободное время надо было тратить на приближение спасения путем размышления. Выход из общины был свободным и ничем не ограниченным. Какой-то период монашеская община строилась аналогично крестьянской общине древней Индии. Основные вопросы решались на общем собрании в пользу большинства, а различные должности были выборными. Уже к III–II вв. до н. э. появляются большие монастыри с хорошо налаженным хозяйством и аппаратом обслуживания. Были и женские монастыри, во всех вопросах подчинявшиеся мужским. Надо сказать, что женщину буддизм считал одним из самых больших препятствий на пути спасения. По мнению буддистов, живое существо может достичь опасения только после рождения мужчиной. Родиться мужчиной женщина может исключительно в случае безгрешной жизни. Важную роль в жизни монашеской общины играли регулярные общие собрания для покаяния, которые совершались два раза в месяц, в полнолуние и новолуние. Были и годовые (после сезона дождей) общие собрания для покаяния, на которые собирались члены уже нескольких соседних общин. Ранняя община могла жить только благодаря подаяниям мирян. Поэтому буддизм с самого начала предусматривал существование светских буддистов. Обряд вступления в ряды буддистов-мирян был крайне несложен. Разумеется, мирянин-буддист обязан был исполнять буддийские правила поведения. В первые века новой эры в буддизме четко оформились два главных направления (две ветви): хинаяна («Малая колесница», «Малый путь») и махаяна («Великая колесница», «Великий путь»). Но эти названия даны двум ветвям самой махаянской школой, которая претендовала на роль истинной наследницы учения Будды и убежденно считала учение хинаяны гораздо менее значимым («Малая колесница»!) по сравнению с собственным. Буддийская традиция предшественниками махаяны называет последователей так называемой большой сангхи (махасангхика), которые выступали за расширение буддийской общины и ослабление ее замкнутости, а также стремились утвердить культ сверхъестественного Будды (т. е. неземного существа, обладающего функциями божества) и включить в свое вероучение и пантеон местные верования и местные божества. Это очень помогало распространению буддизма в соседних странах. Махаянисты подчеркивали, что каждый человек может достичь просветления и стать буддой, так как в каждом есть общая всеблагая сущность, некая субстанция космического плана, называемая «буддхата». В конечном счете Будда Шакьямуни стал считаться проявлением освобожденной буддхаты, которая вечна и не подвержена изменениям. Но он не единственное проявление буддхаты, поскольку махаяна признавала существование большого числа будд (Акшобхья, Амитабха, Вайрочана и др.), в которых проявлялась космическая субстанция будд, присутствующая во всей вселенной. Махаянисты развили учение о бодхисаттвах, которые добровольно откладывают свое собственное вступление в нирвану потому, что хотят помочь спастись всем другим. Последователи махаяны подчеркивают именно эту героическую сторону бодхисаттвы, жертвующего своим спасением ради спасения других. В этом большое отличие махаяны от хинаяны, которая рекомендовала заботиться о своем собственном спасении: каждый спасает себя. Бодхисаттвы Манджушри и Авалокитешвара, необычайно популярные в Тибете и Монголии, появились в буддизме сравнительно поздно (I–III вв.), так как впервые они упоминаются только в путевых заметках китайского буддиста Фа Сяня, побывавшего в Северной Индии на рубеже IV–V вв. Махаянисты включили в круг бодхисаттв и реально существовавших крупных деятелей буддизма: Нагарджуну (I–II вв.), Васумитру (I–II вв.), Арьядеву (II в.), много сделавших для возвышения махаяны. Подчеркнем, что именно махаянская школа придавала особое значение сверхъестественным способностям будд и бодхисаттв, потому что, по мнению этой школы, это не только один из основных признаков их истинной сущности, но и основа реальной помощи простым верующим. Понимание закона кармы махаяной отличается от хинаянского тем, что, по представлениям махаяны, вмешательство покровителя-бодхисаттвы может спасти провинившегося, но раскаявшегося и прозревшего от автоматического воздаяния за грехи. Образ благодетельного бодхисаттвы, который совершал добро, но не судил и не карал, был близок массам верующих, воспитанных в условиях традиций богопочитания. Это способствовало популярности и распространению учения махаяны не только в Индии, но и в Тибете, Китае, Японии и Монголии. Важную роль в облегчении понимания и пропаганды махаяны играла и теория парамит (парамита — высшее духовное совершенство), число которых доходит до 10. Обретают их верующие в определенной последовательности, что является своеобразными ступенями на пути к спасению. Важнейших парамит шесть: дана (терминология на санскрите) — щедрость в подаянии милостыни монахам; шила — стойкость в борьбе с искушениями, соблюдение правил добродетельного поведения; кшанти — терпимость к страданиям, несчастьям и т. д.; вирья — духовная активность, старание, прилежание и энергия в соединении с твердой решимостью следовать по пути приобретения парамит и других добродетелей; дхьяна — йогическое созерцание и последовательная практика сосредоточения сознания (все это можно охарактеризовать как медитацию); праджня — наивысшая мудрость, которая заключается в интуитивном и совершенном познании сущности различных дхарм, достижение и постижение этой мудрости возможно только после правильного исполнения всех предыдущих парамит [94, 138]. Точное выполнение парамит может обеспечить спасение (освобождение от страданий) даже для мирянина, не говоря о членах буддийской общины (сангхи). С течением времени в буддизме видоизменялся и взгляд на нирвану. Махаяна долго считала нирвану единственной вечно существующей реальностью, а реальную действительность (т. е. сансару) миражем, иллюзией. Внешнее сходство между «реально существующей» нирваной и не менее «реально существующим» загробным миром религий соседних с Индией народов помогало распространению буддизма за индийские границы. Наиболее же интересно и важно то, что в махаяне оформляется идея буддийского рая, состоящего главным образом из двух райских миров: западного (возглавляет будда Амитабха) и восточного (будда Акшобхья). Существование рая предполагало и наличие ада. Действительно, об аде писал уже Нагарджуна (I–II вв.). В махаяне значительно возросла роль обрядности. Литургия занимает важное место в повседневной жизни махаянистов, так как выполнение молитвенного и жертвенного ритуала считается важной ступенью на пути к освобождению от страданий. Махаянская школа мадхьямиков, основанная в I–II вв. Нагарджуной, объявила иллюзией не только внешний мир (объект познания), но и само сознание (субъект познания). Такой взгляд даже нирвану заставил объявить несуществующей. Реальна только «шуньята» («пустота»), которую невозможно познать на основе опыта. Только высшее, интуитивное знание, имеющее явно мистический характер, способно познать шуньяту, лишенную обычных, воспринимаемых человеком свойств. Эта точка зрения и превалирует в тибетском буддизме. Теоретической основой учения мадхьямиков и была Праджняпарамита-сутра, якобы поведанная самим Шакьямуни, спрятавшим ее у водяных драконов (нагов) до тех пор, пока люди не будут достаточно просвещенными, чтобы понять всю глубину этой высшей мудрости. Нагарджуна доставил людям этот священный текст, который очень популярен в Тибете, Монголии и Японии. Сутра содержит наиболее полное изложение учения о парамитах и толкование праджня (наивысшей мудрости), обладание которой поможет в интуитивном и совершенном познании истинной сущности дхарм. В Тибете наравне с мадхьямиками была популярна и школа йогачаров (другое название — Виджнянавада), основанная Асангой и его братом Васубандху в IV–V вв. Эта школа также отрицала существование внешнего мира, полагая, что реально только сознание, которое и конструирует в виде образов то, что обыденно и повседневно принимается за объекты окружающей действительности. Объекты внешнего мира — мираж, следствие ошибок, несовершенства человеческого сознания, недостатков человеческого мышления. Для выхода из круга страданий необходимо очистить сознание от заблуждений. Только это может помочь прекратить восприятие окружающего мира, который и причиняет страдания. Для этого надо постоянно и последовательно практиковать систему йога, в которой важное место отведено комплексу физических упражнений, помогающих достичь состояния наивысшего и наиглубочайшего сосредоточения мысли, в чем-то, может быть, близкого созерцательному экстазу, самозабвенному созерцанию. Школы мадхьямиков и йогачаров вместе с тантризмом определяют облик того направления в буддизме, которое господствует к северу от родины буддизма — Индии. Обе школы не соперничали между собой, а сосуществовали и зачастую дополняли друг друга. Тибетские буддисты высоко ставили Праджняпарамита-сутру, фундамент учения мадхьямиков, но лучшим комментарием на нее считали Абхисамайяламкура-сутру, один из главных текстов йогачаров. Постепенно в буддизме все большее место занимает магия (магические заклинания, знаки, изображения, телодвижения и т. д.). Это нашло полное выражение в буддийском тантризме — учении, которое интенсивно развивалось в Индии в первые десять веков новой эры на основе взглядов глубокой древности. Тантризм — неизбежный и естественный этап буддийской истории, логичное продолжение идей первоначального буддийского вероучения. Некоторые идеи учения тантр восходят к самому началу человеческой истории, когда существовало примитивное земледелие, бытовал культ богини-матери, царствовала магия с ее чудесными таинствами, дополнявшимися обильными жертвоприношениями, включая даже человеческие. Все это использовалось для повышения плодородия культурной растительности и увеличения приплода домашних животных. Кроме того, считалось, что урожайность полей и плодородие животных теснейшим образом связаны с плодородием женщин и способностью мужчин к активной сексуальной практике. Тантрический буддизм возродил из тантризма доарийского населения древней Индии взгляд на первоначало мира как на единение двух начал — мужского и женского. Гегемония теперь принадлежит уже мужскому началу, а сам взгляд утратил былую простоту и четкость, обретя взамен всю глубину и запутанность метафизики позднего буддизма. В соответствии с этим в буддийском тантризме (именуемом часто просто тантра) есть тантра «левой руки» (в основе всего — женское начало) и тантра «правой руки» (главное — мужское начало). В тантре «левой руки» ощущается весьма определенное влияние индуистского шиваизма, в котором, как известно, объектом поклонения служит Парвати, супруга (шакти) бога Шивы. В тантре «левой руки», как и в шиваизме, каждое тантрическое мужское божество имеет божественную супругу, с которой сливается в вечных объятиях. Женские божества тантры «левой руки» бытуют в двух формах: «великодушной» («милостивой») и «ужасной» («грозной»). Последняя ассоциируется с разрушением и смертью, черной магией, жертвоприношениями животных и людей. Главным культом в тантре «левой руки» был культ Ваджраявы («Алмазная колесница», «Колесница Громовержца»), который в поздней буддийской теории стал символом для обозначения некой сверхъестественной субстанции, которая тверда, как алмаз, чиста, как пустота, и неукротима, как гром. Ваджраяна идентифицируется с вечной сущностью, с грядущим просветлением, с дхармой (как учением буддизма и как мельчайшей, неделимой частью всего сущего). В тантре «левой руки» имеются следующие особенности: I. Поклонение женским божествам (шакти), которые являются супругами мужских божеств. Самым истинным из четырех тел Будды тантризм признает четвертое, так называемую плоть блаженства. Именно это тело Будды держит в вечных объятиях свою шакти, божественную супругу Тару. Тантрическая традиция утверждает, что мужские божества становятся воистину могучими и мудрыми только благодаря экстазу соединения с женскими божествами. Имеются натуралистические изображения момента слияния, созерцание которых должно содействовать просветлению, основанному на углубленной созерцательной сосредоточенности. Одной из самых ранних и священных тантр (т. е. текстов) «левой руки» считается Гухьясамаджа-тантра, довольно подробно рассматривающая теорию и практику тантрического созерцания (медитации). II. Наличие большого числа «грозных» («ужасных») божеств, злых демонов, поклонение «грозному» божеству Бхайрава и тщательно разработанный ритуал созерцания. Тантра «левой руки» считает реальный мир и сознание иллюзией, миражем. Очищение, просветление сознания — процесс, сходный с единением мужского (активное начало) и женского (пассивное начало) первоначал. Женское первоначало являет сплав женственности и мудрости, что трактуется как единение между женственностью и праджняпарамитой («высочайшей мудростью»), которая теперь понимается не только как махаянский текст и своеобразный культ, но персонифицирована в виде божества мудрости, своего рода «матери всех будд». Подобно матери, выводящей ребенка на дорогу, высочайшая мудрость показывает буддам их наилучший путь. Это направление тантрического буддизма пользовалось большой популярностью в Тибете и Монголии до недавнего времени, составляя значительную часть того, что европейская традиция называет ламаизмом. Тантра «правой руки» распространена в Китае и Японии, где число ее последователей весьма велико. Следует сказать, что японские тантристы более схоластичны в трактовке текстов, общих для обеих тантр. Тантрическое учение составляют эзотерические и экзотерические доктрины, в основе которых лежит экзегеза (комментарий, трактовка) соответствующих текстов. Экзотерические доктрины предназначались для более широкого распространения среди верующих, обладающих определенной подготовкой, а также использовались в целях пропаганды тантризма. Право на знание эзотерических доктрин получали немногие, прошедшие достаточно большое расстояние по пути достижения просветления. Эти доктрины передавались тайно, непосредственно от наставника к ученику, и лишь после специального разрешения, так как власть над магическими силами должна была попасть исключительно в руки самого достойного, который употребит могучее оружие спасения только для добрых дел. Такое же деление наблюдается и в религиозной практике тантризма. Но независимо от этого есть три разновидности этой практики: 1. Декламация мантр (заклинаний) в соответствии с различными способами их произнесения. 2. Выполнение ритуальных жестов, телодвижений. 3. Экстатическое слияние с божествами (точнее, с их эманациями) благодаря глубочайшему созерцанию их изображений. Погружение в созерцание должно осуществляться четырьмя последовательными шагами. Основной шаг — погружение в «пустоту», которая есть единственная и конечная реальность. Это помогает лишить «я» своего «я», т. е. отстраняет от личности ее индивидуальные качества. Идентификация себя с «пустотой» вызывает то состояние разума, которое именуется «просветленной мыслью». Не менее важно вызвать заклинаниями видение божества и затем полностью слиться с ним. Йогин (т. е. субъект) с помощью арсенала магии «создает» нужное божество, так как оно существует реально как объект познания только с этого момента. В ходе истинного познания субъект сливается с объектом, т. е. с той же пустотой, так как объект (божество) есть часть пустоты. Глубокая связь практики магических заклинаний (мантр) и ритуальных телодвижений тантризма с древнейшей магической практикой населения Индостанского полуострова совершенно очевидна. Влияние магической практики постоянно возрастало, пока она не стала занимать в тантризме доминирующее положение. Мантры теперь — важное средство соприкосновения и слияния с различными чудодейственными силами путем обращения к их персонифицированным воплощениям. Этому помогала тщательно разработанная техника произнесения заклинаний, содержащихся в специальных сочинениях (тантрах и мантрах). В магической практике тантристов большое значение придавалось специальным жестам рук (включая движения пальцев) и особым позам тела [79]. Тантрическая теория требовала, чтобы в магических ритуалах участвовало тело (телодвижения), речь (заклинания) и разум (сосредоточенное, глубокое созерцание). Большим подспорьем в процессе углубленного и сосредоточенного созерцания (типа волевой концентрации мысли, состояния своего рода транса, т. е. того, что именуется состоянием йога) было созерцание магических кругов или квадратов, именуемыхмандалами [89]. Углубленное созерцание мандал должно содействовать созерцательному трансу. Мандалы высекались на камне, рисовались на бумаге, тканях, выкладывались на земле рисом и т. д. В мандалу могло включаться символическое изображение вселенной, будд и бодхисаттв, богов и духов. Традиция создания мандал в Индии ведет свою родословную из глубокой древности, когда круг активно использовался в различных магических действиях. Тантрический буддизм имел свой взгляд на строение и организацию вселенной. Считалось, что она состоит из многочисленных космических сил, которые пронизывают абсолютно все: человека, землю, будд и т. д. Человек с помощью магического ритуала может слиться с этими силами и тем самым не только стать частью их, но и как-то влиять на них, чтобы благополучно пройти путь спасения. Главная космическая субстанция, своего рода космический абсолют, есть «космическое тело Будды». Это тело есть во всем. Будда проникает всюду, составляя истинную сущность и действительность во всех объектах. Люди, как и все вокруг, есть Будда и космос. Космическое тело Будды состоит из шести первоэлементов: земли, воды, огня, воздуха, пространства и сознания, которые в различных комбинациях обеспечивают разнообразие объектов внешнего мира. Магические действия могут помочь человеку обрести полнейшую общность и конечное тождество с истинной сущностью вселенной, т. е. с Буддой. Если хинаяна четко разделяла и даже противопоставляла мир и нирвану, то ранняя махаяна (в лице мадхьямиков) сливала и отождествляла мир и нирвану в единой абсолютной действительности великой пустоты, то поздняя теория тантризма сливает мир и нирвану во всеобъемлющем космическом теле Будды, которое понимается как одно из проявлений Ади-Будды, т. е. первосущего. Это тело состоит из пяти Дхьяни-будд (т. е. пяти различных созерцательных аспектов), каждый из которых также есть будда: будда Вайрочана («Светильник», «Бриллиант»); будда Акшобхья («Спокойный», «Невозмутимый»); будда Ратна Самбхава («Рожденный драгоценностью»); будда Амитабха («Бесконечный, Безграничный Свет»); будда Амогхан сиддхи («Неизменный Успех»). Учение о пяти буддах появилось в Северной Индии около VIII в. н. э. и впоследствии глубоко укоренилось в Тибете, Монголии и других странах, где бытовал тантризм. Эти пять будд никогда не возрождались, потому что всегда были только буддами и никем более. Еще раз подчеркнем, что Будда в виде космического тела, т. е. абсолюта вселенной, называется Ади-Будда. Он — первоначало всего, и пять будд, составляющих его, вторичны, так как являются эманациями (истечениями) Ади-Будды. Главным из Дхьяни-будд был обычно будда Вайрочана, культ которого был важной частью тантрического вероучения. Позднее в Тибете Вайрочана занял одно из основных мест среди других «спасителей» мира. К IX–X вв. Будда приобретает функции магического творца, создателя всего сущего, как это следует из текста Калачакра-тантры, появившегося в этот период и очень популярного позднее в Тибете. Мир создан Буддой в результате глубочайшего созерцания, этой единственной реальности, творящей иллюзорные объекты. Итак, творец всего — мысль. Тантрический буддизм завершает развитие буддийской теоретической мысли, продолжавшееся около 1500 лет. За это время буддизм прошел громадный путь, отмеченный периодами упадка и прогресса как в своей теории, так и в области распространения в Индии и за ее пределами.4. Буддисты о буддизме в Тибете (первые победы, первые поражения, VII–IX вв.)
К началу VII в. махаянский буддизм имел вид религиозной системы, способной удовлетворять запросы раннефеодальных государств, которые формировались в соседних с Индией районах. Эти государства испытывали необходимость иметь какую-либо религию, стоящую на более высокой ступени развития, чем те, какие были в их распоряжении. Одним из таких государств был Тибет, раскинувшийся на громадной территории и нуждавшийся в мерах по укреплению своего могущества. Борьба между центральной властью и местной знатью была ожесточенной. В этих кровопролитных распрях священнослужители бон далеко не всегда были на стороне цэнпо. Как уже говорилось, существовала явная необходимость иметь такую религию, которая более тесно сотрудничала бы с центральной властью, активно помогая цэнпо ограничить влияние и полностью подчинить местные аристократические кланы. Религия бон, освящавшая племенную раздробленность, так и не смогла, несмотря на многочисленные попытки, примениться к новой обстановке. Буддизм же, который выступал против привилегий знатности, против узкокастовых и местнических интересов, за сильное централизованное государство во главе с верховным правителем и покровителем религии, более всего отвечал политике цэнпо. К тому же во многих соседних странах (в Восточном Туркестане, Северной Индии и Китае) буддизм в то время занимал весьма прочные позиции и служил мощной поддержкой государственной власти. История буддизма в Тибете известна нам в основном только со слов тибетских историков, которые историю его распространения излагают только в одном освещении — пробуддийском, и лишь одним тоном — апологетическим. Важность всех событий и фактов для тибетского историка определяется исключительно тем, какую роль они играли в деле распространения буддизма. Не было светской истории страны, была в полном смысле слова «история буддизма в Тибете», которая писалась часто довольно сухо и кратко, хотя и включала некоторое количество индийских и местных легенд, излагаемых опять-таки лаконично. Более всего легенд (перемежаемых вполне правдоподобными фактами и реальными событиями) о предопределенном свыше появлении буддизма в стране, его неотвратимо победоносном шествии по Тибету содержат сочинения, рассказывающие о его победах в VII–IX вв. и выдающие себя за те, которые якобы написаны в то же самое время и теми, кто активно участвовал в тех событиях. Эти сочинения чудесным образом «обнаружены в кладах» и выдаются за правдивое изложение событий истории буддизма. Они писались хорошим языком (часто стихами), имели много других литературных достоинств и включали к тому же многие сюжеты буддийской литературы Индии, которая заимствовала их из громадной по объему индийской литературы и богатейшего фольклора Индостана. Понятно, «найденные в земле» и «обнаруженные в кладах» (как они сами говорят о себе), сочинения пользовались очень большой популярностью в самых широких слоях народа, а многие их сюжеты давно бытуют как народные сказки. Популярность таких сочинений объяснялась также влиянием на них местного фольклора. Выше мы уже писали о том, что буддизм при Сонгцэн Гампо не смог глубоко укорениться в Тибете и был объявлен официальной государственной религией только через сто с лишним лет, во второй половине VIII в., во время правления цэнпо Трисонг Децэна (755–797). Но и это не было окончательной победой буддизма. Период VII–IX вв. сами тибетские историки называют «эпохой первоначального распространения буддизма». Они не скрывают, что лишь во второй период — «эпоху последующего распространения буддизма», в XI–XIV вв., буддизм действительно стал государственной, т. е. господствующей, идеологией в стране. Посмотрим же, основываясь на легендах и преданиях, излагающих не без примеси фантазии и преувеличений факты религиозной истории, как представляли себе буддийские авторы распространение своей религии в VII–IX вв. …Цаньян Джамцо подошел к берегу реки и сразу увидел необычайно красный ил на дне. Теперь понятно, почему эту реку называют Чху-мар («Красная река»). Багровый закат окрасил все вокруг… Все — красное… И небо, и вода, и земля… Красный цвет беспокоит и тревожит, он несет с собой смятение чувств. Цаньян Джамцо волнует будущее, которое где-то там, далеко отсюда, в темноте, наступающей медленно, но неотвратимо. Он знает свою судьбу. Ома окрашена в такой же красный цвет, какой со всех сторон окружает его здесь… Густеющая темнота подкрадывается все ближе, жадно поглощает пламенеющее красное… Цаньян Джамцо вздрогнул от порыва холодного ветра, резко повернулся и почти бегом направился к лагерю. В палатке он сразу лег и с головой укрылся шерстяным одеялом. Стало теплее, но сон не шел. Перед глазами колыхалась мутная красная пелена. Когда же он наконец уснул, то во сне увидел себя маленьким мальчиком, который, широко открыв глаза, смотрит на танец огромных масок, вызывающих у него страх и ужас. Это было в маленьком горном монастыре, одном из немногих сохранившихся с очень далекого времени. Обитель принадлежала секте Ньингмапа, и поэтому монахи носили красное платье. Они сидели вокруг танцоров, образуя замкнутый красный круг, в котором бесновались маски, изображавшие страшные лица демонов. Эти демоны захватили Тибет, и только великий гуру (наставник) Падмасамбхава смог покорить их и освободить страну. Падмасамбхава основал самую древнюю тибетскую секту — Ньингмапа, поклонницу тантрического буддизма. Вот в круг танцоров вошел гуру, выкрикнул несколько заклинаний, сделал пять или шесть магических жестов, и демоны закружились еще быстрее. Затем они упали и, корчась в диких судорогах, стали гибнуть один за другим. Цаньян Джамцо проснулся, сбросил с головы одеяло. Теперь он уснет не скоро. Зачем эти красные сны прошлого, цвет которых тревожит? Его секта Гелугпа связала себя с желтым цветом, цветом шафрана и первого платья Будды Шакьямуни. Этот цвет стал цветом одеяний буддистов Индии и Тибета. А красный цвет — цвет ранних буддийских сект Тибета. В первую очередь — Ньингмапы, которая ставит своего наставника Падмасамбхаву едва ли не выше Шакьямуни. Падмасамбхава принес в Тибет тантризм через сто лет после смерти Сонгцэн Гампо. А что же было до этого? Как все начиналось? Что говорят об этом такие сочинения, как «Ясное зерцало царских родословных», «Собрание творений Сонгцэн Гампо» («Мани Кабум») и «Завещание [Сонгцэн Гампо], спрятанное у колонны»? Как подлинная история Тибета излагалась в сочинениях ревнителей буддийской веры? …Однажды, когда всесовершенный Шакьямуни находился в тенистой роще, окруженный большим числом почтительнейших учеников, у него между бровями внезапно появился пятицветный, яркий, как радуга, луч света, который мгновенно достиг далекой северной Страны снегов. Изумленные ученики попросили Шакьямуни объяснить причину этого чуда, и всесовершениый преподал сутру «Белый цветок лотоса». Затем великий Учитель сказал, что эту дикую снежную страну, населенную злыми духами и демонами, не мог обратить в буддизм ни один из трех будд трех предыдущих времен (кальп). Но при нем, четвертом будде, это наконец произойдет. И поможет взойти солнцу буддизма и распространиться лучам его Учения сострадательный бодхисаттва Авалокитешвара, который когда-то давно выразил благородное и святое желание усмирить и покорить буйных демонов и духов снежной страны, сказав следующие слова перед лицом многих сотен будд: «Пусть я смогу просветить эту ужасную дикую страну! Пусть я смогу превратить диких и злых демонов в отцов и матерей! Пусть я смогу стать их наставником! Пусть я стану божественным светочем, который до конца рассеет когда-то непроницаемый мрак в этой стране! Да воссияет учение будд всех времен в этой дикой стране! Да обретут те, кто будет жить там, благородную веру в три драгоценности [Будду, Учение, Общину] и всесовершенное знание возвышенного Учения!» И все было, как предсказал великий Учитель. …Когда-то давно, в то необычайное время, когда был Тибет, но не было тибетцев, божественные бодхисаттвы Манджушри, Авалокитешвара и Ваджрапани сошлись вместе, чтобы выяснить, как продвигается великое дело спасения от страданий всех живых существ. Манджушри вспомнил о пустынной стране к северу от Гималаев, которую следовало бы заселить людьми и сделать в будущем главным оплотом великого учения Шакьямуни. Но где взять людей? Жители родины Шакьямуни не смогут жить в стране высоких, суровых гор и глубоких долин. И сказал Манджушри: «В Тибете нет людей, но есть демоны мужского и женского рода. От демонов рождаются только демоны. Если кто-то из нас станет обезьяной-самцом и будет жить с горной ведьмой, то это положит начало заселению Тибета». И вот милосердный и сострадательный Авалокитешвара, который был покровителем пустынной и незаселенной людьми Страны снегов, стал обезьяной-самцом по имени Брагринпо [ «Мужское чудовище ущелья»] и начал жить с горной ведьмой, которую звали Брагринмо [ «Женское чудовище ущелья»]. У них было три сына и три дочери, от которых и произошли жители Тибета. В то время в благословенной Индии у одного царя и царицы родился необыкновенный ребенок, обладавший чудесными признаками. Волосы его были цвета яркой лазури чистого неба, зубы сверкали, как белоснежный перламутр раковины, пальцы на руках и ногах соединялись перепонкой, как у гуся или утки, а глаза его смотрели в разные стороны, как у птицы. Царь, пораженный всем этим, призвал жрецов, чтобы они объяснили чудо. Те сказали, что, скорее всего, мальчик будет плохим наследником и лучше избавиться от него. Царь повелел убить сына, но слуги не исполнили этого приказания, потому что не могли мечом отрубить ему голову, а кинжал — вонзить ему в грудь. Тогда они положили его в медный ящик и бросили в реку Ганг, доложив царю, что принц мертв. Где-то в нижнем течении реки, намного дальше от этого места, жил одинокий старик, который однажды увидел в реке плывущий ящик. Он выловил его, открыл, и там оказался поразительно красивый мальчик. Своих детей у старика не было, так что он стал воспитывать найденыша. Старик знал, что этот ребенок — принц, который должен был умереть, и поэтому спрятал его в лесу, где птицы и звери помогали воспитывать и кормить мальчика. Птицы приносили плоды и зерна, звери — мясо. Когда мальчик вырос, он спросил старика о своем прошлом. И тот рассказал все, ничего не скрывая, чем поверг принца в неописуемый ужас. Надо было уходить, чтобы скрыться от царских слуг. И принц отправился на север, по пути пересек громадные высокие горы, покрытые глубоким снегом. Он спустился с горы Ярлхашампо в долину Ярлунга, где его встретили знатные люди и бонпо — служители религии бон, которые, поверив в его божественное происхождение, сделали его своим верховным правителем. У принца из Индии было много потомков, правителей Тибета. При одном из них, по имени Лхатхотхори, могучем и добродетельном перерождении бодхисаттвы Самантабхадра («Всеобъемлющая Доброта»), произошло событие, которое имело далеко идущие последствия. Однажды великий Лхатхотхори сидел на балконе своего прекрасного дворца. Вдруг с высокого синего неба к его ногам упал сундук, где было четыре предмета: один изображал две руки, сложенные молитвенно; второй был золотой ступой, длиной от кончиков пальцев до локтя; третий — шкатулкой, отделанной драгоценностями, на ее крышке была начертана божественная, обладающая чудодейственной силой, шестисложная формула «Ом мани падме хум» («Ом, драгоценность на лотосе, хум»; «Да здравствует рожденный в лотосе»); четвертым была священная книга «Карандавьюха-сутра» на священном языке Индии — санскрите. Одновременно с падением сундука с неба раздался звучный голос, который объявил, что значение и правила употребления этих вещей станут известны и понятны только пятому цэнпо после Лхатхотхори. Но Лхатхотхори захотел сам узнать, что это за предметы. Он созвал служителей религии бон и придворных, но те не смогли понять смысл и употребление волшебным образом появившихся предметов. Никто не смог прочесть и «Карандавьюха-сутру». Цэнпо приказал отнести все предметы в подземелье, где они были небрежно брошены и хранились вперемешку с разными старыми вещами. Такое неуважение к святым буддийским предметам не могло не навлечь беды. И вот для тибетского государства наступили тяжелые времена. Бедствия обрушивались на несчастную страну, как снежные лавины с отвесных склонов высокой горы. Не росли злаки, погибал скот, начался голод. Дети рождались слабыми и часто слепыми. Многие умирали от болезней. Иногда страну опустошала чума. Так прошло сорок долгих, необычайно горестных лет. В Тибете осталось совсем мало людей, которые к тому же были похожи на голодных и больных диких зверей. Вот тогда-то в Тибете появились пять благородных мужчин прекрасной внешности и сказали царю: «Как же ты мог допустить, о великий и мудрый царь, чтобы эти священные предметы были небрежно брошены в темное подземелье?» После этих слов они таинственно исчезли. Царь понял свою ошибку и приказал не только вынести предметы из темного хранилища, но и поместить там, где их могли видеть все подданные. Все оказывали этим чудесным вещам уважение, проявляя великую почтительность и смиренное благоговение. После этого голод, падеж скота и другие страшные бедствия прекратились и в стране воцарились счастье и благополучие. Пятым цэнпо после Лхатхотхори был великий Сонгцэн Гампо, божественное воплощение сострадательного бодхисаттвы Авалокитешвары. Поэтому он был очень красив и имел на теле все знаки божественного происхождения. Кроме того, на голове у него чудесным образом держалась статуя славного будды Амитабхи, покровителя рая. Будда Амитабха пребывает в нирване и поэтому не может лично руководить теми, кто идет по пути избавления от страданий. Это делает одно из проявлений (эманация) Амитабхи — бодхисаттва Авалокитешвара, воплощение великого милосердия, который последовательно рождается в образе одних людей, чтобы наставлять многих других на истинный путь. Как-то Сонгцэн Гампо узнал о хранящихся загадочных предметах, упавших с неба к ногам Лхатхотхори, и захотел понять их смысл, значение и употребление. Но ни служители старой веры бон, ни придворные не смогли сделать это и прочесть священные письмена. Тогда цэнпо послал в Индию семь знатных людей, для того чтобы изучить индийскую письменность и прочесть святой текст и таким образом познать смысл реликвий, но все семь ушли и не вернулись. Цэнпо, побуждаемый жаждой знания, послал в Индию еще 16 молодых людей во главе с министром Тхонми Самбхота. Цэнпо проникся глубочайшим благоговением к учению, содержащему истины, поведанные великим Шакьямуни, и издал законы, которые требовали, чтобы все тибетцы изучали и исповедовали буддизм. Но в Тибете нужно было иметь священное изображение бодхисаттвы Авалокитешвары, и божественное происхождение цэнпо помогло ему в этом. Великий Сонгцэн Гампо, обладавший магической силой, произвел из своего сердца некоего монаха по имени Акарамати, полное подобие самого себя (даже статуя Амитабхи была на его голове), и поведал ему следующее. Когда-то очень давно, в далекие времена первого будды, царствовавшего на земле, в ту первую кальпу, несравненный Авалокитешвара посадил на берегу Сингальского моря одно-единственное семя драгоценного дерева чандана, именуемого сандаловым. В эпоху следующего будды это семя проросло, при будде Кашьяпа оно уже выросло, а во времена Шакьямуни, т. е. в нашей кальпе, это дерево было могучим, с обильной зеленью, с множеством плодов. Это прекрасное дерево, хранящее изображение славного Авалокитешвары, погибло, когда Шакьямуни достиг нирваны. «Ты должен отправиться на берег Сингальского моря за драгоценным изображением», — приказал Сонгцэн Гампо монаху и объяснил, как это сделать. На берегу моря лежит, отдыхая, громадный слон с красным хоботом. Его надо прогнать и выкопать из земли, где он лежал, ствол дерева чандана, посаженного Авалокитешварой. Монах с помощью волшебной силы сразу же достиг лежбища слонов, прогнал слона с красным хоботом и выкопал дерево чандана, которое тут же развалилось, и из него появилось священное изображение Авалокитешвары. Увидев это, слон с красным хоботом, разгневанный тем, что его потревожили, сказал монаху: «Твой царь, желая получить священное изображение, приказал тебе лишить меня любимого места отдыха. Поэтому в следующем перерождении буду я могучим царем, который уничтожит твою религию!». Монах вернулся в Тибет, вручил цэнпо изображение Авалокитешвары и передал слова разгневанного слона. Цэнпо объяснил монаху причину этого гнева. Когда-то в одном из прошлых перерождений в Индии Сонгцэн Гампо построил священное сооружение, но забыл почтить благодарностью быка, который доставлял землю для постройки. Тогда бык в ярости произнес проклятие, которое не сбылось только потому, что царь нейтрализовал его произнесением заклинания, обладавшего большой священной силой. Теперь же, в данной жизни, т. е. в данном рождении в виде слона с красным хоботом, этот бык переполнен яростью и гневом. В будущем успешно бороться с быком и усмирить его гнев смогут лишь те, кто станет перерождениями могучего и божественного Авалокитешвары. Цаньян Джамцо знал, что все это сбылось. Через двести лет после Сонгцэн Гампо на престол вступил цэнпо Дарма по прозвищу Ланг (Бык), который запретил буддизм и жестоко преследовал буддистов. Но продолжалось это недолго. Ланг Дарма был убит буддийским монахом. «Да, вот она, кровь, во имя и во славу буддизма, — думал Цаньян Джамцо, — хотя главная заповедь учения Шакьямуни запрещает причинять и малейший вред любому живому существу. Сам Шакьямуни, конечно, никогда не одобрил бы такого. Он, скорее, примирился бы с гибелью своего Учения, чем допустил бы пролитие крови. А вот его ученики и последователи нередко любыми средствами добиваются процветания буддизма, и главное — своего собственного». Так думал молодой узник, и на душе у него было совсем скверно. Цаньян Джамцо понял, что его опять одолевают сомнения. А ведь именно они явились одной из причин того, что он сейчас здесь, на краю Тибета, а впереди — полная неизвестность. Вряд ли он когда-нибудь увидит Лхасу, дворец Потала… Разве что в одном из будущих перерождений? А кем он родится вновь? Мышью, крестьянином, знатным владельцем скота и земель, царем? Он не хочет быть царем, он не боится стать крестьянином, больше всего он хотел бы родиться просто поэтом, нищим поэтом. Он ходил бы по любимой стране, слушал песни и рассказы простых людей и творил бы сам. Мало что он успел поведать об этой суровой, но прекрасной стране, ее высоких горах, глубоких ущельях и широких долинах, буйных и капризных реках, прозрачных и синих озерах. Но все-таки кое-что он успел рассказать о людях этой страны, о простых и светлых чувствах, которыми они живут, о нехитрых, но важных делах, которые совершают, облегчая неимоверную тяжесть своего повседневного труда пением рожденных ими песен. Такую песню он слышал рано утром несколько дней назад. Ее пел молодой крестьянин, вспахивая поле.5. Бон как развивающая религия
Старая тибетская религия бон весь «царский период» (так названы тибетскими авторами VII–IX века тибетской истории) ожесточенно сопротивлялась приходу буддизма. И как было сказано выше, буддизм неоднократно терпел сокрушительные поражения. Однако постепенно буддизм все более укреплял свои позиции в идеологической и социально-экономической областях. Религия бон, чтобы не исчезнуть, была принуждена прибегнуть к обороне. И это ей удалось. То, что религия бон продолжала жить, объяснимо тем, что старая религия не только научилась сосуществовать с новой, но и постаралась заимствовать из буддизма ряд теоретических достижений и ритуальных обрядов, применив их к своей теории и практике. Бонская религия постепенно стала преобразовываться в оформленную религию, какой тогда был буддизм. С этой целью приверженцы бон начали создавать свой канон — собрание религиозных текстов — по образу и подобию буддийского канона, откуда заимствовали не только схему построения самого собрания канонических произведений, но и сюжеты для обработки и написания собственных произведений. Одним из важных приобретений бон было включение в ее теоретический свод положения о необходимости достижения некоего особого состояния просветленности, что прямо перекликается с учением буддизма о созерцании и достижении нирваны. В свою очередь, буддизм заимствовал из бонской религии и включил в свой обширный пантеон многих богов местного происхождения. Кроме того, буддизм обогатился за счет некоторых обрядов бон. Уже во второй половине XI в. в южной части области Цан (к югу от Лхасы) был основан первый бонский монастырь, Ярубенса, построенный и организованный по типу буддийских. В начале XV в. он был разрушен наводнением, но Ярубенса был не единственным бонским монастырем в Тибете. К XIII–XIV вв. бонская религия заимствовала из буддизма многое, как показывает содержание различных бонских сочинений, сохранившихся до наших дней. Результатом такого заимствования (точнее, обмена, хотя религия бон и получила от буддизма больше, чем дала ему) можно считать создание бонского теоретического свода «Девяти колесниц», включающего как добуддийское религиозное учение и практику, так и основные положения теории и практики тантрического буддизма. Бон заимствовал учение о пяти наивысших буддах (во главе с важнейшим из них — Вайрочаной), заменив имена, но сохранив их функции. Красноречив пример замены тибетского имени буддийской богини Тары Долма на Джамма («Госпожа любящей доброты»), для этого в тибетском имени будды Майтреи Джамна окончание мужского рода было заменено окончанием женского рода [83, 109]. Добавим, что и сам принцип деления своей доктрины и своего канона на девять частей бон заимствовал у секты Ньингмапа. И самое важное — в религии бон появилась фигура, аналогичная Будде Шакьямуни. Это произошло, когда была создана биография легендарного наставника Шенраба Миво, принесшего в мир бонское вероучение. Как и Шакьямуни, Шенраб был сыном царя, правителя царства, откуда брали начало Ганг и Инд [66, 85–97]. Рождению Шенраба предшествовало желание богов распространить на земле самое совершенное и истинное учение. И они выбрали эту царскую семью, где родился прекрасный ребенок, обладавший всеми телесными признаками высокого рождения. После этого начинается победоносное шествие бон. Из тела еще трехлетнего Шенраба произошло истечение (эманация) четырех великих бонских элементов — шен. В ответ на просьбу бонских бодхисаттв Шенраб посвящает их в «Бон черных заклинаний». Эти заклинания должны были помочь победить злых духов, которые мешают распространению и победе бон. Затем Шенраб, умножая количество добрых дел и откликаясь на просьбу богов Сангпо Бумтхи («Маленький сын духа») и Юзур Пхудчан («Тот, у кого узел волос бирюзового цвета»), приступил к обращению в истинную веру дикого и злого охотника Тобу Доте. Этот жестокий человек убил неисчислимое множество животных и много человеческих существ. Спаситель Шенраб отправился в страну грешников (в ад) и с помощью магии унял жажду убийств этого великого грешника, а затем увел его с собой в качестве ученика в страну Олмо. Но дурная карма ужасных дел Тобу Доте была так велика, что и после трех лет веры в бон он все еще был грешником. Пришлось ему снова отправиться в ад, чтобы претерпеть страшные мучения. Благодаря тантрическим церемониям и декламированию в качестве магических заклинаний имен ста божеств наставник Шенраб еще раз спас Тобу Доте из ада и помог ему освободиться от громадного числа рождений в мире животных, людей и богов, через которые он должен был пройти на пути освобождения от грехов. Магическая помощь Шенраба помогла Тобу Доте избежать перерождений и запечатлеть свою очищенную духовную сущность в виде некоего изображения на белоснежно-перламутровой бумаге [66, 85–97]. Вскоре Шенраб женился напрекрасной девушке, которая родила ему двух не менее прекрасных сыновей, с раннего возраста обладавших ярким умом и глубокой религиозностью. Они стали преданными учениками своего наставника-отца, часто занимавшегося с ними теорией и практикой религии бон. Среди противников учения Шенраба первое место занимали злые демоны мужского и женского рода. Они совершали всякие ужасные дела, стараясь не только помешать распространению бон, но и уничтожить само истинное учение. Много времени затратил Шенраб на борьбу со злыми силами, но все-таки победил их. Это еще более укрепило славу и силу бон в глазах многих заблуждающихся людей, которые теперь стремились исповедовать именно бон. Распространив бон в своей стране, Шенраб покидает свои дом, семью, чтобы вести жизнь отшельника. В течение многих лет странствует Шенраб по земле, окруженный множеством учеников и последователей, и повсюду обращает в бон многих людей. В глубокой старости учитель умирает на руках учеников и достигает некоего блаженного состояния. Так учитель вышел из мира страданий и обрел великое спокойствие. По прошествии многих веков, в течение которых неимоверно возрастет число грехов людей, великий наставник страдающего мира Шенраб явится еще раз, чтобы спасти заблудших. Все исследователи отмечают большое сходство между поздней религией бон и буддизмом как в теории, так и в практике. Действительно, бонская и буддийская мифология, космология, этико-моральные учения и иконография содержат много общего. Очевидно, в X–XVI вв. бонская религия очень многое заимствовала у буддизма. Во всяком случае, бонские сочинения этого периода зафиксировали бон именно в том состоянии, какое мы видим сейчас. Скажем о главном. Как и буддизм, религия бон рекомендует творить добро, а не зло, ибо она взяла из буддизма учение о непременном воздаянии за грехи. Исследователи, которые имели возможность посетить бонские монастыри в Непале, Сиккиме и Бутане, отмечают, что ряд монастырей является общим для бон и буддийской секты Ньингмапа, основанной последователями Падмасамбхавы. Знакомство с доктринами и религиозной практикой бон и Ньингмапа убеждало ученых в том, что здесь сходства еще больше, чем между бон и вообще буддизмом. Некоторые исследователи поэтому с большим основанием говорят о значительном слиянии бон и Ньингмапы [84 и 85]. Это слияние началось еще в VIII–IX вв. и продолжалось в течение многих веков. Напомним, что, по широко известному свидетельству Ю. Н. Рериха, он видел в одном из бонских монастырей бонский канон, который, как и буддийский на тибетском языке, состоял из отдела Канджур («Собрание откровений [наставника]», 140 томов) и Танджур («Объяснение откровений», 160 томов). Значит, процесс взаимовлияния зашел весьма далеко, давая определенные основания говорить о значительной степени религиозного слияния. Более точное определение глубины этого процесса требует самых тщательных исследований. Совершенно ясно, что бонская религия древнего Тибета смогла выстоять в течение многовековой борьбы за свое существование только благодаря очень большим заимствованиям из буддизма, особенно тантрического. Эти заимствования позволяют говорить о большом эволюционном пути, пройденном религией бон. Хотя бонской религии и удалось выжить, она была практически малозаметна в религиозной и особенно в политической жизни Тибета. Как и Ньингмапа, бонская религия существовала и развивалась главным образом на окраинах страны и за ее пределами (в Непале, Сиккиме, Бутане). Изучение бонской религии связано с большими трудностями, вызванными отсутствием у исследователей многих важных текстов, в том числе бонского канона. Ученые поэтому недостаточно знакомы с доктринами бонского вероучения, взглядами на космологию, с мифологической системой. Но исследование истории и учения бонской религии может дать очень интересные результаты по многим вопросам истории религий, а кроме того, вскроет картину длительного приспособления религии к новым условиям существования, когда она делает все, что только возможно, для предотвращения своей гибели.6. Появление и развитие буддийских сект
Секта Ньингмапа. Историки секты Ньингмапа единодушно возводят ее основание к VIII в. н. э., времени пребывания в Тибете наставника Падмасамбхавы, который якобы и был ее основателем. К тому же периоду относят тибетские историки и возникновение различных традиций «понимания и изучения» тех или иных текстов, главным образом тантрических. С их точки зрения, учение секты Ньингмапа — это именно тот буддизм, который процветал тогда в Индии. Действительно, секта Ньингмапа относится к числу сект тантрического буддизма, имевшего характерную особенность — преобладание практики мистицизма и волхования как основного средства на пути спасения от страданий. Этот буддизм не довольствовался старыми методами спасения и распространял учение о спасении в течение одной жизни путем мистического единения (слияния) с различными сверхъестественными силами. Тантрический буддизм обещал, таким образом, более быстрое спасение. Бонская магическая практика подготовила и облегчила усвоение магических обрядов тантризма, которые отличались большой сложностью, но в то же время привлекательностью. История, теория и практика секты Ньингмапа до сих пор изучены европейскими исследователями очень мало, поскольку в самом Тибете она заметна немногим более, чем бон, а ученых всегда привлекала та секта, которая господствовала в идеологической и политической жизни страны, т. е. Гелугпа. Учение секты Ньингмапа сохранило кое-что от буддизма первоначальной эпохи, но элементов старого буддизма в ее учении не так много, как хотелось бы ее представителям. Современное учение секты — результат его длительного, начиная с VIII в., развития. Это учение вобрало в себя как буддийские, так и бонские черты. Довольно мирные отношения секты Ньингмапа и бон не помешали, как и следовало ожидать, первой из них утверждать, что ее божества более могущественны. В «Сказания Падмы» есть описание встречи в Тибете Падмасамбхавы и местного (бонского) бога горы Ярлхашампо, который принял вид свирепого белого быка-яка. Из его ноздрей извергались снежные вихри, и вокруг него бушевала пурга, но великому магу и наставнику ничего не стоило победить чужого бога и заставить его служить святым целям буддизма: он сделал Ярлхашампо одним из многих своих помощников. Процесс заимствования, прерванный в IX в. гонениями, продолжался в X–XIV вв. Возросло число особенностей, отличающих Ньингмапу от других сект. Секте Ньингмапа принадлежит приоритет в деле открытия «древних текстов», которые будто бы были спрятаны в специальных кладах в IX в., во время преследования буддизма при цэнпо Ланг Дарме, а позднее с помощью магических средств и предзнаменований «счастливо найденных». Эти сочинения именовались «найденными в земле», «книгами из кладов» и «сокровенными книгами». Авторами сочинений названы лица, которые жили в VIII–IX вв., задолго до их «открытия». Из таких произведений около XIV в. было составлено «Собрание старых тантр», которое не попало в тибетский буддийский канон. Можно предположить, что «Собрание старых тантр» оформилось после 1322 г., так как написанная в этом году известная «История буддизма в Индии и Тибете» Бутона Ринчендуба, включающая каталог тибетского канона, не упоминает их совершенно. Впрочем, могло быть и другое. Это «Собрание старых тантр» появилось при жизни Бутона, и он не верил в их древность. Известно, что Бутон отрицательно относился к практике обнаружения книжных кладов, хотя и не выступал прямо против поисков «старых тантр». Но очевидно, что «Собрание старых тантр» написано не раньше XIV в., так как в противном случае они имели бы устоявшийся авторитет к 1322 г., когда Бутон написал свою «Историю буддизма». Среди тантрических трактатов Ньингмапы, не входящих в общебуддийский канон, выделяются «Мягкие и свирепые в их проявлениях» и «Ядро магических проявлений или царь трактатов», которые перечисляют и объясняют качество «спокойных» (мягких, сострадательных) проявлений 54 божеств и «сердитых» (свирепых, гневных) проявлений 42 божеств. Ньингмапа обожествила Падмасамбхаву и отвела ему в своем пантеоне место в одном ряду с буддами и бодхисаттвами. Он — главное тантрическое божество секты Ньингмапа. Падмасамбхава в его различных божественных проявлениях есть центр многих тантрических ритуалов. Как тантрическое божество он выступает в «мягкой» и «свирепой» формах, появляясь как «Мягкий наставник» и как «Свирепый наставник». В этом проявлении он выступает в образе «Бога-тигра», который относится к разряду древних, добуддийских тибетских богов, вошедших очень рано также и в бонский пантеон. В данном случае перед нами — пример заимствования буддизмом божества из бон [83, 172]. Падмасамбхава мог быть и божеством «Совершенство мысли» (Туг Груб) в красном или белом проявлении в окружении свиты других, не столь значительных божеств. Он был и богом знания, которое приближало к достижению состояния просветления, т. е. состояния будды. Его ставят рядом с другими великими божествами тантрического толка, в число которых входят Хеваджра, Самвара и др. Хорошо иллюстрирует легендарный облик Падмасамбхавы сочинение «Сказание Падмы», родившееся в среде секты Ньингмапа. Ньингмапа почитает тантрического будду Самантабхадру как Ади-Будду, т. е. некоего изначального Будду, тело которого есть всеобщая сущность и источник всего в мире, так что и сам мир — часть этого космического Будды. В этом еще одно отличие секты Ньингмапа от основного течения тибетского тантризма, который Ади-Буддой называет будду Вайрочану. Возможно, секта смешала бодхисаттву Самантабхадру — эманацию будды Вайрочана, и будду Самантабхадру, а может быть, здесь сыграло роль то, что в популярном изложении своей теории Ньингмапа часто называет бодхисаттву Самантабхадру просто сыном Вайрочаны, а сын вполне может заменить отца. Все буддийское учение секта Ньингмапа сообразно своим взглядам делит на девять разделов, или «колесниц». Первые три раздела были принесены в мир Буддой Шакьямуни. Из них разделы 1-й и 2-й говорят о пути архата и пратьека-будды, которые заботятся только о своем собственном спасении и не используют полученные знания для просвещения других; эти разделы — основа южного буддизма, т. е. хинаяны; 3-й раздел говорит о пути бодхисаттв, которые откладывают свое спасение ради просвещения других; это — северный буддизм, т. е. махаяна. Следующие три раздела (4, 5 и 6-й) магическим образом «проистекли» из тела будды Ваджрасаттвы (его тело называется Самбхогакайя), находящегося в нирване. Содержание разделов составляют тантрические учения, изложенные в тантрах, описывающих магические ритуалы, способствующие спасению от страданий. Последние три раздела (7, 8 и 9-й) содержат наивысшие истины о тантрических способах спасения. Учения этих разделов «проистекли» из тела Ади-Будды Самантабхадры (это тело называется Дхармакайя). В состав этих разделов входят «Колесница Маха-йога», «Колесница Ану-йога», «Колесница Ати-йога». Теоретическая основа наивысших «колесниц» — произведения (тантры) цикла «Ануттара-йога». Секта Ньингмапа, как и подобало секте, проповедующей тантрический буддизм, главный упор делала на последние пять «колесниц», излагающих эзотерические (тайные) учения о спасении от страданий с помощью магических ритуалов, которые обеспечивают слияние с божественной сущностью. Основное средство обретения этого — тщательно разработанная система достижения состояния глубочайшего созерцания, во время которого наступает некое экстатическое состояние, помогающее такому слиянию. Ньингмапа не относилась к числу сект, которые проповедовали безбрачие монахов. Согласно всем биографиям, составленным много позже его жизни, сам великий гуру Падмасамбхава (явно по примеру мужских тантрических божеств, каждое из которых имело свою женскую ипостась, с которой сливалось в вечных объятиях) имел жену принцессу Мандараву. Марпа, учитель Миларепы, имел, согласно его биографиям, девять жен, из них одна была первой и главной супругой, а остальные были нужны ему для выполнения обрядов в честь тантрического культа Херука. Мы не знаем, какие обряды имеются в виду, как не знаем, были ли они свободны от некоторых элементов сексуальной религиозной практики. Важную роль в жизни последователей секты Ньингмапа играла система хатха-йога, которая включала тщательно составленные физические упражнения (различные фиксируемые позы тела, регулирование дыхания и т. д.), призванные облегчать создание условий для транса созерцания. В тантрическом буддизме во время процесса созерцания следовало «видеть» те или иные божества и мысленно сливаться с ними, растворяться в них. Секты Сакьяпа, Каджудпа, Кадампа. О появлении и политической роли этих сект (особенно первых двух) мы уже говорили в разделе, посвященном истории Тибета. Подчеркнем, что в противоположность секте Ньингмапа они относят свое рождение ко второй половине XI в., времени активной деятельности учеников индийского пандита-миссионера Атиши (982–1054), прибывшего в Тибет в 1042 г. Тибетская традиция подчеркивает, что он был тем, кто снова и навсегда принес в страну истинное учение Шакьямуни. Тибетцы создали его легендарную биографию, из которой явствует, что он был, как и Шакьямуни, сыном царя бенгальской страны Захор. Атиша рано женился и имел девять детей, но это не помешало ему оставить семью ради занятий буддизмом. Вскоре он стал самым выдающимся буддистом Индии, который прекрасно владел глубинами буддийской философии, логики и риторики, а также знал религиозные аспекты учения Шакьямуни. Позднейшая традиция объявила Атишу перерождением бодхисаттвы Манджушри («Олицетворение небесной мудрости»). И он находился под покровительством богини Тары, женской эманации бодхисаттвы Авалокитешвары, божественного покровителя Тибета. Находясь в Тибете, Атиша написал и перевел целый ряд сочинений, в том числе «Бодхипатхапрадипа» («Светильник для пути просветления»), в котором он развивал одно из положений буддизма о делении людей в соответствии с их умственным развитием и успехами в делах святости на три разряда: высший, средний и низший. Религиозная теория и практика может осваиваться соответственно определенному разряду. К высшему разряду относятся те, кто должен достигнуть состояния бодхисаттвы. Пути, по которому должны следовать люди высшего разряда, как раз и посвящено другое известное произведение Атиши «Бодхисаттваманьявали» («Драгоценная гирлянда бодхисаттвы»). Оба сочинения Атиши сыграли выдающуюся роль в становлении теории и практики сект Кадампа и Гелугпа. Атиша принес в Тибет знание того буддизма, какой был в то время в Индии. Он помог становлению в Тибете тантрической астролого-астрономической системы Калачакра («Колесо времени», сущность системы изложена в знаменитой «Калачакра-тантре»), которая появилась там незадолго до его прибытия в Страну снегов (появление Калачакры в Индии относится к IX в. н. э.). Тибетские авторы отмечают, что Атиша восстановил почти утраченное в Тибете знание философской системы буддийской доктрины. Большое внимание Атиша обращал на организацию правильной монастырской жизни, на строгое выполнение заветов буддийской этики (аскетизм, монашеская жизнь в духе первоначальной буддийской общины). Все тибетские буддийские секты, кроме Ньингмапы, считают своими основателями тех, кто якобы были непосредственными учениками Атиши. Но в действительности его ученики создали только секту Кадампа («Те, кто следуют словам наставника»). Остальные секты (Сакьяпа, Каджудпа, Кармапа) основаны лицами, которые встречались с ним и воспринимали от него далеко не все, чему он учил. Но Атиша, несомненно, заслужил уважение тех, кто общался с ним, за свои глубокие знания всех сторон буддийского учения, теоретических и практических. И поэтому все секты стремились приблизить своих основателей к знаменитому индийскому наставнику. Современник Атиши по имени Брогми (992–1074), который восемь лет изучал у лучших индийских наставников теорию праджняпарамиты и был посвящен в тантрические дисциплины (например, систему Хеваджра), имел много учеников, один из которых, Кончог Джалцан, из знатной семьи Кхон, основал в 1073 г. монастырь Сакья (Западный Тибет), положивший начало секте Сакьяпа. Эта секта к XII в. стала значительной политической и религиозной силой. Когда же в XIII–XIV вв. Сакьяпа стала господствующей сектой в стране, слишком тесная связь между интересами секты и семьи Кхон вызвала в других районах страны ожесточенное сопротивление распространению религиозного учения секты семьи Кхон (см. стр. 70–72). В разных областях Тибета были свои собственные религиозные школы, развивавшиеся в крупных монастырях, которые были опорой местных правителей. Своим ученикам Брогми передал традиции понимания так называемых новых тантр, которые не входят в число «старых тантр», составляющих основу учения секты Ньингмапа. Эти тантры «новы» потому, что переведены на тибетский язык переводчиком Ринчен Зангпо (958–1055) и Атишей значительно позже появления «старых тантр». Основу взглядов Брогми определяло учение «Путь и плоды [деяний]» (Лам-брай), построенное на «новых тантрах». Посвящение в знание его он получил еще в Индии от ряда ведущих индийских наставников. Тантрическая доктрина «Путь и плоды [деяний]» стала основной в секте Сакьяпа. Подчеркнем, что учения тантрических сект Тибета (Сакьяпа, Каджудпа) не заменяли какие-то части общебуддийского учения, потому что считались не заменой его, а дополнением. Будда Шакьямуни — творец всего буддийского учения. Но при своей жизни он проповедовал главным образом «Малый путь», «Малую колесницу» (хинаяна), так как люди не были готовы глубоко воспринять другие, более сложные части учения. Поэтому Шакьямуни спрятал у водяных драконов (нагов) доктрину «Великого пути», «Великой колесницы» (махаяна), полагая, что эта часть учения станет известна людям только тогда, когда они очистятся от части грехов и будут более просвещенны. Учение тантр, именуемое тантра «левой руки» — «Алмазная колесница» (Ваджраяна), является третьей и наиболее совершенной частью буддийского учения. И его основы были преподаны Шакьямуни, но широкая пропаганда Ваджраяны началась гораздо позже, когда люди еще ближе подошли к моменту просветления, освободились еще от одной части грехов и стали гораздо более искренно выполнять заветы буддизма. Тантристы говорили, что буддизм обретает все большее число последователей, которые уже хорошо усвоили «четыре благородные истины» и необходимые знания о «восьмеричном пути», на котором самым важным шагом является восьмой, т. е. созерцание (медитация). Именно различным аспектам этого созерцания и посвящено учение «Алмазной колесницы». Понять Ваджраяну (тем более следовать ей) способны пока немногие, но число их будет расти. В соответствии с этим в тантрических сектах Тибета проповедь и изучение буддизма включало винайю (дисциплина в монашеской общине), абхидхарма-кошу (учение о дхармах и различных видах реальности), праджняпарамиту (учение о трансцендентной, потусторонней, совершенной мудрости, что является основой и своеобразием махаяны) и, наконец, тантрическое учение (достижение святости с помощью магических средств). Поэтому нет принципиальных отличий между вероучениями сект Сакьяпа и Каджудпа. Оба вероучения основываются на «новых тантрах», но лишь выводят традиции их понимания от разных тибетских наставников, которые придавали свою окраску тем или иным трактовкам различных сторон теории и практики буддизма. Свои традиции понимания тантрических дисциплин Сакьяпа выводила от бодхисаттвы Ваджрадхара, эманации будды Акшобхьи. Общая традиция передачи тантр, которой придерживалась Сакьяпа, называлась «глубокая, созерцательная». В ее передаче участвовали бодхисаттвы Ваджрадхара, Манджугхоша, Нагарджуна, Буддапалита, Чандракирти, Авадхути — старший и младший, Атиша, Брогми [98, 6]. Секта Каджудпа была основана наставником по имени Марпа (1012–1097), который свои традиции тантрического учения воспринял от наставников Наропы и Тилопы во время пребывания в Индии. Оба индийских учителя были глубоко образованны. Наропа, например, был одним из первых интерпретаторов системы Калачакра. Секта Каджудпа не была едина, монолитна. Она состояла из шести различных подсект, порой достаточно крупных. Политическое влияние ее начинается со второй половины XIV в. и продолжается до начала XVII в. Точнее, влиятельной в тот период была секта Кармапа, по сути подсекта Каджудпы. Общая традиция передачи тантрического учения, которой следовала Каджудпа, называлась «Бурная, действенная». В ее передаче участвовали бодхисаттвы Манджугхоша, Шантидева, Тилопа, Наропа, Дхармакирти, Атиша, Марпа [98, 4]. Основу трактовок тантрических текстов в этой секте составляло то, чему учили Наропа и Тилопа. Так, сохранялось учение Наропы о шести психофизических методах достижения просветления, где он развивал взгляды йогачаров на великую роль йогических практик тренировки тела для достижения особого, блаженно-экстатического состояния духа, помогающего процессу созерцания. Тилопа больше внимания уделял различным процессам самоуглубленного созерцания — важной ступени на пути к истинному просветлению. Многое из того, чему учили Наропа и Тилопа, считалось сокровенным и распространялось только после специального разрешения. Тантрическая практика (декламация заклинаний, вызывание божеств перед собой и в себе и т. д.) включала многое из йогической практики, поскольку считалось, что в особо тренированном, специально подготовленном теле легче возникнут условия для видения в сознании образов тантрических божеств. Одной из особенностей учения секты Каджудпа следует признать то, что она видела путь спасения в аскетизме, в уходе от мира. Скромная жизнь в уединенном, горном месте в полном одиночестве, жизнь, сведенная к созерцанию, — вот средство спасения. Крупнейшим представителем этой традиции был ученик Марпы, тибетский поэт Миларепа, ярко воспевавший в своих стихах близость к природе. С течением времени учение секты Каджудпа вбирало в себя ряд представлений, идеи и практику других сект, например Сакьяпы. Вначале это вызывалось желанием не отстать от первой в политическом и религиозном отношении секты Тибета XII–XIII вв., а затем, когда главной политической и религиозной силой страны стала Каджудпа — в XIV–XVI вв., — для того, чтобы отвечать всем запросам, которые могли появиться у последователей бывших соперников. Эта широта взглядов помогала Каджудпе распространять свое влияние, но в то же время в определенной степени способствовала видоизменению ее доктрины. Более всего взгляды Атиши на буддийскую теорию и практику отразились в деятельности секты Кадампа, основанной Бром Тонпой после смерти индийского миссионера в конце 50-х годов XI в. Название секты Кадампа («Слова наставлений») историк Сумпакханпо (1704–1788) связывает с тем, что секта следовала традиции наставлений Атиши. Другие относят это к наставлениям Шакьямуни. Когда Атиша умер в 1054 г. в монастыре Ньетханг, то Бром Тонпа основал в 1057 г. монастырь Радел (к северу от Лхасы), в котором стал настоятелем. Впоследствии этот район был одним из главных центров, где позиции секты Кадампа были сильны и прочны. Одной из крупнейших фигур Кадампы считался Потоба (1027–1105), который прославился искусством читать проповеди. Большинство положений буддийского учения он иллюстрировал хорошо подобранными назидательными рассказами, сюжеты которых брал из богатой сокровищницы индийской литературы. Одним из основных текстов, на которых основывалось учение Кадампы, было упомянутое сочинение Атиши «Светильник для пути просветления», которое делило людей на три разряда. К низшему относятся те, кто не отвернулся от греховного мира — страстей и страданий. Им следует проповедовать нормы поведения, закон воздаяния за злые и добрые дела, правила почитания буддийского монаха. Средний разряд составляют люди, которые отвергли мир страданий, но думают лишь о собственном спасении. Их надо обучать знанию «четырех благородных истин». Высший же разряд состоит из людей, которые, познав глубину собственных страданий, искренне сострадают чужим и более всего желают спасения других людей. Таким совершенным людям, достигшим большой степени святости, необходимо давать знание парамит, посредством которых достигается высшая стадия духовного развития человека. Отличительной особенностью секты Кадампа тибетской традицией признается строгое следование нормам и правилам монашеской жизни. Последователи секты обязаны были воздерживаться, например, от семейной жизни, вина и т. д. Учение секты предусматривало и большую роль монаха-наставника (ламы) в деле распространения буддизма. Без ламы верующий может сбиться с пути спасения, потеряв верное направление. Одно из главных мест в пантеоне Кадампы занимал бодхисаттва Авалокитешвара, полный милосердного сострадания к людям, пребывающим в мире страданий. Кадампа никогда не имела большого и заметного влияния на религиозные и политические дела Тибета. Но зато ее преемница, секта Гелугпа, по сей день остается ведущей в тибетском буддизме. В XI–XIII вв. существовало множество вариантов переводов канонических буддийских произведений, и это порождало много трудностей в сохранении духа и буквы основополагающих трактатов. В течение этого времени неоднократно предпринимались попытки провести систематизацию и кодификацию всей буддийской литературы на тибетском языке. Этот процесс закончился только к 1322 г., когда Бутон Ринчендуб, как отмечалось, написал «Историю буддизма в Индии и Тибете», которую закончил каталогом тибетского буддийского канона. Именно с этого момента тибетский канон имеет тот вид (состав произведений, авторов, переводчиков), как и сегодня. Тибетский буддийский канон состоит из двух больших разделов: Канджур («Собрание слов [Шакьямуни]») и Танджур (Собрание сочинений великих буддийских наставников, часто комментировавших произведения, приписываемые Шакьямуни, т. е. Канджур). Оба отдела канона объединяют свыше 4500 произведений. Различные издания имеют разное число томов, по чаще 333 (Канджур — 108 томов, Танджур — 225). Создание канона, систематизация и кодификация переводов в начале XIV в. заложили прочную основу для дальнейшего развития буддийских сект Тибета. Однако религиозная разобщенность (перемежаемая борьбой за политическую власть в стране) и относительное равенство сил этих сект мешали какой-либо из них добиться подавляющего превосходства в религиозной жизни. Так продолжалось весь XIV век. Секта Гелугпа. На рубеже XIV–XV вв. родилась новая секта, получившая позднее название Гелугпа. Она была создана учениками необычайно популярного в Тибете Цзонхавы. Его монашеское имя — Ловзан Дагпа (на санскрите Суматикирти). Последователи часто называли его Джо Ринпочхе («Драгоценный князь [религии]»). Он родился в области Амдо (Северо-Восточный Тибет) в местности Цзонха («Овраг дикого лука») и был четвертым сыном из шести [3, 167–198]. В раннем детстве Цзонхава был взят на воспитание ламой Дондуб Ринченом (по причине, видимо, многодетности семьи). К 16 годам Цзонхава получил хорошее образование, которое он продолжал в Центральном Тибете. По дороге туда он посетил много монастырей, в которых занимался различными буддийскими дисциплинами у ряда известных наставников. Путешествие длилось три года, в течение которых Цзонхава получил знание ряда традиций изучения буддийских текстов. Находясь в Центральном Тибете, он выслушал много наставлений ламы Ремдава (Кумарамати), последователя секты Сакьяпа, по логике (на основе сочинений Дхармакирти, VII в.) и мадхьямике (по сочинениям Нагарджуны и его последователей). Затем Цзонхава усвоил учение о парамитах по произведениям Нагарджуны, Арьядевы и Шантидевы, а также изучил доктрину абидхармы — метафизики по трактатам Асанги и Васубандху. Одновременно с изучением этих дисциплин он много путешествовал по Тибету, занимаясь со всеми известными наставниками того времени. Обладая выдающимися способностями, Цзонхава к 30 годам становится крупнейшим знатоком буддийского учения, выраженного наиболее полно в тибетском буддийском каноне, который он едва ли не знал наизусть. В 31 год Цзонхава пишет большое сочинение, комментирующее учение о парамитах. Оно известно под названием «Серджипхренгпа» («Золотое ожерелье», или «Золотые четки») и составляет два тома его обширного собрания сочинений. «Золотое ожерелье» комментирует два известных махаянских текста из Танджура (их авторство приписано бодхисаттвам Майтрее и Харибхадре). Большое внимание Цзонхава уделил изучению в каноне тантр, которые преподал ему один из лучших знатоков тантризма, лама Умапа. К 1392 г. Цзонхава имел более десятка преданных учеников, и их число быстро росло. Он очень хотел посетить Индию, но, как сообщает легенда, увидел во сне бодхисаттву Манджушри, который предсказал ему смерть во время путешествия, Цзонхава остался в Тибете и вместе с учениками обосновался в окрестностях Лхасы, фактически организовав и возглавив буддийскую общину из своих последователей. Слава выдающегося знатока буддизма росла, и скоро Цзонхава становится непререкаемым авторитетом в толковании самых различных сторон учения. Неудивительно, что уже в 1400 г. его старый учитель Ремдава написал в честь своего знаменитого ученика небольшой мадригал.IV. ЛЮДИ И БОГИ
Веленью божию, о Муза, будь послушна!А. С. Пушкин
1. «Веревка му»
Существует немало определений такого, казалось бы, весьма ясного и в то же время расплывчатого явления, как культура. Не принимая только какое-то одно из них и не давая принципиально нового определения, мы понимаем и будем понимать культуру широко, как единство материального и духовного, как образ жизни и образ мышления данного общества и различных составляющих его социальных групп и их членов (индивидуумов), обусловленный в каждый данный момент совокупностью разных материальных и идеологических факторов. В числе многих факторов, определяющих облик какой-либо культуры, пожалуй, можно попытаться назвать три наиболее решающих, разумеется, с нашей точки зрения: природная среда, внешнее влияние и традиции. Природная среда во многом определяет материальный облик культуры. Тибетскую цивилизацию иногда образно определяют как «цивилизация яка». Хорошо приспособленный к суровым высокогорным пастбищам, як помог человеку заселить и освоить практически все Тибетское нагорье. Продукты, получаемые от яка, определили материал и даже окраску жилища тибетца-скотовода, рацион питания тибетца, материал, а следовательно, в какой-то мере и характер его одежды. Ячмень, наиболее приспособленный к высокогорным долинам, дал тибетцам цзамбу — «хлеб Тибета», что тоже во многом определяет своеобразие облика тибетской культуры. Природная среда определила и присущую тибетской культуре в целом так называемую двойную морфологию жизни, о которой мы говорили выше. Конечно, формы присвоения природных богатств различны в разные эпохи и неодинаковы у обществ с несхожими традициями. Но важно подчеркнуть очевидную истину, что на Тибетском нагорье не могла развиваться например, культура земледельцев-рисоводов, характерная для родственных тибетцам бирманцев. Природная среда влияла на характер производства, а следовательно, в особенности в древности и средневековье, опосредствованно и на характер производственных отношений общества, обитавшего в данной среде. Не менее важным фактором было и внешнее влияние. На рубеже нашей эры и тем более в последние две тысячи лет нашей эры не было общества, развивающегося без воздействия соседних культур, без взаимопроникновения и взаимовлияния их. По-видимому, для тибетской культуры наиболее решающим явилось воздействие с запада и юга. Такое воздействие наблюдалось как в сфере материальной, так и духовной. Мы уже упоминали о том, что в тибетской культуре исследователи обнаруживают некоторые иранские элементы как в сфере производства (приемы земледелия), так и в культуре духовной (например, западные по происхождению мотивы в некоторых преданиях бон). Но, конечно, событием, определившим жизнь Тибета примерно на тысячу лет и придавшим средневековой тибетской культуре ее неповторимый облик, было утверждение в Тибете буддизма, пришедшего туда в основном из Индии. Тибетская культура стала буддийской. Буддизм оказал влияние на социальную структуру Тибета, определил в первую очередь мышление тибетца, общественные и индивидуально значимые ценности в его жизни, а также — иногда самым решающим образом — существо и назначение того, что мы в совокупности в обиходе и называем культурой — искусства, архитектуры, литературы, театра, музыки и т. п. Культура всех без исключения средневековых обществ была религиозной. Религия, а особенно такие мировые религии, как буддизм, ислам, христианство, не были случайными заблуждениями, о которых следует только сожалеть. С тех пор как человек стал наконец хомо сапиенс — «человеком разумным», он, чтобы жить, т. е. добывать средства для жизни из окружающей среды и обеспечивать условия, наиболее благоприятные для размножения своего вида, должен был в отличие от животных, поступающих инстинктивно, еще и объяснять себе окружающий его мир, отвечать на такие вопросы, как, что он есть и откуда появились люди вообще, в чем состоит загадка его разумной жизни, столь удивительно отличной от жизни хорошо знакомых ему животных, хотя и в представлениях древних также наделяемых разумом, объяснить причины стихийных бедствий и болезней, неожиданных удачных охот, быстрого размножения стад и обильных урожаев. Потребность в накоплении знаний стала столь же очевидной потребностью человека, как потребность в хлебе насущном. Наряду с начатками положительных знаний о природе религиозные верования на различных этапах истории человечества помогали ответить на эти вопросы. Религия была способом ориентации в мире, пусть неверным, иллюзорным, но она давала ту опору, которая позволяла жить и действовать. Конечно, в классовом обществе и государстве религия была прежде всего орудием освящения социального неравенства и угнетения. Буддизм не был исключением из этого правила. Учение о карме расставляло всех по своим местам: ты был добродетелен в прошлой жизни, и потому теперь ты знатен и богат. А вот ты не был добродетелен в прошлом, поэтому-то ты сейчас тяжко трудишься, как землепашец или пастух. Ты страдаешь, но ведь жизнь сама по себе есть страдание. Терпи, будь послушен, соблюдай религиозные предписания, будь добродетелен, и ты улучшишь свою карму. А будешь бунтовать, грешить, плохо относиться к религии, к властям — превратишься в животное, а после смерти попадешь в ад — горячий, где тебя станут варить заживо, или холодный, где тебя будут держать в озере с ледяной водой. И так вплоть до исправления. Это действовало. Окиньте снова мысленным взором историю Тибета — ни одного восстания, не считая сепаратистских выступлений местной знати. Очень многим этот факт обязан религии, т. е. буддизму. Так внешнее стало своим, определило характер культуры. В любом обществе, в любой культуре традиции имели и имеют глубокие корни. Истоки традиций часто невозможно установить, или они имеют полулегендарное объяснение. Так, например, как уже отмечалось выше, с именем Ланг Дармы связано объяснение тибетского способа приветствовать друг друга, высовывая язык. Как правило, традиции определяют действующую в данном обществе «знаковую» систему — устоявшиеся приметы и табу, символические жесты, символику цвета, те или иные обычаи, правила поведения индивидуума в данной ситуации и т. п. Одни начинают обед с чая или супа, другие завершают его чаем или супом — никаких чисто рациональных объяснений этому не найдешь, объяснить это можно только традицией, ставшей привычкой. Традиционными в жизни тибетца-буддиста, например, стали многие верования бонского толка, они прочно слились с буддийскими, и без них тибетец не был бы тибетцем, а тибетская культура — тибетской культурой. Важно, как нам кажется, подчеркнуть еще и следующее. В каждый данный момент каждое новое поколение воспринимало культуру не только в материализованном виде — в конкретных типах орудий труда, жилищ, одежды, храмов, текстов и т. д., но и усваивало навыки, правила пользования этими материальными предметами, устную традицию, нормы и правила поведения, понятия о добре и зле, навыки мыслить и рассуждать и, что особенно важно, усваивало ее дух, имеющий сотни зримых, но не всегда очевидных проявлений. На этой базе формировался психический склад личности, определяющий ее поведение. Совокупность отдельных качеств личности создавала не простую их сумму, а тот своеобразный «аромат», ту окраску данной культуры, которая в целом также отличалась от своеобразия данной отдельной личности, как отдельно взятое любое дерево не дает нам представления о лесе в целом. Ни один индивидуум, как бы, казалось, он ни был типичен, не исчерпывал всего многообразия и глубины той культуры, носителем которой, точнее, каких-то элементов которой, он являлся. По древним и средневековым традиционным воззрениям, тибетец был связан с небом и данной местностью. Связь с небом осуществлялась посредством му — веревки, нити или лестницы, которая представлялась реально то как порыв ветра, то как столб дыма, то как луч света или иногда отождествлялась со святой горой, господствующей в том районе, где человек проживал, или даже с разумом. Слово «му» — древнее, цянское, оно обозначало «небо» и «божество неба». У древних легендарных цэнпо эта «веревка» постоянно была привязана к макушке головы или к шлему. «Высокая голова», «могучий шлем», «столб неба» — эти понятия олицетворяли черты единства личности и неба. В конце жизни тело цэнпо растворялось в свете и по веревке му возносилось на небо. Цэнпо Дригум нечаянно перерезал му мечом — цэнпо стали умирать, а их тела оставались на земле. Возникла потребность в могилах. Конечно, история с Дригумом лишь мифический прецедент, объясняющий, почему цэнпо, несмотря на свою святость, превращались в обычные трупы и нуждались в могилах. Одна из бонских хроник вообще описывает обрыв му как дело еще грядущих дней торжества зла: «веревка му будет отрезана снизу доверху богами неба» [87, 187]. Все, кто соблюдает религиозные и похоронные обряды, не утратили возможности подняться на небо по веревке му. Человек (древний и средневековый тибетец) не только был связан с небом веревкой му, но имел еще пять или шесть «святых заступников», Гобай Лха. Один из них, Юл Лха («божество [данной] местности»), помещался как раз на макушке головы, откуда начиналась веревка му. На плечах каждого тибетца, как уже упоминалось, «сидели» два божества, Да Лха («Бог-защитник») и Пхо Лха («Бог человека»), мужское божество Пхо Лха соответствует у женщин Мо Лха. Заступники рождаются в одно время с человеком, которого они защищают. Кроме трех названных, есть еще Шанг Лха, божество дяди по матери. У каждого есть еще и «Божество жизненной силы», Срог Лха. Эти-то «божества-заступники» и «вписывали» средневекового тибетца в общество, соединяя его, как пуповиной, с его группой в пространстве и во времени: в пространстве, так как они были схожи с теми божествами, которые управляют местом обитания — домом и регионом; во времени — так как определяют судьбу клана от предков до потомков. Личности они обеспечивали жизнеспособность, долголетие, благополучие и успехи [87, 187]. Пхо Лха, божество мужчины (человека), обеспечивало потомство клана и увеличивало число мужчин в роду. Божество женщин, Мо Лха, увеличивало число женщин-сестер, божество дяди по матери, Шанг Лха, обеспечивало добрые отношения с чужаками (исторически — кланом, из которого брали жен) и богатство клана, божество, защищающее от врагов, гарантировало накопление богатств и уменьшение числа врагов. Кучки камней на крышах тибетских домов — это своеобразные алтари божеств мужчин и женщин. Развевающийся рядом флаг — божество, защищающее от врагов. По представлениям тибетцев, у каждого человека была душа, помещавшаяся в голени, левой у мужчин и правой у женщин, но она находилась там только 30-го и 1-го числа каждого месяца, а остальное время путешествовала по телу, постепенно поднимаясь вверх, и 15-го или 16-го числа (в полнолуние) оказывалась на макушке головы, а затем в полумесячный по лунному календарю срок снова возвращалась ближе к подошве ноги. Когда человек умирал, то у людей святых, избранных высшими силами, она отправлялась на небо по радуге — пятицветной веревке, а у простых смертных лама специальными обрядами и заклинаниями как бы давал ей выход через макушку головы умершего. Душа была связана с некоей субстанцией жизни, «ветром», «конем-ветром», понятием, родственным китайскому ци и индийскому прана, — это был, по представлениям древних, и воздух, которым мы дышим, и неуловимые флюиды в нашем теле. Вот их-то и можно было укрощать в теле посредством дыхательных упражнений и созерцательной деятельности, чем и занимаются йоги. Тибетцы из ткани или бумаги делали изображения «коня-ветра», на которых указывали дату рождения данного человека и писали благопожелания типа: «Пусть такой-то человек сего года рождения с его имуществом и окружением вознесется ввысь, как некий крылатый конь, конь-ветер». Душа, ла (бла), фактически не отличалась от божества, Лха, и могла помимо тела обитать и во внешних по отношению к человеку объектах, быть «внешней душой», как смерть Кащея Бессмертного в русских сказках. Она могла «жить» в дереве, птице, животном, озере, горе и т. д. Знатные ламы имели лари (блари), «душу-гору», душу, обитающую в конкретной реальной горе, — стоило начать копать землю на той горе, как лама заболевал. Свои «души-горы» имели и высшие буддийские покровители Тибета — это были три холма Лхасы, из которых холм Марпори, на котором стоит дворец Потала, является «душой-горой» Авалокитешвары. Отдельное лицо или группа лиц могли иметь и не одну душу. Так, по поверьям тибетцев, душа народа хор заключалась в куске железа, белом камне, дереве и рыбе. Поэтому, для того чтобы победить хоров, надо было сковать железо, разбить камень, срубить дерево, поймать рыбу. Сказка жила не за горами и до недавнего времени была в Тибете реальной жизнью. Легендарный Гесэр, стремясь укротить богиню Атаг Лхамо, высушил ее душу — черное озеро, срубил ее — срубил дерево, в котором, по его сведениям, обитала ее душа, но богиня осталась жива, так как имела про запас еще одну душу, обитель жизни, надежно укрытую в черном баране. Естественно, что объекты обитания души всегда держались в тайне. Среда обитания определила то, что горы, в представлениях древних и средневековых тибетцев, заняли особое место. Уже говорилось о том, что гора ассоциировалась с веревкой му, лестницей на небо. После того как Дригум перерезал веревку му, цэнпо стали хоронить в могилах, которые устраивали на склонах гор или у их подножия в виде квадратных по форме нагромождений камней с плоской кровлей. На горах строились и дворцы. Могила Сонгцэн Гампо называлась «Коричневая гора му», ибо считалось, что веревка му была коричневого цвета. Горы Тибета это Юл Лха — божества местности, Садаги — владыки местности, они «столбы неба», «гвозди земли». Камни, так часто и повсюду устанавливавшиеся в Тибете, ассоциировались с горами и их функцией соединять три сферы мира — белую, небесную, с божествами Лха, поверхность земли, с божествами деревьев и скал, и подземную, с голубыми и черными божествами Лу (Клу). Такую же роль исполнял красный камень божества земли в центре тибетской деревни. Культ высоты, утверждения себя в мире как маленького центра мироздания, пупа земли, выражался в хорошо и часто описанном всеми путешественниками явлении — установке камней, ветвей деревьев и знамен на крышах домов, перевалах и в украшении шлемов. Отсюда такой обычай тибетцев, такая черта тибетской цивилизации, как культ ларце («плата за проход по дороге или ущелью»), или обо — куч камней на перевалах, преимущественно белых (цвет неба!), куда воткнуты палки, между которыми натянуты веревки, подвязанные к соседним деревьям и скалам, и ветки, украшенные лоскутками, листками бумаги с надписями и изображениями «коня-ветра», рогами и черепами яков. Каждый проезжающий добавлял к ларце свой камень, кость или ветку. Он достиг перевала, он был на высоте, он победил, и поэтому, укладывая в общую кучу свой знак победы, он кричал: «Божества победили, демоны низвергнуты ими, ки-ки со-со!». Последние слова — старый боевой клич тибетцев. Реальная высота была не столь существенна. Боги, ассоциировавшиеся с высотой, с одинаковым удовольствием царствовали в куче камней на крыше дома или на голове и плечах человека, а не только на гималайских вершинах. Как человек имел своих покровителей на голове и плечах, так и каждая местность имела свою священную гору. Гора и обитавшие на ней божества олицетворяли мужское начало мироздания, а озера, источники и реки и обитавшие в них божества — женское. Гора была центром обитания группы жителей данной местности: клана, общины и т. п. Ей посвящались праздники с пением, танцами, скачками, состязаниями в стрельбе из лука, а позже и ружей. Если гора была центром обитания группы людей, общины, племени, рода, то «горой» дома или палатки кочевника, семьи вообще, являлся очаг. Сбоку от очага иногда вкапывали столб. Дым от очага выходил через отверстие в крыше, через это же отверстие в жилье проникал свет. Дом, как и мир, часто был трехэтажным, и его этажи-сферы соединялись съемными лестницами. Отверстие для дыма и света служило «воротами в небо», а очаг — «воротами в землю». Сам дом, таким образом, был самостоятельным микромиром и элементом связи сфер микромира. В обрядах «ворота в небо» олицетворял череп барана, «ворота в землю» — череп собаки. Богов с горы можно было вызвать посредством сжигания ветвей можжевельника. Таким образом, каждый тибетец, каждая тибетская община или племя тысячью нитей были связаны как с большим миром, сферами неба и земли, так и с микромиром данного района и микромиром своего дома, своего семейного очага. Эти традиционные представления во многом определяли облик тибетской культуры, как внешний — модель дома, кучи камней на крышах, воткнутые туда же флаги и ветки, обо на перевалах, отношение тибетцев к окружающей природе, одухотворение ее (культ высоты, гор), так и внутренний, духовный мир тибетца — его поведение в быту, при отправлении обрядов. Эти представления, первобытная сущность которых очевидна, переплелись и слились с буддизмом, образовав тот комплекс идей, который характеризовал мировоззрение средневекового тибетца. Всякая культура обладает набором зрительных знаков-символов, жестов и т. п., являющихся дополнением к звуковому сигналу — речи. «В основе отношений между разнообразными символами одной и той же системы лежат традиционные правила» [52, 83]. Традиционное тибетское приветствие состоит в том, что тибетец правой рукой снимает с головы шляпу, кланяется, полуприседая, наклоняя голову левым ухом вперед, высовывает при этом до предела язык и говорит: «Тэму!» («Здравствуйте!»), высунутый язык означал: «Пусть гость видит сам, что в руках у меня нет оружия, а язык у меня красный. Если бы я замышлял отравить вас, язык мой был бы черным» [12, 23]. Часто, кроме этого, тибетец правой рукой оттягивал еще свою правую щеку, и левой почесывал затылок. Если встречный и заведомо знатный человек ехал на коне, то тибетец, если он верхом, обязательно сходил с лошади, а если шел пешком, то уступал дорогу и, сойдя на обочину, присовокуплял: «Гуце ринг!» («Долголетия уважаемому господину!»). Разговаривая с человеком предположительно более высокого социального положения, чем его собственное, тибетец в знак почтения почесывал затылок, прикладывал руку к своей ляжке и называл собеседника гушу — высокородный. Старшим и знатным в беседе обязательно кивали головой, выражая тем самым одобрение их словам, и поминутно добавляли, как бы всасывая в себя воздух: «лагсо, лагсо» («хорошо», «хорошо»). Только люди племени голок при встречах не высовывали язык, а приветствовали друг друга поцелуем. Поднятый вверх большой палец означал у тибетцев «хорошо, очень хорошо», а поднятый мизинец — «плохо, очень плохо». Промежуточные пальцы указывали на соответствующее качество или состояние (от хорошего к плохому). Два больших или два малых пальца, выставленных или поднятых одновременно, означали соответственно высшую похвалу или крайнее порицание. Выражая сочувствие, тибетец склонял голову и, прижавшись ею к голове другого, высовывал язык. Отрицательный ответ нередко сопровождался быстрыми движениями руки, повернутой ладонью вверх. Почетных гостей в Тибете встречали местным «хлебом и солью» — блюдом цзамбы, украшенной фигурками из масла. Отъезжающих гостей, желая им благополучия и счастья, осыпали зерном. При выезде из села или дома пожилые женщины — ама подавали отъезжающим гостям прощальную чашу пива — чанкал, держа в правой руке чашу с пивом, а в левой — блюдо с цзамбой. В чашу с пивом насыпалась щепотка цзамбы, и чаша подавалась уезжающему с пожеланием благополучного возвращения. Почетных гостей или друзей провожали иногда в течение всего первого дня пути. Тибетцы одаривали друг друга продуктами, вещами, деньгами, хадаками. Деньги, вещи, продукты вручались одариваемому, а хадак (хада, кадо) — обычно длинный узкий платок, похожий на шарф, а то и на полотенце, — вешали на шею. Хадак подносился в знак почтения, дружбы, благопожелания. Это сугубо тибетский способ одаривания. Хадак мог быть желтого, белого, синего, черного цвета, длиной от одного до трех метров. На дорогих хадаках в середине были вытканы изображения буддийских божеств или же они были украшены ткаными цветами. Наиболее распространенным подарком была ободранная и выпотрошенная туша барана, «сложенная» как бы в сидячей позе. Неприличным считалось дарить пустой сосуд, зато любой сосуд с цзамбой или иным видом пищи считался ценным подарком. Непременным долгом получившего подарок являлось отдаривание. Взять что-то поднесенное в дар и не подарить самому ничего было позором. Вспомним тибетскую пословицу: «Тот, кто уже не способен отвечать на обращенные к нему слова, — пьян. Тот, кто не в состоянии подарить что-то съестное в ответ на подаренное ему съестное, — нищий». Вторник, четверг и субботу тибетцы считали днями, когда не следует начинать новые дела. Счастливыми днями недели признавались понедельник, среда и воскресенье. Счастливыми днями месяца были 9, 13, 19 и 21-й. Например, отправиться в дорогу тибетец всегда старался в «счастливый» день, а если обстоятельства вынуждали его поехать в день несчастливый, то он, чтобы обмануть злых духов, высылал вперед свою шляпу или другую часть своей одежды. Если вода из лужи стекала в том направлении, куда ехал путешествующий, то это было хорошей приметой. Хорошо было увидеть теленка, сосущего корову, женщину с полными ведрами воды. А если отъезжающий встречал по дороге старуху в лохмотьях, да еще с пустой корзиной, — дело было плохо. Если предстояла опасная дорога, путнику рекомендовалось «забыть» что-нибудь дома, это могло обеспечить благополучное возвращение. Для продления жизни очень полезным считалось поваляться на камне, на котором рассекались трупы. Особенно ценился в данном случае камень у ритода (обители отшельников) Пабонха, близ монастыря Сера, по преданию, происходивший из Индии, с родины религии. Сам далай-лама не брезговал покататься нагишом на этом выпачканном и отполированном трупами камне. У приезжавших в Тибет паломников признавалось дурной приметой уезжать из страны, увозя остатки своих денег. Тибетские духи, неравнодушные к деньгам и богатству, мстили скупым людям, препятствуя им благополучно возвратиться на родину. Любопытной была церемония изгнания своеобразного козла отпущения, гона, или лугона, в качестве «выкупа» за жизнь далай-лам. Она начиналась у храма Джокхан, откуда после чтения соответствующих заклинаний появлялся лугон, человек, одетый в белую козью шкуру, с лицом, вымазанным наполовину белой, наполовину черной краской, с черным хвостом яка в руке. Монах, руководитель церемонии, и лугон начинали играть «в кости», чтобы решить спор, кому быть изгнанным. При этом монах метал кубик со множеством кружков на каждой стороне, а лугон — кубик, на каждой из сторон которого имелся только один кружок. Трижды кидали они кубики, и, естественно, лугон проигрывал. В гневе он топтал свой кубик и убегал. Пока он добегал до реки Уй и садился там в лодку, монахи исполняли танец победы, а потом церемониальным маршем отправлялись вслед за изгнанником. Лугон же уплывал в монастырь Самьяй, где человек, исполнявший роль «козла отпущения», делал пожертвования и молился уже за свою жизнь, так как, продав себя нечистым духам ради сохранения жизни далай-ламы, он подвергался «реальной» опасности попасть к ним в лапы и лишиться собственной жизни. Древний и средневековый тибетец всю жизнь не расставался с амулетами. Мы уже упоминали о шкатулках — гау, носимых на груди, но, кроме них, существовало множество других амулетов, оберегающих от болезней, сглаза, злых духов, стрел, позднее пуль и т. п. Были и «агрессивные» талисманы, призванные напустить порчу на врага. Формы амулетов и талисманов были самыми разнообразными. Например, особо ценился кошелек из шкуры мускусного оленя. Считалось, что он способен приумножать богатство его владельца. Такие кошельки так и назывались — «кошельками, жаждущими денег», и стоили в двадцать раз дороже прочих. Амулетами могли служить и полоска бумаги с напечатанным на ней текстом молитвы, обернутая вокруг головы, и кал, кровь и другие отбросы, носимые на шее, руке или положенные в гау. Детям к руке привязывали шнурок с магическим узлом, предохранявшим от несчастий, воины носили на плече амулеты от стрел и пуль. В шкатулку гау можно было положить небольшое изображение какого-либо божества. Иногда требовались определенные условия, чтобы амулет проявил свою силу. Так амулет вполне мог защитить от пуль только в том случае, если самого воина или его оружия за какой-то срок до битвы не касалась женщина. Очень помогал верующим и уже упоминавшийся «конь-ветер». Распространение «коней-ветров» сулило счастье как отдельным лицам, так и всей стране. Редкая сделка или ссора обходились в древнем и средневековом Тибете без клятв и проклятий. Проклятие обещалось тому, кто нарушит клятву, а в свидетели призывались божества неба и земли, гор и рек, солнца, луны и звезд. В Каме до наших дней, давая клятву, тибетцы приносят в жертву животных, а в свидетели призывают небо. При торжественных и важных клятвах устанавливали камень с текстом клятвы. Полагают, что в таких случаях тибетцы также сооружали антропоморфные изваяния, представлявшие жертв — свидетелей клятвы [87, 168]. Племена на оружии клялись оказывать друг другу помощь в борьбе против общего врага. Клялись и таким любопытным способом: дававший клятву сжигал лист с текстом клятвы, а пепел съедал с супом. Так же поступали и друзья, поклявшиеся помогать друг другу: они писали текст клятвы-обязательства на бумаге, потом эту бумагу сжигали, а пепел смешивали с чаем, и оба пили чай с пеплом в знак клятвы. Члены клана клялись в кровной солидарности друг другу так: убивали яка, сдирали с него шкуру, клали ее изнанкой вверх, поливали кровью и все приносящие клятву проходили по окровавленной шкуре, окрашивая свои ноги кровью жертвенного животного. Потом все ели его мясо. Проклятия произносились над питьевой водой; этот ритуал — начу позднее вошел даже в тибетские буддийские обряды. Другое распространенное проклятие заключалось в зарывании в землю «имени» и изображения врага и в обращении к божествам с призывом убить врага. В таком мире самых разных представлений, многие из которых восходили ко времени первобытнообщинного строя, проходила жизнь древнего и средневекового тибетца. Они определяли его миропонимание, повседневное поведение в обществе, следовательно, и его культуру.2. Язык, письменность. Книга и просвещение
Тибетский язык входит в группу тибето-бирманских языков, относящуюся к большой семье китайско-тибетских языков. Он является языком слоговым, лексика которого включает много односложных слов, состоящих из начального согласного (группы согласных), конечного согласного (группы согласных) и гласного между ними. Разговорный тибетский язык в настоящее время не един. Он делится на несколько групп наречий (диалектов). Различают группу наречий Центрального Тибета, включающую лхасский диалект, имеющий общегосударственное значение в качестве правительственного языка [35]. Особенность этих наречий — фонетическое выпадение конечных согласных и развитая система тонов, помогающая различению слов, схожих по произношению начального согласного и следующего за ним гласного. В группу южнотибетскнх наречий входят и тибетские наречия Бутана и Сиккима. Характерная черта группы — стяжение слогов в двусложных словах (нам — «день» вместо на-ма, микх — «болтовня» вместо ми-кха в наречиях Центрального Тибета). Группы западнотибетских, северотибетских и восточнотибетских наречий отличаются значительной архаичностью; кроме того, они подверглись влиянию языков соседних народов. Общим, определяющим фундаментом для всех тибетских наречий служит язык письменности, который начал формироваться уже в VII–VIII вв. Письменный язык имеет весьма четкие отличия от языка устного, которые к тому же усиливаются отсутствием единого разговорного языка. Но письменный язык понятен всем тибетцам. По мнению Ю. Н. Рериха, тибетский письменный язык прошел в своем развитии следующие этапы. 1. VII–IX вв. Создание тибетского письма и первые переводы буддийских сочинений с санскрита. 2. X–XIV вв. Период создания «классического» языка литературы. Переводы с санскрита оказывают существенное влияние на грамматику и лексику тибетского языка. 3. XV–XVIII вв. Окончательное установление форм языка письменности в отличие от разговорного. Письменный язык, установившийся к концу XVIII в., считают старым тибетским письменным языком. 4. XIX–XX вв. «С середины XIX в. под влиянием эпистолярного стиля и разговорной стихии старый письменный язык начинает воспринимать некоторые элементы разговорного языка, в какой-то степени приближаясь к нему» [29, 13]. После 1951 г. этот процесс стал регулироваться административным путем. В связи с переменами во всех областях жизни тибетцев в тибетском языке широко создавалась и создается новая терминология, калькирующая китайскую. Раньше в тибетском языке не было, например, слова «пароход». Китайское слово «цичуань» («пар-лодка») было буквально переведено на тибетский словом «ланг-чжу», где ланг — «пар», «чжу» — «лодка». Начинает формироваться новый письменный язык, в котором отсутствует религиозно-философская лексика и много лексики современной, социально-политической и даже научной. Традиционно считается, что в тибетском языке 30 согласных и четыре гласных звука. Каждый согласный звук тибетского алфавита является, подобно согласным древнеиндийских языков, одним слогом, состоящим из согласного и гласного «а», который на письме не обозначается. Слоги письменного тибетского языка можно четко разделить на простые (основные) и производные (сложносоставные). В большинстве современных тибетских диалектов составные элементы сложного слога не произносятся, но существенно влияют на произношение опорной части слога. Не произносится чаще всего и конечный согласный, замыкающий слог. Процесс этот начался, по-видимому, давно, еще в VII в., хотя при разработке тибетского письма надписные, приписные и подписные графемы, образующие производные (сложносоставные) слоги, играли словоразличительную роль как, очевидно, при произношения слова, так, безусловно, и при его написании. Параллельно в тибетском языке развивалась система тонов, музыкальных ударений. В тибетском языке выделяют три тона: восходящий, ровный и нисходящий. Тон играл словоразличительную роль. Так, односложное слово «ма», произносимое в ровном тоне, значило «масло», в восходящем тоне — «война», в нисходящем — «мать». В тибетском языке, как и во всех китайско-тибетских языках, выделение частей речи затруднено из-за того, что одно и то же слово могло быть в одних случаях существительным, а в других — глаголом. Тем не менее, поскольку и собственно тибетские грамматики были ориентированы на образцы индоевропейских языков (санскрит), до сих пор часто в европейской науке о тибетском языке в нем выделяют следующие лексико-грамматические категории: имя существительное, имя прилагательное, имя атрибутив, местоимение, числительное, наречие, глагол, служебные слова. В определенной степени такому выделению помогает лишь порядок слов в предложении и соответствующий индоевропейский перевод. Существительное в тибетском языке не имеет грамматической категории падежа, хотя и тибетские авторы под влиянием священного санскрита, и европейские авторы под влиянием грамматик индоевропейских языков выделяли их от шести до восьми [29, 71]. В действительности отношения между именем и другими словами в тибетском языке выражаются с помощью служебных морфем. Эти морфемы выделяют не только имя существительное, но и целые группы слов. Отсутствует в тибетском языке и категория относительных прилагательных, в роли которых выступают существительные, служащие определением качества предмета. В этих случаях существительное оформляется служебной морфемой и стоит впереди определяемого. В тибетском языке нет также спряжения глагола по лицам. Тибетский глагол в качестве сказуемого всегда стоит в конце предложения. Время и наклонения выражаются путем сочетания глагола со вспомогательными глаголами. Служебные слова в тибетском языке используются в предложении в качестве грамматических средств и не могут быть членами предложения или употребляться отдельно от последних [29, 122]. Главным, определяющим моментом связи слов в словосочетании (предложении) является порядок слов, хотя твердо фиксированное положение всегда занимает только сказуемое. Предложения тибетского языка по их составу делят на простые и сложные, а сложные — на сложносочиненные и сложноподчиненные, в которых придаточное предложение — всегда перед главным. Таковы в самом сжатом и упрощенном изложении некоторые особенности тибетского языка. Тибет позаимствовал форму своих книг из Индии. Старые индийские книги писались на пластинках, изготовленных из пальмовых листьев. Такие пластинки-полоски, по форме — вытянутые прямоугольники, похожие на сравнительно длинные части разрезанной на куски ленты, заполнялись текстом с лицевой и обратной сторон, складывались стопкой и закреплялись между двумя деревянными дощечками-крышками. Такую книгу перевязывали бечевкой и заворачивали в кусок материи. Иногда листы прокалывались в центре и нанизывались на бечевку как бусы, а уж потом закладывались в доски и оборачивались материей. Такие книги назывались в Индии потхи. В средневековом Тибете, несомненно, было немало книг из Индии. Существует версия, что книги, привезенные Атишей из Индии, связанные в пачки и опечатанные, до недавнего времени сохранялись в монастыре Раден. В Тибете не было пальм, а следовательно, и пальмовых листьев. В то время, когда появилось тибетское письмо и возникла потребность в тибетской книге, Дальний Восток и Центральная Азия уже несколько веков были знакомы с производством бумаги. В древности бумага была редкостью и высоко ценилась. Тем не менее Тибет пользовался не только привозной бумагой. Производство бумаги было организовано и в самом Тибете, и в рядом лежащих областях. Тибетская бумага делалась из волокон кустарника, относящегося к виду дафнии (волчьи ягоды), крупнейшим центром ее производства в средневековом Тибете был район Дагпо и области, прилегающие к первому тибетскому монастырю Самьяй [87, 127]. Исходный материал, из которого тибетцы делали бумагу, обеспечил в какой-то мере долговечность тибетской книги — тибетская бумага ядовита, и насекомые, поедающие ее, часто погибают [60, 73]. Технология производства бумаги до недавнего времени была такова. Кора кустарника замачивалась, и от нее отделялся нижний темный слой. Желто-белая внутренняя прослойка, луб, распаривалась вместе с древесным щелоком, и полученная таким способом мягкая масса вымачивалась на камне до тех пор, пока не становилась похожей на сырую бумагу. После этого бумажную массу промывали под струей и тонким слоем процеживали на куски ткани, натянутой на рамы. Эти рамы с бумажной массой несколько часов сушили на солнце (в пасмурную погоду до тех пор, пока масса не подсыхала). Готовый бумажный лист затем отделялся от ткани и лощился камнем. Полученные листы бумаги были тонкими и прочными. Для книг несколько листов такой бумаги обычно склеивались клейстером в один лист [60, 74]. Тибетская бумажная книга копировала древнеиндийскую потхи, книгу на пальмовых листьях, или китайскую книгу-свиток. Грамотность в Тибете была, как и всюду в средневековье, привилегией монахов и монастырей. Размножение священных текстов посредством переписки почиталось у буддистов благим делом. Тысячи монахов трудились не покладая рук над размножением книг буддийского канона. Делали они это по заказам монастырей и верующих, жертвовавших часто большие средства на это благое дело, и по собственному почину. Писали тибетцы тушью, которая изготовлялась из древесного угля, приготовлявшегося из сосновых шишек. Уголь растирался в порошок и смешивался с клеем, иногда с добавлением сахара [60, 74]. Наиболее дорогие книги писались на листах, покрытых тушью и приобретших черный, как бы лакированный вид, острой палочкой, часто бамбуковой, золотом или серебром. Написанный на темном фоне золотом текст выглядел очень красиво. Титульные листы рукописных книг часто иллюстрировались изображениями божеств и демонов. Книги были неодинаковыми по размерам, самым распространенным был формат 8–10 см X 45–55 см. Маленькие книги были размером 7–8 см X 20–25 см, самые большие — 22–35 см Х 72–90 см (по данным Тибетского фонда ЛО ИВАН). Некоторые тибетские книги весили до десяти килограммов. Считалось, что мул мог увезти восемь книг в переплете и упаковке, так что для перевоза Канджура, состоявшего из 108 томов, требовалось 14 мулов, а для перевоза Танжура (225 томов) — 28 мулов [60, 74]. В Тибете также рано стало известно книгопечатание. Не так давно выдвигалось мнение, что Тибет мог быть родиной ксилографического способа воспроизведения текста — печатания с деревянных досок. Однако это мнение не получило поддержки. Пока ясно одно — ксилография, а значит, и первое в мире книгопечатание, появилось где-то в VII–IX вв. в Центральной Азии и районах современного Западного Китая, прилегавших к Тибету. Китайские источники тех лет, обстоятельно описывавшие достижения китайской культуры, никаких свидетельств об изобретении книгопечатания в пределах собственно Китая не сохранили. В Китае книгопечатание распространилось в X в. и процветало в XI–XIII вв. при династии Сун. Первые сохранившиеся печатные тексты найдены в Дуньхуане (Северо-Западный Китай) и относятся ко второй половине IX в. Тибетские печатные тексты обнаружены в коллекции П. К. Козлова из Хара-Хото и могут уверенно датироваться XII в. Ксилографический способ книгопечатания сохранялся в Тибете вплоть до наших дней. При таком способе печатания переписанный от руки текст или зеркально калькировался на доску — особенно ценились доски из грушевого дерева, — или вырезался так, как текст на печатях. Доску смазывали краской, накладывали на нее бумажный лист и проводили по нему сверху специальным валиком. Лист текста, т. е. лист будущей книги, был готов. С одной доски можно было снять массу отпечатков, т. е. тираж мог быть как угодно велик. С одних и тех же досок можно было делать оттиски через десять, пятьдесят и даже сто лет. Сложность состояла в том, что досок требовалось очень много, несмотря на то что текст часто вырезался на обеих сторонах доски. Представьте себе, что текст нашей современной книги средних размеров страница за страницей вырезан на досках. Это была кропотливая, ювелирная работа, доски тщательно берегли, подновляли и пользовались ими до тех пор, пока текст не стирался до того, что отпечатки получались нечеткими. При всех своих недостатках ксилография была одним из выдающихся культурных достижений человечества, а Дальний Восток и Центральная Азия пользовались печатной книгой за несколько столетий до того, как она впервые появилась в Европе. Книгопечатни находились при монастырях, правительственная — в Потале. Большие частные типографии были редки. Изданиями канона славились типографии Дерге и Нартана. Как же в них печатали книги? «Взяв деревянную доску с рукояткой — вроде тех, какими у нас катают белье, — печатник упирал один конец ее в пол, а другой зажимал между коленями. На поверхности доски вырезаны письмена, текст целой страницы. Обмакнув щеточку в чашку с краской, мастеровой быстрым движением проводил ею по доске. Другой печатник тем временем ловко накладывал сверху полоску бумаги и прокатывал ее войлочным валиком» [26, 116]. Доски хранили сложенными, тщательно соблюдая порядок хранения — иначе трудно было бы найти нужную, например среди 50 тыс. досок, необходимых для того, чтобы напечатать Канджур. По своей «магической» силе печатный текст, правда, ценился ниже, чем рукописный. Текст Канджура, написанный от руки красными чернилами, обладал в 108 раз (по числу его томов) большей магической силой, чем отпечатанный черный текст; текст же, написанный серебром, был в 108 раз могущественнее написанного красными чернилами, а написанный золотом соответственно в 108 раз могущественнее написанного серебром [60, 75]. Рукописные книги, выполненные целиком золотом, были редки. Часто серебром или золотом писали только несколько первых листов книги. Монастырские типографии, владельцы досок, взимали плату за печатание текстов с их досок. Частное типографское коммерческое дело вели в средневековом Тибете лишь немногие светские лица простого сословия. Обычно, если светские люди и занимались изготовлением досок для печатания книг, то делали это исключительно ради приобретения религиозных заслуг, но, разумеется, далеко не даром. Торговали книгами сами типографии, монастырские и частные,книги продавали на рынках, раскладывая их прямо на земле. Однако купить большое сочинение на рынке или в печатне сразу было почти невозможно. Его можно было только изготовить по заказу. С появлением ксилографии ввиду ее дороговизны рукописная книга не исчезла, а продолжала сосуществовать с печатной. Грамоте тибетские дети обучались прежде всего в монастырях. Ученики, главным образом мальчики, учились читать и писать, подражая учителю. На деревянной доске, покрытой меловой пылью, металлической палочкой учитель писал буквы, а ученик должен был обводить их сверху тушью. Вначале учили писать большие буквы, потом все мельче и мельче вплоть до скорописи. Писать на бумаге ученику позволяли в лучшем случае через восемь месяцев после начала обучения. Детей, получавших светское образование, учили сначала «пяти малым предметам»: помимо грамоты драме, танцам и музыке, астрологии, поэтике и композиции, т. е. искусству писать сочинения, а на следующей ступени образования — «пяти высшим предметам»: искусству врачевания, санскриту, логике, искусствам и ремеслам, философии религии. Лица, получавшие религиозное образование, также обязательно изучали некоторые из «пяти малых предметов», и, кроме того, для них основной дисциплиной в числе «пяти высших предметов» является философия религии. Эта религиозная философия подразделялась на пять предметов: праджняпарамита — «совершенство мудрости», мадхьямика — «средний путь», т. е. избегание крайностей, винайя — канон монашеской дисциплины, абидхарма — метафизика и прамана — логика и диалектика. Тантрическое направление буддизма изучалось отдельно. С двенадцати лет учеников обучали искусству вести диспуты. Монах, получающий религиозное образование, проходил от степени к степени через экзамены, проверяющие знание им канона и логики, а в ряде тантрических сект и знание практики медитации и йога. Обучение было в основном устным, и потому на память заучивались огромные тексты. Учитель лично наставлял ученика и нередко жил вместе с ним. Ученик мог ходить из монастыря в монастырь, от одного учителя к другому. В дацанах, на монастырских богословских факультетах, ученики занимались шесть месяцев в году, по полтора месяца в квартал. Занятия проводились четыре раза в день. В свободное время монахи младших степеней сидели во дворе и читали вслух заучиваемые тексты. Изучающие богословие — цаннид периодически устраивали диспуты. Участники разбивались на пары. Один из них был ярым буддистом, другой играл роль еретика. Так буддисты получали необходимую практику для споров с иноверцами. Спор, как правило, сопровождался выразительными жестами, топаньем ног и т. д. Победителей награждали особыми значками. Начатки технических знаний тибетцы получали, знакомясь с науками о ремеслах и архитектуре. Развивались они, скорее, эмпирически, но их не чурались и выдающиеся богословы. Так, знаменитый религиозный деятель рубежа XIV–XV вв. Тхонтон лично руководил разработками железных копей в Конгпо и строительством железного цепного моста, прославившего его имя не меньше его религиозных заслуг. Эта сторона тибетской цивилизации еще практически не изучена. Современные знания дошли до Тибета в XIX в. через Индию и Китай. Осведомленность о них была ничтожна. Но уже в начале XX в. появляются тибетцы, знающие английский язык, клерки британской торговой миссии в Тибете. Некоторые из них старались с детства обучить своих детей английскому языку, а затем посылали их учиться в Индию и даже Европу. С европейским оружием и организацией военного дела знакомятся в XX в. и высшие офицеры тибетской армии. Однако подлинная светская школа в Тибете стала создаваться только после 1951 г. Китайское правительство организовало подготовку тибетских национальных кадров в Институте национальных меньшинств в Пекине. В Тибете появились ветеринарные пункты и агротехническая станция. В городах и деревнях были открыты дневные светские школы для детей и вечерние для взрослых. Кадры учителей для этих школ готовились из тибетцев, обучавшихся в Китае.3. Тибетская литература
В древнейший период дописьменной литературы Тибета существовали различные виды устной поэзии. Ее фрагменты можно обнаружить в ранних письменных памятниках, которые зафиксировали ряд оригинальных мифов о происхождении вселенной и человека. Древние тексты органично сочетали прозу и поэзию. Их поэтической особенностью следует признать отсутствие рифмы, или аллитерации. «Стихотворность» определяется исключительно ритмом и структурой. Кроме того, довольно часто вставлялись слоги, не несущие смысловой нагрузки, но подчеркивающие и усиливающие эмоциональный настрой. Так, например, при описании падения молнии употреблялось выражение: «Упала молния, ки-ли-ли!» О ветре: «Зашумел ветер, кхи-ли-ли!» В этих же целях употребляются параллелизмы:4. Танцы, театр, праздники, изобразительное искусство и архитектура
Тибетцы на протяжении веков создали свой театр. Хотя индийская драма и китайский театр оказали определенное влияние на тибетский театр, но, судя по отрывочным сведениям источников, развился он все же из пантомимы и выступлений певцов и скоморохов. «Среди тесного круга слушателей поют старинную протяжную песню два скотовода. Ведь именно так должны были петь ее и их предки: став на колени и прижавшись склоненными головами друг к другу, чтобы услышать свой голос в вое свирепого степного ветра» [26, 132]. До недавних пор в праздник Нового года демонстрировал народу свое искусство чудо-акробат, спускавшийся по веревке с высоты дворца Потала. По стране ходили группы бродячих певцов — манипа, которые пели текст рассказа (истории), одновременно сопровождая пение показом рисунков, на которых был запечатлен тот или иной эпизод рассказа. Вот как это происходило еще 74 года назад 10 апреля 1901 г. Г. Ц. Цибиков записал в своем дневнике: «В последние дни на базарных площадях и на боковых улицах появилось около десятка мужчин и женщин, по-видимому, низших степеней монашества, рассказывающих религиозные поэмы. Они натягивают на стене дома или заборе рисованные изображения святых или будд. Между ними чаще всего встречаются изображения Падмасамбхавы, известного проповедника буддизма IX в., и знаменитого Миларепы, поэта и подвижника XI в. Они помещаются в центре полотна в сравнительно больших размерах, а вокруг них изображаются разные сцены из их биографии. Перед этими картинами ставят жертвенные чашки с ячменем или рисом, а иногда и совершенно пустые. Рассказчик становится подле изображения с железной указкой и нараспев рассказывает подвиги святости или вообще биографические данные. Тибетцы… любят их послушать, причем многие приносят муку — цзамба… а более зажиточные — местные монеты… более усердные просиживают перед рассказчиками целые часы, перебирая четки и вертя ручные молитвенные цилиндры. С наступлением ночи или ненастной погоды рассказчики убирают эти изображения, складывают все в длинный небольшой сундук и, положив его на спину, удаляются на квартиру. Они бывают обыкновенно плохо одеты и суть, по-видимому, странствующие рассказчики, питающиеся доброхотными подаяниями. Мне говорили, что они периодически посещают различные города и местечки Центрального Тибета» [48, 219–220]. Группы актеров бродили по монастырям, богатым домам, рынкам, давая представления обычно за еду, хадаки, деньги и мелкие пожертвования. Вот группа актеров, окруженных зрителями. Три женщины мерно ударяют в нга — маленькие плоские барабаны и тянут мелодию. Мужчины в масках исполняют танец. Перед зрителями — олень и охотник, готовый убить добычу, кажется, еще момент, и упруго звенящая стрела вонзится в шею животного. Но появляется отшельник и поэт Миларепа, принявший образ нищего, и спасает оленя от гибели. Божественное нередко перемежается сюжетами, откровенно высмеивающими жадность монахов. Это также красочно обрисовал Г. Ц. Цыбиков: «Мне показалась правдивой и жизненной сцена приглашения к больному (невидимому) одного красношапочного ламы, который во время исполнения духовного обряда обнаруживает неискренность веры и неточность обрядов. Лишь только хозяева удаляются, он перебрасывает листы книжки непрочитанными, будто бы уже прочитав их, а сам принимается за еду. Услышав шум приближения кого-нибудь из домашних, снова принимает набожно-важный вид, начинает громко читать молитвы и т. п. В конце концов, когда его угощают бараниной, он, наевшись, не довольствуется этим и в отсутствии хозяина берет остатки блюда и кладет себе в высокую шапку, которую надевает на голову. Хозяин узнает о краже и как бы нечаянным прикосновением к шапке сшибает ее. Куски баранины падают на землю. Сконфуженный лама убегает» [48, 336–337]. Добавим, что публичному осмеянию подвергался красношапочный лама, представитель не Гелугпы, а какой-то другой секты Тибета. Это вряд ли нуждается в дополнительном пояснении. Известны три вида тибетских театральных представлений: чамы — пантомимические танцы, чамы с диалогами и драматические представления в современном понимании. Чам танцуется в масках. И хотя это ритуальный танец, чам несомненно произведение искусства, шедевр мизансцены и хореографии. Па в танце регламентированы до мельчайших деталей. Руководит труппой хореограф — чампон. Стоя в центре круга, он направляет исполнение танца с помощью палки, украшенной лентами. Чам — не произвольный танец. Обычно в сценах чама рассказывается о подвигах покровителей буддизма, совершаемых во имя веры. Поэтому порядок появления персонажей, их па и жесты обозначены в либретто — чамъиг, как правило, авторских. Либретто для чамов писали такие деятели Тибета, как гуру Чованг (1212–1273) и V Далай-лама. Танцоры выступали в масках и дорогих костюмах. Маски и костюмы копировали изображения святых и духов-хранителей на иконах. Весь чам — «ожившая картина-икона» [7, 100]. Танцор в маске уже не просто танцор, он представитель мистических сил, божества, которое изображает, которое присутствует в маске и в нем и является зрителю. Зритель тоже не пассивен. Он свидетель и участник обряда, который дает возможность «войти в особое мистическое единение с этими силами и через то водворить в округе радость и счастье» [7, 99], В темно-синих одеждах с яркими розовыми нашивками, в зеленой маске быка с огромными зелеными рогами появляется владыка смерти. В вихре танца загримированные под человеческие скелеты кружатся владыки кладбищ. Их сменяет «Белый старец», владыка земли, даритель урожаев, хранитель стад. У него седые волосы, длинная седая борода, с его плеч ниспадают белые одежды, в руках у него белый посох. Он слегка навеселе, и танцор забавно имитирует движения пьяного старика. Он смешит зрителей, и они откликаются на его незамысловатые выходки: ведь «Белый старец» — провозвестник благополучия, он просто рад тому, что в подведомственном ему мире все в порядке. На смену «Белому старцу» являются непременные персонажи чама — шанаки, они без масок, в ярких одеждах и черных шляпах. Их бешеный танец — имитация «подвига» монаха, защитника веры, убийцы злого цэнпо Ланг Дармы. В чаме смешались буддийские хранители веры, исторические персонажи, ставшие святыми, и «Белый старец», пришедший в чам, очевидно, еще из добуддийских глубин тибетской истории. Чам, «по всей видимости, произошел из соединения двух начал: индийской пантомимы, которую разыгрывали для поучения мирян при буддийских монастырях средневековой Индии, и национальных тибетских плясок, в том числе и танцев волхвов-заклинателей, близко приближавшихся к танцам северных шаманов и других кудесников первобытных народов» [7,102]. Оркестр, игравший при исполнении чама, мог состоять из следующих инструментов: барабанов, иногда из человеческих черепов, трубы из берцовых костей, нередко также человеческих (все это из трупов преступников, самоубийц и т. д.), колоколов и маленькой скрипки — бива, сделанной из рога яка, обтянутого змеиной кожей, со струнами из конского волоса. Тибетская флейта изготовлялась из бамбука, дерева или глины. Металлические цимбалы дополняли этот нехитрый набор инструментов. Чам с диалогами был переходом к драме. В мир масок вторгались персонажи из обычной жизни. Охотник Дордже с братом, одетые в звериные шкуры, с луками и стрелами, прохаживались перед зрителями и вызывали их смех разными приемами клоунады, намеками, а то и открытым высмеиванием недостатков местной жизни. Тут появляется отшельник Миларепа, и охотники раскаиваются и прекращают пагубное для них самих убийство диких животных. Но главное в чаме Миларепы, самом распространенном чаме с диалогом, это как раз то, что Дордже и его брат рассказывали зрителю, в их шутках и сатирических замечаниях в адрес монастырской братии и властей предержащих. Подлинный спектакль в нашем, современном понимании, тибетская средневековая драма с диалогом, музыкой, пением и танцем — явление сложное. Здесь тибетская традиция чама переплелась с опытом средневекового индийского и китайского театра. Структура театра — индийского происхождения: в начале пьесы благословение, рассказчик представляет актеров и иногда поясняет зрителю отдельные сцены пьесы, особенно те, которые сопровождаются пением. Вместе с тем манера пения, схема жестов, грим, второстепенные персонажи обнаруживают влияние китайской оперы. Пьесы были самого разного содержания: инсценировки известных джатак, рассказов о жизни Будды Шакьямуни в его прошлых перерождениях, эпизоды из жизни тибетских религиозных деятелей, инсценировки по сюжетам известных произведений тибетской литературы, таких, например, как история женитьбы Сонгцэн Гампо на китайской и непальской принцессах и приключения министра Гара из «Мани Кабум», средневекового апокрифического произведения, богатого легендами. Обычно текст пьесы состоял из рассказа, который перемежался диалогами. Произведения могли быть посвящены и недавним событиям тибетской истории. Таковым было, например, сочинение «История обезьян и птиц», в котором в аллегорической форме рассказывалось о войне птиц (тибетцев) и обезьян (гурок), о тибето-непальской войне конца XVIII в. Пролог и сам рассказ о событиях часто писался прозой, диалоги — стихами. Строгого соблюдения текста пьесы не требовалось — актеры могли сокращать его и импровизировать в рамках темы и действия пьесы. Зачастую эти пьесы являлись высокопоэтическими произведениями. Таким был рассказ о царевиче Норсан (на сюжет одной из джатак), полюбившем и взявшем в жены небесную фею. Недоброжелательно встретили ее родственники царевича. Узнав о том, что они не остановятся ни перед чем и готовы даже убить ее, небесная фея покидает дворец царевича и улетает к своему отцу в небесные чертоги. Убитый горем царевич отправляется на поиски возлюбленной. О его приключениях в пути, о преданной любви супругов и рассказывалось в этой пьесе. Преодолев все преграды, царевич находит свою жену, и они возвращаются на родину. Образцом бытовой психологической драмы считают пьесу «Нанса». В пьесе «рисуется драма женской души, не удовлетворяющейся обычными путями жизни. Нанса не может согласиться с тем, чтобы жизнь ее протекала в обычном кругу семьи. Тибетская Нора покидает своего мужа и ребенка, она ищет чего-то более возвышенного и светлого» [7, 105–106]. Любопытно, что выход из своей духовной драмы Нанса не находит даже в буддизме. Тибетский театр не знал ни сцены, ни декораций. Тибетская пьеса могла быть сыграна всюду — были бы актеры да костюмы. Правда, в некоторых крупных монастырях имелись площадки, использовавшиеся специально для чама и театральных представлений, с павильонами подле них для оркестра и наиболее почетных гостей, светских и духовных. Во дворах богатых домов во время представления над актерами для защиты их от горного солнца или непогоды иногда натягивали тент. Первый закрытый театр был построен в Лхасе лишь в 1956 г. Спектакль в тибетском театре мог длиться не только часами, но с перерывами и до трех дней. В тибетском театре не было актрис. Все женские роли исполняли мужчины. Наиболее типичные для тибетского театра персонажи — царь, брахман, охотник, отшельник — имели стандартный грим и костюмы, по которым зритель их сразу и узнавал. Обыкновенно театральный костюм надевался актером поверх повседневной одежды. Воины надевали одежды красного цвета и рядились в красные шапки, цари всегда были одеты в желтое, злодеи — в черное. При больших монастырях, домах вельмож и при дворе далай-ламы были постоянные труппы актеров, но, скорей, не профессиональные, а любительские в нашем понимании, так как они состояли из монахов и духовных и светских чиновников. Актеры и театр в Тибете имели и свое божество-покровителя, белобородого старца Тхантона. «Можно думать, — писал Б. Я. Владимирцов, — что драматические представления Тибета развились из танца с пением» [7, 107]. Вероятно, речь могла идти о тех песнях, танцах и рассказах, которые ныне исследователи связывают с «религией людей» (мичхой), которая с древних времен в Тибете противопоставлялась «религии богов» (лхачхой), бону и буддизму. Мичхой — это нравоучительные изречения, принадлежащие старейшинам кланов, общечеловеческие по содержанию, образные и поэтические по форме, и это легендарные рассказы о предках тибетцев. По хронике XIV в. девять основных положений этих рассказов составляли по форме как бы тело льва: его правая «нога» — это рассказ о том, каким образом появился этот мир, левая — о том, как появились люди. Задняя часть тела — рассказ о разделе земли, правая «рука» — рассказ о генеалогии государей, левая — о генеалогии подданных, «голова» льва — рассказ о семье, отце, матери и т. д. У старейшин клана были «книги матерей» — маиг или «книги предков» — пхаму с изложением истории кланов и предсказанием их будущего в форме пророчеств. Правильное прочтение легенд о происхождении было актом религиозным, необходимым для поддержания порядка в обществе. Эту функцию исполняли лдеу — певцы загадок. В песнях были вопросы и ответы, в которых и рассказывалось о сотворении мира, божеств и людей. Их пели хором, разделенном на две половины, из которых одна задавала вопрос, а вторая отвечала на него. Часто такой хор состоял из двух групп: одна — мальчики (юноши), другая — девочки (девушки). Подобного рода игры с пением в форме вопросов и ответов до недавних пор были составнойчастью брачных обрядов и праздников Нового года. Юноши шли к дому невесты, а девушки запирались в нем и не впускали их. Девушки пели вопросы:5, Тибетская медицина
Кто не знает или хотя бы не слышал о тибетской медицине? О чудесах, якобы творимых ее врачами? Естественный интерес к опыту местной медицины Китая, Тибета, Индии, к физическим и дыхательным упражнениям системы хатха-йога, опыту, который, несомненно, следует критически изучать, иногда, к сожалению, перерастает в моду, что приводит к утверждениям о всесилии приемов лечения и «волшебных» лекарствах этих медицин и неграмотному пользованию ими на основании сведений, полученных не из первых рук. Наша задача, задача авторов, которые не обладают специальными знаниями, состоит в том, чтобы очень кратко сообщить о тибетской медицине, тибетском средневековом «здравоохранении» как части средневековой тибетской культуры. Как и всякая средневековая страна, Тибет в обыденной жизни был страной антисанитарии и эпидемий. Мы уже упоминали о том, что одежда тибетца редко стиралась. Вшивость была обычным явлением. Истинный верующий не убивал, а лишь обирал насекомых со своего платья. Запрет убивать приводил к обилию в городах и селах Тибета бездомных животных. По Лхасе бродили стаи бесхозных псов. Они и другие бродячие животные неизбежно становились разносчиками заразы. Правда, большая высота над уровнем моря, сухость воздуха, холодный климат способствовали локализации очагов заразы. Не были примером опрятности и многие тибетские монастыри. «Стыдливые отправления ламы совершают на улицах, перед своими домами и даже перед храмами, не только ночью, но даже и среди бела дня, — писал Г. Н. Потанин о Гумбуме. — Обрыв оврага под главным храмом… в течение всей зимы бывает покрыт неживописными глетчерами. Всякий раз, как богослужение кончится и толпа монахов начинает расходиться из храма, край оврага против храмовых парадных ворот бывает унизан красными рядами прикурнувших лам» [30, 389]. Не являлся исключением в этом отношении даже дворец Потала. «Довольно красивый вид дворца с левой стороны, — писал Г. Ц. Цыбиков, — однако значительно исчезает с боков и еще более сзади, где к непривлекательности задних стен зданий присоединяются отбросы человеческого организма, в изобилии стекающие из отверстий клозетов» [48, 127–128]. То, что тибетцы мылись крайне редко, некоторые европейцы пытались объяснить тем, что, «без сомнений, густой слой грязи до известной степени предохраняет от холода и, право, здесь можно оправдать людей, жертвующих своей наружностью, чтобы только поменьше страдать от мороза» [45, 81]. Может быть поэтому, как сообщает В. Овчинников, среди тибетцев бытовало поверье, что «тот, кто моется, лишь открывает болезням дорогу внутрь себя» [26, 144]. Когда европейцы познакомились с Тибетом, они обнаружили, что Тибет сильно страдает от оспы, венерических болезней и много тибетцев умирает от воспаления легких, что было связано с суровыми условиями климата Тибета. В 1900 г. в Лхасе от оспы за короткий срок умерло до 6 тыс. человек. Лечили от этой болезни с помощью обычных «чудес», а не «чудес» тибетской медицины. В той же Лхасе, у храма Джокхан, стоял камень с заклинаниями против оспы. Он был весь щербат, в глубоких рябинах, как переболевший человек, так как каждый паломник откалывал или отбивал частицу от этого камня, полагая, что его магическая сила сможет защитить от страшной болезни. Лечили оспу и «словом божьим». С. Ч. Дас писал: «Брат и племянник нашего хозяина были больны оспою, и в углу дома несколько лам читали священные книги, чтобы вымолить больным скорое выздоровление. Во дворце лежал другой человек, недавно прибывший из Лхасы и страдавший той же болезнью. Около него также находились двое лам, распевавших мантры под нестройный аккомпанемент колокольчика и домару (ручного барабана)» [11, 168]. Болезнь для тибетца нередко означала разорение, так как лечение сопровождалось многочисленными обрядами, за которые надо было платить. Тому же С. Ч. Дасу, когда он простудился и монахи монастыря Самдин взялись лечить его, пришлось в первую очередь устроить «общий чай» 80 монахам монастыря и, помимо этого, раздать еще денежную милостыню. За это он получил священную пилюлю, якобы содержащую частицу мощей будды Кашьяпы [11, 171]. К числу «чудодейственных» средств относились даже пилюли из кала далай-лам. «Самые нечистоты далай-ламы, приготовленные в виде небольших шариков, продаются на вес золота богомольцам», их глотали при тяжелых заболеваниях и перед смертью для отпущения грехов [31, 272]. Столь же «чудодейственные» средства предлагались и от бездетности. В храме, у статуи богини Тары, «в пьедестале, на котором стоит статуя, устроена пустота, и через отверстие, ведущее в эту пустоту, торчал носок или каблук детского башмака. Бездетные женщины, молящиеся богине о даровании детей, украдкой подменяют эти башмачки другими, собственной работы. Народ верит, что после этого женщина получает способность рожать детей» [30, 194]. Тибетская медицина была не только результатом естественного материалистического опыта народной медицины по лечению болезней, но и неотъемлемой частью религий Тибета — бонских верований и буддизма. Не случайно в средневековом Тибете она изучалась при монастырях, на медицинских факультетах — манба-дацан. Центром манба-дацанов была «медицинская академия» Тибета, манба-дацан Лхасы, расположенный на горе Чагпори. «То, что мы называем „тибетской медициной“, в основе своей отнюдь не является оригинальным созданием тибетской почвы. И здесь, как и во всех прочих областях культуры Тибета, первоначальной родиной является Индия» [25, 50]. С древних времен в Индии различали восемь разделов медицины: лечение ран, лечение заболеваний головы, лечение болезней, захватывающих весь организм, лечение психических заболеваний, вызываемых злыми духами, лечение детских болезней, учение о противоядиях, учение о средствах против старения, учение о средствах, повышающих половую активность. Медицина именовалась Аюрведой — знаниями о средствах продления, поддержания жизни. Прообразом тибетской послужила индийская буддийская медицина, являвшаяся одной из частей индийской медицины вообще. Первым известным буддийским врачом, по традиции, считается Кумара Дживака (Соджешонну), начиная с которого опыт буддийских врачей передавался от поколения к поколению вплоть до Нагарджуны (II в.). Преемником Нагарджуны был Вагбхата. Труды Вагбхаты в XI в. были переведены на тибетский язык Рипчен Зангпо при участии пандита Джанардана. Основной канонический трактат тибетской медицины «Джудши» («Четыре трактата»), по традиции, был переведен с одного из древнеиндийских языков на тибетский язык кашмирцем Чандранандой при участии другого переводчика, Вайрочана, при цэнпо Трисонг Децэне. Точный санскритский оригинал «Джудши» до сих пор не установлен, но определена его тесная связь с трудами Вагбхаты. В XI в. тибетские врачи Ютогпа-старший и Ютогпа-младший переработали текст «Джудши», «приспособив его для лечения в специфических условиях Тибета» [25, 55], хотя в нем многое сохранилось от индийских традиций и санскритского текста, скажем, упоминание о львином мясе или подчеркивание слишком жаркого климата летом. В этой работе традиция индийской медицины слилась с традициями медицинских познаний Тибета. Ютогпа-младший ввел в трактат учение об определении болезней по пульсу, отсутствовавшее в древней индийской медицине. Вся позднейшая медицинская литература составляла всевозможные комментарии на «Джудши». Основные положения медицинской науки в трактате «Джудши» излагались но традиции, принятой в Индии, в виде афоризмов в стихах, так что их легко было запомнить и заучить наизусть, но понять без комментариев крайне трудно. Из числа таких комментариев наиболее известным был «Голубой лазурик» («Вайдурья-нгонпо»), написанный в 1680 г. знаменитым регентом Санджай Джамцо, общепринятый как в Тибете, так и в Монголии. Санджай Джамцо был также автором «практического лечебника» — «Лхантхаб». Большим спросом в Тибете всегда пользовались джоры — книги рецептов. Тибетский врач обучался 12–15 лет. Прежде всего, он обязан был выучить наизусть весь «Джудши» и прочесть его вслух на память на экзамене. «Процедура эта обычно начиналась на заре, а заканчивалась за полночь. Учителя по очереди уходили молиться, есть, принимать больных, а экзаменующийся все говорил и говорил без передышки» [26, 96]. Врач обязан был знать около 6 тыс. видов лекарств, подразделявшихся по их основному компоненту на восемь видов: из минералов, трав, цветов, коры деревьев, мускуса, желчи, рогов, зубов животных. По другой классификации они изготовлялись из драгоценностей, земли, камней, деревьев, соков, лекарства на отварах, из трав и продуктов, получаемых от животных. Индийская медицина исходила из того положения, что «нет в мире таких веществ, которые при точно указанных условиях, в известном сочетании с другими веществами, не обладали бы целебными свойствами: даже сильнейшие яды в известных случаях обращаются в лекарство» [44, 4–5]. Источником болезни, по тибетской медицине, признавалось нарушение равновесия пяти первоэлементов — металла, дерева, воды, огня и земли. «Зачатие состоит в восприятии женскими половыми органами семени, и, удовлетворив похоть, организм делается утомленным, отяжелевшим. Семя отца дает начало костям, головному и спинному мозгу, из менструаций матери образуются мышцы, кровь, полые и плотные органы, а личное духовное начало зародыша служит основанием для пробуждения сознания внешних органов чувств. Из стихии земли образуются мышцы, кровь и чувство обоняния носом, из стихии воды образуется кровь, а также чувство вкуса и влажность в языке, из стихии огня берет свое начало теплота, цвет и чувство зрения в глазе, из стихии воздуха образуется дыхание и чувство осязания в коже, из стихии эфира получает свое начало речь и ощущение звуков в ушах, в силу навыка, при постоянной деятельности накапливаются представления. Так, в силу сочетания причин, сопутствующих обстоятельств и взаимной связи причин с последствиями получает свое бытие организм» [46, 63][7]. Болезнь могли вызвать злые духи, они же могли навлечь смерть во время болезни. Больным запрещалось спать днем, так как во время сна духи могли украсть у больного его душу, которая из-за болезни и так еле держалась в теле. Поэтому больные тибетцы старались не спать днем и даже в современных госпиталях, чтобы не уснуть, привязывали себя за волосы к спинкам кроватей. Наконец, болезнь могла быть возмездием за дурные деяния в прошлых перерождениях. Но наряду с этим индо-тибетская медицина называла и совершенно объективные, реальные и в нашем, современном понимании причины заболевания: «Расстройство организма происходит вследствие легкомысленного отношения к образу жизни, злоупотребления пищей и питьем, неумения приспособляться к колебаниям температуры в различное время года и вообще к климатическим условиям и неумения разумно пользоваться пятью нашими чувствами» [2, 37]. Основой диагностики считалось состояние пульса, цвет лица, глаз, языка. Выпускник Чагпори был обязан, исследуя эти органы больного, определять до 400 болезней, опытный врач около тысячи. Прослушиванию пульса уделялось особое внимание. Для этого в тибетской медицине указывалось 26 мест на человеческом теле. Слушать пульс больного считалось предпочтительнее на заре, после ночного сна. Частоту пульса больного врач измерял своим дыханием — нормой считалось пять ударов пульса на один вздох. Врачу предписывалось обследовать больного путем «осмотра, осязания и вопросов. Осмотр состоит в том, чтобы исследовать все доступное глазу — объем больного (большой или маленький), его формы и внешний вид, нужно подвергнуть преимущественному исследованию его язык и мочу… При помощи осязания исследовать самое тело — холодное оно или горячее, нежное и мягкое или шероховатое, нужно в особенности исследовать пульс больного» [46, 347]. Лекарства также рассматривались как своеобразные состояния первоэлементов. Лекарства, связанные своим происхождением с землей, тяжелы, тверды, маслянисты, с водой — жидки и прохладны, с огнем — жгучи, остры, сухи и жестки и т. д. Составлять лекарства рекомендовалось в первые дни месяца и не рекомендовалось в последние, когда луна в ущербе, это влияло на их эффективность. Некоторые из лекарств можно было изготовлять только в определенные дни года. В «Джудши» указывались целебные свойства основных компонентов лекарств: «железо… врачует яд печени, болезни глаз и отеки» [46, 247]; «стручковый перец… так как силы его подобны огню, возбуждает теплоту, врачует общее расстройство организма и болезни геморрой…» [46, 261]; «пастушья сумка… останавливает рвоту» [46, 285]; «ослиный язык… останавливает понос» [46, 293] и т. д. Лекарственный арсенал индо-тибетской медицины был велик. Он, вероятно, самое ценное наследие ее, хотя и подлежащее безусловной проверке. Беда в том, что до сих пор крайне затруднительно переводить рецепты и определять составные части тех или иных лекарств. Имеющиеся переводы признаны несовершенными, и даже монголы и калмыки, врачи тибетской медицины, во многих случаях не в состоянии указать точные монгольские, русские или европейские соответствия тем или иным целебным минералам, растениям, продуктам, получаемым от животных, и т. п. Причины этого не столько в плохом знании тибетского языка, сколько в недостатке узкоспециальных знаний и несоответствии флоры и фауны древней Индии, Тибета, Монголии и других районов мира, а также в том, что и в самой Индии или даже в Тибете наименование того или иного вида «сырья» менялось на протяжении столетий несколько раз или же было неодинаковым для различных мест. Не раз указывалось на то, что только группа людей, обладающих превосходным знанием санскрита, тибетского, монгольского, калмыцкого и китайского языков, при тесном сотрудничестве с местными врачами и врачами современной медицины способны решить этот вопрос, клубок проблем, сплетенный столетиями и различиями языков и климатов. Но, думается, трудно рассчитывать на то, что в случае успеха тибетская медицина явится панацеей от многих бед. Как и любая народная медицина с богатыми традициями, она содержит элементы положительных знаний. Но точно так же, как любая средневековая медицина, она была медициной магической, религиозной, с такими приемами лечения, которые мы в наши дни правильно оцениваем как шарлатанство. Тибетская медицина не чуралась хирургических методов лечения, таких, как кровопускание, иглоукалывание, разрезы, скобления и ампутации, но они не считались главными. Для операций существовал стандартный набор инструментов. Тибетская медицина предусматривала профилактику заболеваний не только посредством ношения амулетов и чтения заклинаний, но и посредством поддержки здоровья пациента, обязанного оставить «всякую порочную деятельность телом, языком и духом», «преследовать истину» и соблюдать разумную осмотрительность — не садиться в ненадежную лодку, не ходить по крутым скалам, не взбираться на верхушки деревьев и т. п. Для сохранения здоровья рекомендовалось регламентировать половую жизнь, регулярно мазаться сливочным маслом и даже купаться (последнее, несомненно, идет из Индии и чуждо условиям и обычаям старого Тибета и старой Монголии). «Если надлежаще пользоваться образом жизни, пищею и медикаментами, то и будешь проживать безболезненно и спокойно» [46, 337]. От врача же требовалось знание своей науки, врач был обязан быть верующим-буддистом, рассматривать учеников Будды как «гениев-хранителей врачебной науки», на медицинские инструменты смотреть «как на атрибуты, которые держат в своих руках гении-хранители» [46, 405]. Врач, как истинный буддист, должен был испытывать сострадание ко всем живым существам, хорошему и верующему врачу обещалось за это перерождение в высших сферах. Но вместе с тем тибетская медицина официально не рекомендовала оказывать помощь любому больному. Если больной причинял вред вере, был известен как недруг властей предержащих и монашеского братства (общины), не выполнял советы врача или даже попросту «не имел никаких средств для лечения болезни», то такого больного «завещается оставить, хотя бы и были средства для его врачевания, так как такое врачевание поведет только ко злу и людским нареканиям» [46, 359]. Буддизм, как и всякая религия, всегда стоял на страже интересов государства и господствующего класса феодалов, светских и теократических, и это, как мы видим, нашло отражение и в положениях тибетской медицины. Отдельно следует упомянуть о зуболечении в Тибете. Тибетцы полагали, что зубная боль вызывается особыми червячками, гнездящимися в корнях зубов. Поэтому, для того чтобы излечить зуб, этих червячков следовало убить. С этой целью применялись раскаленные докрасна иголки. Такая мучительная операция приводила к экстракции зубного нерва и, естественно, снимала впоследствии болевые ощущения в зубе. Иначе говоря, умертвлялся нерв зуба, что давало явно поверхностный эффект. Тибетские врачи умели делать и подобие коронок — на больные зубы для предохранения их от дальнейшей порчи надевались серебряные колпачки. Тибетские врачи-практики лечили больных в средние века и объективным знанием болезней и средств их лечения, и «словом божьим». Тибетская медицина была неотъемлемой частью господствовавшей в Тибете религиозной идеологии и составной частью тибетской культуры. Переосмысление ее наследия, освобожденного от мистических наслоений, и включение его в арсенал медицинской науки наших дней сделает все положительное, что веками было накоплено опытом индо-тибетской медицины, достоянием общечеловеческой культуры. Мы рассказали читателю о некоторых сторонах тибетской культуры. Наш очерк не претендует на исчерпывающую полноту, ибо наука, во всяком случае востоковедная, еще не в состоянии дать описание какой-либо культуры как единой системы. Это объясняется отсутствием единства мнений о том, какие структурные элементы являются необходимыми частями культуры, а какие могут включаться в нее, а могут и не включаться, а также отсутствием четкого научного разграничения таких понятий, как культура и цивилизация, и строгих рамок распространения культуры. Тибетская культура была не во всем едина в своих частях — в культурной жизни Кама (Восточный Тибет) более ощутимо китайское влияние, в районе Амдо и Кукунора (Северо-Восточный Тибет) — китайское и монгольское, в районе Гималаев — индо-непальское, и все это породило ряд переходных форм тибетской культуры к соседним культурам Индии, Китая, монголов. Для старой тибетской культуры была характерна, но отнюдь не специфична только для нее, тесная связь с различными религиозными представлениями, от примитивных, анимистических до высот идеалистической буддийской логики, синтез каковых наблюдается во многих явлениях тибетской культуры. Тибетская культура была творением людей и богов, сотворенных этими людьми.6. «Пандит, не монах, не мирянин, враг учения Будды»
Оставались последние дни пути по земле Тибета. Караван двигался по Цайдаму, соленому болоту, к южному берегу озера Кукунор. Приободрились монголы, истосковавшиеся по степи, радовались неоглядному простору равнины, чистой монгольской речи встречных пастухов, близкому концу похода. Окрепли и животные — в этих местах лучше и обильнее был корм. Заросли травы, зеленые у водоемов, пожухлые вдали от них, перемежались солончаками и кустами тамариска. Лошади часто увязали в грязи, проваливались в нее выше лодыжек, особенно на топких берегах, при переправах через многочисленные реки и речки. В отдалении от дороги паслись стада антилоп и диких ослов — кянгов. Местные монголы называли их куланами. По отцветшим и обильно плодоносящим травам — колючие семена густо налипали на суконные голенища сапог — чувствовалось приближение осени. Холодной была вода в речках и озерах. В воде у берегов таинственно колыхались заросли водорослей. Всюду бродили отъевшиеся за лето на прославленных цайдамских пастбищах стада скота. Черные палатки тибетцев чередовались с белыми юртами монголов. По утрам и вечерам над палатками и юртами вился дым, пахло кизяком и кислым молоком, от стойбищ веяло спокойствием размеренного, устоявшегося быта. Слух о том, что везут бывшего далай-ламу, опережал караван. Толпы людей выходили к дороге, иные подходили совсем близко, и монгольские воины отгоняли их окриком, плетью, наезжая на наиболее упорных конем. На стоянках иные гнулись перед ним в низких поклонах, иные тайком даже норовили подойти под благословение, по другим было видно, что они хотели того же, но не решались, не зная, как поступить, как отнестись к тому, кто еще недавно был живым богом, а теперь, как узник, под конвоем покидает Тибет. Третьи взирали на него равнодушно или вообще не обращали на него внимания, целиком поглощенные своими делами. За два месяца пути Цаньян Джамцо много думал о своей жизни. Вначале он и сам внутренне был согласен с тем, что так и не успел определиться, сделать выбор жизненного пути. С малых лет предназначенный для того, чтобы возглавить секту Гелугпа, он должен был бы всю свою жизнь посвятить религии, следуя примеру Великого Пятого, чьим перерождением он являлся. А вопреки этому он, сколько помнит себя, противился и изучению великого наследия веры и пренебрегал тем образом жизни, который приличествовал бы его сану. Монах по предназначению, он хотел жить, как мирянин. Как-то гуляя по саду после очередной ссоры с Санджай Джамцо, в резких выражениях порицавшего его за нежелание принять обет гелонга и пренебрежительное отношение к изучению священных текстов, с опаской поглядывая по временам на сползавшую с гор на город огромную черную тучу, он сочинил такие стихи:* * *
Мы не знаем, так ли или как-то иначе умер VI Далай-лама, но он умер, очевидно, не своей смертью, хотя источники, в основном китайские, уверяют, что он умер от водянки. Кому был нужен бывший правитель Тибета? Истинность его как перерожденца в лучшем случае была поставлена под сомнение, власти он был лишен, сторонников, способных бороться за него в тот момент, не имел. Живой он был опасен, так как мог принять меры к возвращению в Лхасу, и в Тибете или за его пределами могли найтись достаточно влиятельные силы, способные снова водворить его на престол и от его имени или по его поручению расправиться с прежними гонителями. Цаньян Джамцо умер молодым и, скорее всего, был отравлен, а значит, «пострадал», и потому, как многие страстотерпцы, обрел право на вторую жизнь в легендах и сказаниях. Народная молва сразу отказалась верить в его подлинную смерть. Легенда о «чудесном опасении» VI Далай-ламы от гибели была записана в 1899 г. Г. Ц. Цыбиковым в Алашани: «Шестой перерожденец Далай-ламы Цаньян Джамцо нарушил обеты высшего духовного звания и вступил в брак с одной женщиной. Она вскоре забеременела и должна была родить сына, который сделался бы всемирным царем. Но китайские астрологи-тайноведы узнали об этом и сообщили богдыхану о грозившей его династии опасности. Богдыхан в тревоге вызвал Далай-ламу в Пекин для допроса, а жену его приказал тотчас убить. С дороги в Пекин, а именно из Алашани, опальный Далай-лама послал ко двору труп своего случайно умершего спутника, выдав за свой, а сам, переодевшись нищим монахом, скрылся и бродил инкогнито по разным местам непросвещенной Монголии, родного Тибета и священной Индии. Затем в Алашани он стал проявлять много чудес, на что обратила внимание Абао, супруга алашаньского вана. Она признала в нем Далай-ламу и воздала почести. Внимание, оказанное княжеским двором, конечно, сильно подействовало на простой народ, и он стал уже боготворить вновь открытого Далай-ламу» [48, 6–7]. Согласно этим же преданиям, свои последние годы VIДалай-лама прожил в Алашани в довольстве и покое. После смерти он был похоронен в монастыре Барунхит, расположенном на северном склоне одной из самых высоких вершин Хэланьшани (Алашань), горе Баян-сумбэр. Там еще на рубеже XIX–XX вв. была якобы усыпальница с его прахом [48, 13].СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Асвагоша [Ашвагхоша]. Жизнь Будды, пер. К. Бальмонта, М., 1913. 2. Бадмаев П. А. О системе врачебной науки Тибета, вып. I, СПб., 1898. 3. Барадийн Б. Б. Дневник путешествия по Амдо, — Архив востоковедов ЛО ИВАН СССР, on. I, ф. 87, ед. хр. 29. 4. Бичурин И. История Тибета и Хухунора, СПб., 1833. 5. Богословский В. А. Очерк истории тибетского народа, М., 1962. 6. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия, М., 1969. 7. Владимирцов В. Я. Тибетские театральные представления, — «Восток», Л., 1928, кн. 3. 8. География Тибета. Перевод из тибетского сочинения «Миньчжул хутухты» В. Васильева, СПб., 1895. 9. Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций, Улан-Удэ, 1971. 10. Гуревич Б. П. Освобождение Тибета, М., 1958. 11. Дас Сарат Чандра. Путешествие в Тибет, СПб., 1904. 12. Домогацких М. Утро Тибета, М., 1962. 13. Дхаммапада. Пер. с пали, введ. и комм. В. Н. Топорова, М., 1960. 14. Журавлев Ю. И. Этнический состав тибетского района КНР и тибетцы других районов страны, — «Восточноазиатский этнографический сборник», М., 1961. 15. Илларион, Очерк истории сношений Китая с Тибетом, — «Труды членов Российской духовной миссии в Пекине», СПб., 1853, т. II. 16. Ковалевский О. М. Буддийская космология, Казань, 1837. 17. Козлов П. К. По Монголии и Тибету, СПб., 1913. 18. Козлов П. К. Тибет и далай-лама, Пг., 1920. 19. Кузнецов Б. И. Тибетская легенда о происхождении человека от обезьяны, — «Доклады по этнографии», Л., 1968, вып. 6. 20. Кюнер Н. В. Описание Тибета, ч. I, вып. I, — «Известия Восточного института», Владивосток, 1907, т. XXI, ч. I, вып. 2. 21. Леви-Стросс Кл. Из книги «Мифологичные. Сырое и вареное», — «Семиотика и искусствометрия», М., 1972. 22. Мак-Говерн В. Переодетым в Лхасу, М. —Л., 1929. 23. Народы Восточной Азии, М., 1965. 24. О тибетском вопросе, Пекин, 1959. 25. Обермиллер Е. Е. Пути изучения тибетской медицинской литературы, — «Библиография Востока», Л., 1935, вып. 8–9. 26. Овчинников В. Путешествие в Тибет, М., 1957. 27. Ольденбург Г. Будда, его жизнь, учение и община, М., 1890. 28. Описание Тибета в нынешнем его состоянии, СПб., 1828. 29. Парфианович Ю. М. Тибетский письменный язык, М., 1970. 30. Потанин Г. Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия, СПб., 1893. 31. Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки, СПб., 1883. 32. Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки. СПб., 1888. 33. Рерих Ю. Н. Избранные труды, М., 1967. 34. Рерих Ю. Н. Основные проблемы тибетского языкознания, — «Советское востоковедение», М., 1958, № 4. 35. Рерих Ю. Н. Тибетский язык, М., 1961. 36. Решетов А. М. Новые антропологические материалы из Тибета, — «Вопросы антропологии», М., 1964, вып. 18. 37. Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии, Пг., 1918. 38. Сказки народов Китая, М., 1961. 39. Сказание о хождении в тибетскую страну малодорботского База-бакши. Пер. А. М. Позднеева, СПб., 1897. 40. Соколовский Г. И. Антонио де Андрад в Тибете, — «Известия Государственного Русского Географического общества», Л., 1926, т. LVIII, вып. 2. 41. Тибетская летопись «Светлое зерцало царских родословных». Пер., вступит. статья и комм. Б. И. Кузнецова, Л., 1961. 42. Тибетские народные песни. Пер. с кит. А. Клещенко и В. Вельгуса, М., 1958. 43. У Жу-кан, Н. Н. Чебоксаров. О непрерывности развития физического типа, хозяйственной деятельности и культуры людей древнего каменного века на территории Китая, — «Советская этнография», 1959, № 4. 44. Ульянов Д. Перевод из тибетских медицинских сочинений, СПб., 1902. 45. Уодель А. Лхаса и ее тайны, СПб., 1906. 46. Учебник тибетской медицины. С монгольского и тибетского перевел А. Позднеев, СПб., 1908. 47. Цзонхава, Лам-рим Чэн-по, Пер. с тибет. Г. Ц. Цыбикова, т. I, вып. II, Владивосток, 1913. 48. Цыбиков Г. Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета, Пг., 1919. 49. Чаттопадхьяя Д. История индийской философии, М., 1966. 50. Чу Шао-тан. География нового Китая, М., 1953. 51. Щербатской Ф. И. Философское учение буддизма, Пг., 1919. 52. Якобсон Р. К вопросу о зрительных и слуховых знаках, — «Семиотика и искусствометрия», М., 1972.53. Вacot J., Thomas F. W., Toussaint Ch. Documents de Touen-Houang relatif a l’Histoire du Tibet, Paris, 1940–1946. 54. Bell Ch. The Religion of Tibet, Oxford, 1931. 55. Bustоn. History of Buddhism. Transl. from tibetan by E. E. Obermiller, Heidelberg, pt 4. 1931, pt 2, 1932. 56. Carrasсо P. Land and Polity in Tibet, Seattle, 1959. 57. Cassinelli C. N. and Ekvall R. B. A Tibetan Principality. The Political System of Sa Skya, New York, 1969. 58. Demieville P. Le Concile de Lhasa, Paris, 1952. 59. Desideri J. An Account of Tibet, London, 1932. 60. Duncan Marion H. Customs and Superstitions of Tibetans, London, 1964. 61. Goldstein Melvyn C. Taxation and the Structure of Tibetan Village, — «Central Asiatic Journal», 1971, vol. XV, № 1. 62. Franсke A. H. The Chronicles of Ladakh and Minor Chronicles, — «Archeological Survey of India», New Imperial Series, Calcutta, 1926, 50. 63. Franсke A. H. History of Western Tibet, London, 1907. 64. Haarh E. The Yarlung Dynasty, Kobenhavn, 1969. 65. Hitti Ph. K. History of Arabs, London, 1956. 66. Hoffman H. Religion of Tibet, London, 1961. 67. Hummel S. Eurasiatische Traditionen in der tibetischen Bon Religion, — «Opuscula ethnologica memoriae», 1959, № 117. 68. Jataka or Stories of the Buddha’s Former Births. Transl. by E. B. Cowwell, London, vol. 1–6, 1895–1913. 69. Laufer B. Über ein tibetischen Geschichtwerk der Bonpo, — «T’oung Pao», Leiden, 1901, vol. II, ser. 2. 70. Li Fang-kuei. The Inscription of the Sino-Tibetan Treaty of 821–822, — «T’oung Pao», 1956, vol. XLIV, livr. 1–3. 71. The Memoirs of His Holiness The Dalai-lama of Tibet. My Land and my People. Ed. by David Howath, London, 1962. 72. Pelliоt P. Quellques transcriptions chinoises de noms tibetains, — «T’oung Pao», Leiden, vol. XVI, ser. 2, 1915. 73. Petech L. China and Tibet in the Early 18th Century, Leiden, 1950. 74. Richardson H. E. Ancient Historical Edicts of Lhasa, vol. XIX, London, 1952 (Prize publication found). 75. Richardson H. E. Tibet and its History, London, 1962. 76. Rockhill W. W. The Dalai-lamas of Lhasa and their Relations with the Manchu Emperors of China, 1644–1909, Leiden, 1910. 77. Roerich G. Tibetan paintings, Paris, 1925. 78. Rona-Tas A. Tally-stick and Divination Dice in the Iconography of Lha-mo, — «Acta orientalia Academiae scientiarum hungaricae», Budapest, 1956, t. VI, fasc. 1–3. 79. Saunders E. Dale. Mudra. A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture, New York, 1960. 80. Schmidt J. J. Geschichte der Ost-Mongolen und Ihres Fürsten Hauses, St.-Pbg, 1828. 81. Schuleman G. Geschichte der Dalai-lamas, Leipzig, 1958. 82. Shaкabpa W. D. Tsepon, Tibet, a political History, New Haven and London, 1967. 83. Snellgrove D. L., Richardson H. E. A Cultural History of Tibet, London, 1968. 84. Snellgrove D. L. Nine Ways of Bon, London, 1967. 85. Snellgrove D. L. Buddhist Himalaya, Oxford, 1957. 86. Stcherbatsky T. The Conception of Buddhist Nirvana, London, 1927. 87. Stein R. A. La civilisation tibétaine, Paris, 1962. 88. Tuссi G. The Sacral Character of the Kings of Ancient Tibet, — «East and West», Rome, 1955, № 4. 89. Tucci G. The Theory and Practice of the Mandala, London, 1961. 90. Tucci G. Tibetan painted scrolls, Roma, 1949. 91. Tucci G. The Tombs of Tibetan Kings, — «Serie Oriental», Roma, 1950, vol. VIII. 92. Uгау G. «Gren», the Alleged Old Tibetan Equivalent of the Ethnic Name Ch’iang, — «Acta orientalia hungaricae», 1966, t. XIX. 93. Uгау G. The Four Horns of Tibet, according to the Royal Annals, — «Acta orientalia hungarical», 1960, t. X, fasc. 1. 94. Waddell L. A. The Buddhism of Tibet or Lamaism, Cambridge, 1934. 96. Wood W. A. K. A History of Siam from the Earliest time to the Year 1781 A. D., London, 1926. 96. Rgyal-Rab Bon Kyi Jung Nas, ed. by S. Ch. Das, Calcutta, 1915. 97. Падма Катан («Сказание Падмы»). Тиб. ф. ЛО ИВАН АН СССР (ксилограф). 98. Туган Ловсан Чхойчиньима. Шей-джи Мелонг («Зеркало — кристалл истории всех учений»). Тиб. ф. ЛО ИВАН СССР (ксилограф). 99. Вэньсянь тункао («Всеохватывающий свод сокровищ литературы»), Шанхай, 1936. 100. Синь Тан шу («Новая история династии Тан»), Шанхай, 1935 (изд. серии «Сыбу бэйяо»). 101. Цзю Тан шу («Старая история династии Тан»), Шанхай, 1935 (изд. серии «Сыбу бэйяо»). 102. Чжунго фын шэн диту («Атлас карт Китая по провинциям»), Тяньцзинь, 1963. 103. Хоу Хань шу («История поздней династии Хань»), Шанхай, 1935 (изд. серии «Сыбу бэйяо»). 104. Юй Дао-цюань, Ди людай Далай-лама Цанъян Цзяцо цингэ (Лирические песни VI Далай-ламы Цаньян Джамцо), Бейпин, 1930.
SUMMARY
«People and Gods in the Country of Snows» is a popular-scientific book on Tibet and Tibetan culture — a region with a remarkable and eventful history of fifteen hundred years. During the period stretching from the eighth to the ninth century, it attained political dominion in Central Asia. Tibetan culture exerted a far-reaching and deeply-rooted influence on the development of several Central-Asian peoples and their culture. The aim of the authors is to describe for the wider circle of readers, including those engaged in oriental studies and other fields of research, the past of this country, its people and their rich culture. The description is based upon the most recent results achieved in Tibetan studies, both Soviet and foreign. Orientalists conducting researches in this field are aware, of course, that in the last ten or fifteen years a series of important works, both of a specialized and of a popular-generalized nature on traditional Tibetan civilization, have appeared in European languages. There is no necessity to enumerate them here. Books on the subject have also been published by Tibetan authors, written in some cases in collaboration with European and American scholars; they reflect the views of present-day Tibetan emigrants regarding their country’s history and its cultural-historical role in Asia. As may be supposed, these have been studied with the closest attention, particularly since some are found to contain a wealth of factual material hitherto unknown, or available to only a narrow circle of readers. The book consists of five chapters: the first — «The Country of Snows», gives a concise geographical description of Tibet, its principal districts and their natural features; the second chapter, «People», is historical — beginning with archeological discoveries in a region which until 1950 was forbidden ground to archeologists — and ethnographical. The third chapter, «Gods», is an account of the two main religions traditional in Tibet — Bon and Buddhism. «People and Gods» (the fourth chapter) describes the culture of Tibet as the synthesis of its people’s cultural-historic life and religious conceptions. A popular-scientific work written for the wider public must provide material of sufficient interest to hold the attention of readers with different tastes and demands. With this in mind, the authors have interwoven with the main fabric of the text the story of the life and work of Tsanyan Jamtso, the Sixth Dalai-Lama. The religious hierarch of Tibet was a poet of originality and importance, and also a politician of tragic destiny who perished in the struggle waged against him by Ching China to establish and strengthen her influence in Tibet. The authors hope that the sections on Tsanyan Jamtso — brief as they are, but presented with a certain literary inventiveness, while keeping within the bounds of known facts — and also the purely informative «scientific» chapters (which may seem rather dry) will encourage readers who know Russian to glance into the amazing world of the Tibetan past and its culture. It is thought that readers abroad, including Tibetans will share the authors’ feeling of profound respect for the Tibetan people, who living in the harshest and most difficult natural conditions, yet created a civilization of their own, unique, original, a notable contribution to the cultural treasury of all mankind.ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Тибет — страна гор и долин

Рис. 2. Сонгцэн Гампо и его жены (слева — непальская, справа — китайская)

Рис. 3. Чуба — повседневная одежда тибетца

Рис. 4. Яки и соха

Рис. 5. Цзамба — хлеб Тибета

Рис. 6. Дом тибетца — всегда маленькая крепость

Рис. 7. Банаг — черная палатка тибетца-кочевника

Рис. 8. Состоятельный тибетец с женой в праздничных нарядах

Рис. 9. Дойка ячихи

Рис. 10. Дети Страны снегов

Рис. 11. Молодость Страны снегов

Рис. 12. Учитель

Рис. 13. Икона, изображающая бодхисаттву Майтрейю

Рис. 14. Цзонхава — основатель секты Гелугпа
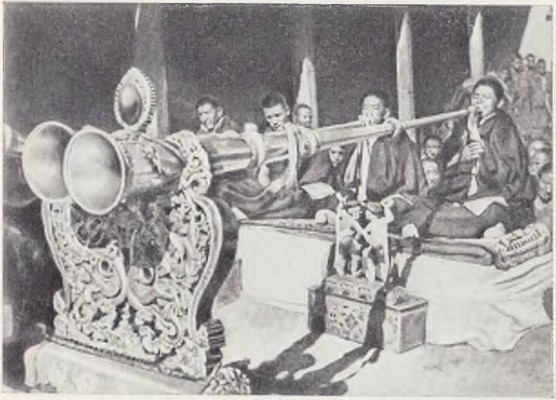
Рис. 15. Скоро молитва

Рис. 16. Библиотека монастыря

Рис. 17. Потхи — книги Тибета

Рис. 18. Улица Лхасы

Рис. 19. Крыша из золота во дворце Потала

Рис. 20. Тибетский чайник — образец мастерства тибетских ювелиров

Рис. 21. Магическая формула «Ом мани падме хум» на камнях у дороги

Рис. 22. Чаши из человеческих черепов

Рис. 23. Субурганы (чортены)

Рис. 24. Дворец Потала
Последние комментарии
4 часов 19 минут назад
4 часов 27 минут назад
4 часов 37 минут назад
4 часов 42 минут назад
6 часов 11 минут назад
6 часов 14 минут назад