1968. Год, который встряхнул мир. [Марк Курлански] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Моей прекрасной Талии Фейе: пусть она отличает правду ото лжи, любит жизнь, ненавидит войну и всегда верит, что может изменить мир
Я полагаю, что людям так хочется мира, что уж лучше бы правительства на днях поступили вопреки своему обыкновению и дали людям возможность жить в мире.
Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, 1959
Пришло время, когда ненависть к действиям машины стала столь сильна, приносит такую боль вашему сердцу, что вы просто не можете принимать в них участие... и бросаетесь собственным телом на шестерни... и останавливаете ее.
Марио Савио, Беркли, 1964
Дорога изобилует опасностями... Первая — это страх того, что все тщетно: уверенность, что один человек, будь то мужчина или женщина, ничего не сможет сделать против великого множества болезней общества... И все же... каждый раз, когда человек поднимается на защиту идеала, или когда совершает поступок на благо другим, или восстает против несправедливости, он порождает крохотное биение пульса надежды. И вместе с другими такими же импульсами, исходящими из миллионов сердец с их энергией и бесстрашием, эти удары сливаются в поток, которому не помеха самые прочные стены, самый мощный гнет и сопротивление.
Роберт Ф. Кеннеди, Кейптаун (Южная Африка), 1966
Основа нашей программы — убежденность в том, что человек и человечество способны не только познавать мир, но и изменять его.
Александр Дубчек. Речь в Чехии, 16 мая 1968
Наша критика направлена на всякое общество, где человек пассивен.
Даниэль Кон-Бенди, сказано во время визита в Лондон, июнь 1968 Иногда молчание позорно.
Евгений Евтушенко, 22 августа 1968
Восстание молодежи — явление, приобретшее мировой масштаб, чему не было примеров в истории. Я не думаю, что к тридцати годам они остынут и станут законопослушными гражданами, как нас хотело бы уверить правительство. Миллионы молодых людей по всему свету пресытились мелочной, не много стоящей властью, движущейся на платформе из дерьма.
Уильям Бэрроуз. «Приход Пурпурного — Того, Кто Лучше*. «Эсквайр», ноябрь 1968
Вот волшебные слова: «Лицом к стене, ублюдок, это ограбление!»
Лepya Джонс (Амири Барака). «Черные люди!». 1967
Одно из удовольствий, присущих среднему возрасту, заключается в осознании, что ты был прав, причем гораздо более, нежели думал сам, скажем, в 17 или в 23 года.
Эзра Паунд. «Азбука чтения», 1934
Введение. ГОД, КОТОРЫЙ ПОТРЯС МИР
Никогда еще не было года, подобного 1968-му, и вряд ли когда-либо будет. В то время когда нации и культуры были еще отделены друг от друга и различались между собой — а в 1968 году Польша, Франция, Соединенные Штаты и Мексика отличались друг от друга значительно сильнее, нежели сегодня, — произошло самовозгорание мятежного духа по всему миру. История знала и другие революционные годы. Таким был 1848-й, но, в отличие от 1968-го, события тогда ограничились Европой и причины, вызвавшие взрыв возмущения, были сугубо европейскими. В истории имели место другие глобальные события — результаты создания мировых империй, и среди них нельзя не вспомнить гигантских масштабов трагическое событие — Вторую мировую войну. Но уникальным для 1968 года оказалось то, что возмущение людей было вызвано разными причинами и объединяло их только желание бунта, представление о том, как его осуществить, ощущение отчуждения от официального порядка и отчетливая неприязнь к авторитаризму, в какой бы форме он ни проявлялся. Там, где он принимал форму коммунизма, они восставали против коммунизма, там, где это был капитализм, —- против капитализма. Восставшие отвергали множество институтов, политических лидеров и политических партий. Мятеж не был спланирован; не был он и организован. Восставшие получали указания на спешно созывавшихся митингах; некоторые из важнейших решений принимались «в рабочем порядке». Движение было направлено против авторитаризма; по этой причине оно не имело лидеров, или же его лидеры отказывались быть таковыми. Идеология весьма редко выражалась в отчетливых формах, и согласие большинства достигалось по поводу весьма немногих вопросов. В 1969 году, когда федеральный суд предъявил обвинение восьми активистам в связи с демонстрациями в Чикаго, происходившими в 1968-м, Эбби Хоффман, один из восьми, сказал об этой группе: «Мы не могли договориться даже насчет ленча». И хотя возмущение царило повсюду, эти силы редко объединялись; когда же нечто подобное происходило (как было с движениями за гражданские права, антивоенными и феминистскими течениями в Соединенных Штатах или с движениями трудящихся и студентов во Франции и Италии), это были лишь временные альянсы, которые быстро распадались. Четыре исторических фактора «работали» на 1968 год. Сыграло свою роль движение за гражданские права, в то время воспринимавшееся как нечто новое и оригинальное. Молодое поколение ощущало себя ни на кого не похожим и отделенным от всего остального мира и отвергало власть в любых ее формах. Шла война, ненавистная для всего мира и служившая поводом для возмущения всем, кто искал такого повода. Наконец, в тот момент телевидение, что называется, входило в возраст, но было еще достаточно ново для того, чтобы попасть под контроль и стать столь дистиллированным и предсказуемым, как теперь. В 1968 году феномен получения ежедневных новостей с другого конца света с помощью средств массовой информации был сам по себе технологическим чудом и поражал новизной. Война Америки во Вьетнаме не являлась из ряда вон выходящим событием. Она была не более достойна порицания, чем множество других вооруженных конфликтов (и в том числе недавняя война, которую вела в этой стране Франция). Однако в этот раз протест против нее принял беспрецедентные, глобальные масштабы. В то время когда колонии сражались за восстановление национальной независимости и «антиколониальная борьба» стала идеалом всего мира, Вьетнам привлек всеобщее внимание: слабая маленькая страна боролась за свою свободу, а политическая структура нового типа, получившего наименование «сверхдержавы», сбрасывала на ее крохотную территорию бомбы (не атомные); всего их было сброшено больше, чем за всю Вторую мировую войну на Азию и Европу, вместе взятые. На пике борьбы 1968 года военные силы США теряли еженедельно столько же людей, сколько погибло 11 сентября 2001 года при теракте, обрушившемся на Всемирный торговый центр. Пусть между движениями в Соединенных Штатах, Франции, Германии и Мексике были чрезвычайно существенные расхождения, пусть в них самих происходили расколы, но тем не менее всякий согласился бы — учитывая те мощь и престиж, которыми обладали Соединенные Штаты, а также жестокость и очевидно бесчестную сущность американской войны во Вьетнаме, — что они являются ее противниками. Когда в Америке в движении за гражданские права произошел раскол между поборниками ненасилия и сторонниками «Власти черных», обе стороны смогли объединиться на основе неприятия вьетнамской войны. Диссидентские движения по всему миру могли возникать непосредственно на основе антивоенных выступлений. Те, кто желал протестовать, знали, как это делать; им было известно о маршах и сидячих забастовках благодаря американскому движению за гражданские права. Все это они видели по телевидению, передававшему информацию с берегов Миссисипи, и сами страстно желали участвовать в маршах за свободу. Те, кто родился сразу после Второй мировой войны, когда слово «холокост» еще не стало привычным и только что была применена атомная бомба, пришли в мир, разительно отличавшийся от прежнего. Поколение, выросшее после войны, оказалось настолько не похоже на прошедших ее и на жителей довоенного мира, что меж ними постоянно возникали расхождения по самым банальным поводам: это стало своего рода константой. Даже шутки у них были разными. Такие комики, как Боб Хоуп и Джек Бенни, снискавшие популярность у военного поколения, вовсе не казались смешными молодежи. 1968 год стал временем шокирующих новшеств, а новое всегда пленяет молодых и вызывает трудности у старых. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это было время почти полной — и привлекательной — невинности. Вообразите себе студентов Колумбийского университета в Нью-Йорке — с одной стороны, и студентов Парижского университета — с другой. Вот, находясь вдали друг от друга, они обнаруживают, что у них одни и те же радости и горести; вот при встрече они робко подходят друг к другу, желая понять, что же между ними общего — если это общее в принципе существует... С изумлением и восхищением люди узнавали о применении одной и той же тактике борьбы в Праге, Париже, Риме, Мехико, Нью-Йорке. В эпоху новых технических средств, таких как спутники связи и недорогая видеопленка многократного использования, телевидение дало возможность любому человеку узнавать, что делают сейчас все и каждый. Это будоражило умы и волновало: ведь впервые в истории человечества важные события, где бы они ни происходили, становились известны немедленно. Более такое не повторится. Термин «мировая деревня» был изобретен Маршаллом Маклуаном именно в 60-е годы. Сознание того, что земной шар мал — своего рода усыхание глобуса, — уже не будет столь поразительным. Мы уже не испытаем волнения, увидев первые фотоснимки Луны, услышав первые репортажи из космоса: ведь в нынешнем мире ежедневно возможны новые открытия... Если и появится когда-нибудь поколение, подобное молодежи 1968 года, то все созданные им общественные движения будут иметь веб-сайты, тщательно контролируемые силами правопорядка, в то время как их участники будут переписываться по электронной почте по поводу их модернизации. Несомненно, будут применяться новые технические средства. Но теперь даже сама идея новых изобретений стала банальной.

«Venceremos!»Плакат мексиканского студенческого движения Изображен знак мира Эс-ди-эс и лозунг кубинца Че Гевары «Мы победим!»
Я родился в 1948 году и принадлежу к поколению, которое ненавидело войну во Вьетнаме и протестовало против нее. Наше представление о власти сложилось из воспоминаний о слезоточивом газе, имевшем вкус перца, и о тактике полицейских — они медленно окружают, заходя, как бы случайно, с флангов, прежде чем двинуться, выставив приклады вперед, и начать убивать. Я говорю о своих предубеждениях именно сейчас, в начале, потому, что даже теперь, три десятилетия спустя, пытаться объективно оценить события 1968 года было бы нечестно. Читая «Нью-Йорк тайме», «Тайм», «Лайф», «Плейбой», «Монд», «Фигаро», польские ежедневные и еженедельные издания и некоторые мексиканские газеты 1968 года — часть из них претендовала на объективность, часть формулировала свои позиции, — я убедился, что быть честным можно, но подлинно объективным — нет. Американская пресса 1968 года со всей ее объективностью была на самом деле весьма пристрастна, хотя и не отдавала себе в этом отчета. Работа над этой книгой напомнила мне о том, что тогда люди высказывали свое мнение и не боялись кого-либо задеть этим — и о том, что за время, прошедшее с тех пор, многие истины были прочно забыты.Часть I ЗИМА НАШЕЙ ДОСАДЫ
Глаза сделали свое дело. На черном освещенном циферблате зеленые цифры новой луны — один, два, три, четыре, пять, шесть! Я дышу и не могу спать. Но вот и утро пришло и сказало: «То была ночь*.Роберт Лоуэлл. «Близорукость: ночь* («Союзу мертвецов*, 1964)
Глава 1 ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
1968 год начался как положено — с утра понедельника. То был високосный год. Заголовок первой полосы «Нью-Йорк тайме» гласил: «Мир прощается с кровавым годом; на города падает снег». Во Вьетнаме начало 1968 года было тихим. Папа Павел IV объявил 1 января Днем мира. При этом он стремился еще на сутки продлить перемирие, объявленное войсками Южного Вьетнама и их союзниками американцами на двадцать четыре часа. Народно-освободительная армия в Южном Вьетнаме — дружественная Северному Вьетнаму сила, которая вела партизанскую войну и была всем известна как Вьетконг, — объявила о прекращении огня в течение семидесяти двух часов. В Сайгоне южновьетнамское правительство заставило владельцев магазинов вывесить плакаты, гласящие, что «1968 год увидит победу сил союзников». Когда на территории Южного Вьетнама в дельте Меконга пробило полночь, церковные колокола в городе Мито зазвонили в честь Нового года. Через десять минут, когда колокола еще звонили, соединение вьетконговцев появилось на краю рисового поля и застало врасплох южновьетнамский Второй батальон морских пехотинцев, девятнадцать моряков было убито, еще семнадцать — ранено. В передовице газеты «Нью-Йорк тайме» говорилось, что, хотя возобновление огня расстроило надежды на мир, еще одним шансом осуществить их станет прекращение огня в феврале в связи с Тет — вьетнамским праздником Нового года. «1968, je la salue avec Бёгёпкё», — произнес в новогодний вечер Шарль де Голль — президент Франции, высокий, царственного вида старец семидесяти восьми лет. («Я со спокойным сердцем ожидаю наступления 1968 года».) В тот момент он находился в своем украшенном дворце, откуда правил страной с 1958 года. Для того, чтобы сделать президента Франции фигурой, облеченной наибольшими полномочиями среди глав всех западных демократий, он переписал конституцию. Прошло три года его второго президентского семилетнего срока, и, озирая политический горизонт, он различал на нем некоторые проблемы. Обращаясь к народу Франции из позолоченной дворцовой комнаты (его речь передавали по двум программам: государство во Франции контролировало только два телеканала), он заявил, что вскоре другие нации обратятся к нему и тогда он установит мир не только во Вьетнаме, но и на Ближнем Востоке. «Следовательно, — говорил де Голль, — все указывает на то, что мы сможем внести наиболее эффективный вклад в решение международных проблем». В последние годы он взял привычку называть себя «мы». Произнося традиционное новогоднее приветствие, этот человек (французы называли его просто «генерал» или «Великий Шарль») казался «необычно мягким, почти добродушным». Он избегал жестких эпитетов даже в адрес Соединенных Штатов — ранее он называл это государство «одиозным», и это было еще самое мягкое выражение. Тон его был иным, нежели год назад, когда он говорил о «ненавистной, несправедливой войне» во Вьетнаме, в ходе которой «большая нация» уничтожает малую. Французское правительство все более осуждало тот факт, что союзники Франции участвуют в этой войне. В тот момент Франция наслаждалась покоем и процветала. После Второй мировой войны республика вела свою собственную войну во Вьетнаме — казалось, де Голль позабыл об этом. Хо Ши Мин, враг Америки, родился в период французского колониального правления (они с генералом были одного возраста) и большую часть своей жизни посвятил борьбе с Францией. Одно время он жил в Париже под именем Нгуен О Пхеп, означавшем «Нгуен, ненавидящий французов». Во время Второй мировой войны Франклин Рузвельт предупредил де Голля: по окончании войны Франция должна будет дать Индокитаю независимость, — но де Голль сообщил Хо о своем намерении восстановить французский колониальный режим — и это несмотря на проведенный им набор военнослужащих для участия в боевых действиях против Японии... Рузвельт возразил: «Жители Индокитая имеют право на кое-что получше». Де Голль дал понять, что его войска «Свободной Франции» будут участвовать в боевых действиях в Индокитае. При этом он заметил: «Французская кровь, увлажнившая землю Индокитая, — весомая причина для территориальных претензий». После Второй мировой войны французы воевали с Хо против Вьетнама и потерпели сокрушительное поражение. Затем они вели войну в Алжире и тоже проиграли ее. Но с 1962 года Франция жила в мире. Благосостояние росло, несмотря на печально известное отсутствие интереса уде Голля к ключевым проблемам экономики. В период между окончанием войны в Алжире и 1967 годом рост заработной платы во Франции ежегодно составлял 3,6%. Быстро увеличивалось потребление промышленных товаров, особенно телевизоров и автомобилей, и постоянно возрастало число молодых людей, поступавших в университеты, что привело впоследствии к драматическим событиям. Первый министр в правительстве де Голля, Жорж Помпи-ду, не предвидел в наступающем году больших проблем. Он предсказывал, что левые будут объединяться, но это мало поможет им в борьбе за власть. «Оппозиция будет выступать против правительства, — заявил премьер-министр, — однако вызвать кризис ей не удастся». Популярный еженедельник «Пари-матч» упомянул Пом-пиду среди немногих политиков, которые в наступающем 1968 году попытаются сместить генерала с поста президента. Однако газетчики предсказывали, что за рубежом произойдут более интересные события, нежели во Франции. «Избирательная кампания в Соединенных Штатах будет исключительно жестокой», — заявили они. Кроме вьетнамской войны среди проблем наступающего года упоминались борьба между золотом и долларом, рост свободолюбивых настроений в странах — сателлитах Советского Союза, а также ввод в действие советской системы противоракетной обороны. «Невозможно представить себе, чтобы сегодняшняя Франция могла быть парализована кризисом, как случалось прежде», — сказал де Голль в своем новогоднем приветствии. Париж выглядел, как никогда, великолепно благодаря министру культуры Андре Мальро, организовавшему мытье стен зданий. Мадлен, Триумфальная арка, Пантеон и другие важнейшие памятники архитектуры перестали быть серыми, покрытыми угольной пылью: они приобрели бежевый и желтоватый цвет. В тот месяц планировалось под струями холодной воды смыть семивековую грязь с собора Парижской Богоматери. Это был один из наиболее животрепещущих вопросов, обсуждавшихся во французской столице. Не повредят ли струи воды здание? Не будет ли оно выглядеть пестрым, напоминая странное лоскутное одеяло, если обнаружится, что не все камни изначально совпадали по цвету? Де Голль, сидевший у себя во дворце перед наступлением полночи в канун нового, 1968 года, был настроен серьезно и в то же время оптимистично. «Среди множества стран, где царят замешательство и произвол, наше государство будет по-прежнему являть собой образец порядка. Главная цель международной политики Франции — это мир, — сказал генерал. — Врагов у нас нет». Возможно, изменение тона генерала было связано с его желанием получить Нобелевскую премию мира. «Пари-матч» задала Помпиду вопрос: согласен ли он с неким источником из ближайшего окружения генерала, возмущенным тем, что де Голль до сих пор не получил эту премию? Но Помпиду ответил: «Вы и вправду думаете, что Нобелевская премия может иметь для генерала какое-то значение? Единственное, что заботит его, — это история, а на решение суда истории никакое жюри повлиять не может». Среди немногих оптимистичных заявлений 1968 года, помимо заявления де Голля, был также прогноз американской компьютерной промышленности, предсказывавшей своего рода рекорд. В 50-х производители компьютеров полагали, что для удовлетворения потребности Соединенных Штатов в компьютерах достаточно шести машин. К январю 1968 года в стране функционировало пятьдесят тысяч компьютеров, причем пятнадцать тысяч из них было установлено в истекшем году. Фабриканты табачных изделий также надеялись, что рост продаж на 2%, имевший место в прошлом году, будет наблюдаться и в нынешнем. Управляющий одной из крупнейших табачных компаний хвастался: «Чем больше на нас будут нападать, тем более возрастет уровень продаж». Однако во многих отношениях 1967 год был неблагополучным для Америки. Рекордное число волнений, сопровождавшихся разрушениями и проявлениями жестокости, разразилось среди чернокожего населения американских городов, в том числе Бостона, Канзас-Сити, Ньюарка и Детройта. Именно в 1968 году вместо слова «негры» в обиход вошло наименование «черные». В 1965 году Стоукли Кармайкл, организатор «Студенческого комитета борьбы за ненасильственные действия» («Student Nonviolent Coordinating Committee»), или Эс-эн-си-си, известного своей энергичной и эффективной борьбой за гражданские права, изобрел наименование «Черные пантеры». Затем к нему было добавлено выражение «Власть черных». В то время слово «черный» в значении «темнокожий» употреблялось достаточно редко, в качестве поэтического оборота, однако в 1968 году это слово вошло в обиход для обозначения борцов за права темнокожего населения, а к концу года стало наиболее предпочтительным для обозначения всех людей с этим цветом кожи. В свою очередь, слово «негр» стало уничижительной кличкой для тех, кто не боролся за свои права. На второй день нового, 1968 года Роберт Кларк, тридцатисемилетний школьный учитель, занял место в палате представителей штата Миссисипи, причем против его кандидатуры не было подано ни одного голоса. Он стал первым чернокожим, занявшим это место в Миссисипи, за весь период с 1894 года. Однако надо заметить, что в сфере борьбы за социальные права главные события переместились с Юга, где ее участники высказывались достаточно мягко, на Север, где вопрос предпочитали ставить ребром. Чернокожие Севера отличались от чернокожих Юга. В то время как большая часть южан — последователей Мартина Лютера Кинга-младшего изучали труды Махатмы Ганди и ненасильственные методы, использованные им в антибританской кампании, Стоукли Кармайкл, выросший в Нью-Йорке, интересовался акциями, сопровождавшимися проявлениями жестокости, такими как восстание мау-мау, поднятое против британцев в Кении. Кармайкл обладал незаурядным чувством юмора, едким остроумием, а кроме того — особым чувством театральности, вынесенным им с родного Тринидада. Живя на Юге, он, как и все сотрудники Эс-эн-си-си, годами подвергался оскорблениям: ему угрожали, он сидел в тюрьме. И все эти годы время от времени возникал вопрос о ненасильственных методах борьбы. Кармайкл отвечал оскорблениями (подчас не только словом, но и действием) в адрес тех сторонников сегрегации, кто притеснял его. Люди Кинга пели: «Дайте нам свободу прямо сейчас!»; люди Кармайкла — «Власть черных!» Кинг пытался убедить Кармайкла взять на вооружение лозунг «Равноправие для черных», однако Кармайкл продолжал использовать свой слоган.
 Все большее число чернокожих лидеров хотело бороться с сегрегацией с помощью сегрегации же, навязывая социальное устройство по принципу «только для черных». Лестные слова расточались даже в адрес тех, кто изгонял белых репортеров с пресс-конференций. В 1966 году Кармайкл стал главой Эс-эн-си-си, сменив на этом посту Джона Льюиса — южанина, защитника ненасилия, не любившего резких выражений. Кармайкл превратил Эс-эн-си-си в агрессивную организацию, боровшуюся за «Власть черных», и именно в это время движение «Власть черных» приобрело национальные масштабы. В мае 1967 г. Рэп — Губерт Браун (не особенно заметная фигура среди участников борьбы за гражданские права) — сменил Кармайкла на посту главы Эс-эн-си-си; к тому моменту движение оставалось ненасильственным лишь по названию. В 1967 году бушевали кровавые волнения, и Браун заявил на пресс-конфе-ренции: «Вот что я скажу: лучше раздобудьте себе пистолет. Насилие необходимо: это такой же факт американской жизни, как пирожки с вишней».
Кинг утратил контроль над широко развернувшимся движением за гражданские права, многие участники которого полагали, что принцип ненасилия изжил себя и стал бесполезен. Казалось, что 1968 год будет годом «Власти черных», и полиция приводила свои силы в боевую готовность. К началу 1968-го большая часть американских городов готовилась к войне — строились арсеналы; в «черные» районы отправлялись тайные агенты — совсем как шпионы на вражескую территорию. В Лос-Анджелесе, где во время беспорядков в августе 1965-го в районе Уоттс было убито тридцать четыре человека, обсуждался вопрос приобретения бронированных машин с пулеметами 30-го калибра, дымовых шашек, слезоточивого газа, установок для тушения огня и, наконец, сирен. «Когда я увидел этот проект, то подумал: «О Господи, надеюсь, нам никогда не придется пустить это в дело!» — рассказывал заместитель начальника лос-анджелесской полиции Дэрил Гейтс, — но затем понял, насколько полезным это оказалось бы в Уоттсе, где у нас не было никаких средств защиты от огня снайперов, когда мы пытались спасти наших раненых офицеров». Подобные суждения стали весьма уместны с политической точки зрения, с тех пор как губернатор Калифорнии Пэт Браун потерпел на выборах поражение от Рональда Рейгана — по большей части из-за беспорядков в Уоттсе. Проблема была в том, что бронированные машины стоили тридцать пять тысяч долларов каждая. Управление шерифа Лос-Анджелеса предложило решение, требовавшее меньших затрат: нашлись лишние военные бронемашины М-8 стоимостью всего по две с половиной тысячи долларов.
В Детройте, где в 1967 году во время беспорядков на национальной почве погибло тридцать четыре человека, у полиции уже было пять бронированных машин, однако она создавала запасы слезоточивого газа и противогазов; требовались также антиснайперские винтовки, карабины, дробовики и более ста пятидесяти тысяч боекомплектов патронов. В одном из предместий Детройта был приобретен армейский гусеничный вездеход — почти танк. В Чикаго для полиции покупались вертолеты; одиннадцать с половиной тысяч полицейских начали обучаться владению тяжелым вооружением и средствами контроля над толпой в преддверии 1968 года. К началу года Соединенные Штаты, казалось, были охвачены страхом.
4 января тридцатичетырехлетний драматург Леруа Джонс, открыто выступавший в поддержку «Власти черных», был приговорен к двум с половиной годам заключения в тюрьме штата Нью-Джерси и штрафу в тысячу долларов за незаконное хранение двух револьверов во время беспорядков в Ньюарке прошедшим летом. Объясняя, почему вынесенный приговор оказался столь строгим, судья округа Эссекс Леон У. Капп заявил
о своих подозрениях в адрес Джонса — он-де «участвовал в создании плана» поджечь Ньюарк в ту ночь, когда был арестован. Через несколько десятилетий Джонс, известный как Амири Барака, стал поэтом — лауреатом Нью-Джерси.
Хотя военные представители США во Вьетнаме постоянно говорили корреспондентам, что война вот-вот закончится, в действительности она была далека от завершения.
В 1954 году, когда французы покинули Вьетнам, страна разделилась на Северный Вьетнам, где правил Хо Ши Мин (он в основном контролировал этот регион), и Южный Вьетнам, оставшийся в руках антикоммунистических группировок. К 1961 году коммунисты Севера установили контроль над половиной территории Южного Вьетнама с помощью Вьетконга, почти не встречавшего сопротивления у населения этой части страну. В тот год Север начал посылать войска регулярной армии по пути, который стал известен под названием «Тропы Хо Ши Мина», чтобы закрепить позиции в этом регионе. В ответ Соединенные Штаты усилили свое влияние, хотя они всегда участвовали в происходящем — в 1954 году их доля в финансировании военной кампании Франции составляла четыре пятых. В 1964 году, ввиду неуклонного усиления позиций Северного Вьетнама, президент Джонсон использовал якобы имевший место инцидент в Тонкинском заливе для того, чтобы начать военные действия. С этого момента американцы год от года наращивали здесь свое военное присутствие.
В 1967 году во Вьетнаме было убито девять тысяч триста пятьдесят три американца. Это вдвое превысило прежнее число погибших, которое теперь составляло пятнадцать тысяч девятьсот девяносто семь человек (ранено было девяносто девять тысяч семьсот двадцать четыре). Газеты каждую неделю печатали отчеты о потерях. Война также наносила тяжелый урон экономике: она обходилась в два-три миллиарда долларов в месяц. Летом президент Джонсон внес запрос о значительном повышении налогов для погашения растущего долга. «Великое общество» — социальная программа, предполагавшая большие расходы на социальные нужды, которую Джонсон начал проводить в память своего погибшего предшественника (Кеннеди), — провалилась из-за недостатка фондов. В начале 1968 года вышла книга «Читатель «Великого общества»: падение американского либерализма». В ней говорилось, что и программа «Великое общество», и сам либерализм близки к гибели.
Мэр Нью-Йорка Джон Линдсей, либеральный республиканец, метивший в президенты, в последний день уходящего
1967 года заявил: если государство не сможет ассигновать большую сумму денег на насущные нужды городов, тогда «цели и задачи Соединенных Штатов во Вьетнаме и в других регионах должны быть пересмотрены».
Правительство США в то время было вовлечено в состязание с Советским Союзом за то, кто первым достигнет Луны, что требовало значительных усилий. Тем не менее оно вынуждено было урезать бюджет космических исследований. Даже министерство обороны настаивало на своих приоритетах: в начале года оно запросило конгресс о разрешении позже выполнить или вовсе отменить заказы стоимостью в миллионы долларов на вооружение и военное оборудование, дабы изыскать большие средства для ведения войны во Вьетнаме.
В первый день года президент Джонсон обратился к американской общественности с просьбой сократить поездки за рубеж, рассчитывая за счет этого уменьшить растущий дефицит в части иностранных выплат. Их он предал анафеме, в том числе и по той причине, что все больше американцев отправляется «за моря». Государственный секретарь Дин Раск сказал по этому поводу, что туристы должны «разделить общее бремя». Джонсон просил американцев отложить путешествия, не имеющие первостепенной важности, по крайней мере на два года Он также предложил ввести принудительное сокращение инвестиций в сфере предпринимательства за рубежом и налог на путешествия, который представитель демократической партии, сенатор Альберт Гор назвал «недемократическим».
Во Франции, где по понятным причинам существует тенденция оценивать события с «франкоцентристской» точки зрения, многие ощутили направленность этих мер Джонсона против слишком высокомерного (по общему признанию) де Гол-ля. Парижская ежедневная газета «Монд» писала: «Джонсон хотел дать американцам повод «обратить свое негодование на Францию».
Учитывая, что затраты на войну постоянно росли, а сама она становилась все менее популярной, в 1968 году деятели американского правительства испытывали насущную необходимость как-то приукрасить происходящее. Р.У. Эппл писал в «Нью-Йорк тайме»: «Как-то я был на брифинге, — сказал некий представитель среднего класса, — и тот, кто собрал нас, вышел вперед и заявил: “Вот-вот начнется год проведения избирательной кампании. Перед людьми, на которых мы работаем, стоит задача: переизбрание президента Джонсона в ноябре”».
Основным мотивом новой пропагандистской кампании стало стремление представить Южный Вьетнам как нечто такое, за что стоит сражаться. Получив инструкцию от членов правительства убедить общественность, что у Юга имеются серьезные военные силы, пропагандисты пытались представить действия американской армии как достойные одобрения. Другим важным моментом была своеобразная «подчистка» коррупции в южновьетнамском правительстве и стремление представить его главу Нгуен Ван Тхиеу — вопреки всякой очевидности — как вдохновенного лидера, успешно побуждающего своих людей идти на жертвы во имя победы. Уже и без того «подпорченные» отношения между прессой и американским правительством должны были, по всей видимости, ухудшиться в 1968 году.
В газете — печатном органе официального Ханоя, — в колонке редактора, содержащей новогоднее обращение, Нхан Дан утверждал: «Наши пути сообщения остаются открытыми, как всегда» (заметим, что они подвергались бомбардировкам), — и «политическое и моральное единство нашего народа укрепилось».
В свою очередь, Хо Ши Мин в новогоднем обращении заявил, что Северный и Южный Вьетнам «едины, как один человек». Семидесятивосьмилетний президент предсказывал (и слова его сбылись по крайней мере наполовину): «В этом году американские агрессоры окажутся менее, чем когда-либо, способны взять инициативу в свои руки, и беспорядок в их войсках будет силен, как никогда. Вместе с тем наши военные силы, осуществив рывок и в результате мощного натиска добившись нового успеха, несомненно, одержат многие, еще более славные победы».
Он также высказал добрые пожелания в адрес всех дружественных наций и в том числе — «прогрессивно мыслящих людей в Соединенных Штатах, которые горячо поддерживают справедливую борьбу нашего народа».
Очевидно, что ряды таких — воспользуемся термином Хо — «прогрессивных людей» ширились. Опросы общественного мнения показывали не только уменьшение числа сторонников войны, но и рост количества тех, кто желал выступить против нее. В 1965 году, когда движение «Студенты за демократическое общество» (Эс-ди-эс) призывало к проведению антивоенной демонстрации в Вашингтоне, многие — в том числе и представители старого пацифистского движения — сожалели, что организации не удалось выступить с критикой в адрес коммунистов. Было также немало расхождений относительно тактики и языка. Но в течение 1967 года Эс-ди-эс и антивоенное движение избегали старых аргументов времен «холодной войны», и год оказался для них успешным. Национальный комитет по мобилизации за окончание войны во Вьетнаме — МОУБ (объединение пацифистов прежнего времени, «новых» и «старых» «левых», борцов за гражданские права и молодежи) провел мирную демонстрацию в Сан-Франциско, в которой участвовали десятки тысяч. В марте они вновь собрали несколько десятков тысяч человек, прошедших за Мартином Лютером Кингом-младшим в Нью-Йорке от Центрального парка до здания Организации Объединенных Наций.
Осенью в Окленде (Калифорния), в рамках проведения Недели протеста против призыва, десять тысяч человек — по большей части молодежь — приняли участие в антивоенной демонстрации, которая переросла в уличные бои с полицией. Антивоенное движение также отказалось от тактики ненасилия, которую проповедовал Кинг. Во время маршей протеста его участники не позволяли затащить себя в полицейские автомобили. Они атаковали ряды полицейских и отступали за импровизированные уличные баррикады. Студенты Вискон-синского университета применили старую тактику: несколько сот крепких молодых людей засели в здании университета, выражая несогласие с действиями вербовщиков «Доу кемикал». Полиция Медисона не увозила участников движения протеста, но использовала слезоточивый газ и дубинки. Этот факт так возмутил общественность, что вскоре полиции пришлось сражаться уже с несколькими тысячами человек.
«Доу», «корпорация зла», дурное порождение 60-х, производила напалм, использовавшийся против солдат, гражданского населения и объектов ландшафта во Вьетнаме. Его разработали для армии США во время Второй мировой войны ученые Гарварда — очевидный пример использования учебных заведений в целях совершенствования оружия. Название «напалм» вначале было дано наполнителю, который можно было смешивать с бензином и другими горючими материалами. Во Вьетнаме же напалмом называлась сама смесь. Благодаря наполнителю пламя превращалось в студенистую субстанцию, которой можно было стрелять под давлением на значительное расстояние. Пылая при высокой температуре, оно словно приклеивалось к цели, будь то человек или растение. Согласно сведениям Национальной студенческой ассоциации, из семидесяти одной демонстрации, проведенной в шестидесяти двух кампусах колледжей в октябре — ноябре 1967 года, в двадцати семи случаях участники выражали протест против деятельности «Доу кемикал» и лишь в одном — против низкого качества обучения.
В конце октября 1967 года МОУБ организовал антивоенную демонстрацию в Вашингтоне. Протестующие собрались у Мемориала Линкольна, а затем пересекли Потомак, чтобы идти к Пентагону. Активный участник антивоенного движения Джерри Рубин был там вместе с своим другом из Нью-Йорка Эбби Хоффманом, участником движения за гражданские права. Хоффману удалось привлечь внимание средств массовой информации к маршу в Вашингтоне, он пообещал, что будет левитировать над Пентагоном и, облетев его, изгонит оттуда злых духов. (Своего обещания он не выполнил.) Присутствовал там и Норман Мейлер; он описал увиденное в «Армиях ночи»; это произведение стало одной из самых популярных книг 1968 года. Поэт Роберт Лоуэлл, лингвист и философ Ноам Хомский и издатель Дуайт Макдональд также находились среди участников марша. То было нечто большее, нежели шествие испорченных привилегированных юнцов, уклоняющихся от призыва на военную службу (такая характеристика антивоенного движения была очень популярна), или же, как — с большей симпатией — написал Мейлер в своей книге, «возбужденной наркотиками революционно настроенной молодежи из американского среднего класса». Очевидно, движение приобретало глубокие основы и привлекало разнообразные элементы. «Присоединяйтесь к нам!» — кричали демонстранты солдатам, охранявшим осаждаемый ими Пентагон. Казалось, они были отравлены внезапно открывшейся возможностью приобретать все новых и новых сторонников.
В первую неделю 1968 года нескольким лицам, в том числе доктору Бенджамену Споку, писателю и педиатру, и преподобному Уильяму Слоану Коффину-младшему, капеллану Йельского университета, было предъявлено обвинение в составлении своего рода заговора, призванного подбивать молодых людей на нарушение закона о воинском призыве. Находясь в Нью-Йорке, доктор Спок заявлял, что «сто тысяч, двести тысяч или даже пять тысяч молодых американцев либо уклоняются от призыва, либо, находясь на военной службе, не выполняют приказов». Арест Спока привлек особое внимание, поскольку консерваторы уже давно проклинали так называемый «разрешающий подход к ребенку»: именно он, по их мнению, был определяющим для этого испорченного и конфликтного поколения. Однако после арестов в редакторской колонке «Нью-Йорк тайме» появились следующие слова: «Примечательно, что два наиболее известных лидера борьбы за уклонение от призыва — это педиатр и капеллан колледжа, люди, особенно чувствительные к нынешней моральной дилемме, стоящей перед молодой Америкой».
4 января Брюс Бреннан, тринадцатилетний житель Лонг-Айленда с волосами до плеч, был обвинен в прогулах. Его мать, владелица магазина «Клин машин» («Пылесос»), в котором работал Брюс и где продавались психоделическая и пацифистская атрибутика, и отец — президент консалтинговой фирмы в сфере менеджмента, заявили, что Брюс был выбран нарочно, из-за его участия в борьбе за мир. Мальчик заявил, что пропустил школу одиннадцать раз по причине болезни и только дважды — из-за демонстраций в защиту мира. Мать сообщила, что ее сын стал участником движения пацифистов, когда ему было двенадцать лет.
Несмотря на все проявления несогласия с политикой Линдона Джонсона, казалось, что по прошествии пятилетнего срока президентства он имеет серьезные шансы быть избранным вторично. Социологический опрос, проведенный 2 января, показал: менее половины населения (45%) полагают, что вовлечение в военный конфликт во Вьетнаме было ошибкой. В тот же самый день, за один час двенадцать минут до окончания прекращения огня в связи с празднованием Нового года, две с половиной тысячи солдат Вьетконга атаковали американскую базу огневой поддержки в пятидесяти милях к северу от Сайгона, находившуюся среди каучуковых плантаций, двадцать шесть человек было убито, сто одиннадцать — ранено. Им было суждено стать первыми американцами, погибшими во Вьетнаме в 1968 году. По сообщению правительства США, тогда было убито триста сорок четыре вьетконговца. В США было принято давать сведения о количестве трупов противника — пропагандистское новшество времен вьетнамской войны, получившее название «подсчет тел». Можно подумать, что, если бы счет был достаточно большим, Америка объявила бы себя победительницей.
Анализ общественного мнения, проведенный республиканцами во всех штатах в начале года, показал, что единственная фигура, на которую стоит возлагать надежды в предвыборной борьбе с Джонсоном, — губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер. Ричард Никсон, на которого рассчитывала партия, наверняка должен был проиграть. Губернатор штата Мичиган Джордж Ромни был поднят на смех, после того как объявил о своей поддержке войны во Вьетнаме из-за «промывания мозгов». Сенатор от штата Миннесота, демократ Юджин Маккарти, с ледяным остроумием прокомментировал: «Я бы скорее решил, что это произошло в результате небольшого полоскания». Губернатор Калифорнии Рональд Рейган надеялся заполнить вакуум, возникший из-за Ромни, однако ему мешало то, что он был избран на свой пост менее года назад. Кроме того, Рейган считался слишком реакционным политиком и мог проиграть — так же как и Ромни. Республиканцы хорошо знали, что такое поражение. Для них это была больная тема: во время последних выборов Джонсон нанес их кандидату Барри Голдуотеру, чересчур реакционному политику, самое сокрушительное поражение за всю историю Америки. А у такого либерала, как Рокфеллер, шансы были.
В 1967 году некоторые демократы говорили о необходимости замены Джонсона в 1968-м. Однако в Америке не так-то легко заместить человека, занявшего тот или иной пост, и движения под лозунгом «Долой Джонсона», такие как Эй-си7ти (Движение за альтернативную кандидатуру), по-видимому, не могли иметь серьезного успеха. Единственным демократом, на которого можно было хоть как-то рассчитывать, являлся Роберт, младший брат погибшего президента Кеннеди. Однако Роберт, самый молодой из сенаторов от штата Нью-Йорк, не желал вмешиваться в происходящее, 4 января он вновь подтвердил, что, вопреки расхождениям с президентом во мнениях по поводу Вьетнама, он все же планирует подать голос за его переизбрание. Спустя годы Юджин Маккарти предположил, что Кеннеди не считал себя способнымпобедить Джонсона. А тогда, в ноябре 1967-го, Маккарти решил, что альтернативной фигурой, которая стала бы своего рода символом для противников войны, будет он сам, и выставил свою кандидатуру на пресс-конференции в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия). По-видимому, никогда за всю историю президентства начало избирательной кампании не было столь обескураживающим. «Не знаю, станет ли это политическим самоубийством, — комментировал выступление сенатора на пресс-кон-ференции журналист Эндрю Копкинд. — Вероятно, это будет больше напоминать казнь».
Теперь, в первый день нового года, Маккарти заявил, что вовсе не был разочарован незначительным откликом на выдвижение его кандидатуры. Он настаивал, что не будет «демагогически рассуждать о войне» для приобретения сторонников. В своих вялых прозаических сочинениях он доказывал: «Вьетнамская война истощает наши материальные ресурсы и людские резервы, но я также думаю, что она является источником чрезвычайного волнения в умах многих американцев и, кроме того, болезненно ослабляет способность нашего общества решать собственные проблемы, а также некоторые потенциальные проблемы мирового масштаба».
В ноябре 1967 года Маккарти выразил надежду, что его выдвижение повлияет на диссидентов, заставив их обратиться к политике, а не к «нелегальному» протесту, к которому они пришли в результате собственной «несостоятельности и фрустрации». Однако спустя месяц лидеры Эс-ди-эс Том Хейден и Ренни Дейвис, а также другие лидеры антивоенного движения начали строить планы на 1968 год. Одной из главных предполагаемых акций была серия уличных демонстраций в Чикаго ближайшим летом в период проведения съезда демократической партии.
Движение «Йиппи!» — клич превратился в акроним лишь спустя год, благодаря изобретению названия «Молодежная международная партия» («Youth International Party») — было основано в новогодний вечер (правда, согласно официальной версии, которая не полностью подтверждается фактами). Произошло это на вечеринке в Гринвич-Вилледже и — по словам Эбби Хоффмана и Джерри Рубина — явилось результатом курения марихуаны. «Мы все катались там по полу точно камни», — рассказывал Хоффман впоследствии сотрудникам ФБР. Даже наименование «Йиппи!» — как и «хиппи», своего рода ярлык с одобрительным смыслом, знак принадлежности к контркультуре — несло на себе отпечаток напыщенности, подходящей лишь воинственно настроенным юнцам.
В первый день января Организация Объединенных Наций объявила 1968 год Международным годом борьбы за права человека. Генеральная Ассамблея открыла свою годичную программу призывом к миру во всем мире. Но даже папа римский
1 января в посвященном проблеме мира послании заметил, что существуют «новые пугающие препятствия прекращению войны во Вьетнаме».
Вьетнамская война представляла не единственную угрозу миру. В Западной Африке наиболее многообещающее из новых независимых африканских государств — богатая нефтью Нигерия в течение шести месяцев была охвачена гражданской войной между правящими этническими группами и представителями народности ибо — они составляли восемь из двенадцати миллионов населения в маленьком восточном районе под названием Биафра. Запасы нефти, сулившие Нигерии большие перспективы, находились именно там.
Париж выглядел, как никогда, великолепно благодаря министру культуры Андре Мальро, организовавшему мытье стен зданий. Мадлен, Триумфальная арка, Пантеон и другие важнейшие памятники архитектуры перестали быть серыми, покрытыми угольной пылью: они приобрели бежевый и желтоватый цвет. В тот месяц планировалось под струями холодной воды смыть семивековую грязь с собора Парижской Богоматери. Это был один из наиболее животрепещущих вопросов, обсуждавшихся во французской столице. Не повредят ли струи воды здание? Не будет ли оно выглядеть пестрым, напоминая странное лоскутное одеяло, если обнаружится, что не все камни изначально совпадали по цвету?
Де Голль, сидевший у себя во дворце перед наступлением полночи в канун нового, 1968 года, был настроен серьезно и в то же время оптимистично. «Среди множества стран, где царят замешательство и произвол, наше государство будет по-преж-нему являть собой образец порядка. Главная цель международной политики Франции — это мир, — сказал генерал. — Врагов у нас нет».
Возможно, изменение тона генерала было связано с его желанием получить Нобелевскую премию мира. «Пари-матч» задала Помпиду вопрос: согласен ли он с неким источником из ближайшего окружения генерала, возмущенным тем, что де Голль до сих пор не получил эту премию? Но Помпиду ответил: «Вы и вправду думаете, что Нобелевская премия может иметь для генерала какое-то значение? Единственное, что заботит его, — это история, а на решение суда истории никакое жюри повлиять не может».
Среди немногих оптимистичных заявлений 1968 года, помимо заявления де Голля, был также прогноз американской компьютерной промышленности, предсказывавшей своего рода рекорд. В 50-х производители компьютеров полагали, что для удовлетворения потребности Соединенных Штатов в компьютерах достаточно шести машин. К январю 1968 года в стране функционировало пятьдесят тысяч компьютеров, причем пятнадцать тысяч из них было установлено в истекшем году.
Фабриканты табачных изделий также надеялись, что рост продаж на 2%, имевший место в прошлом году, будет наблюдаться и в нынешнем. Управляющий одной из крупнейших табачных компаний хвастался: «Чем больше на нас будут нападать, тем более возрастет уровень продаж».
Однако во многих отношениях 1967 год был неблагополучным для Америки. Рекордное число волнений, сопровождавшихся разрушениями и проявлениями жестокости, разразилось среди чернокожего населения американских городов, в том числе Бостона, Канзас-Сити, Ньюарка и Детройта.
Именно в 1968 году вместо слова «негры» в обиход вошло наименование «черные». В 1965 году Стоукли Кармайкл, организатор «Студенческого комитета борьбы за ненасильственные действия» («Student Nonviolent Coordinating Committee»), или Эс-эн-си-си, известного своей энергичной и эффективной борьбой за гражданские права, изобрел наименование «Черные пантеры». Затем к нему было добавлено выражение «Власть черных». В то время слово «черный» в значении «темнокожий» употреблялось достаточно редко, в качестве поэтического оборота, однако в 1968 году это слово вошло в обиход для обозначения борцов за права темнокожего населения, а к концу года стало наиболее предпочтительным для обозначения всех людей с этим цветом кожи. В свою очередь, слово «негр» стало уничижительной кличкой для тех, кто не боролся за свои права.
На второй день нового, 1968 года Роберт Кларк, тридцатисемилетний школьный учитель, занял место в палате представителей штата Миссисипи, причем против его кандидатуры не было подано ни одного голоса. Он стал первым чернокожим, занявшим это место в Миссисипи, за весь период с 1894 года.
Однако надо заметить, что в сфере борьбы за социальные права главные события переместились с Юга, где ее участники высказывались достаточно мягко, на Север, где вопрос предпочитали ставить ребром. Чернокожие Севера отличались от чернокожих Юга. В то время как большая часть южан — последователей Мартина Лютера Кинга-младшего изучали труды Махатмы Ганди и ненасильственные методы, использованные им в антибританской кампании, Стоукли Кармайкл, вырос-жима была закрыта полицией Школа технических наук. В ответ сотни студентов-медиков вышли на демонстрацию, яростно бросая камни в полицейских. К середине января правительство закрыло факультеты философии и словесности, экономики и политических наук из-за антифранкистских демонстраций. Завоевав в 1967 году право на создание собственных организаций, на следующий год студенты потребовали от правительства освободить их лидеров, арестованных после демонстраций 1967 года, и запретить полиции осквернять своим вторжением территорию университетских кампусов — освященный историей принцип, признаваемый в большинстве стран Европы. Однако студенты также начали более активно вовлекаться в политические движения за пределами кампусов, особенно в деятельность профсоюзов и борьбу за права рабочих.
Накануне Нового года Абба Эбан, министр иностранных дел Израиля, призвал арабов Ближнего Востока «выразить свою волю» и побудить своих лидеров к проведению мирных переговоров с Израилем. В июне 1967 года Израиль вновь вступил в войну со своими соседями — арабами. Де Голль был в ярости, поскольку, на правах близкого союзника Израиля и поставщика оружия для этой страны, он требовал, чтобы Израиль не начинал вооруженного конфликта. Однако Государство Израиль с момента своего возникновения уже претерпело несколько нападений по различным поводам со стороны арабов; теперь же, когда египтяне блокировали Акабский залив, израильтяне убедились, что следующее организованное нападение арабов вот-вот начнется. По этой причине они атаковали первыми. Де Голль переориентировал политику Франции: из произраиль-ской она стала проарабской. Давая разъяснения по поводу этой новой политики на ноябрьской пресс-конференции, де Голль охарактеризовал иудеев как «элитарный народ, самоуверенный и высокомерный». В 1968-м де Голль все еще пытался пояснить свое утверждение и убедить различных израильских лидеров, что это вовсе не был антисемитский выпад, а комплимент; возможно, он и вправду так думал, поскольку все эти эпитеты очень точно характеризовали его самого.
СССР, бывший союзником Израиля вплоть до 1956 года, также оказался обескураженным. Он поставлял вооружение арабам, оказывал поддержку их военным планам. Советские лидеры были поражены, увидев, что Израиль одержал победу над Египтом (союзником СССР), Сирией и Иорданом всего за шесть дней.
Однако израильтяне попытались действовать иначе. В ходе конфликта они отвоевали земли: зеленые Голанские высоты — у Сирии, каменистый Синай — у Египта, и западный берег реки Иордан, в том числе и арабский сектор Иерусалима, — у Иордании. Затем они попытались вступить с арабами в переговоры, заявив о готовности вернуть захваченные земли в обмен на мир. Но, к их полному разочарованию, арабы не проявили к предложению ни малейшего интереса. Поэтому Абба Эбан в канун Нового года произнес по радио речь на арабском языке, где утверждал: «Политика, проводимая вашими лидерами в течение последних двадцати лет, показала свою полную несостоятельность. Она привела к долговременной катастрофе среди всего населения региона». 1968 год, настаивал он, должен стать временем перемен в арабской политике.
В это время израильское правительство присвоило территорию в восемьсот тридцать восемь акров, ранее относившуюся к иорданскому сектору Иерусалима, дабы основать иудейское поселение в Старом городе. Планировалось строительство четырнадцати тысяч домов; четыреста из них предназначались для арабов, выселенных из Старого города.
Подобно словам «черный» и «Йиппи!» слово «палестинцы» впервые вошло в обиход в 1968 году. Прежде эти люди были лишены особой, своей собственной культурной идентичности, которая мыслилась бы как определенная национальность. Обычно об арабах, живущих в Израиле, так и говорили: «арабы в Израиле». С арабами, живущими на западном берегу реки Иордан, было несколько сложнее: эта область являлась частью Государства Иордан, поэтому, хотя культура местных жителей была идентична той, что существовала на противоположном берегу Иордана, они считались иорданцами. Когда американские газеты вели репортажи с западного берега, место событий обозначалось как «территория Иордана, оккупированная Израилем».
В начале 1968 года слово «палестинский» использовалось по большей части применительно к отрадам арабов, участвовавшим в партизанской войне (в западной прессе их также часто именовали террористическими организациями). Эти группы использовали слово «палестинский» как своего рода ярлык, например, в названиях «Палестинский народный фронт», «Палестинская революция», «Палестинское революционное молодежное движение», «Авангард освобождения Палестины»,- «Палестинский революционный фронт» и «Народный фронт освобождения Палестины». Перед войной 1967 года действовало минимум двадцать шесть таких групп. В контркультуре левого толка эти группы именовались националистическими и пользовались поддержкой, хотя финансовая помощь, оказываемая им представителями «мейнстрима» в западных странах, была незначительной. То, что Эс-эн-си-си поддерживал такие группы, способствовало дальнейшей изоляции некогда ведущей организации в борьбе за гражданские права.
Через неделю после начала 1968 года Ахмед аль-Шукери был объявлен лидером одной из господствующих арабских группировок — Организации Освобождения Палестины, ООП, основанной в 1964 году. Одной из главных причин его популярности была угроза (которую он так и не привел в исполнение) «сбросить евреев в море». Обвиняя «палестинцев» в крушении их планов, обмане, а иногда и неприкрытой лжи, организация — конкурент «Аль-Фатах» отказалась признавать лидерство ООП, если им будет руководить аль-Шукери. Лидером «Аль-Фатах» (что в переводе означает «Завоевание») был Абу Амар, ставший д ля арабов легендарным героем партизанской войны после опустошительного рейда в 1964 году, положившего начало движению «Аль-Фатах». Тогда его участники пытались взорвать насос, но им не удалось сделать так, чтобы взрывчатка сдетонировала. Все они были арестованы по возвращении в Ливан. Имя Абу Амар было своего рода военным псевдонимом, под которым действовал тридцативосьмилетний палестинец Ясир Арафат.
В начале 1968 года восемь из этих организаций объявили о своем подчинении единому командованию для осуществления операций в ходе партизанской войны против Израиля. Они также сообщили, что рейды участятся, однако не будут направлены против мирного населения Израиля. Представитель этого объединения, палестинский кардиохирург Исам Сартави, заявил, что его целью является «ликвидация сионистского государства» и что оно отвергнет любые предложения мирного урегулирования на Ближнем Востоке. «Мы верим только в наше оружие, и силой нашего оружия мы собираемся основать независимую Палестину».
О дурных новостях свидетельствовала и обложка январского выпуска «Буллетин оф атомик сайентистс» («Бюллетеня уче-ных-атомщиков»). Стрелки часов, изображенных на обложке, показывали без семи минут двенадцать. Часы, послужившие символическим обозначением близости мира к ядерной катастрофе, показывали без двадцати двенадцать начиная с 1963 года. Редактор «Бюллетеня» доктор Юджин Рабинович объяснил, что стрелки часов были переведены для наглядной демонстрации возросшего насилия и национализма в мире.
С другой стороны, в первый день года Элиот Фремонт-Смит начал рецензию на посмертно опубликованное сочинение Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» следующими словами: «Судя по началу, 1968 год будет блистательным с точки зрения литературы».
После интенсивных дебатов, имевших место в 1967 году, 1 января 1968 года британцы сообщили, что звание поэта-лауре-ата переходит от Джона Мэйсфилда к Сесилу Дэй-Льюису, автору мистерий, профессору поэзии в Оксфорде. Поэт-лауреат — официальное лицо при королевском дворе, несколько более высокого ранга, нежели попечитель, но ниже, чем заместитель по вопросам мер и весов. Когда Мэйсфилд скончался (он пробыл поэтом-лауреатом тридцать семь лет), многие говорили, что теперь, в конце 60-х, сама идея должности при-, дворного поэта устарела.
В первую неделю 1968 года вновь зазвучал голос Боба Дилана, исчезнувшего на полтора года после перелома шеи (он потерпел аварию на мотоцикле). Его новый альбом «Джон Уэст-ли Хардинг» встретил теплый прием как у поклонников, так и у критиков. Перед этим он совершил, так сказать, «грабительский набег» на фолк-рок (это выражение использовалось, когда в его композициях зазвучала электрическая гитара). Но теперь, в 1968 году, Дилан по-настоящему вернулся к фольклорным истокам, исполняя песни в сопровождении акустической гитары и губной гармоники, в то время как на заднем плане звучали фортепиано, бас-гитара и ударные. Журнал «Тайм» писал: «Его новые песни просты, они спеты тихим голосом; они напоминают нам о бродягах и «хобо»; в них акцентируется внимание на моральных проблемах, часто с религиозными обертонами (например «I Dreamed I Saw St. Augustine» — «Мне снилось, я видел Блаженного Августина» и притчу «Judas Priest» — «Иуда во священниках»). Наиболее сильное впечатление производит последняя композиция — свинг под названием «I’ll Be Your Baby Tonight». Однако не кто иной, как Дэн Салливан, писавший для «Нью-Йорк тайме», указал, что в фамилии техасского бродяги Джона Уэстли Хардинга отсутствует буква g, и предположил, что Дилан, не произносящий g в конце множества слов, «по-видимому, вдруг почувствовал, что должен вернуть хотя бы одну букву».
Футбол в Америке стал столь популярен, что грозил вытеснить с первого места бейсбол. 1 января 1968 года более ста тысяч человек — это было самое большое скопление народа в «Роуз-Боул» — наблюдали за уникальным игроком Оренталем Джеймсом Симпсоном (Калифорнийский университет), который прибавил к общему счету два гола, забив их с расстояния ста двадцати восьми ярдов, и нанес поражение Индиане со счетом 14:3.
«Величайшим событием, ожидаемым в 1968 году, — писал Бернардин Моррис в «Нью-Йорк тайме», — будет увеличение длины подолов, уже несколько лет не закрывавших колен, на фут или около того — до уровня икр». В январе пошел слух о том, что Федеральное управление по жилищным вопросам дало предпринимателям устную директиву; в ней якобы говорилось, что ношение мини-юбок в холодную погоду будет приводить к накоплению молекул жира в ногах. Впрочем, слух оказался мистификацией.
Вместе с тем британское правительство упустило налог на прибыль за мини-юбки. Налог с продаж (12,5%), которым облагалась продажа юбок, распространялся только на изделия длиной более двадцати четырех дюймов. Это делалось, чтобы освободить от налога детскую одежду. Однако длина модных женских юбок в Англии зимой 1968 года колебалась между тринадцатью и двадцатью дюймами.
Правда, следует заметить, что концепция моды 1968 года заключалась в отказе от каких бы то ни было ограничений или табу. Следование догмам вышло из моды, и писатели пророчили дальнейший рост стремления к максимальному разнообразию в том, что люди могут на себя надеть.
1968 год имел для женщин большое значение не только из-за длины юбок. Сыграли свою роль и события вроде того, о котором 1 января объявила Мюриель Зиберт: она стала первой женщиной, которая приобрела место на Нью-Йоркской фондовой бирже за всю ее стасемидесятипятилетнюю историю. Зиберт, тридцативосьмилетняя блондинка из Кливленда (друзья звали ее Микки), решила проигнорировать многочисленные советы деятелей финансового мира, что разумнее будет дать возможность приобрести место на бирже мужчине. «Совет управляющих утвердил меня. Я отправилась на биржу и выписала чек, покрывающий баланс обладателя места на бирже (четыреста сорок пять тысяч долларов) плюс семь тысяч долларов в уплату вступительного взноса. Выйдя оттуда, я купила три бутылки французского шампанского для сотрудников моего офиса. Я просто не могла поверить, что это случилось со мной. Я была на седьмом небе от счастья».
Казалось, в 1968 году в немногих сферах человеческой жизни дело обойдется без конфликтов. Новость о том, что Кристиан Бернард из «Грут шур хоспитал» в Кейптауне (Южная Африка) осуществил успешную пересадку сердца умершего тридцативосьмилетнего пациента пятидесятивосьмилетнему дантисту Филипу Блейбергу, должна была быть оценена как хорошая. Это была третья пересадка сердца (Бернард делал такую операцию второй раз), однако с точки зрения медицинской науки она осуществилась успешно впервые. Бернард начал год (и провел большую его часть) в роли международной знаменитости, раздавая автографы, давая интервью, улыбаясь и высказывая суждения, расходящиеся в цитатах, к которым уже с начала января с неодобрением отнеслись представители его профессии. Бернард подчеркивал, что, несмотря на внезапную славу, он по-прежне-му получает всего восемь с половиной тысяч долларов жалованья в год. Однако его подвиг вызвал и сомнения. Немецкий врач назвал его преступлением. Биолог из Нью-Йорка, очевидно, путая докторов с юристами, заявил, что Бернард должен быть «лишен права на жизнь». Три известных американских кардиолога объявили мораторий на пересадку сердца; Бернард немедленно ответил, что не станет следовать этому запрету.
С теоретической точки зрения в операции задействованы два обреченных пациента. Один отдает свое сердце и умирает, однако он умер бы в любом случае; другого спасают. Однако некоторые — и доктора, и непосвященные — задались вопросом: вправе ли врачи решать, кто получит новое сердце? И что же, доктора теперь принимают решения вместо Господа Бога? Сам Бернард не помог разрешить это противоречие, заявив в интервью «Пари-матч»: «Очевидно, если мне пришлось бы выбирать между двумя пациентами, оказавшимися в одинаковом положении, и один из них был бы врожденным идиотом, а другой — математическим гением, я бы выбрал второго». Масла в огонь подлило и то, что Бернард был из Южной Африки — территории, где господствовал режим апартеида, заслуживавший все больше упреков, а также то, что он спас белого человека, пересадив ему сердце чернокожего пациента. Подобная ирония не могла пройти незамеченной в тот год.
С тех пор как Фидель Кастро одержал победу, совпавшую с наступлением нового, 1959 года, начало каждого года знаменовалось в Гаване 2 января празднествами на площади Революции (Plaza de la Revoluci6n). В 1968 году, в девятую годовщину революции, на ней появилось нечто новое — достигавшая шестидесяти футов в высоту фреска с изображением красивого молодого человека в берете. То был тридцативосьмилетний аргентинец Эрнесто Че Гевара, убитый двумя месяцами ранее1 при попытке поднять в Боливии революцию, подобную кубинской.
Эта попытка была описана в книге «Революция в революции» Режи Дебре, молодого француза, влюбленного в кубинскую революцию. Книга апеллировала к чувству нетерпения, свойственному молодежи; переведенная на английский язык в 1967 году, она стала бестселлером среди студентов всего мира. Дебре отбросил старые марксистско-ленинские теории о постепенно вызревающей революции. Он считал, что революция начнется по инициативе армии, состоящей из крестьян. Это было стратегией Кастро в горах его родной провинции Ориен-те. И это же собирался сделать в Боливии Че. Однако Че постигла неудача, и в ноябре получила распространение фотография, сделанная неким полковником боливийских ВВС, на которой запечатлен полуобнаженный труп Че. Дебре также был схвачен солдатами боливийской армии, но боливийцы предпочли не убивать его, а заключить в тюрьму в маленьком городке Камири. В начале 1968 года он все еще был там, хотя боливийцы позволили его возлюбленной, жительнице Венесуэлы Элизабет Бургос, явиться к нему в тюрьму, так что эта пара смогла вступить в брак2.
Так в 1968 году близкий друг и соратник Фиделя Кастро по революционным делам стал мучеником, канонизированным святым революции — навсегда молодым, говоря словами Боба Дилана, с бородой и в берете, с улыбающимися глазами, истинным революционером по делам и облику. В международном аэропорту Гаваны красовался плакат с надписью «Молодежь будет петь погребальные песни стуку пулеметов и грохоту войны, и так до победного конца».
Эту фразу, «и так до победного конца», можно было увидеть по всей Кубе. Шестьдесят тысяч студентов в своей серой униформе маршировали перед трибуной, на которой стоял Кастро, и каждая группа, проходя мимо, громко и с энтузиазмом скандировала: «Наш долг — делать людей такими, как Че». «Сото Che» — быть, как Че, иметь больше таких людей, как Че, поступать, как Че — эта фраза звучала на острове повсюду. Так начал свою жизнь культ Че.
Кастро объявил: во время празднеств в этом году не будет проводиться демонстрация советского вооружения, — пояснив, что считает такой парад слишком дорогостоящим делом (отчасти потому, что танки портят мостовую на улицах Гаваны).
Это были новые тревожные сигналы для Москвы. Год 1968-й начался в СССР с экономических сбоев и непопулярного процесса над четырьмя представителями интеллигенции3. (Их обвинили в распространении антисоветской пропаганды после того, как они провели кампанию в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля — писателей, попавших в тюрьму два года назад за публикацию своих сочинений на Западе.) Шестидневная война на Ближнем Востоке явилась унизительной неудачей внешней политики Л.И. Брежнева, руководителя Коммунистической партии Советского Союза, в то время, когда колхозная система терпела провалы, попытки экономических реформ закончились неудачей, в среде молодежи и интеллигенции росла неудовлетворенность, а националистические движения, например татарское, стали причинять беспокойство. Народы стран советского блока, особенно молодежь, все активнее отвергали постулаты и язык «холодной войны». Югославский лидер Иосип Броз Тито долго досаждал Москве, являя пример независимости, а теперь еще и новый румынский руководитель Николае Чаушеску начал действовать в том же духе. Даже в Чехословакии, во главе которой стоял вполне лояльный и сговорчивый Антонин Новотный, население казалось неспокойным. В апреле 1967 года газета «Братислава правда», печатный орган Коммунистической партии Словакии, провела опрос общественного мнения в Чехословакии и обнаружила общий отход от генеральной линии партии. Только половина считала западных империалистов ответственными за международную напряженность, а 28% опрошенных возлагали вину за нее на обе стороны. Вероятно, еще более шокирующим было то, что только 41,5% порицали США за войну во Вьетнаме — соотношение, с которым не согласились бы даже жители стран — главных союзников Америки. Наконец, чешские писатели открыто требовали большей свободы самовыражения, а студенты Карлова университета в Праге устраивали демонстрации на улицах.
Серия заседаний Центрального Комитета КПЧ была весьма неприятной для Новотного. Его рабская преданность Москве была вознаграждена назначением его в 1953 году на пост Первого секретаря ЦК КПЧ. В 1958 году он стал президентом Чехословакии. Теперь все большее число членов Центрального Комитета КПЧ, отчасти в ответ на острую неприязнь Новотного по отношению к четырем с половиной миллионам словаков, которые составляли треть населения страны, считало, что ему следует хоть.в чем-то пойти на уступки. Президенту удалось спасти свое положение на декабрьской встрече с десятью членами Президиума ЦК КПЧ только благодаря тому, что он закрыл заседание, «поскольку было Рождество». Комитет согласился провести новую встречу в первую неделю января.
В это время Новотный начал строить планы. Он попытался устрашить своих противников, распространяя слухи о том, что Советский Союз подумывает о принятии мер для сохранения его позиций. Однако это привело к обратным последствиям, лишь побудив главных участников событий к дальнейшим действиям. Новотный также подумывал о военной интервенции, которая укрепила бы его положение, и об аресте своего соперника, словака Дубчека, коего презирал. Однако один из генералов предупредил Дубчека, и Новотный вновь потерпел неудачу.
Итак, президент Новотный начал новый год с выступления по телевидению, намереваясь добиться примирения. Он пообещал, что Словакия, стоявшая на одном из последних мест в приоритетах Праги, займет теперь лидирующее положение в экономическом планировании. Новотный также попытался умиротворить писателей и студентов, пообещав, что все прогрессивное, даже если оно исходит от Запада, будет разрешено. «Речь идет не только об экономике, технике и науке, — добавил он, — но также и о прогрессивной культуре и искусстве».
Центральный Комитет КПЧ собрался вновь 3 января и отстранил Новотного от должности Первого секретаря ЦК партии, заменив его Дубчеком. Для того чтобы отстранить его также и с поста президента, недостало единогласия, но в любом случае Новотный потерпел тяжелое и унизительное поражение. Народу Чехословакии не сообщали о перемене, происшедшей в его жизни, вплоть до пятницы 5 января 1968 года, когда пражское радио объявило о «добровольной» отставке Новотного с поста Первого секретаря и избрании на его место Дубчека. Чехи не представляли, насколько неприятна была для Новотного сложившаяся ситуация, и большинство из них не знали, кто такой этот Александр Дубчек. В закрытых обществах деятельность наиболее удачливых политиков недоступна взорам большинства.
Но пока все это происходило, известный своей железной хваткой советский лидер до смешного мало реагировал на события. Брежнев нанес визит в Прагу в декабре 1967 года, причем, как многократно указывалось, он предпринял эту поездку для укрепления положения подвергавшегося нападкам чешского руководителя. В действительности же, однако, Брежнев никогда не любил последнего, несмотря на лояльность, которую тот демонстрировал. И когда Новотный был снят со своего поста, Брежнев заявил ему: «Это ваше дело».
В Вашингтоне министр обороны Роберт С. Макнамара готовил свой ежегодный доклад конгрессу, в котором писал: «Простая биполярная конфигурация, которую мы знаем с первых лет, последовавших за Второй мировой войной, в шестидесятых годах начала распадаться. Теперь нельзя более с легкостью относить кого-либо к числу верных друзей или непримиримых врагов, и ярлыки, которые использовались в прошлом, вроде «свободного мира» или «железного занавеса», представляются все более неадекватными, когда речь заходит о борьбе интересов в рамках блоков и между ними, а также о взаимовыгодных связях, которые постепенно развиваются, игнорируя барьеры, ранее казавшиеся непреодолимыми».
В пятницу, в конце первой недели 1968 года, появилась еженедельная сводка; согласно ей число убитых во время боевых действий во Вьетнаме составило: 185 американцев, 227 южновьетнамцев, 37 других союзных военнослужащих. Америка и ее союзники сообщали о гибели 1438 вражеских солдат.
Такова была первая неделя. Так начался 1968 год.
Все большее число чернокожих лидеров хотело бороться с сегрегацией с помощью сегрегации же, навязывая социальное устройство по принципу «только для черных». Лестные слова расточались даже в адрес тех, кто изгонял белых репортеров с пресс-конференций. В 1966 году Кармайкл стал главой Эс-эн-си-си, сменив на этом посту Джона Льюиса — южанина, защитника ненасилия, не любившего резких выражений. Кармайкл превратил Эс-эн-си-си в агрессивную организацию, боровшуюся за «Власть черных», и именно в это время движение «Власть черных» приобрело национальные масштабы. В мае 1967 г. Рэп — Губерт Браун (не особенно заметная фигура среди участников борьбы за гражданские права) — сменил Кармайкла на посту главы Эс-эн-си-си; к тому моменту движение оставалось ненасильственным лишь по названию. В 1967 году бушевали кровавые волнения, и Браун заявил на пресс-конфе-ренции: «Вот что я скажу: лучше раздобудьте себе пистолет. Насилие необходимо: это такой же факт американской жизни, как пирожки с вишней».
Кинг утратил контроль над широко развернувшимся движением за гражданские права, многие участники которого полагали, что принцип ненасилия изжил себя и стал бесполезен. Казалось, что 1968 год будет годом «Власти черных», и полиция приводила свои силы в боевую готовность. К началу 1968-го большая часть американских городов готовилась к войне — строились арсеналы; в «черные» районы отправлялись тайные агенты — совсем как шпионы на вражескую территорию. В Лос-Анджелесе, где во время беспорядков в августе 1965-го в районе Уоттс было убито тридцать четыре человека, обсуждался вопрос приобретения бронированных машин с пулеметами 30-го калибра, дымовых шашек, слезоточивого газа, установок для тушения огня и, наконец, сирен. «Когда я увидел этот проект, то подумал: «О Господи, надеюсь, нам никогда не придется пустить это в дело!» — рассказывал заместитель начальника лос-анджелесской полиции Дэрил Гейтс, — но затем понял, насколько полезным это оказалось бы в Уоттсе, где у нас не было никаких средств защиты от огня снайперов, когда мы пытались спасти наших раненых офицеров». Подобные суждения стали весьма уместны с политической точки зрения, с тех пор как губернатор Калифорнии Пэт Браун потерпел на выборах поражение от Рональда Рейгана — по большей части из-за беспорядков в Уоттсе. Проблема была в том, что бронированные машины стоили тридцать пять тысяч долларов каждая. Управление шерифа Лос-Анджелеса предложило решение, требовавшее меньших затрат: нашлись лишние военные бронемашины М-8 стоимостью всего по две с половиной тысячи долларов.
В Детройте, где в 1967 году во время беспорядков на национальной почве погибло тридцать четыре человека, у полиции уже было пять бронированных машин, однако она создавала запасы слезоточивого газа и противогазов; требовались также антиснайперские винтовки, карабины, дробовики и более ста пятидесяти тысяч боекомплектов патронов. В одном из предместий Детройта был приобретен армейский гусеничный вездеход — почти танк. В Чикаго для полиции покупались вертолеты; одиннадцать с половиной тысяч полицейских начали обучаться владению тяжелым вооружением и средствами контроля над толпой в преддверии 1968 года. К началу года Соединенные Штаты, казалось, были охвачены страхом.
4 января тридцатичетырехлетний драматург Леруа Джонс, открыто выступавший в поддержку «Власти черных», был приговорен к двум с половиной годам заключения в тюрьме штата Нью-Джерси и штрафу в тысячу долларов за незаконное хранение двух револьверов во время беспорядков в Ньюарке прошедшим летом. Объясняя, почему вынесенный приговор оказался столь строгим, судья округа Эссекс Леон У. Капп заявил
о своих подозрениях в адрес Джонса — он-де «участвовал в создании плана» поджечь Ньюарк в ту ночь, когда был арестован. Через несколько десятилетий Джонс, известный как Амири Барака, стал поэтом — лауреатом Нью-Джерси.
Хотя военные представители США во Вьетнаме постоянно говорили корреспондентам, что война вот-вот закончится, в действительности она была далека от завершения.
В 1954 году, когда французы покинули Вьетнам, страна разделилась на Северный Вьетнам, где правил Хо Ши Мин (он в основном контролировал этот регион), и Южный Вьетнам, оставшийся в руках антикоммунистических группировок. К 1961 году коммунисты Севера установили контроль над половиной территории Южного Вьетнама с помощью Вьетконга, почти не встречавшего сопротивления у населения этой части страну. В тот год Север начал посылать войска регулярной армии по пути, который стал известен под названием «Тропы Хо Ши Мина», чтобы закрепить позиции в этом регионе. В ответ Соединенные Штаты усилили свое влияние, хотя они всегда участвовали в происходящем — в 1954 году их доля в финансировании военной кампании Франции составляла четыре пятых. В 1964 году, ввиду неуклонного усиления позиций Северного Вьетнама, президент Джонсон использовал якобы имевший место инцидент в Тонкинском заливе для того, чтобы начать военные действия. С этого момента американцы год от года наращивали здесь свое военное присутствие.
В 1967 году во Вьетнаме было убито девять тысяч триста пятьдесят три американца. Это вдвое превысило прежнее число погибших, которое теперь составляло пятнадцать тысяч девятьсот девяносто семь человек (ранено было девяносто девять тысяч семьсот двадцать четыре). Газеты каждую неделю печатали отчеты о потерях. Война также наносила тяжелый урон экономике: она обходилась в два-три миллиарда долларов в месяц. Летом президент Джонсон внес запрос о значительном повышении налогов для погашения растущего долга. «Великое общество» — социальная программа, предполагавшая большие расходы на социальные нужды, которую Джонсон начал проводить в память своего погибшего предшественника (Кеннеди), — провалилась из-за недостатка фондов. В начале 1968 года вышла книга «Читатель «Великого общества»: падение американского либерализма». В ней говорилось, что и программа «Великое общество», и сам либерализм близки к гибели.
Мэр Нью-Йорка Джон Линдсей, либеральный республиканец, метивший в президенты, в последний день уходящего
1967 года заявил: если государство не сможет ассигновать большую сумму денег на насущные нужды городов, тогда «цели и задачи Соединенных Штатов во Вьетнаме и в других регионах должны быть пересмотрены».
Правительство США в то время было вовлечено в состязание с Советским Союзом за то, кто первым достигнет Луны, что требовало значительных усилий. Тем не менее оно вынуждено было урезать бюджет космических исследований. Даже министерство обороны настаивало на своих приоритетах: в начале года оно запросило конгресс о разрешении позже выполнить или вовсе отменить заказы стоимостью в миллионы долларов на вооружение и военное оборудование, дабы изыскать большие средства для ведения войны во Вьетнаме.
В первый день года президент Джонсон обратился к американской общественности с просьбой сократить поездки за рубеж, рассчитывая за счет этого уменьшить растущий дефицит в части иностранных выплат. Их он предал анафеме, в том числе и по той причине, что все больше американцев отправляется «за моря». Государственный секретарь Дин Раск сказал по этому поводу, что туристы должны «разделить общее бремя». Джонсон просил американцев отложить путешествия, не имеющие первостепенной важности, по крайней мере на два года Он также предложил ввести принудительное сокращение инвестиций в сфере предпринимательства за рубежом и налог на путешествия, который представитель демократической партии, сенатор Альберт Гор назвал «недемократическим».
Во Франции, где по понятным причинам существует тенденция оценивать события с «франкоцентристской» точки зрения, многие ощутили направленность этих мер Джонсона против слишком высокомерного (по общему признанию) де Гол-ля. Парижская ежедневная газета «Монд» писала: «Джонсон хотел дать американцам повод «обратить свое негодование на Францию».
Учитывая, что затраты на войну постоянно росли, а сама она становилась все менее популярной, в 1968 году деятели американского правительства испытывали насущную необходимость как-то приукрасить происходящее. Р.У. Эппл писал в «Нью-Йорк тайме»: «Как-то я был на брифинге, — сказал некий представитель среднего класса, — и тот, кто собрал нас, вышел вперед и заявил: “Вот-вот начнется год проведения избирательной кампании. Перед людьми, на которых мы работаем, стоит задача: переизбрание президента Джонсона в ноябре”».
Основным мотивом новой пропагандистской кампании стало стремление представить Южный Вьетнам как нечто такое, за что стоит сражаться. Получив инструкцию от членов правительства убедить общественность, что у Юга имеются серьезные военные силы, пропагандисты пытались представить действия американской армии как достойные одобрения. Другим важным моментом была своеобразная «подчистка» коррупции в южновьетнамском правительстве и стремление представить его главу Нгуен Ван Тхиеу — вопреки всякой очевидности — как вдохновенного лидера, успешно побуждающего своих людей идти на жертвы во имя победы. Уже и без того «подпорченные» отношения между прессой и американским правительством должны были, по всей видимости, ухудшиться в 1968 году.
В газете — печатном органе официального Ханоя, — в колонке редактора, содержащей новогоднее обращение, Нхан Дан утверждал: «Наши пути сообщения остаются открытыми, как всегда» (заметим, что они подвергались бомбардировкам), — и «политическое и моральное единство нашего народа укрепилось».
В свою очередь, Хо Ши Мин в новогоднем обращении заявил, что Северный и Южный Вьетнам «едины, как один человек». Семидесятивосьмилетний президент предсказывал (и слова его сбылись по крайней мере наполовину): «В этом году американские агрессоры окажутся менее, чем когда-либо, способны взять инициативу в свои руки, и беспорядок в их войсках будет силен, как никогда. Вместе с тем наши военные силы, осуществив рывок и в результате мощного натиска добившись нового успеха, несомненно, одержат многие, еще более славные победы».
Он также высказал добрые пожелания в адрес всех дружественных наций и в том числе — «прогрессивно мыслящих людей в Соединенных Штатах, которые горячо поддерживают справедливую борьбу нашего народа».
Очевидно, что ряды таких — воспользуемся термином Хо — «прогрессивных людей» ширились. Опросы общественного мнения показывали не только уменьшение числа сторонников войны, но и рост количества тех, кто желал выступить против нее. В 1965 году, когда движение «Студенты за демократическое общество» (Эс-ди-эс) призывало к проведению антивоенной демонстрации в Вашингтоне, многие — в том числе и представители старого пацифистского движения — сожалели, что организации не удалось выступить с критикой в адрес коммунистов. Было также немало расхождений относительно тактики и языка. Но в течение 1967 года Эс-ди-эс и антивоенное движение избегали старых аргументов времен «холодной войны», и год оказался для них успешным. Национальный комитет по мобилизации за окончание войны во Вьетнаме — МОУБ (объединение пацифистов прежнего времени, «новых» и «старых» «левых», борцов за гражданские права и молодежи) провел мирную демонстрацию в Сан-Франциско, в которой участвовали десятки тысяч. В марте они вновь собрали несколько десятков тысяч человек, прошедших за Мартином Лютером Кингом-младшим в Нью-Йорке от Центрального парка до здания Организации Объединенных Наций.
Осенью в Окленде (Калифорния), в рамках проведения Недели протеста против призыва, десять тысяч человек — по большей части молодежь — приняли участие в антивоенной демонстрации, которая переросла в уличные бои с полицией. Антивоенное движение также отказалось от тактики ненасилия, которую проповедовал Кинг. Во время маршей протеста его участники не позволяли затащить себя в полицейские автомобили. Они атаковали ряды полицейских и отступали за импровизированные уличные баррикады. Студенты Вискон-синского университета применили старую тактику: несколько сот крепких молодых людей засели в здании университета, выражая несогласие с действиями вербовщиков «Доу кемикал». Полиция Медисона не увозила участников движения протеста, но использовала слезоточивый газ и дубинки. Этот факт так возмутил общественность, что вскоре полиции пришлось сражаться уже с несколькими тысячами человек.
«Доу», «корпорация зла», дурное порождение 60-х, производила напалм, использовавшийся против солдат, гражданского населения и объектов ландшафта во Вьетнаме. Его разработали для армии США во время Второй мировой войны ученые Гарварда — очевидный пример использования учебных заведений в целях совершенствования оружия. Название «напалм» вначале было дано наполнителю, который можно было смешивать с бензином и другими горючими материалами. Во Вьетнаме же напалмом называлась сама смесь. Благодаря наполнителю пламя превращалось в студенистую субстанцию, которой можно было стрелять под давлением на значительное расстояние. Пылая при высокой температуре, оно словно приклеивалось к цели, будь то человек или растение. Согласно сведениям Национальной студенческой ассоциации, из семидесяти одной демонстрации, проведенной в шестидесяти двух кампусах колледжей в октябре — ноябре 1967 года, в двадцати семи случаях участники выражали протест против деятельности «Доу кемикал» и лишь в одном — против низкого качества обучения.
В конце октября 1967 года МОУБ организовал антивоенную демонстрацию в Вашингтоне. Протестующие собрались у Мемориала Линкольна, а затем пересекли Потомак, чтобы идти к Пентагону. Активный участник антивоенного движения Джерри Рубин был там вместе с своим другом из Нью-Йорка Эбби Хоффманом, участником движения за гражданские права. Хоффману удалось привлечь внимание средств массовой информации к маршу в Вашингтоне, он пообещал, что будет левитировать над Пентагоном и, облетев его, изгонит оттуда злых духов. (Своего обещания он не выполнил.) Присутствовал там и Норман Мейлер; он описал увиденное в «Армиях ночи»; это произведение стало одной из самых популярных книг 1968 года. Поэт Роберт Лоуэлл, лингвист и философ Ноам Хомский и издатель Дуайт Макдональд также находились среди участников марша. То было нечто большее, нежели шествие испорченных привилегированных юнцов, уклоняющихся от призыва на военную службу (такая характеристика антивоенного движения была очень популярна), или же, как — с большей симпатией — написал Мейлер в своей книге, «возбужденной наркотиками революционно настроенной молодежи из американского среднего класса». Очевидно, движение приобретало глубокие основы и привлекало разнообразные элементы. «Присоединяйтесь к нам!» — кричали демонстранты солдатам, охранявшим осаждаемый ими Пентагон. Казалось, они были отравлены внезапно открывшейся возможностью приобретать все новых и новых сторонников.
В первую неделю 1968 года нескольким лицам, в том числе доктору Бенджамену Споку, писателю и педиатру, и преподобному Уильяму Слоану Коффину-младшему, капеллану Йельского университета, было предъявлено обвинение в составлении своего рода заговора, призванного подбивать молодых людей на нарушение закона о воинском призыве. Находясь в Нью-Йорке, доктор Спок заявлял, что «сто тысяч, двести тысяч или даже пять тысяч молодых американцев либо уклоняются от призыва, либо, находясь на военной службе, не выполняют приказов». Арест Спока привлек особое внимание, поскольку консерваторы уже давно проклинали так называемый «разрешающий подход к ребенку»: именно он, по их мнению, был определяющим для этого испорченного и конфликтного поколения. Однако после арестов в редакторской колонке «Нью-Йорк тайме» появились следующие слова: «Примечательно, что два наиболее известных лидера борьбы за уклонение от призыва — это педиатр и капеллан колледжа, люди, особенно чувствительные к нынешней моральной дилемме, стоящей перед молодой Америкой».
4 января Брюс Бреннан, тринадцатилетний житель Лонг-Айленда с волосами до плеч, был обвинен в прогулах. Его мать, владелица магазина «Клин машин» («Пылесос»), в котором работал Брюс и где продавались психоделическая и пацифистская атрибутика, и отец — президент консалтинговой фирмы в сфере менеджмента, заявили, что Брюс был выбран нарочно, из-за его участия в борьбе за мир. Мальчик заявил, что пропустил школу одиннадцать раз по причине болезни и только дважды — из-за демонстраций в защиту мира. Мать сообщила, что ее сын стал участником движения пацифистов, когда ему было двенадцать лет.
Несмотря на все проявления несогласия с политикой Линдона Джонсона, казалось, что по прошествии пятилетнего срока президентства он имеет серьезные шансы быть избранным вторично. Социологический опрос, проведенный 2 января, показал: менее половины населения (45%) полагают, что вовлечение в военный конфликт во Вьетнаме было ошибкой. В тот же самый день, за один час двенадцать минут до окончания прекращения огня в связи с празднованием Нового года, две с половиной тысячи солдат Вьетконга атаковали американскую базу огневой поддержки в пятидесяти милях к северу от Сайгона, находившуюся среди каучуковых плантаций, двадцать шесть человек было убито, сто одиннадцать — ранено. Им было суждено стать первыми американцами, погибшими во Вьетнаме в 1968 году. По сообщению правительства США, тогда было убито триста сорок четыре вьетконговца. В США было принято давать сведения о количестве трупов противника — пропагандистское новшество времен вьетнамской войны, получившее название «подсчет тел». Можно подумать, что, если бы счет был достаточно большим, Америка объявила бы себя победительницей.
Анализ общественного мнения, проведенный республиканцами во всех штатах в начале года, показал, что единственная фигура, на которую стоит возлагать надежды в предвыборной борьбе с Джонсоном, — губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер. Ричард Никсон, на которого рассчитывала партия, наверняка должен был проиграть. Губернатор штата Мичиган Джордж Ромни был поднят на смех, после того как объявил о своей поддержке войны во Вьетнаме из-за «промывания мозгов». Сенатор от штата Миннесота, демократ Юджин Маккарти, с ледяным остроумием прокомментировал: «Я бы скорее решил, что это произошло в результате небольшого полоскания». Губернатор Калифорнии Рональд Рейган надеялся заполнить вакуум, возникший из-за Ромни, однако ему мешало то, что он был избран на свой пост менее года назад. Кроме того, Рейган считался слишком реакционным политиком и мог проиграть — так же как и Ромни. Республиканцы хорошо знали, что такое поражение. Для них это была больная тема: во время последних выборов Джонсон нанес их кандидату Барри Голдуотеру, чересчур реакционному политику, самое сокрушительное поражение за всю историю Америки. А у такого либерала, как Рокфеллер, шансы были.
В 1967 году некоторые демократы говорили о необходимости замены Джонсона в 1968-м. Однако в Америке не так-то легко заместить человека, занявшего тот или иной пост, и движения под лозунгом «Долой Джонсона», такие как Эй-си7ти (Движение за альтернативную кандидатуру), по-видимому, не могли иметь серьезного успеха. Единственным демократом, на которого можно было хоть как-то рассчитывать, являлся Роберт, младший брат погибшего президента Кеннеди. Однако Роберт, самый молодой из сенаторов от штата Нью-Йорк, не желал вмешиваться в происходящее, 4 января он вновь подтвердил, что, вопреки расхождениям с президентом во мнениях по поводу Вьетнама, он все же планирует подать голос за его переизбрание. Спустя годы Юджин Маккарти предположил, что Кеннеди не считал себя способнымпобедить Джонсона. А тогда, в ноябре 1967-го, Маккарти решил, что альтернативной фигурой, которая стала бы своего рода символом для противников войны, будет он сам, и выставил свою кандидатуру на пресс-конференции в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия). По-видимому, никогда за всю историю президентства начало избирательной кампании не было столь обескураживающим. «Не знаю, станет ли это политическим самоубийством, — комментировал выступление сенатора на пресс-кон-ференции журналист Эндрю Копкинд. — Вероятно, это будет больше напоминать казнь».
Теперь, в первый день нового года, Маккарти заявил, что вовсе не был разочарован незначительным откликом на выдвижение его кандидатуры. Он настаивал, что не будет «демагогически рассуждать о войне» для приобретения сторонников. В своих вялых прозаических сочинениях он доказывал: «Вьетнамская война истощает наши материальные ресурсы и людские резервы, но я также думаю, что она является источником чрезвычайного волнения в умах многих американцев и, кроме того, болезненно ослабляет способность нашего общества решать собственные проблемы, а также некоторые потенциальные проблемы мирового масштаба».
В ноябре 1967 года Маккарти выразил надежду, что его выдвижение повлияет на диссидентов, заставив их обратиться к политике, а не к «нелегальному» протесту, к которому они пришли в результате собственной «несостоятельности и фрустрации». Однако спустя месяц лидеры Эс-ди-эс Том Хейден и Ренни Дейвис, а также другие лидеры антивоенного движения начали строить планы на 1968 год. Одной из главных предполагаемых акций была серия уличных демонстраций в Чикаго ближайшим летом в период проведения съезда демократической партии.
Движение «Йиппи!» — клич превратился в акроним лишь спустя год, благодаря изобретению названия «Молодежная международная партия» («Youth International Party») — было основано в новогодний вечер (правда, согласно официальной версии, которая не полностью подтверждается фактами). Произошло это на вечеринке в Гринвич-Вилледже и — по словам Эбби Хоффмана и Джерри Рубина — явилось результатом курения марихуаны. «Мы все катались там по полу точно камни», — рассказывал Хоффман впоследствии сотрудникам ФБР. Даже наименование «Йиппи!» — как и «хиппи», своего рода ярлык с одобрительным смыслом, знак принадлежности к контркультуре — несло на себе отпечаток напыщенности, подходящей лишь воинственно настроенным юнцам.
В первый день января Организация Объединенных Наций объявила 1968 год Международным годом борьбы за права человека. Генеральная Ассамблея открыла свою годичную программу призывом к миру во всем мире. Но даже папа римский
1 января в посвященном проблеме мира послании заметил, что существуют «новые пугающие препятствия прекращению войны во Вьетнаме».
Вьетнамская война представляла не единственную угрозу миру. В Западной Африке наиболее многообещающее из новых независимых африканских государств — богатая нефтью Нигерия в течение шести месяцев была охвачена гражданской войной между правящими этническими группами и представителями народности ибо — они составляли восемь из двенадцати миллионов населения в маленьком восточном районе под названием Биафра. Запасы нефти, сулившие Нигерии большие перспективы, находились именно там.
Париж выглядел, как никогда, великолепно благодаря министру культуры Андре Мальро, организовавшему мытье стен зданий. Мадлен, Триумфальная арка, Пантеон и другие важнейшие памятники архитектуры перестали быть серыми, покрытыми угольной пылью: они приобрели бежевый и желтоватый цвет. В тот месяц планировалось под струями холодной воды смыть семивековую грязь с собора Парижской Богоматери. Это был один из наиболее животрепещущих вопросов, обсуждавшихся во французской столице. Не повредят ли струи воды здание? Не будет ли оно выглядеть пестрым, напоминая странное лоскутное одеяло, если обнаружится, что не все камни изначально совпадали по цвету?
Де Голль, сидевший у себя во дворце перед наступлением полночи в канун нового, 1968 года, был настроен серьезно и в то же время оптимистично. «Среди множества стран, где царят замешательство и произвол, наше государство будет по-преж-нему являть собой образец порядка. Главная цель международной политики Франции — это мир, — сказал генерал. — Врагов у нас нет».
Возможно, изменение тона генерала было связано с его желанием получить Нобелевскую премию мира. «Пари-матч» задала Помпиду вопрос: согласен ли он с неким источником из ближайшего окружения генерала, возмущенным тем, что де Голль до сих пор не получил эту премию? Но Помпиду ответил: «Вы и вправду думаете, что Нобелевская премия может иметь для генерала какое-то значение? Единственное, что заботит его, — это история, а на решение суда истории никакое жюри повлиять не может».
Среди немногих оптимистичных заявлений 1968 года, помимо заявления де Голля, был также прогноз американской компьютерной промышленности, предсказывавшей своего рода рекорд. В 50-х производители компьютеров полагали, что для удовлетворения потребности Соединенных Штатов в компьютерах достаточно шести машин. К январю 1968 года в стране функционировало пятьдесят тысяч компьютеров, причем пятнадцать тысяч из них было установлено в истекшем году.
Фабриканты табачных изделий также надеялись, что рост продаж на 2%, имевший место в прошлом году, будет наблюдаться и в нынешнем. Управляющий одной из крупнейших табачных компаний хвастался: «Чем больше на нас будут нападать, тем более возрастет уровень продаж».
Однако во многих отношениях 1967 год был неблагополучным для Америки. Рекордное число волнений, сопровождавшихся разрушениями и проявлениями жестокости, разразилось среди чернокожего населения американских городов, в том числе Бостона, Канзас-Сити, Ньюарка и Детройта.
Именно в 1968 году вместо слова «негры» в обиход вошло наименование «черные». В 1965 году Стоукли Кармайкл, организатор «Студенческого комитета борьбы за ненасильственные действия» («Student Nonviolent Coordinating Committee»), или Эс-эн-си-си, известного своей энергичной и эффективной борьбой за гражданские права, изобрел наименование «Черные пантеры». Затем к нему было добавлено выражение «Власть черных». В то время слово «черный» в значении «темнокожий» употреблялось достаточно редко, в качестве поэтического оборота, однако в 1968 году это слово вошло в обиход для обозначения борцов за права темнокожего населения, а к концу года стало наиболее предпочтительным для обозначения всех людей с этим цветом кожи. В свою очередь, слово «негр» стало уничижительной кличкой для тех, кто не боролся за свои права.
На второй день нового, 1968 года Роберт Кларк, тридцатисемилетний школьный учитель, занял место в палате представителей штата Миссисипи, причем против его кандидатуры не было подано ни одного голоса. Он стал первым чернокожим, занявшим это место в Миссисипи, за весь период с 1894 года.
Однако надо заметить, что в сфере борьбы за социальные права главные события переместились с Юга, где ее участники высказывались достаточно мягко, на Север, где вопрос предпочитали ставить ребром. Чернокожие Севера отличались от чернокожих Юга. В то время как большая часть южан — последователей Мартина Лютера Кинга-младшего изучали труды Махатмы Ганди и ненасильственные методы, использованные им в антибританской кампании, Стоукли Кармайкл, вырос-жима была закрыта полицией Школа технических наук. В ответ сотни студентов-медиков вышли на демонстрацию, яростно бросая камни в полицейских. К середине января правительство закрыло факультеты философии и словесности, экономики и политических наук из-за антифранкистских демонстраций. Завоевав в 1967 году право на создание собственных организаций, на следующий год студенты потребовали от правительства освободить их лидеров, арестованных после демонстраций 1967 года, и запретить полиции осквернять своим вторжением территорию университетских кампусов — освященный историей принцип, признаваемый в большинстве стран Европы. Однако студенты также начали более активно вовлекаться в политические движения за пределами кампусов, особенно в деятельность профсоюзов и борьбу за права рабочих.
Накануне Нового года Абба Эбан, министр иностранных дел Израиля, призвал арабов Ближнего Востока «выразить свою волю» и побудить своих лидеров к проведению мирных переговоров с Израилем. В июне 1967 года Израиль вновь вступил в войну со своими соседями — арабами. Де Голль был в ярости, поскольку, на правах близкого союзника Израиля и поставщика оружия для этой страны, он требовал, чтобы Израиль не начинал вооруженного конфликта. Однако Государство Израиль с момента своего возникновения уже претерпело несколько нападений по различным поводам со стороны арабов; теперь же, когда египтяне блокировали Акабский залив, израильтяне убедились, что следующее организованное нападение арабов вот-вот начнется. По этой причине они атаковали первыми. Де Голль переориентировал политику Франции: из произраиль-ской она стала проарабской. Давая разъяснения по поводу этой новой политики на ноябрьской пресс-конференции, де Голль охарактеризовал иудеев как «элитарный народ, самоуверенный и высокомерный». В 1968-м де Голль все еще пытался пояснить свое утверждение и убедить различных израильских лидеров, что это вовсе не был антисемитский выпад, а комплимент; возможно, он и вправду так думал, поскольку все эти эпитеты очень точно характеризовали его самого.
СССР, бывший союзником Израиля вплоть до 1956 года, также оказался обескураженным. Он поставлял вооружение арабам, оказывал поддержку их военным планам. Советские лидеры были поражены, увидев, что Израиль одержал победу над Египтом (союзником СССР), Сирией и Иорданом всего за шесть дней.
Однако израильтяне попытались действовать иначе. В ходе конфликта они отвоевали земли: зеленые Голанские высоты — у Сирии, каменистый Синай — у Египта, и западный берег реки Иордан, в том числе и арабский сектор Иерусалима, — у Иордании. Затем они попытались вступить с арабами в переговоры, заявив о готовности вернуть захваченные земли в обмен на мир. Но, к их полному разочарованию, арабы не проявили к предложению ни малейшего интереса. Поэтому Абба Эбан в канун Нового года произнес по радио речь на арабском языке, где утверждал: «Политика, проводимая вашими лидерами в течение последних двадцати лет, показала свою полную несостоятельность. Она привела к долговременной катастрофе среди всего населения региона». 1968 год, настаивал он, должен стать временем перемен в арабской политике.
В это время израильское правительство присвоило территорию в восемьсот тридцать восемь акров, ранее относившуюся к иорданскому сектору Иерусалима, дабы основать иудейское поселение в Старом городе. Планировалось строительство четырнадцати тысяч домов; четыреста из них предназначались для арабов, выселенных из Старого города.
Подобно словам «черный» и «Йиппи!» слово «палестинцы» впервые вошло в обиход в 1968 году. Прежде эти люди были лишены особой, своей собственной культурной идентичности, которая мыслилась бы как определенная национальность. Обычно об арабах, живущих в Израиле, так и говорили: «арабы в Израиле». С арабами, живущими на западном берегу реки Иордан, было несколько сложнее: эта область являлась частью Государства Иордан, поэтому, хотя культура местных жителей была идентична той, что существовала на противоположном берегу Иордана, они считались иорданцами. Когда американские газеты вели репортажи с западного берега, место событий обозначалось как «территория Иордана, оккупированная Израилем».
В начале 1968 года слово «палестинский» использовалось по большей части применительно к отрадам арабов, участвовавшим в партизанской войне (в западной прессе их также часто именовали террористическими организациями). Эти группы использовали слово «палестинский» как своего рода ярлык, например, в названиях «Палестинский народный фронт», «Палестинская революция», «Палестинское революционное молодежное движение», «Авангард освобождения Палестины»,- «Палестинский революционный фронт» и «Народный фронт освобождения Палестины». Перед войной 1967 года действовало минимум двадцать шесть таких групп. В контркультуре левого толка эти группы именовались националистическими и пользовались поддержкой, хотя финансовая помощь, оказываемая им представителями «мейнстрима» в западных странах, была незначительной. То, что Эс-эн-си-си поддерживал такие группы, способствовало дальнейшей изоляции некогда ведущей организации в борьбе за гражданские права.
Через неделю после начала 1968 года Ахмед аль-Шукери был объявлен лидером одной из господствующих арабских группировок — Организации Освобождения Палестины, ООП, основанной в 1964 году. Одной из главных причин его популярности была угроза (которую он так и не привел в исполнение) «сбросить евреев в море». Обвиняя «палестинцев» в крушении их планов, обмане, а иногда и неприкрытой лжи, организация — конкурент «Аль-Фатах» отказалась признавать лидерство ООП, если им будет руководить аль-Шукери. Лидером «Аль-Фатах» (что в переводе означает «Завоевание») был Абу Амар, ставший д ля арабов легендарным героем партизанской войны после опустошительного рейда в 1964 году, положившего начало движению «Аль-Фатах». Тогда его участники пытались взорвать насос, но им не удалось сделать так, чтобы взрывчатка сдетонировала. Все они были арестованы по возвращении в Ливан. Имя Абу Амар было своего рода военным псевдонимом, под которым действовал тридцативосьмилетний палестинец Ясир Арафат.
В начале 1968 года восемь из этих организаций объявили о своем подчинении единому командованию для осуществления операций в ходе партизанской войны против Израиля. Они также сообщили, что рейды участятся, однако не будут направлены против мирного населения Израиля. Представитель этого объединения, палестинский кардиохирург Исам Сартави, заявил, что его целью является «ликвидация сионистского государства» и что оно отвергнет любые предложения мирного урегулирования на Ближнем Востоке. «Мы верим только в наше оружие, и силой нашего оружия мы собираемся основать независимую Палестину».
О дурных новостях свидетельствовала и обложка январского выпуска «Буллетин оф атомик сайентистс» («Бюллетеня уче-ных-атомщиков»). Стрелки часов, изображенных на обложке, показывали без семи минут двенадцать. Часы, послужившие символическим обозначением близости мира к ядерной катастрофе, показывали без двадцати двенадцать начиная с 1963 года. Редактор «Бюллетеня» доктор Юджин Рабинович объяснил, что стрелки часов были переведены для наглядной демонстрации возросшего насилия и национализма в мире.
С другой стороны, в первый день года Элиот Фремонт-Смит начал рецензию на посмертно опубликованное сочинение Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» следующими словами: «Судя по началу, 1968 год будет блистательным с точки зрения литературы».
После интенсивных дебатов, имевших место в 1967 году, 1 января 1968 года британцы сообщили, что звание поэта-лауре-ата переходит от Джона Мэйсфилда к Сесилу Дэй-Льюису, автору мистерий, профессору поэзии в Оксфорде. Поэт-лауреат — официальное лицо при королевском дворе, несколько более высокого ранга, нежели попечитель, но ниже, чем заместитель по вопросам мер и весов. Когда Мэйсфилд скончался (он пробыл поэтом-лауреатом тридцать семь лет), многие говорили, что теперь, в конце 60-х, сама идея должности при-, дворного поэта устарела.
В первую неделю 1968 года вновь зазвучал голос Боба Дилана, исчезнувшего на полтора года после перелома шеи (он потерпел аварию на мотоцикле). Его новый альбом «Джон Уэст-ли Хардинг» встретил теплый прием как у поклонников, так и у критиков. Перед этим он совершил, так сказать, «грабительский набег» на фолк-рок (это выражение использовалось, когда в его композициях зазвучала электрическая гитара). Но теперь, в 1968 году, Дилан по-настоящему вернулся к фольклорным истокам, исполняя песни в сопровождении акустической гитары и губной гармоники, в то время как на заднем плане звучали фортепиано, бас-гитара и ударные. Журнал «Тайм» писал: «Его новые песни просты, они спеты тихим голосом; они напоминают нам о бродягах и «хобо»; в них акцентируется внимание на моральных проблемах, часто с религиозными обертонами (например «I Dreamed I Saw St. Augustine» — «Мне снилось, я видел Блаженного Августина» и притчу «Judas Priest» — «Иуда во священниках»). Наиболее сильное впечатление производит последняя композиция — свинг под названием «I’ll Be Your Baby Tonight». Однако не кто иной, как Дэн Салливан, писавший для «Нью-Йорк тайме», указал, что в фамилии техасского бродяги Джона Уэстли Хардинга отсутствует буква g, и предположил, что Дилан, не произносящий g в конце множества слов, «по-видимому, вдруг почувствовал, что должен вернуть хотя бы одну букву».
Футбол в Америке стал столь популярен, что грозил вытеснить с первого места бейсбол. 1 января 1968 года более ста тысяч человек — это было самое большое скопление народа в «Роуз-Боул» — наблюдали за уникальным игроком Оренталем Джеймсом Симпсоном (Калифорнийский университет), который прибавил к общему счету два гола, забив их с расстояния ста двадцати восьми ярдов, и нанес поражение Индиане со счетом 14:3.
«Величайшим событием, ожидаемым в 1968 году, — писал Бернардин Моррис в «Нью-Йорк тайме», — будет увеличение длины подолов, уже несколько лет не закрывавших колен, на фут или около того — до уровня икр». В январе пошел слух о том, что Федеральное управление по жилищным вопросам дало предпринимателям устную директиву; в ней якобы говорилось, что ношение мини-юбок в холодную погоду будет приводить к накоплению молекул жира в ногах. Впрочем, слух оказался мистификацией.
Вместе с тем британское правительство упустило налог на прибыль за мини-юбки. Налог с продаж (12,5%), которым облагалась продажа юбок, распространялся только на изделия длиной более двадцати четырех дюймов. Это делалось, чтобы освободить от налога детскую одежду. Однако длина модных женских юбок в Англии зимой 1968 года колебалась между тринадцатью и двадцатью дюймами.
Правда, следует заметить, что концепция моды 1968 года заключалась в отказе от каких бы то ни было ограничений или табу. Следование догмам вышло из моды, и писатели пророчили дальнейший рост стремления к максимальному разнообразию в том, что люди могут на себя надеть.
1968 год имел для женщин большое значение не только из-за длины юбок. Сыграли свою роль и события вроде того, о котором 1 января объявила Мюриель Зиберт: она стала первой женщиной, которая приобрела место на Нью-Йоркской фондовой бирже за всю ее стасемидесятипятилетнюю историю. Зиберт, тридцативосьмилетняя блондинка из Кливленда (друзья звали ее Микки), решила проигнорировать многочисленные советы деятелей финансового мира, что разумнее будет дать возможность приобрести место на бирже мужчине. «Совет управляющих утвердил меня. Я отправилась на биржу и выписала чек, покрывающий баланс обладателя места на бирже (четыреста сорок пять тысяч долларов) плюс семь тысяч долларов в уплату вступительного взноса. Выйдя оттуда, я купила три бутылки французского шампанского для сотрудников моего офиса. Я просто не могла поверить, что это случилось со мной. Я была на седьмом небе от счастья».
Казалось, в 1968 году в немногих сферах человеческой жизни дело обойдется без конфликтов. Новость о том, что Кристиан Бернард из «Грут шур хоспитал» в Кейптауне (Южная Африка) осуществил успешную пересадку сердца умершего тридцативосьмилетнего пациента пятидесятивосьмилетнему дантисту Филипу Блейбергу, должна была быть оценена как хорошая. Это была третья пересадка сердца (Бернард делал такую операцию второй раз), однако с точки зрения медицинской науки она осуществилась успешно впервые. Бернард начал год (и провел большую его часть) в роли международной знаменитости, раздавая автографы, давая интервью, улыбаясь и высказывая суждения, расходящиеся в цитатах, к которым уже с начала января с неодобрением отнеслись представители его профессии. Бернард подчеркивал, что, несмотря на внезапную славу, он по-прежне-му получает всего восемь с половиной тысяч долларов жалованья в год. Однако его подвиг вызвал и сомнения. Немецкий врач назвал его преступлением. Биолог из Нью-Йорка, очевидно, путая докторов с юристами, заявил, что Бернард должен быть «лишен права на жизнь». Три известных американских кардиолога объявили мораторий на пересадку сердца; Бернард немедленно ответил, что не станет следовать этому запрету.
С теоретической точки зрения в операции задействованы два обреченных пациента. Один отдает свое сердце и умирает, однако он умер бы в любом случае; другого спасают. Однако некоторые — и доктора, и непосвященные — задались вопросом: вправе ли врачи решать, кто получит новое сердце? И что же, доктора теперь принимают решения вместо Господа Бога? Сам Бернард не помог разрешить это противоречие, заявив в интервью «Пари-матч»: «Очевидно, если мне пришлось бы выбирать между двумя пациентами, оказавшимися в одинаковом положении, и один из них был бы врожденным идиотом, а другой — математическим гением, я бы выбрал второго». Масла в огонь подлило и то, что Бернард был из Южной Африки — территории, где господствовал режим апартеида, заслуживавший все больше упреков, а также то, что он спас белого человека, пересадив ему сердце чернокожего пациента. Подобная ирония не могла пройти незамеченной в тот год.
С тех пор как Фидель Кастро одержал победу, совпавшую с наступлением нового, 1959 года, начало каждого года знаменовалось в Гаване 2 января празднествами на площади Революции (Plaza de la Revoluci6n). В 1968 году, в девятую годовщину революции, на ней появилось нечто новое — достигавшая шестидесяти футов в высоту фреска с изображением красивого молодого человека в берете. То был тридцативосьмилетний аргентинец Эрнесто Че Гевара, убитый двумя месяцами ранее1 при попытке поднять в Боливии революцию, подобную кубинской.
Эта попытка была описана в книге «Революция в революции» Режи Дебре, молодого француза, влюбленного в кубинскую революцию. Книга апеллировала к чувству нетерпения, свойственному молодежи; переведенная на английский язык в 1967 году, она стала бестселлером среди студентов всего мира. Дебре отбросил старые марксистско-ленинские теории о постепенно вызревающей революции. Он считал, что революция начнется по инициативе армии, состоящей из крестьян. Это было стратегией Кастро в горах его родной провинции Ориен-те. И это же собирался сделать в Боливии Че. Однако Че постигла неудача, и в ноябре получила распространение фотография, сделанная неким полковником боливийских ВВС, на которой запечатлен полуобнаженный труп Че. Дебре также был схвачен солдатами боливийской армии, но боливийцы предпочли не убивать его, а заключить в тюрьму в маленьком городке Камири. В начале 1968 года он все еще был там, хотя боливийцы позволили его возлюбленной, жительнице Венесуэлы Элизабет Бургос, явиться к нему в тюрьму, так что эта пара смогла вступить в брак2.
Так в 1968 году близкий друг и соратник Фиделя Кастро по революционным делам стал мучеником, канонизированным святым революции — навсегда молодым, говоря словами Боба Дилана, с бородой и в берете, с улыбающимися глазами, истинным революционером по делам и облику. В международном аэропорту Гаваны красовался плакат с надписью «Молодежь будет петь погребальные песни стуку пулеметов и грохоту войны, и так до победного конца».
Эту фразу, «и так до победного конца», можно было увидеть по всей Кубе. Шестьдесят тысяч студентов в своей серой униформе маршировали перед трибуной, на которой стоял Кастро, и каждая группа, проходя мимо, громко и с энтузиазмом скандировала: «Наш долг — делать людей такими, как Че». «Сото Che» — быть, как Че, иметь больше таких людей, как Че, поступать, как Че — эта фраза звучала на острове повсюду. Так начал свою жизнь культ Че.
Кастро объявил: во время празднеств в этом году не будет проводиться демонстрация советского вооружения, — пояснив, что считает такой парад слишком дорогостоящим делом (отчасти потому, что танки портят мостовую на улицах Гаваны).
Это были новые тревожные сигналы для Москвы. Год 1968-й начался в СССР с экономических сбоев и непопулярного процесса над четырьмя представителями интеллигенции3. (Их обвинили в распространении антисоветской пропаганды после того, как они провели кампанию в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля — писателей, попавших в тюрьму два года назад за публикацию своих сочинений на Западе.) Шестидневная война на Ближнем Востоке явилась унизительной неудачей внешней политики Л.И. Брежнева, руководителя Коммунистической партии Советского Союза, в то время, когда колхозная система терпела провалы, попытки экономических реформ закончились неудачей, в среде молодежи и интеллигенции росла неудовлетворенность, а националистические движения, например татарское, стали причинять беспокойство. Народы стран советского блока, особенно молодежь, все активнее отвергали постулаты и язык «холодной войны». Югославский лидер Иосип Броз Тито долго досаждал Москве, являя пример независимости, а теперь еще и новый румынский руководитель Николае Чаушеску начал действовать в том же духе. Даже в Чехословакии, во главе которой стоял вполне лояльный и сговорчивый Антонин Новотный, население казалось неспокойным. В апреле 1967 года газета «Братислава правда», печатный орган Коммунистической партии Словакии, провела опрос общественного мнения в Чехословакии и обнаружила общий отход от генеральной линии партии. Только половина считала западных империалистов ответственными за международную напряженность, а 28% опрошенных возлагали вину за нее на обе стороны. Вероятно, еще более шокирующим было то, что только 41,5% порицали США за войну во Вьетнаме — соотношение, с которым не согласились бы даже жители стран — главных союзников Америки. Наконец, чешские писатели открыто требовали большей свободы самовыражения, а студенты Карлова университета в Праге устраивали демонстрации на улицах.
Серия заседаний Центрального Комитета КПЧ была весьма неприятной для Новотного. Его рабская преданность Москве была вознаграждена назначением его в 1953 году на пост Первого секретаря ЦК КПЧ. В 1958 году он стал президентом Чехословакии. Теперь все большее число членов Центрального Комитета КПЧ, отчасти в ответ на острую неприязнь Новотного по отношению к четырем с половиной миллионам словаков, которые составляли треть населения страны, считало, что ему следует хоть.в чем-то пойти на уступки. Президенту удалось спасти свое положение на декабрьской встрече с десятью членами Президиума ЦК КПЧ только благодаря тому, что он закрыл заседание, «поскольку было Рождество». Комитет согласился провести новую встречу в первую неделю января.
В это время Новотный начал строить планы. Он попытался устрашить своих противников, распространяя слухи о том, что Советский Союз подумывает о принятии мер для сохранения его позиций. Однако это привело к обратным последствиям, лишь побудив главных участников событий к дальнейшим действиям. Новотный также подумывал о военной интервенции, которая укрепила бы его положение, и об аресте своего соперника, словака Дубчека, коего презирал. Однако один из генералов предупредил Дубчека, и Новотный вновь потерпел неудачу.
Итак, президент Новотный начал новый год с выступления по телевидению, намереваясь добиться примирения. Он пообещал, что Словакия, стоявшая на одном из последних мест в приоритетах Праги, займет теперь лидирующее положение в экономическом планировании. Новотный также попытался умиротворить писателей и студентов, пообещав, что все прогрессивное, даже если оно исходит от Запада, будет разрешено. «Речь идет не только об экономике, технике и науке, — добавил он, — но также и о прогрессивной культуре и искусстве».
Центральный Комитет КПЧ собрался вновь 3 января и отстранил Новотного от должности Первого секретаря ЦК партии, заменив его Дубчеком. Для того чтобы отстранить его также и с поста президента, недостало единогласия, но в любом случае Новотный потерпел тяжелое и унизительное поражение. Народу Чехословакии не сообщали о перемене, происшедшей в его жизни, вплоть до пятницы 5 января 1968 года, когда пражское радио объявило о «добровольной» отставке Новотного с поста Первого секретаря и избрании на его место Дубчека. Чехи не представляли, насколько неприятна была для Новотного сложившаяся ситуация, и большинство из них не знали, кто такой этот Александр Дубчек. В закрытых обществах деятельность наиболее удачливых политиков недоступна взорам большинства.
Но пока все это происходило, известный своей железной хваткой советский лидер до смешного мало реагировал на события. Брежнев нанес визит в Прагу в декабре 1967 года, причем, как многократно указывалось, он предпринял эту поездку для укрепления положения подвергавшегося нападкам чешского руководителя. В действительности же, однако, Брежнев никогда не любил последнего, несмотря на лояльность, которую тот демонстрировал. И когда Новотный был снят со своего поста, Брежнев заявил ему: «Это ваше дело».
В Вашингтоне министр обороны Роберт С. Макнамара готовил свой ежегодный доклад конгрессу, в котором писал: «Простая биполярная конфигурация, которую мы знаем с первых лет, последовавших за Второй мировой войной, в шестидесятых годах начала распадаться. Теперь нельзя более с легкостью относить кого-либо к числу верных друзей или непримиримых врагов, и ярлыки, которые использовались в прошлом, вроде «свободного мира» или «железного занавеса», представляются все более неадекватными, когда речь заходит о борьбе интересов в рамках блоков и между ними, а также о взаимовыгодных связях, которые постепенно развиваются, игнорируя барьеры, ранее казавшиеся непреодолимыми».
В пятницу, в конце первой недели 1968 года, появилась еженедельная сводка; согласно ей число убитых во время боевых действий во Вьетнаме составило: 185 американцев, 227 южновьетнамцев, 37 других союзных военнослужащих. Америка и ее союзники сообщали о гибели 1438 вражеских солдат.
Такова была первая неделя. Так начался 1968 год.
Глава 2 ТОТ, КТО СПОРИТ С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ
Народ был не удовлетворен партийным руководством. Мы не могли заменить народ, поэтому заменили руководителей.5 января 1968 года, вдень, когда Дубчек возглавил Коммунистическую партию Чехословакии, в то время как чехи и словаки ликовали, его жена и двое сыновей не могли удержаться от слез, оплакивая выпавшую ему несчастную судьбу. В центре событий, ставших одной из самых драматических страниц истории советского господства в Центральной Европе, оказалась личность на вид невзрачная и для многих непонятная. Несмотря на шесть футов четыре дюйма роста, всю свою жизнь Дубчек воспринимался как человек незаметный. Однако он не был бесстрастным, как могло показаться. В то время, когда он стал преемником Новотного, прозванного «Застывшее лицо», вражда между двумя этими людьми продолжалась уже двадцать три года. Когда Дубчек занял свой пост, ему было уже сорок шесть лет и он не выглядел моложе. Высокий, загадочный, говоривший зачастую скучно, но вдохновлявший миллионы молодых людей, он в какой-то степени был похож на сенатора Юджина Маккарти. И действительно, он, так сказать, едва не родился на Западе. «Я был зачат парой словацких мечтателей-социалистов, которым пришлось иммигрировать в Чикаго», — писал Дубчек. В 1910 году Стефан Дубчек, необразованный словацкий плотник, уставший от жизни в Словакии, страдавшей от притеснений со стороны Австро-Венгрии и лишенной перспектив, покинул свой дом в горах и шел вдоль извилистого берега Дуная, пока не добрался до Будапешта с его многочисленными куполами и аллеями. Там Стефан Дубчек организовал социалистический кружок на мебельной фабрике и мечтал о свержении монархии. Фабричное руководство быстро поняло его стремления. Вскоре после этого он эмигрировал в Америку, которая, как он слышал, является страной демократии и социальной справедливости. Он вступил в словацкую общину северной стороны Чикаго. Американский капитализм показался Стефану жесткой системой, а страна отнюдь не такой свободной и справедливой, как ему говорили. Но здесь он по крайней мере мог выражать свои политические взгляды, не боясь подвергнуться аресту, и не должен был участвовать в Первой мировой войне и сражаться за ненавидимую им австро-венгерскую монархию. Выступление Соединенных Штатов на стороне Антанты стало ударом для американских социалистов, которые в массе своей враждебно относились к войне и поверили обещанию президента Вильсона, что США останутся вне ее. Стефан, убежденный пацифист (им же окажется в критический момент истории и его сын Александр), уехал в Ларедо, штат Техас, для встречи там с квакерами и другими пацифистами. Они помогли ему пересечь границу с Мексикой, где он надеялся пересидеть войну. Однако там Стефан был задержан, арестован, оштрафован и просидел в тюрьме полтора года. Выйдя на свободу, он вернулся в Чикаго и встретился с юной соотечественницей, Павлиной, правоверной коммунисткой. Под влиянием Павлины Стефан принялся изучать труды Маркса. Когда его сестра, жившая в Словакии, написала ему, что собирается выходить замуж, он отправил ей обширную анкету с вопросами политического характера, с помощью которой она должна была устроить проверку своему будущему супругу. Революция в России вызвала у Стефана воодушевление, и в 1919 году он сообщал в письме на родину: «В Америке вы можете обладать какими угодно благами, но только не свободой. Единственной в мире подлинно свободной страной является лишь Советский Союз»4. После почти десятилетней борьбы за социализм Стефан разочаровался в Соединенных Штатах, а Павлина заскучала по родине. В 1921 году, когда Павлина была уже беременна, вернулись в Словакию, входившую теперь в состав только что созданной Чехословакии. Родившийся через пять месяцев Александр Дубчек стал чехословацким гражданином. У него осталось немало родственников в Америке, как по отцовской, так и по материнской линии, хотя он не поддерживал с ними контактов почти до конца жизни, пока наконец, уже после падения коммунизма, они не стали присылать ему письма. Новая страна, в которой Стефан поклялся строить социализм, казалось, вызывала радужные надежды. Чехословакия была придумана пражским профессором Томашем Гарригом Масариком. Изначально она мыслилась как равноправный союз между народами Богемии, Моравии и Словакии. Для словаков это означало коренную перемену в их истории, поскольку начиная с десятого века они были объектом угнетения и дурного обращения со стороны различных могущественных государств. В чешских землях, Богемии и Моравии, в конце девятнадцатого века произошел промышленный переворот, в результате которого там появился образованный средний класс, включая бюрократов и технократов. Из их числа и комплектовалась новая администрация. Словакия же после тысячелетнего венгерского правления представляла собой доведенный до нищеты аграрный край, весьма напоминающий соседние с ней области Польши. Лишь немногие словаки умели читать или писать даже на родном языке. Большинство из них были крестьянами, жившими на очень бедных землях. Впервые их национальные чувства дали знать о себе в 1848 году, во время восстания, весьма напоминавшего 1968 год, за исключением того, что события протекали в масштабах Европы. В 1848 году словаки восстали против венгров и потребовали равных с ними прав, что было сформулировано в документе, известном как «Требования словацкой нации». Он явился образцом выражения национальных чувств словаков, а его автор, Людовит Стур, стал словацким национальным героем задолго до Масарика (его продолжают почитать наравне с последним). По странному совпадению, Стефан и Павлина Дубчек, возвратившись в Словакию, поселились в том самом доме, где в 1815 году родился Стур, и здесь же появился на свет Александр Дубчек. Повелители-венгры и соседи-чехи относились к словакам свысока. Если бы словаки внимательно слушали Масарика, то вполне могли бы понять, что он также презирает их. Он был склонен считать их людьми отсталыми, политически незрелыми, подчиненными тирании церкви — стандартный набор отрицательных качеств, которые чехи приписывали словакам. Однако Масарик пользовался огромной популярностью не только у чехов, но и у словаков. В конце Первой мировой войны он ездил в Америку и добился поддержки со стороны Вудро Вильсона. Затем он прибыл в Париж, где в октябре 1918 года сформировал объединенное чехословацкое правительство, сумел добиться его признания со стороны союзников и два месяца спустя возвратился в новое государство, для жителей которого стал национальным героем. «Словацкая проблема» возникла с момента появления нового государства. Словаки требовали, чтобы новая страна называлась Чехо-Словакией, а не Чехословакией, но чехи отказались вставить эту маленькую разделительную черточку. Это была первая в череде безуспешных для словаков дискуссий. Маленький Александр почти ничего не помнил о проведенных в Словакии детских годах, кроме ручного оленя, жившего за церковью, и собаки-сенбернара, с которой ему было жаль расставаться. В следующий раз он увидит Словакию в семнадцать лет. Если Словакия была и отсталой, то все же не настолько слаборазвитой, как Киргизия в Советском Союзе, куда Дубчеки добровольно отправились в 1925 году, чтобы воспитывать своих детей в условиях сельскохозяйственного кооператива. Советская Киргизия, ныне именуемая Кыргызстаном, находилась в четырех тысячах миль от Словакии, рядом с Китаем. Почти все местное население было неграмотным, поскольку в Киргизии не существовало своей письменности. Дубчеки так и не добрались до цели поездки. После двадцатисемидневного путешествия они оказались в бесплодном месте под названием Пишпек, где обрывалась железная дорога, и остались там. Им пришлось жить в брошенных ветхих казармах. Они помогали налаживать сельское хозяйство в кооперативе, осваивая трактора. Местные жители, никогда не видевшие этих машин, бежали за ними с криками «шайтан!». В первые годы жизни в Киргизии еды было так мало, что Дубчеку приходилось есть сырые воробьиные яйца в скорлупе. Вскоре они перебрались в российский промышленный центр Горький. Стефан не собирался возвращаться в Словакию, но в 1938 году Сталин распорядился, чтобы иностранцы либо приняли советское гражданство, либо уезжали. Александру было уже семнадцать лет, а вызывавшей у него энтузиазм новой Чехословакии — двадцать, и в ней царили разлад и разочарование. Он унаследовал от родителей идеологические взгляды, но, как казалось долгое время, не их бунтарский характер. Он был ортодоксом, коммунистом советской выучки. Во время Второй мировой войны Александр сражался в партизанском отряде — бригаде ЯнаЖижки, названной так в честь чешского повстанца пятнадцатого столетия. Партизаны проводили операции в тылу немецких войск. Годы спустя в официальной партийной биографии Дубчека много говорилось о его боевом прошлом. Он был дважды ранен в ногу. В 1945 году немцы отправили его отца Стефана в концентрационный лагерь Маутхаузен. Там же находился некто Антонин Новотный, известный чешский коммунист, также подвергшийся депортации. Новотный громогласно поклялся, что если выживет, то никогда больше не будет заниматься политикой. В 1940 году в доме, где скрывался его отец, Александр встретил Анну Ондрисову, о которой он говорил: «Я думаю, что полюбил ее с первого взгляда». В 1945 году Дубчек женился на ней и продолжал любить ее вплоть до своей смерти в 1991 году. Он обвенчался с ней, что было редким случаем для такого ортодоксального коммуниста. Когда в 1968 году Дубчек стал чехословацким лидером, то оказался единственным из руководителей коммунистических стран Европы, женатым церковным браком. Чехословакия являлась единственной страной, где коммунисты пришли к власти путем демократического голосования. К сожалению, как это часто случается при демократии, политики оказались обманщиками. В 1946 году Чехословакия, освобожденная Советской Армией, проголосовала за коммунистическое правительство, которое обещало не вводить коллективные хозяйства и не национализировать предприятия малого бизнеса. В 1948 году страна оказалась под полным контролем коммунистов, и на следующий год правительство начало устанавливать контроль над экономикой, национализируя предприятия и превращая фермы в государственные коллективные хозяйства. Александр Дубчек был трудолюбивым, серьезно мыслящим словацким партийным функционером, тщательно обходившим вопросы словацкого национализма. Его словацкое происхождение обеспечивало ему теплый прием на родине, но не вызывало интереса у пражского руководства. В 1953 году он становится Первым секретарем окружного комитета партии в центральной Словакии. В тот год умер Сталин, и Хрущев начать смягчать самые отрицательные проявления сталинизма — где угодно, но только не в Чехословакии. В том же самом году «Застывшее лицо» — Новотный — был назначен Первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии. Новотный получил неважное образование, и его карьера была малообещающей, пока он не продемонстрировал отличное чутье при фабрикации свидетельских показаний во время сталинистской чистки, равно как и во время кампании против лица «номер два» в руководстве страны — Генерального секретаря ЦК партии Рудольфа Сланского. Он был жестоким представителем диктаторского режима, вероятно, ответственным за многие преступления, но был осужден и казнен по обвинению в сионизме. То, что Сланский, далекий от сионизма, вместе с тем был против той поддержки, которую поначалу оказывал Израилю Советский Союз, не имело значения. Слово «сионист» использовалось не для обозначения сторонников Израиля, а для того, чтобы указать на еврейское происхождение человека, как то имело место и в случае со Сланским. Незадолго до процесса Сланского Новотный и его жена были приглашены в гости к министру иностранных дел Владимиру Клементису, и супруга Новотного восхищалась фарфоровым чайным сервизом Клементисов. После казни Клемен-тиса, арестованного во время расправы над Сланским, в чем сыграли свою роль и ложные свидетельские показания Новотного, последнийприобрел фарфоровый сервиз для своей жены. Миллионы библиотечных книг, полных опасных западных идей, сдавались в макулатуру и перерабатывались. В Чехословакии существовала густая сеть секретных агентов полиции, следивших за гражданами и подслушивавших их разговоры; тем же занимались и соседи-доносчики, выполнявшие патриотический долг служения делу революции. Жители Чехословакии почти не контактировали с Западом, да и с другими странами советского блока связи были весьма ограниченными. Дубчек должен был заниматься развитием отсталой словацкой экономики. Он покорно терпел, когда начальство отвергало даже элементарные идеи. Вместе с другими руководителями города Банска-Быстрица он обратился к партийному начальству со смиренной просьбой перенести новый цементный завод в другое место, богатое известняком, из которого изготавливается цемент; это также позволило бы избавить город от загрязнения. Город даже готов был взять на себя расходы, и они, в чем можно убедиться из детально составленного плана, были бы невелики. Предложение сочли вмешательством «узколобой буржуазии Быстрицы» и отвергли: индустриализация — слишком важное дело, чтобы доверять его стаду отсталых словаков. Цементный завод стали возводить в соответствии с первоначальным планом, и на Банску-Быстрицу посыпалась пыль, как то происходило во время индустриализации и с другими населенными пунктами Словакии, а доступ в город был затруднен из-за подвесной канатной дороги, по которой доставлялся цемент. Дубчек смолчал. Он редко критиковал партию или правительство за некомпетентность или жестокость. В награду он был направлен в 1955 году в Москву, в Высшую партийную школу. По-видимому, его взволновала оказанная ему честь и возможность повысить свое образование, которое он считал недостаточным. Он чувствовал нехватку «идеологической выучки». Получив образование, Дубчек был назначен Первым секретарем окружного комитета партии Братиславы. Теперь он стал одним из самых высокопоставленных словаков. Он по-прежнему слепо верил в необходимость сохранять преданность партии, но кому конкретно? Возвратившись из Москвы, он узнал, что Хрущев и Новотный говорят не одно и то же. Дубчек проявлял осторожность, чтобы не выразить враждебности по отношению к Новотному, хотя тот отнюдь не стремился скрыть свою враждебность по отношению к Словакии. Дубчек говорил: «Новотный полностью игнорировал все, что относилось к Словакии и чехословацким отношениям, и видеть это, конечно, мне было очень тяжело». Внесенные в конституцию страны в 1959 году изменения уничтожили последние остатки словацкого самоуправления. В то время как словацкий народ возмущался, словацкие лидеры были озабочены лишь тем, чтобы угодить Новотному и выслужиться перед Прагой. Дубчек избегал бывать в специальной зоне отдыха, которую построил Новотный для того, чтобы партийные чиновники проводили там выходные. «Место само по себе очень приятное, оно располагалось в живописном уголке бассейна Влтавы, — вспоминал он. —'' Однако я с отвращением относился к самой идее такого рода — то была скрытая от посторонних глаз роскошь, услаждающая начальство под охраной полицейских». При общении с Новотным наибольшее впечатление на него произвела страсть последнего к карточной игре под названием «марьяж». Бюрократы, искавшие карьерного успеха, жаждали, чтобы их пригласили для игры в марьяж с Новотным. Он раздавал карты внутри огромной бутафорской пивной кружки, построенной напротив его дома специально для приема гостей. Дубчек в этом не участвовал и проводил положенные ему выходные дни, играя с детьми или подолгу гуляя по лесу. Его конфликт с Новотным возник случайно. «Эта конфронтация, — писал он позднее, — проявилась, когда я осмелился высказать предложения, не совпадавшие с его позицией, во-первых, об инвестиционных приоритетах в Словакии, во-вторых, о реабилитации жертв репрессий пятидесятых годов». Но, будучи второстепенной фигурой, Дубчек не мог добиться больших перемен в правительственной политике, он говорил и делал очень мало. В начале 60-х годов Дубчек работал в комиссии Колдера, изучавшей злоупотребления, допущенные правительством в 50-х годах. Эта работа произвела на него неизгладимое впечатление. «Я был ошеломлен, — писал он позднее, — тем, что узнал о происходившем в чехословацких партийных кругах в начале пятидесятых годов». До сих пор остается неясным, действительно ли он не знал об этих злоупотреблениях раньше. Но кажется, он был глубоко взволнован разоблачениями комиссии Колдера — как и многие другие функционеры. На Новотного оказывали сильнейшее давление, добиваясь от него реорганизации правительства. В 1963 году, когда благодаря расследованиям комиссии Центральный Комитет Коммунистической партии Словакии получил возможность сместить своего Первого секретаря, которого рассматривали как пособника Новотного, то в качестве его преемника избрали тихого Александра Дубчека. Это было сделано несмотря на возмущение Новотного, бушевавшего на этом заседании и решившего впредь никогда больше не посещать пленумов Центрального Комитета Компартии Словакии. В середине 60-х годов для Новотного настали тяжелые времена. Его друг Хрущев был смещен в 1964 году своим протеже Брежневым, устроившим против него заговор, и в это же самое время дела в чехословацкой экономике приняли угрожающий оборот. Экономика уже на протяжении целого ряда лет находилась в катастрофическом состоянии, но чешские земли в 1945 году имели гораздо более высокий стартовый уровень по сравйению с другими странами советского блока, и потому потребовались годы, прежде чем последствия дурного управления оказались столь тяжелыми. Словакия, не имевшая таких стартовых возможностей, как Чехия, пришла в упадок гораздо скорее. Но теперь даже чехи стали испытывать нехватку продовольствия, так что правительство ввело «постные четверги». Слабая поддержка из Москвы и несчастья народа в собственной стране заставили Новотного пойти на послабления в политической сфере. Цензура стала менее жесткой, артисты, писатели и режиссеры получили ббльшую свободу, некоторым были позволены поездки на Запад. Тем не менее Чехословакия по-прежнему оставалась репрессивным государством. Был закрыт литературный журнал «Твар». Существовали пределы того, что можно писать, говорить или делать. Однако даже то немногое из дозволенного радовало жителей Чехословакии. Страна не была больше изолирована от Запада, и чешская молодежь сразу же обрядилась в голубые джинсы, «техасы», ставших одним из символов западной молодежной культуры, и устремилась в клубы слушать биг-бит, как тогда называли рок-н-ролл. Молодых людей с длинными волосами, бородами и в сандалиях в Праге стало теперь больше, чем в других странах Центральной Европы. Да, в сердце новотновской Чехословакии появилась нестриженая мятежная молодежь 60-х — хиппи, или это была мятежная молодежь 50-х — битники? 1 мая 1965 года, когда остальная часть коммунистического мира праздновала революцию5, молодежь Праги избрала «майским королем» (Krai Majales) длинноволосого бородатого битника, приезжего поэта Аллена Гинзберга. «Оммм», — пропел Гинзберг, еврей, обратившийся в буддизм. Хотя Гинзберг и принял восточную религию, для многих молодых жителей Праги он являлся воплощением восхитительного нового мира Запада. Во время коронационной речи он бил в маленький гонг, распевая буддийский гимн. Агенты тайной полиции несколько дней следовали за ним по темным живописным переулкам в центре города, после чего депортировали его из страны. Как он сам писал в своем стихотворении: И я был выслан из Праги на самолете сыщиками в строгих чешских костюмах. Ия — король мая: это сила юной страсти. И я — король мая: это усердие в красноречии и активность в любви. И я — король мая: это древняя человеческая поэзия, и сто тысяч людей выбрали мое имя. И я — король мая, и через несколько минут я приземлюсь в лондонском аэропорту... Но, как сказал бы Стефан Дубчек, даже в Америке никто не свободен. Когда Гинзберг возвратился в США, ФБР внесло его имя в список лиц, представлявших угрозу безопасности государства. * * * Несмотря на все эти репрессии и обилие усатых людей в строгих чешских костюмах, Прага стала популярной. В 1966 году страну посетили три с половиной миллиона туристов, четверть которых приехала с Запада. Чешские фильмы, такие как «Поезда, которых так ждут» и «Магазин на главной улице», смотрели во всем мире. Милош Форман стал одним из нескольких чешских режиссеров, получавших предложения из разных стран. Чешские драматурги, втом числе и Вацлав Гавел, снискали международное признание. Гавел, чьи сочинения, по-видимому, были сильны не столько художественной, сколько политической стороной, писал одну за другой абсурдистские пьесы антитоталитарного содержания, что являлось совершенно невозможным в Советском Союзе. В «Меморандуме» бюрократия препятствует развитию творческой мысли, навязывая искусственный язык под названием «птидепе». Гавел часто высмеивал язык коммунистов. В другой пьесе персонаж пародирует манеру Хрущева не к месту вставлять простонародные словечки. Персонаж Гавела говорит: «Тот, кто спорит с москитной сеткой, никогда не будет танцевать с козой рядом с Подмоклым». В ноябре 1967 года небольшая группа пражских студентов решила сделать то, что, как они слышали, делают студенты на Западе. Они устроили демонстрацию. Поводом явилось плохое отопление и освещение в спальнях — не первый и не последний случай, когда выступление студентов имело столь банальные причины. Как и многие студенты на Западе, поступавшие подобным образом, пражане нашли, что устраивать демонстрации очень интересно. Они шествовали в вечерних сумерках, неся свечи, символизировавшие тусклый свет, при котором, по их словам, им приходится заниматься. Это производило впечатление рождественской процессии. По узкой мощеной улице они достигли Градчан — замка, в котором располагалось правительство. Внезапно путь им преградила полиция. Полицейские повалили нескольких демонстрантов на мостовую. Примерно пятьдесят человек в итоге нуждались в госпитализации. Пресса сообщила лишь о нападении «хулиганов» на полицию. Но люди смогли расшифровать этот код, и слухи об избиении быстро распространились, порождая все более широкое движение протеста. В конце 1967 года студенты Праги разбрасывали листовки и вступали в полемику на улице с первым встречным, то есть они вели себя так же, как студенты в Берлине, Риме или Беркли. Разумеется, за ними следила тайная полиция, но то же самое происходило и со студентами Западной Европы и Америки, когда они устраивали демонстрации. В 60-е годы возросли как словацкий национализм, так и враждебность Новотного по отношению к словакам. В 1967 году словаки бросили вызов правительству и Советам тем, что праздновали победу Израиля в Шестидневной войне. В 1968 году Ближний Восток стал любимой политической метафорой в советском блоке. Признаком неблагополучной обстановки стало то, что поляки, вместо демонстрации лояльности советским интересам, радовались поражению арабских войск, обучавшихся советскими инструкторами. В марте 1968 года Румыния пожелала продемонстрировать свое независимое поведение, она укрепила свои связи с Израилем. После того как 5 января 1968 года Новотный был снят с поста руководителя партии, волнение и надежда наполнили сердца жителей Чехословакии, по стране поползли слухи. Существует популярная версия, почему Брежнев не защитил Новотного. Когда Брежнев сместил Хрущева, Новотный был настолько расстроен падением своего советского друга — они вместе проводили отпуска, — что сразу же обратился в Кремль. Каков бы ни был ответ Брежнева, он не удовлетворил Новотного, тот в сердцах бросил трубку, прервав разговор. Брежнев же обладал долгой памятью. В 1968 году надежды и доверие Советского Союза и Чехословакии были возложены на высокого, мрачно выглядевшего человека с бледной улыбкой на устах, человека, никогда не демонстрировавшего особых способностей или творческой фантазии — качеств, которые ни при каких обстоятельствах не понравились бы советской стороне. У Дубчека не было зарубежного опыта. За исключением пребывания в Советском Союзе, он только дважды ездил за границу, оба раза в 1960 году, когда два дня провел в Хельсинки и отправился на партийную конференцию в Ханой. Но Дубчек и многие его коллеги по новому руководству принадлежали к уникальному поколению. Оно росло при нацистской оккупации и видело тот мир добра и зла, в котором Советский Союз символизировал силы добра и надежд на лучшее будущее. Один из членов дубчековского руководства, Зде-нек Млынарж, писал: «В этом смысле Советский Союз был страной надежды для тех, кто желал после войны решительно порвать с прошлым и кто, конечно, не знал, что на самом деле происходило в Советском Союзе». Главным вопросом того момента было не то, почему Советы согласились с приходом к власти Дубчека, а то, почему в Чехословакии на это пошли. После двадцати лет сталинизма нация жаждала перемен, и его соотечественники решили, что он способен осуществить их. Как отмечает Млынарж, до 1968 года народ Чехословакии ничего толком не знал о характере своих лидеров и население уже к этому привыкло. По случайности Дубчек очень подошел молодежи 1968 года. Он не был авторитарен, и этот факт будто бы подтверждался его скованностью на публике и скучной манерой речи. Чехословацкой молодежи нравилась его неловкость. В конце концов это перерастет в склонность к слишком медленному принятию решений, что окажется слабой стороной антиавторитаризма. Однако в узком кругу он мог быть в высшей степени убедителен. И что вызывало особенную симпатию, он был руководителем, умевшим слушать других. По-видимому, то, что верно в отношении Людовита Стура, этого поносимого властями словацкого националиста, в доме которого родился Дубчек, справедливо и в отношении его самого. Как он говорил в одной из своих речей неортодоксального характера тремя годами ранее, защищая Стура, «он понимал все главные социальные и экономические проблемы и тенденции своего времени и понимал, что все надо изменить». Предававшаяся рыданиям семья Дубчека не могла не видеть, что он попал в трудное положение. Ему нужно было убедить возбужденный народ в том, что он, Дубчек, является реформатором, а также показать приверженцам старой линии в партии и правительстве, то есть людям Новотного, что ему можно доверять, и, наконец, продемонстрировать Москве, что он контролирует эту неконтролируемую ситуацию. Дубчек не стал господином положения. Он просто плыл по течению, балансируя между враждующими силами и используя ту ловкость, с помощью которой он делал свою партийную карьеру. Он не пытался провести чистку сторонников Новотного. Спустя годы Дубчек выскажет предположение, что это, возможно, было его величайшей ошибкой. Произошел раскол в Политбюро, которое избиралось голосованием Центрального Комитета партии, пять его членов занимали одну позицию, остальные пять — другую. И в этих влиятельных органах, Политбюро и ЦК, обычно состоявших из креатур руководителя страны, находилось множество старых коммунистов, лояльных Новотному и весьма не любивших Дубчека. Даже шофер и секретари являлись людьми Новотного. То, что Дубчек был словаком, еще больше запутывало обстановку, поскольку словаки ожидали, что он даст зеленый свет словацкому национализму, тогда как чехи поговаривали о «словацкой диктатуре». Страну тем временем охватил дух раздора, подогревавшегося требованиями и ожиданиями. Журналисты хотели знать, чего ожидать от цензоров при новом режиме. Дубчек не давал ответа на эти и другие волнующие вопросы. Позднее историки будут говорить о «январском молчании». Казалось, Дубчек пришел к власти совершенно неподготовленным, держа в голове лишь несколько установок самого общего характера: он хотел помочь словакам, поднять экономику, удовлетворить требования о расширении свобод. Но у него не было программы, и за каждым его шагом следили сторонники Новотного и Кремль. Дубчек чувствовал себя в Праге неуютно — она была слишком велика и роскошна для человека, привыкшего к Братиславе с ее немногочисленными улицами вдоль Дуная, с нарядными, но ветшающими строениями времен старой империи, с блочными домами с низкими потолками и одиноким замком на заросшем холме. Как немногие памятники старины, так и новые дома понемногу разрушались. Но теперь, в возрасте сорока шести лет, Дубчеку неожиданно для него самого предстояло работать во дворцах, и человек Новотного вез его по городу, блистающему европейской пышностью. Молчание Дубчека породило вакуум, который стал заполняться самыми различными вещами. 27 января в историческом центре города появился магазинчик, в котором продавались газеты как из социалистических, так и капиталистических стран. При нем находилось помещение для чтения, где подавали кофе. По вечерам люди набивались в маленькую комнату и читали советские, западногерманские, французские и английские газеты. Без цензуры национальная пресса процветала, тиражи газет заметно выросли и распродавались еще рано утром. Ни в одной из стран советского блока пресса не являлась столь раскованной. Газеты были полны материалами о коррупции в высших кругах. Кроме того, они нападали на советский режим, разоблачая и высмеивая его. Они выступали за то, чтобы дальше и дальше разоблачать советские чистки и продажность чешских властей. Объектом разоблачений стал Новотный. Он и его сын, как стало известно, использовали правительственные лицензии на импорт для приобретения автомобилей «мерседес», «альфа-ромео», «ягуар» и других машин западного производства, чтобы завоевывать сердца дам. Когда им надоедали те или иные автомобили, они всегда могли продать их своим друзьям с огромной прибылью для себя. Скандал имел тяжелые последствия для Новотного — 22 марта ему пришлось отказаться от президентского поста, хотя Дубчек этого вовсе и не добивался. На следующий день Дубчека и других руководителей вызвали на встречу представителей стран Варшавского Договора в восточногерманский город Дрезден, центр которого носил следы пожаров и бомбежки. Примечательно, что румыны приглашены не были. Зимой 1968 года Москва больше волновалась из-за Румынии, чем из-за Чехословакии. В то время как Дубчек старался быть хорошим, дисциплинированным коммунистом, румынский лидер Николае Чаушеску демонстрировал свою растущую независимость после Шестидневной войны, когда Румыния оказалась единственной из стран советского блока, которая не прекратила дипломатических отношений с Израилем. Чехословакия же первой последовала указанию Советов и разорвала с ним отношения, из-за чего Новотный стал выглядеть в глазах многих чехов слишком уж раболепным. В конце февраля румыны покинули зал во время международной конференции коммунистических партий в Будапеште. Хуже того, двумя месяцами позже, на встрече стран Варшавского Договора, Румыния отказалась подписать коммюнике, одобрявшее сокращение советских и американских ядерных вооружений. Как заявила румынская сторона, тем самым она выражает протест против того, что две сверхдержавы ведут диалог, не учитывая позиции менее сильных стран. Так что если Советы и имели неприятности с кем-то из членов социалистического блока, Дубчек не ожидал, что речь может идти о нем. Всего за несколько недель до этого он поместил статью в московской «Правде», где писал, что «дружба с СССР — основа нашей внешней политики». Дубчек думал, что встреча в Дрездене будет конференцией по экономическим вопросам. На ней он подвергся неожиданному испытанию. Один за другим лидеры других стран — Польши, Восточной Германии — стали обвинять его в том, что он утратил контроль над ситуацией в Чехословакии. Дубчек ждал реакции единственного союзника, венгерского руководителя Яноша Кадара. Националисты в Братиславе могли с усмешкой следить за тем, как словак обращается за помощью к старому угнетателю своей родины. Но даже Кадар обрушился с нападками на него. Наиболее же тревожной всем, и особенно Брежневу, казалась необузданность прессы, которая пишет, о чем пожелает, полностью выйдя из-под правительственного контроля. От лидеров союзных стран Советский Союз требовал прежде всего контроля над ситуацией. Пресса сыграла заметную роль в смещении Новотного с президентского поста, а теперь добивалась его исключения из Центрального Комитета КПЧ и даже из партии. Это было правдой. Даже после Дрездена, когда Дубчек впервые понял, до какой степени пример его страны оказывает пагубное влияние на советский блок, ему не удалось обуздать прессу. Свобода собственной прессы, равно как и доступ к западным средствам массовой информации, являлась для народа Чехословакии делом первостепенной важности. Это был вопрос, в котором не оставалось места для компромисса. Но пути назад не было. Чехословакия не могла дольше жить в изоляции. Неожиданно Прагу увидели и стали обсуждать по телевидению в других странах, и то, что чехи и словаки делали в начале 1968 года, стало своего рода ударной волной, пронесшейся по всему коммунистическому миру, и привлекло внимание молодежи на Западе. Пражский студент, который прежде никогда не видел окружающего мира, бородатый и в джинсах-«техасах», слишком грубых и слишком синих, неожиданно почувствовал себя частью мирового молодежного освободительного движения.Александр Дубчек, 1968
Глава 3 ПУГАЮЩИЙ РАЗЛЕТ ГУСТЫХ БРОВЕЙ
Формирование общества всегда в большей мере определяется природой тех средств, с помощью которых люди общаются, нежели содержанием общения.Можно ли сказать, что событие совершилось (будь то марш протеста или сидячая забастовка), если оно не освещено в прессе? Подобно падению дерева в чаще леса, оно остается незамеченным. Между лидерами общественных движений, начиная с Мартина Лютера Кинга-младшего и Джона Льюиса и кончая Стоукли Кармайклом и X. Рэпом Брауном, существовали значительные расхождения во взглядах на тактику борьбы за гражданские права, но все они были согласны в том, что события должны освещаться в прессе. И для сторонников насилия, и для поборников ненасилия стало очевидным, что насилие как таковое и риторика, связанная с насилием, являются наиболее эффективным средством, дабы привлечь внимание журналистов. Даже сам Махатма К. Ганди — великий адепт и вдохновитель движения ненасилия — очень хорошо понимал это. Он был крайне озабочен тем, чтобы в Индии, Великобритании и Америке становились известны все организованные им мероприятия, и часто говорил о том, что насильственные меры Великобритании имеют свою ценность, поскольку привлекают внимание прессы. Таков парадокс ненасилия: сами протестующие могут быть сторонниками ненасилия, однако их протесты должны вызвать в ответ насильственные действия. Если же обе стороны не будут применять насилие, то ничего интересного не выйдет. Мартин Лютер Кинг не раз сожалел об этом, однако, встретив Лаури Притчетта, он понял, что такова реальность и от нее никуда не уйти. В 1962 году, когда движение «Конференция руководства христианских общин Юга» («Southern Christian Leadership Conference»), возглавляемое Мартином Лютером Кингом, выбирало город для проведения кампании сопротивления ненасильственными методами, Притчетт был главой полиции города Олбани (штат Джорджия). О сегрегации на сельской территории юго-западной Джорджии шла дурная молва; именно там прошел один из первых федеральных процессов по поводу избирательных прав в рамках действия Закона о гражданских правах 1957 года. Маленький Олбани с населением семьдесят пять тысяч жителей, примерно треть которых составляли чернокожие, был самым крупным населенным пунктом в этой области, и Эс-эн-си-си, получив поддержку местного чернокожего населения, решил начать там кампанию по регистрации избирателей. Регистрационная кампания подразумевала также десегрегацию общественных зданий, в том числе автовокзалов, и Мартин Лютер Кинг внес соответствующее предложение. Между участниками движения протеста и законниками произошло множество стычек, сопровождавшихся массовыми арестами; арестован был и Кинг. Однако ни разу не было случая, чтобы вежливые и даже деликатные шерифы применили насилие. У Притчетта были возможности предупреждать любые действия протестующих, поскольку он имел информаторов среди темнокожей общины Олбани. Так как насилие не применялось, Кинг и другие руководители движения ни разу не имели возможности позволить вмешаться в происходящее Роберту Кеннеди и министерству юстиции, как то было в других местах: вмешательство на государственном уровне привлекло бы к событиям больше внимания. Еще хуже было то, что Притчетт импонировал журналистам, так как держал себя просто и любезно. Он сообщил им, что изучил идеологию ненасилия Мартина Лютера Кинга и сам принял юридические меры в пользу ненасилия. Кингу пришлось отвечать на критические выпады со стороны активистов борьбы за гражданские права, обвинявших его в том, что, будучи арестован в Олбани, он оказался в безопасности и мог не предпринимать никаких действий. Однако по этой же причине он не смог выступить в имевшей резонанс телевизионной передаче «Встреча с прессой». А в итоге из тюрьмы его освободил лично сам Притчетт, заявив при этом, что «неопознанный негр» внес за него залог и заплатил соответствующий штраф. Многие полагали, что Кинга выкупил его отец, известная в Атланте фигура (некоторые именовали его Папаша Кинг). На самом деле хитрый Притчетт попросту освободил его. В целом кампания в Олбани была катастрофой. После Олбани лидеры движения за гражданские права научились избегать притчеттов и выбирать те города, где полицейские отличались особой ретивостью, а нрав начальства был злобным и переменчивым. «Участники общественных движений испытывают ощущение, что то, что попадает в сводку новостей и воспринимается как новость, по-настоящему ценно», — заявил Джин Робертс, уроженец Северной Каролины, писавший о проблеме гражданских прав в «Нью-Йорк тайме». В 1965 году, во время марша в Сельме (Алабама), Мартин Лютер Кинг заметил, что фотограф журнала «Лайф» Флип Шульке не фотографирует, а помогает тем, кого избили полицейские. Позднее Кинг разыскал фотографа и объяснил ему, что он принесет больше пользы, если будет не помогать демонстрантам, а снимать их. «Ваше дело — запечатлеть то, что с нами происходит». В 1965 году в Сельме грузная женщина средних лет по имени Энни Ли Купер изо всей силы ударила шерифа кулаком. Это привлекло внимание фотографов, и они начали снимать, как три шерифа хватают женщину. Затем она позволила шерифу ударить ее. Он размахнулся и ударил ее дубинкой так сильно, что журналисты услышали звук удара. Они сделали и снимок: шериф Кларк замахивается дубинкой на беспомощную женщину. Фото попало на первые полосы газет по всей стране. По словам Мэри Кинг из Эс-эн-си-си, «умелое использование новостей, передаваемых средствами массовой информации, для воспитания общества является современным эквивалентом борьбы с помощью «пера», и «перо» по-прежнему остается сильнее, нежели клинок». По мере того как деятельность движения за гражданские права приобретала все больший резонанс в средствах массовой информации, Мартин Лютер Кинг стал их любимцем. Он оказался первым лидером подобного движения, ставшим звездой СМИ, и поэтому далеко обогнал в популярности своих предшественников и современников, а его влияние сделалось значительно более сильным и непосредственным, чем раньше. Ральф Эбернати говорил: «Мы знаем, что превращаемся в символы». Участники движения часто обвиняли Кинга в том, что он привлекает к себе всеобщее внимание, ему достаются все похвалы и аплодисменты. На самом деле движение таким образом его использовало. Он редко говорил что-то новое. Но, обладая харизмой и будучи ярким оратором, чье присутствие на телевидении заставляло события «работать», он был звездой поневоле и в большей мере чувствовал себя как дома, находясь в церкви, нежели на демонстрации или пресс-конференции. Однажды он сказал: «Я ощушаю в себе присутствие двух Мартинов Лютеров Кингов. Я сам себе удивляюсь... Моя собственная карьера озадачивает меня. Тот Мартин Лютер Кинг, о котором говорят люди, есть нечто совершенно чуждое для меня». После Олбани телевидение стало неотъемлемой частью стратегии любой кампании. В «Конференции руководства христианских общин Юга», организации Кинга, Эндрю Янг выполнял работу главного советника по средствам массовой информации, или по крайней мере тем из них, которые контролировались белыми. Он понимал: для того чтобы движение ежедневно упоминалось в телепередачах, необходимо каждый день давать сообщения, короткие и драматичные — «сильные укусы»; при этом их нужно дополнять «наглядными иллюстрациями». Янг подчеркивал (а Кинг быстро усвоил), что ежедневные заявления Мартина Лютера Кинга должны занимать не более шестидесяти секунд. Многие активисты Эс-эн-си-си считали, что Кинг и его организация зашли слишком далеко, что они неумеренно используют СМИ. Они полагали, что он увлечен участием в краткосрочных событиях, годных только для новостей, тогда как им хотелось вести более серьезную общественную работу на Юге, чтобы добиться фундаментальных изменений; медленный процесс, который не годится для телекамер. Однако факт оставался фактом: к 1968 году движение за гражданские права, движение «Власть черных», антивоенное движение, даже конгресс и рядовые политики — все оказались глубоко заинтересованы вопросом о том, как привлечь телерепортеров, или, выражаясь словами тогдашнего корреспондента Си-би-эс Дэниела Шорра, «как нажать кнопку». * * * Две инновации в телевизионном мире полностью изменили новостные передачи — видеозапись и прямое спутниковое вещание. Эти технологии были разработаны в 60-е годы, и хотя ни та ни другая не использовались в полную силу до 70-х, к 1968-му они уже вызвали изменения в самом мышлении создателей новостных программ. Видеопленка недорога, ее можно использовать повторно, и она не требует проявки перед использованием в эфире. В 1968 году большинство новостей по-прежнему снималось на 16-миллиметровую черно-белую пленку, причем камеры, как правило, устанавливались на треногах, хотя существовали и ручные камеры. Поскольку черно-белая пленка была дорогой и ее обработка требовала времени, снимать на нее все подряд было нельзя. Телерепортеры должны были приготовиться и ждать сигнала корреспондента. Когда он считал, что сцена становится интересной — иногда оператор принимал решение самостоятельно, — то давал сигнал, оператор нажимал кнопку и начинал снимать. «Можно снимать в течение десяти минут, чтобы в итоге получить лишь одну минуту, — говорил Шорр, — но два часа подряд снимать нельзя». Другое, что стало очевидно Шорру, — «проблема децибелов. Как только кто-то повышает голос и произносит: «Но как вы можете сидеть тут и говорить то-то и то-то?», — мне следует нажать кнопку, поскольку телевидение любит драматизм, конфликт. А все, что связано с конфликтом, могло иметь шанс появиться на телеэкране — в шедшей тем вечером программе Кронкайта, в подготовке которой все мы принимали участие». Присутствие камер начало оказывать примечательное воздействие на общественность во время дебатов. Шорр, которому доводилось вести сообщения из сената, вспоминал: «Они часто повышали голос безо всякой на то причины — зная наверняка, что этим привлекут к себе наше внимание». Однако не только политики-парламентарии позволяли себе резкие высказывания для того, чтобы телевизионщики «нажали кнопку». Как это «работает», поняли Эбби Хоффман и Стоукли Кармайкл. Понял это и Мартин Лютер Кинг. В 1968 году, через десять лет после начала работы с телевидением, Кинг понял, что проиграл это соревнование. Он пожаловался Шорру, что телевидение провоцировало чернокожих лидеров на произнесение жестких пламенных речей и вовсе не было заинтересовано в его принципе ненасилия. «Когда негров побуждают к насилию, не задумываетесь ли вы, что помогаете совершать его и несете за это ответственность?» — задал Кинг вопрос Шорру. «Продолжал ли я искать несущую в себе угрозу информацию, «сильные укусы», дабы иметь возможность выступить в вечерних «Новостях»? — спросил Шорр сам себя в минуту раздумий. — Боюсь, что да». Другим изобретением, которое привело к изменению телевидения, стала прямая передача с использованием спутников. Первой такой передачей стала трансляция 18 декабря 1958 года магнитофонной записи голоса президента Дуайта Эйзенхауэра, произносившего рождественские поздравления. Первые спутники, такие как «Эли бед» («Ранняя пташка»), не были геостационарными (то есть их положение относительно Земли не оставалось постоянным), и по этой причине могли принимать сигналы из той или иной точки Земли только по нескольку часов в день. Спутниковая передача важнейших сюжетов требовала счастливого совпадения столь многих условий, что первые несколько лет подобное удавалось очень редко. В те дни сюжеты из Европы обычно сообщались в Штатах только на следующий день, поскольку надо было успеть переправить пленку на самолете в США. Первый сюжет из Европы, попавший в американский эфир в тот же день, был передан не по спутниковой связи. В 1961 году, когда началось сооружение Берлинской стены, строители приступили к работе так рано, что с учетом опережения по времени, которое давала разница в часовых поясах, Си-ди-эс смогло переслать пленку в Нью-Йорк вечерним «Новостям». Президент Кеннеди сожалел, что для сообщения о произошедшем по телевидению потребовалось полдня и у него не осталось времени сформулировать свой ответ. Фред Френдли, глава отдела новостей Си-ди-эс, понимал, что связь со спутниками, способными немедленно передавать информацию, со временем станет доступна практически из любой точки планеты в любое время суток. Он также понимал, что эта инновация, хотя и труднодоступная, в один прекрасный день изменит, так сказать, природу не только теленовостей, но и новостей как таковых. В 1965 году он пожелал, чтобы для показа в программе вечерних новостей Кронкайта (ее показывали в семь часов вечера по нью-йоркскому времени) из какой-либо точки земного шара была проведена прямая передача с помощью спутника. Выбирая, из какого места на планете «Эли бед» может получить информацию в семь часов по нью-йоркскому времени, он остановился на Берлине, дававшем материал для новостей уже несколько лет. Шорр находил -ся возле Берлинской стены — она всегда могла послужить «наглядной иллюстрацией» — и это было «вживую»! Уверения Шорра, что в середине ночи возле Берлинской стены ничего не может произойти, не возымели действия. Он не понимал, в чем суть дела, а дело было в том, что все было «вживе». «Итак, я действительно стоял там, — рассказывал Шорр. — Вот стена; за ней — Восточная Германия, и больше ничего. А потом, так как мы использовали осветительные приборы, послышался лай собак. Собаки начали лаять, и я произнес: «Вы слышите, как время от времени собаки начинают лаять, преследуя неких несчастных жителей Восточной Германии, которые пытаются бежать. Не знаю, может быть, это происходит прямо сейчас». Сколько чепухи! Но все было «вживую». Си-би-эс даже вела переговоры с судом в Германии, разбиравшим дело нацистских преступников, чтобы тот провел заседание после полуночи: тогда его можно было бы показать «вживую» (вместо того чтобы записать обычное дневное заседание на пленку и дать ее в эфир вечером). Эпоха «живых» геленовостей началась. Согласно заявлению официального представителя американской армии, вторая неделя 1968 года — именно тогда прозвучало послание президента о положении в стране — была отмечена своеобразным рекордом: количество вражеских солдат, убитых в течение одной недели, оказалось максимальным за все время ведения войны и составило 2968 человек. До этого подобный «рекорд» был поставлен, когда 25 марта 1967 года оказалось, что за истекшую неделю было убито «всего» 2783 вражеских солдата. В конце недели произошло и другое событие: в Сан-Франциско государственный секретарь Дин Раск отстаивал свой внешнеполитический курс перед полуторатысячной аудиторией; затем состоялся торжественный обед, а тем временем полиция снаружи разгоняла дубинками антивоенную демонстрацию, в которой участвовало около четырехсот человек. Еше трое американских военнослужащих в пятницу, 12 января, попросили у Швеции политического убежища. В предыдущий вторник четверо моряков дезертировали с авианосца «Интер-пид» и получили вид на жительство в Швеции. Расовые проблемы также обострились. Изменение настроения, уже получившее название «противостояние белых», отчасти стало реакцией на рост преступности, а также на то, что молодежь и ее кумиры, звезды контркультуры, открыто употребляли запрещенные препараты. Однако прежде всего оно было связано с реакцией на волнения среди чернокожего населения в городах севера США. В порыве откровенности (типичном и одновременно эпатирующем) Норман Мейлер в книге 1968 года «Майами и осада Чикаго» — это была одна из трех его книг, опубликованных в том году, — описывает пресс-конференцию Ральфа Эбернати, на которую лидеры борьбы за гражданские права опоздали на сорок минут. «Репортер задумался о собственных эмоциях, поскольку до сего момента не осознавал их отчетливо. — Лишь немногим уступая в скромности Шарлю де Голлю, Мейлер писал о себе не «я», а «он». — Ощущение было простое и очень неприятное для него самого: его утомили негры и их права». Но затем последовало более важное признание: «Если он ощутил это лишь как намек, то какая волна гнева может прокатиться по всей Америке?» Изначально, как правильно ощущали большинство южан, движение за гражданские права удачно сочеталось с тем предубеждением, которое остальная часть страны испытывала по отношению к Югу. Движение воспринималось как героическое до тех пор, пока речь шла о южных штатах и пока критика касалась лишь дремучих неандертальцев с именами вроде Булл Коннор. Но в 1965 году Мартин Лютер Кинг поднял вопрос об «обеспечении жильем» чернокожих в городах северных штатов. Теперь большинство белого населения Америки стало относиться к движению несколько иначе, чем прежде: негры уже не просто хотят ходить в школу и ездить в автобусах где-то в Алабаме, они хотят стать соседями белых. Кинг и другие лидеры также стали все более активно выступать против вьетнамской войны. Надо сказать, ^то к 1967 году, когда Кинг начал открыто критиковать войну во Вьетнаме, он оказался последним из числа борцов за права человека, кто сделал это. Антивоенные настроения среди большинства участников «Конгресса за расовое равноправие» («Congress of Racial Equality, CORE») и Эс-эн-си-си дали о себе знать в 1965 и 1966 годах. Многие советники Кинга в «Конференции руководства христианских общин Юга» довольно вяло критиковали правительство во время войны. В 1967 году МОУБ и его лидер Дэвид Деллинджер, который препятствовал вербовке новобранцев во время Второй мировой войны, предприняли решительную попытку вовлечь Кинга в антивоенное движение. Среди советников Деллинджера были такие, кто говорил, что антивоенное движение оказалось слишком связано с черными лидерами, а это может оттолкнуть от него потенциальных сторонников. Многие белые воспринимали участие негритянских лидеров выходом за законные рамки, которых должен держаться руководитель движения за права человека. В глазах белых не имел значения тот факт, что всего лишь 11% населения было чернокожим, в то время как среди американских военнослужащих во Вьетнаме негры составляли 23%. Чер-ные-де теперь пытались диктовать, какую внешнюю политику проводить Америке. Чемпион по боксу в тяжелом весе Мухаммед Али, возможно, единственный из чернокожих, который появлялся на телеэкранах чаще, чем Кинг, отказался участвовать в войне, заявив: «У меня нет конфликтов с Вьетконгом». Его признали виновным в уклонении от призыва, и неделю спустя после того, как Джонсон произнес речь о положении в стране, его апелляция была отклонена. Имя Мухаммед Али выбрал, когда вступил в ряды «Черных мусульман» в 1963 году. До этого его звали Кассиус Клей. Но, по его мнению, это было «имя раба». «Черные мусульмане», «Власть черных» и особенно «Черные пантеры», которые все более обретали вес, оправдывали насилие, разбой и перестрелки с полицией, вызывая страх у белых. Пожары в черных гетто летом предыдущего года стали для многих последней каплей. Кинг заявил, что поведение поборников «Власти черных», таких как Стоукли Кармайкл, дает белым возможность оправдания, которая им так нужна. «Сам Стоукли не представляет собой проблемы, — сказал Кинг. — Проблема заключается в белых и их отношении к нам». Необходимость принимать ответные меры в связи с городскими беспорядками таила в себе опасность Для правивших тогда демократов. По словам вице-президента Губерта Хамфри в интервью журналу «Тайм», «очередные летние беспорядки следующей осенью могут стать для нас роковыми». Кинг был противником Джонсона и не испытывал симпатий к демократам, но еще больше он опасался «ненависти белых». «Еще два лета, подобных минувшему, и к власти придут правые и у нас будет фашистское государство», — говорил Кинг. 12 января президент Джонсон выступил с ежегодным посланием о положении в стране. Ни разу подобное обращение не освещалось телевидением столь широко. Все три радиоканала и станция «Национальное образовательное телевидение» (предшественница Пи-би-эс) не только передали эту речь, но и пригласили гостей после того, как прозвучало обращение, дабы они его обсудили. Си-би-эс отменила такие программы, как «Зеленые владения», «Он и Она» и «Шоу Джонатана Уинтерса», и все это время — два с половиной часа — передавала речь президента (беспрецедентный случай). В свою очередь, Эн-би-эс, чтобы обеспечить двухчасовую трансляцию, пожертвовало программой «Крафт мюзик-холл» с участием Алана Кинга и «Run for Your Life» («Беги изо всех сил»). Эй-би-си отложила показ драмы «Лаура» (Трумэн Капоте написал сценарий специально для того, чтобы в ней могла блеснуть сестра Джеки Кеннеди Ли Бувье). Для проведения анализа, предпринятого Эдди Альбертом и Евой Габор, Си-би-эс привлекла лидера сенатского меньшинства Эверетта Дирксена. Эн-и-ти провела свой, более обширный, анализ, и именно эта компания положила начало новой тенденции, посвятив более трех часов вещания посланию оположении в стране. Что касается речи 1968 года, то тут они просто не лимитировали время, а кроме этого, привлекли таких звезд, как Дэниел ратрик Моу-нихан, Карл Стоукс — чернокожий мэр Кливленда — и экономист Мильтон Фридман. Если считать, что речь являлась своего рода барометром, свидетельствовавшим об изменениях направления политического курса, то для либерализма новости были неутешительны. «Великое общество» — это выражение Джонсон использовал для своего обширного списка социальных программ, которые, как предполагалось, должны были ознаменовать его правление, — упоминалось лишь единожды. Аудитория, состоявшая из представителей конгресса, членов кабинета и высокопоставленных военных, время от времени хлопала в ладоши, выражая свое одобрение (неизменное сопровождение подобного рода мероприятий). Как писал журнал «Таймс», президента прерывали аплодисментами пятьдесят три раза, хотя, по сведениям из того же источника, особого энтузиазма в большинстве подобных случаев у аудитории не наблюдалось. Единственный раз все встали и устроили оратору овацию, когда Джонсон произнес: «Американцы устали от растущей преступности и беззакония в своей стране». В качестве новой социальной программы Джонсон обнародовал «Закон о безопасности на улице» — новый закон о наркотиках, содержавший весьма суровые наказания за продажу ЛСД (это вещество стало наиболее популярным в кампусах). Он также предложил ввести закон о контроле над оружием, чтобы остановить «убийства по заказу», — это было единственное положение его пятидесятиминутной речи, которое снискало аплодисменты сенатора Роберта Кеннеди. Джонсон ответил на предложение Ханоя относительно переговоров — при условии, что США прекратят бомбардировки и другие враждебные действия, — заявлением: «Бомбардировки будут прекращены немедленно, если переговоры начнутся сразу же и при этом у нас будут основания считать, что они принесут результаты». Затем он с гневом упомянул о насилии, учиненном врагом во время новогоднего перемирия, добавив: «И другая сторона не должна извлекать преимущества из ограничений, которые налагаем на себя мы». Это был существенный момент, так как уже звучали призывы к новому прекращению огня в связи с наступающим вьетнамским Новым годом. Опрос общественного мнения, проведенный через два дня после речи, показал, что большее число респондентов воспринимают в качестве сторонника жесткого курса в политике (своего рода «ястреба») именно Джонсона, а не кого-либо другого, будь то Никсон или Рейган. Так как в то время политиков предпочитали делить на «ястребов» и «голубей» (на основании того, являются ли они сторонниками войны или мира), нежели на демократов и республиканцев, это было примечательно. В возможность избрания Никсона и Рейгана никто не верил, так как они были «ястребами». Статья в «Нью-Йорк тайме мэгэзин» была озаглавлена: «Почему пролегла трещина между Эл-Би-Джи6 и нацией?» Макс Френкель высказал предположение, что у Джонсона возникают трудности не потому, что он плохо использует средства массовой информации, но потому, что он не умеет убеждать: «Мерой неудачи г-на Джонсона является не только Вьетнам — возможно, даже не Вьетнам. Это прежде всего его неудача в попытке заставить большинство населения страны разделить его глубокую веру в то, что его военная политика является правильной. Если бы это ему удалось, то тогда его критики — даже из числа оппозиции — должны были по меньШей мере выказывать уважение к гениальности поставленной им цели. Но в действительности большинство из них, кажется, пришли к выводу, что его нельзя убедить с помошью рациональных доводов: он просто боится признать свою «ошибку» или слишком робок, чтобы рискнуть и отступить... Он репетирует многие из своих публичных выступлений, некоторые из них анализирует впоследствии. Он уже опробовал все возможные способы освещения на телевидении — все, что известны в театральном искусстве, — и все жанры политического обращения». Френкель цитирует, как президент сравнил себя с Тедом Вильямсом — эффектным нападающим «Бостон ред сокс». Несмотря на все его рекорды и внушительные достижения, зрители неизменно издавали возгласы удивления и неприязни, когда он поднимался на пьедестал почета. «Они говорят, — пояснял Джонсон, — что я выбил мяч за ограждение, но на самом деле им не нравится мой вид, когда я стою на пьедестале». «Тайм» опубликовал полученное затем письмо, подписанное пятью сотрудниками исторического факультета в Корнелле: «С другой стороны, Джонсона и Вильямса объединяет нечто такое, чего президент, очевидно, предпочел не заметить: 1) бостонские любители футбола освистывают Вильямса не из-за того, что он как-то не так стоит на пьедестале, а из-за того, что в потасовке он редко одерживает верх; 2) проблемы Вильямса часто бывают вызваны его грубостью, незрелостью суждений и поведением, недостойным спортсмена, в присутствии публики и прессы; 3) кроме того, Вильямс никогда не может нанести удар в левую часть поля; 4) встречаясь с новым препятствием, таким как уловки Бордо, Вильямс никогда не пытается одержать верх с помощью хитрости, но настаивает на усилении правой части поля». На следующий день после выступления президента Мартин Лютер Кинг, который из всех лидеров борьбы за гражданские права наиболее неохотно высказывался против войны, призвал к массовому маршу на Вашингтон в начале февраля, дабы выразить протест против «одной из самых жестоких и бессмысленных в истории человечества войн». «В этом политическом году мы должны довести до сознания конгрессменов по обе стороны баррикад и президента Соединенных Штатов, что более мы не станем терпеть, не станем голосовать за людей, которые продолжают считать убийства вьетнамцев и американцев лучшим способом достижения таких целей, как свобода и самоопределение в Южной Азии». Традиционно первый день заседаний конгресса посвящается формальным вопросам, однако начало второй сессии XIX конгресса в середине января было отмечено тем, что пять тысяч женщин, многие из которых были одеты в черное, в знак протеста против войны во Вьетнаме прошли маршем, исполняя песни. Их возглавляла восьмидесятисемилетняя Джанетт Ранкин — первая женщина, ставшая членом конгресса. 21 января в зале Нью-Йоркской филармонии должно было состояться единственное представление концертной программы под названием «Бродвей за мир, 1968», объявленной в афишах как «величайшее в истории собрание звезд». Среди тех, кто согласился участвовать, были Гарри Белафонт, Леонард Бернстайн, Пол Ньюмен, Джоан Вудвар, Элли Уоллах, Карл Рейнер, Роберт Райан, Барбара Стрейзанд, а также Томми Смотерс, ставший одной из главных звезд года на телевидении. Средства от концерта должны были пойти на проведение избирательных кампаний кандидатов в сенат и конгресс, выступавших против войн, многие из которых находились тут же, чтобы встретиться со своими сторонниками после окончания программы. Даже Уолл-стрит оказалась настроена против войны. Брокерская контора «Пен Веббер, Джексон и Кертис» опубликовала в формате газетной полосы собственноручно написанный и подписанный документ. В нем объяснялось, почему мир — в интересах инвесторов и почему он «та вещь, которая может обеспечить максимальное повышение стоимости акций на биржевом рынке». Через четыре дня после выступления Джонсона Роберт Кеннеди, присутствуя на ежегодном официальном обеде в Торговой палате Рочестера (штат Нью-Йорк), предложил поднять руки за или против продолжения войны. Около семи сотен было против. Лишь около тридцати — сорока рук было поднято в поддержку военной политики. И все же Джонсон продолжал считаться лидером предвыборной кампании (сами выборы должны были состояться в ноябре). Январский социологический опрос показал, что 48% одобряют его как президента (таким образом, сохранялась тенденция к росту числа его сторонников: в октябре прошлого года они составляли 38%). Днем спустя после выступления Джонсона, когда до открывающих кампанию предварительных выборов в Нью-Хэмпшире оставалось всего восемь недель, аналитики-демократы сошлись со своими коллегами-республиканцами в том, что президент обгонит Юджина Маккарти при соотношении 5:1. В тот же день, когда Джонсон произнес свою речь — как будто бы он сам распорядился на этот счет! — войска Северного Вьетнама и Вьетконга после тяжелейших боев, продолжавшихся десять дней, прекратили все наземные боевые действия. Американские военные догадались, что враг собирает свежие силы и накапливает ресурсы. Согласно сведениям «селектив сервис» («системы воинской повинности для отдельных граждан»), в 1968 году в армию должно было быть призвано триста тысяч человек, что составляло на семьдесят тысяч больше, чем в 1967 году. Поскольку американская демократия не ставит никаких пределов мании величия граждан, всегда актуален вопрос: «Если случится так, что Вас пригласят в Белый дом, выразите ли Вы президенту свое отношение к нему, и тогда Вам придется продемонстрировать дурные манеры, или же Вы будете любезны с ним и упустите шанс?» В январе 1968 года Эрта Китт, маленькая и хрупкая певица кабаре, сделавшая карьеру в клубах левобережной части Парижа в конце 50-х, оказалась перед необходимостью решения этого вопроса, когда жена президента, леди Берд Джонсон, пригласила ее на «ленч для дам» в Белый дом. В связи с недавними начинаниями президента тема мероприятия была обозначена следующая: «Что могут сделать граждане в поддержку “Закона о безопасности на улице”?» Около пятидесяти женщин сидело в столовой семьи Джонсон — с желтыми стенами; в тон им были тарелки подобраны с золотым ободком и столовые приборы из золота. Блюда, начиная от ракового супа и кончая любимым мятным десертом леди Берд, подавались одно за другим. Дамы по очереди (большинство — белые, из привилегированных слоев населения) высказывали свои взгляды относительно причин уличной преступности. Но все пятьдесят застыли в молчании, ошеломленные, когда Китт оперлась на возвышение и отчетливо произнесла своим звонким, как хрусталь, голосом: «Вы отправляете лучших людей страны туда, где они будут убиты или искалечены. Они выражают свой протест, выходя на улицы. Они будут курить марихуану, чтобы повеселиться. Они не желают ходить в школу, потому что их отберут у матерей, чтобы убить во Вьетнаме» В нескольких появившихся сообщениях отчеты о неожиданной стычке слегка различались. По версии журнала «Тайм», Китт сказала: «Неудивительно, что ребята бунтуют и обкуриваются. Для тех, кто не понял, объясняю: курят марихуану». После минутного молчания миссис Ричард Дж. Хагес, жена принадлежащего к партии демократов губернатора Нью-Джер-си, сказала: «Я чувствую, что должна высказаться. Могу я сказать несколько слов в защиту войны?» Она сообщила, что ее первый муж был убит во время Второй мировой войны и что у нее восемь сыновей, причем один из них — ветеран ВВС. «Никому не хочется отправляться во Вьетнам, однако все сделают это — и они, и их друзья». Она добавила, что ни один из ее сыновей не курит марихуану, и гости, почувствовав некоторое облегчение, зааплодировали, в то время как Китт смотрела на нее, скрестив руки на груди. Миссис Джонсон, заметно побледнев — некоторые говорили, что она чуть не плакала, — встала и подошла к возвышению (любая хорошая хозяйка во время вечеринки с коктейлями поспешила бы к месту ссоры, желая ее смягчить). Она вежливо заметила: «Я молю Бога о том, чтобы наступил честный и справедливый мир. Но война продолжается, и этот факт не отменяет необходимости трудиться во имя добра, в том числе и предпринимать усйлия для улучшения образования, укрепления здоровья нашего народа и бороться против уличной преступности. Уличная преступность — это одна из проблем, которые мы можем решить. И мне жаль, что я не могу говорить, подобно вам, о том, что происходит в трущобах, поскольку мне не доводилось там жить». Китт, дочь издольщика из Северной Каролины, которая еще подростком была вынуждена помогать семье, с утра до ночи работая на одном из предприятий Гарлема, объяснила: «Мне надо было высказать то, что наболело у меня на сердце. Мне приходилось жить в сточных канавах». Миссис Джонсон ответила искренне и исключительно любезно: «Простите меня. Я не понимаю того, что понятно вам. Мне не приходилось жить в тех условиях, в которых жили вы». По сути, это была.Америка в миниатюре: либерально настроенные белые, исполненные добрых намерений, не в состоянии были понять ярость черных. Каждому хотелось прокомментировать этот инцидент, благо он широко освещался в прессе: многие аплодировали смелости Китт, многих напугала ее резкость. Мартин Лютер Кинг заявил, что, хотя певица была гостьей первой леди, «она поступила правильно», поскольку «выразила переживания многих людей»: ведь Джонсоны «не знают, какие чувства на самом деле владеют народом». В начале 1968 года Джин Робертс получил распоряжение оставить свою излюбленную тему борьбы за гражданские права, которую он освещал в «Нью-Йорк тайме», и отправиться в Сайгон. По сравнению с правами человека вьетнамская тема представлялась мирной. «Мне казалось, я покинул поле битвы». В Вашингтоне он получил ряд инструкций от правительства США. На брифинге, проводимом Си-ай-эй, он задал вопрос: «Была ли одержана победа в последнем сражении?» Представитель Си-ай-эй ответил: «Есть шесть весомых причин полагать, что победа была одержана». Он назвал эти шесть причин. Тогда Робертс спросил: «Есть ли основания считать, что нам нанесли поражение?» Чиновник заявил: «Есть восемь веских оснований считать, что это было поражение». Далее он перечислил их. В Белом доме Робертс получил инструкции от высокопоставленного члена администрации (он дал обещание сохранить в тайне имя этого человека). «Забудьте о войне, — сказал тот. — Война окончена. Теперь нам нужно завоевать мир. Вещь, которую вам нужно держать в центре внимания... — и тон его был таким, как будто он сообщал секретный код, — это рис 1R 8». — «Что?» — «Рис IR 8!» Правительство США провело широкомасштабные эксперименты и обнаружило, что рис IR 8 дает высокий урожай дважды в год. Это, уверял он Робертса, самая главная на данный момент новость Вьетнама. Робертс прибыл в Сайгон вскоре после наступления нового года по западному календарю и принялся расспрашивать о рисе [R 8. Никто о нем не слышал. В конечном итоге он узнал о фестивале риса, проводившемся в безопасной провинции Южного Вьетнама. Оказалось, что это был фестиваль риса IR 8. В маленьком поселке на скорую руку были сколочены трибуны. В углу несколько фермеров сидели на корточках, жуя длинные стебли травы. (По всему миру фермеры точно так же собираются кучками и жуют травинки.) Робертсу, который вырос в сельской местности, сцена показалась знакомой, и он решил, что, возможно, поболтать с этими фермерами будет полезно. Он подошел к ним вместе со своим переводчиком и тоже присел на корточки. «Что вы думаете об этом рисе IR 8?» Фермер разразился взрывом отрывистых звуков. Переводчик пояснил: «У него есть некоторые возражения по этому поводу». Тогда Робертс настоял, чтобы тот дал дословный перевод от первого лица. Он вновь задал свой вопрос. Слова вновь посыпались изо рта фермера с частотой автоматной очереди. «В основном, — объяснил переводчик, — он говорит следующее: “Пропади пропадом рис IR 8”. Другие фермеры согласно кивали. Первый фермер продолжил свою речь. Переводчик пояснил: «Мой отец сажал рис «Дельта Меконга», и его отец так делал, а до этого — его отец. Если для всех поколений моих предков этот рис был достаточно хорош, зачем нам что-то другое?» Другие фермеры по-прежнему энергично кивали. «Но тогда, — спросил Роджерс, — если вы так считаете, почему вы приехали на фестиваль риса IR 8?» Теперьфермер уже не говорил, а лаял. «Потому что ваш президент, — тыча пальцем в Роджерса, он имел в виду президента Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхе, — ваш президент послал отряд людей с винтовками, и они велели мне садиться в автобус». Роджерс понял, что, так или иначе, сюжет для «Новостей» здесь, безусловно, есть, но положение, в котором он оказался, было нелегким. Его информатор из правительства взял с него обещание сохранить его имя в тайне. Однако государственная программа (или ее провал) существовала, и от этого некуда было деться... В то время, когда он еще продолжал работать над историей о рисе IR 8, настал его черед освещать горячие новости Вблизи старого центра провинции Хью на северном побережье Южного Вьетнама, в Да-Нанге, разгорелось сражение. Происходило это близ рубежа между Северным и Южным Вьетнамом; пошел слух, что со стороны северян ожидается массированная атака. Робертс отправился в Да-Нанг на самолете. Когда аэроплан пролетал над северными территориями, Робертс посмотрел в иллюминатор и увидел внизу Сайгон — в огне. О рисе IR 8 он так никогда и не написал. В тот день — день вьетнамского Нового года, 30 января, — рано поутру воздушная база в Да-Нанге подверглась атаке Это было лишь частью запланированного нападения, в котором участвовало шестьдесят семь тысяч человек, сражавшихся на стороне Северного Вьетнама, на тридцать шесть городов в провинции и пять крупных центров, включая Сайгон. В середине ночи, предшествовавшей нападению, пятнадцать человек во главе с Нгуен Ван Сау — неграмотным фермером из предместий Сайгона — собрались в одном из сайгон-ских гаражей. Нгуен Ван Сау начал участвовать в борьбе четыре года назад, вступив в Сайгоне в группу саботажников. Незадолго до описываемых событий в награду за хорошую работу он был принят в Народную Революционную партию. Он и его группа тайком разносили боеприпасы и взрывчатку в корзинах с помидорами по окрестностям. Именно о деятельности этой группы, численность которой едва превышала двенадцать бойцов — гораздо больше, нежели о многих действиях остальных шестидесяти семи тысяч, — говорили по всему миру в связи с событиями, получившими наименование «Тет Оффенсив». Группу Нгуен Ван Сау отличало то, что ее атака лучше всего освещалась в прессе. Ее задача заключалась в нападении на посольство США. С этого участка сотрудникам пресс-службы удобно было вести репортаж, тем более что многие жили по соседству, До сих пор в большинстве случаев сообщения о боевых действиях во Вьетнаме приходили уже после самих событий (в лучшем случае, если сражение было достаточно длительным, репортеры могли проникнуть в гущу боя). Но что касается посольства США, то здесь репортеры пользовались неповрежденными линиями связи: сюжет можно было обработать тут же, поблизости, а пленку быстро переправить. К тому же они имели преимущество из-за разницы часовых поясов. Нападение произошло 30 января, но в Соединенных Штатах все еще было 29-е. К 30 января Соединенные Штаты и весь остальной мир получили информацию в виде фотоснимков и на пленке. Все увидели, как американские солдаты укрываются на территории своего посольства, как на земле лежат тела американцев, как их тащат и увозят в кузовах грузовиков. Громоздились трупы вьеткон-говцев. Несколько дней подряд американцы наблюдали за солдатами США — погибшими или прячущимися за стенами. Нгуен Ван Сау и его группа погрузились в такси и маленький грузовой автомобиль «пежо» и поспешили к посольству, где открыли огонь по охранникам. Первое сообщение об атаке поступило в нью-йоркское бюро Ассошиэйтед Пресс через пятнадцать минут, когда нападающие пробивали первое отверстие в стене, окружающей территорию посольства. Стреляя, они ворвались внутрь, ранили первых двух охранников, однако им, как сообщают, удалось убить Нгуен Ван Сау. Затем партизаны начали обстреливать территорию посольства ракетами. В «Новостях» нападающих уже именовали группой самоубийц. В 7.30 утра по местному времени, когда битва по-прежнему продолжалась, в Нью-Йорке было 6.30 вечера и телепрограмма Эн-би-си «Хант-ли-Бринкли рипорт» уже имела готовый сюжет (правда, пленки не было). Прозвучало сообщение, что двенадцать нападаю-щих-самоубийц удерживают здание; при этом возникла некоторая неразбериха относительно того, кто стреляет по зданию и кто находится на территории посольства. Но так или иначе суть американцы уловили. Наконец военной полиции удалось протаранить ворота на джипе (в первые минуты нападения они были заперты охранниками). Следом за Эм-пи7 явились репортеры с камерами, чтобы заснять мертвые тела, дыры от пуль, упавший герб посольства. К 9.15 обороняющиеся победили, и одно из наиболее известных сражений вьетнамской войны завершилось. В нем было убито 8 американцев. Вся группа Нгуен Ван Сау была перебита. Выполнение этого задания и вправду было самоубийством. Плана бегства им не предоставили. Шестьдесят семь тысяч вьетконговцев, участников партизанской войны, вступил во время «Тет Оффенсив» в бой с почти миллионом солдат, четыреста девяносто тысяч из которых были американцами. Генерал Уильям С. Вестморленд, любивший подкреплять свои доказательства подсчетами тел убитых врагов, немедленно заявил, что атака провалилась и стоила врагу немало людских жизней. Однако при этом он сказал, что «видел свет в конце тоннеля», но больше никто ему особенно не верил. В действительности по истечении недели вьеткон-говцам не удалось захватить ни одного города; потери составили около половины их боевого состава. В последующие семь лет войны партизаны Вьетконга никогда более не играли в ней ведущей роли именно потому, что их ряды так поредели после «Тет Оффенсив». Борьба продолжалась силами регулярных соединений Вьетнамской народной армии, которую американцы называли Армией Северного Вьетнама. Теперь считается, что четырехзвездный генерал Нгуен Чи Тхан выражал несогласие с планом «Тет», поскольку считал безумием вступать в бой с превосходящими силами противника в сложившейся ситуации, однако он погиб во время американской бомбардировки, до того как вопрос о наступлении был решен. Тем не менее атака привела к более существенному успеху, нежели это представлял себе Северный Вьетнам: с военной точки зрения это была неудача, но с информационной — успех. Не будучи в состоянии дать объяснение этой самоубийственной операции, офицеры американской разведки предположили в тот момент, что ее целью был именно этот аспект: Северный Вьетнам предпринял «Тет Оффенсив», чтобы одержать победу с точки зрения «паблик релейшнз». Результаты были ошеломляющие. Теперь мы привыкли, что война немедленно появляется на телеэкранах, но в 1968 году это было внове. Никогда еще война не достигала гостиных столь быстро. В наше время военные умудрены опытом и сведущи в том, как контролировать средства массовой информации. Но в тот момент, когда разворачивались события «Тет Оффенсив», военнослужащих вооруженных сил США увидели на фоне руин; они были охвачены паникой; они погибали. К февралю 1968 года рейтинг Кронкайта на Си-би-эс и Чета Хантли с Дэвидом Бринкли на Эн-би-си поднялся до такого уровня, какой им и не снился. К моменту, когда пятьдесят шесть миллионов американцев стали обладателями телевизоров, программу Кронкайта смотрели более одиннадцати миллионов семей, а программу Хантли и Бринкли — более чем десять миллионов. В тот месяц впервые началось применение дорогостоящего спутникового вещания, позволявшего незамедлительно передавать с помощью ретрансляторов новости из Японии в Нью-Йорк. Правительство оказалось не в состоянии контролировать представления общественности о войне. Телевизионный критик Джек Гоулд писал в «Нью-Йорк тайме»: «Для огромной аудитории телевизионных программ мрачные картины, показанные на прошлой неделе, оставляют безошибочное впечатление, что Вьетнам находится в агонии и что анализы, проведенные независимо друг от друга государственным секретарем Ди-ном Раском и министром обороны Робертом Макнамарой, появившимся вчера на «Встрече с прессой», могут быть неполны». Печать также уделяла войне больше внимания, чем когда-либо. Журналы «Харпере» и «Атлантик маунтли» посвятили вьетнамской войне специальные выпуски. Весь мартовский выпуск «Харпере», поступивший в продажу в феврале, был посвящен статье Нормана Мейлера об антивоенном движении, где политика США подверглась резкой критике. Весь мартовский выпуск «Атлантик маунтли» был посвящен пьесе Дэна Уэйкфилда, также пронизанной антивоенными настроениями. Хотя оба журнала за всю свою столетнюю историю никогда не посвящали весь выпуск целиком одному-единственному материалу, оба единодушно заявили, что это произошло случайно. Фотоматериалы использовались во время того февральского всплеска активности прессы широко, как никогда. Журнал «Тайм», где обычно использовалась черно-белая печать, вышел в цветном оформлении. Случилось так, что «Тет Оф-фенсив» совпала по времени с международной дискуссией на страницах «Нью-Йорктаймс». Фотоотдел выразил пожелание, чтобы газета использовала нечто большее, нежели случайные маленькие, обычно обрезанные со всех сторон снимки, и после долгих споров «Таймс» согласилась, что, если газету снабдят стоящими фотографиями, они будут занимать целую полосу. Ранним утром фотограф Эдди Адамс бродил по Сайгону в компании других сотрудников Эн-би-си и неожиданно наткнулся на вьетнамских моряков. Они вели человека со связанными за спиной руками, жестоко избитого. Внезапно Адамс увидел шефа Национальной полиции Южного Вьетнама генерала Нгуен Нгок Лоана. Он вытаскивал пистолет. Узник поднял глаза на генерала, и в эту секунду тот вытянул руку и пустил пулю ему в голову. Адамс заснял все это. Он проявил фотографии и поместил их в барабан электронного сканера, который отправил их в Нью-Йорк и разослал по всему миру. Газета «Таймс» согласилась, что это необычные снимки, достойные увеличения при публикации. 2 февраля в верхней части первой полосы газеты появилось фото маленького человека со связанными руками и лицом, обезображенным пулей из пистолета, который генерал Нгуен Лоан держал в вытянутой руке. Ниже помещалась другая фотография: солдат армии Южного Вьетнама с выражением горя на лице держит на руках тело своего ребенка, убитого вьетконговцами. На двенадцатой странице находилось продолжение — три снимка, озаглавленных «Узник», «Казнь» и «Смерть», изображавшие последовательность убийства, зафиксированную Адамсом. Эти фотографии получили более десяти премий на конкурсах фотожурналистики и по сей день входят в число наиболее памятных образов войны. Мир узнал, как выглядит война, настолько подробно, что это не имело аналогов в военной истории. Год спустя Джон Уейн подготовил фильм о Вьетнаме «Зеленые береты», где он был и режиссером, и актером. Рената Адлер, обозреватель «Нью-Йорк тайме», объявила фильм «глупым», «лживым» и «очень плохим». Ричард Шикель написал в журнале «Лайф»: «Война, которая ведется здесь, нисколько не похожа на то, что на самом деле происходит во Вьетнаме, — на то, как мы, и «ястребы», и «голуби», восприняли вьетнамские события благодаря средствам массовой информации». Ни Джон Уейн, ни кто-либо другой из американских производителей фильмов прежде не сталкивался с подобной конкуренцией. Вплоть до этого момента большинство фильмов о войне не напоминали реальность, но теперь, даже если война велась в другой стране, публика уже понимала это, поскольку она уже видела настоящую войну. В 1968 году голливудские производители фильмов впервые получили разрешение на снятие ограничений при изображении насилия. Регуляция с помощью цензуры сменилась рейтинговой системой, поэтому военные действия, снимаемые в Голливуде, можно было изображать столь же ужасными, сколь было ужасным то, что показывали о войне по телевизору, хотя первые фильмы, где применялся новый подход к насилию, такие как полицейский триллер 1968 года «Буллит» и вестерн 1969 года «Дикая команда», не были посвящены военной теме. В связи с фильмами о войне возникла и другая проблема: каждый день публика слушала в «Новостях» военные сюжеты, которые были куда лучше, нежели голливудские штампы, связанные с темой войны. Журналист из Бруклина, идущий по горячим следам, и тихая сцена, где звучит вопрос «Что вы собираетесь делать после войны?», не дотягивали до уровня сюжетов из реальности, таких как история рядового морской пехоты Джонатана Спайсера. Этот забавный чудаковатый парень был сыном методистского священника из Майами. Спайсер отказался сражаться и поэтому был назначен служащим медицинского корпуса. Его товарищи, служившие в морской пехоте, посмеивались над ним, но это скоро прекратилось. Казалось, Спайсер был лишен чувства страха: он оттаскивал раненых от линии огня, прикрывая их своим телом В один из мартовских дней в Кхе-Сан начался артобстрел, в то время как санитары пытались эвакуировать раненых, и Спайсер получил приказ отправляться в свой бункер. Морские пехотинцы, запертые в Кхе-Сан, несколько раз пытались эвакуировать раненых, но всякий раз вьетконговцы начинали обстрел. Спайсер увидел, что им не удается погрузить раненых; он бросился на помощь, и его накрыло взрывом. В полевом госпитале, находившемся на расстоянии всего нескольких ярдов, Спайсер был сочтен мертвым. В таких полевых учреждениях обычно не проводились сложные хирургические операции: пациента в них лишь «чинили» на скорую руку и отправляли в стационарную больницу. Но тут доктор решил, что может спасти Спайсера. Он вскрыл его грудную клетку, начал массировать остановившееся сердце, затыкая дыру пальцем до тех пор, пока не смог зашить ее, и вернул молодого человека к жизни. Однако это была не голливудская история, и три дня спустя рядовой Спайсер, девятнадцати лет от роду, отправленный на корабле в госпиталь в Японии, скончался от ран. Теперь, когда люди могли видеть войну, многим не нравилось то, что они видели. Антивоенные демонстрации в связи с войной во Вьетнаме, в которых участвовали сотни тысяч человек, стали привычным явлением для всего мира. С 11 по 15 февраля студенты из Гарварда (Редклифф) и Бостонского университета провели четырехдневную забастовку и голодовку в знак протеста против войны. 14 февраля десять тысяч демонстрантов (по сведениям французской полиции) или сто тысяч (если верить организаторам) под проливным дождем прошли маршем через Париж, держа флаги Северного Вьетнама и скандируя: «Вьетнам для вьетнамцев», «США, домой» и «Джонсон — убийца». Через четыре дня после этого студенты Западного Берлина провели антивоенный митинг по образцу американских, превзойдя при этом тех, кому подражали. По приблизительным подсчетам, десять тысяч студентов из Восточной Германии и студентов из других стран Западной Европы скандировали: «Хо, Хо, Хо Ши Мин» (это напоминало американский лозунг: «Хо, Хо, Хо Ши Мин, Эн-эл-эф победит»). (Хо Ши Мин назвал возглавляемое им движение «Национально-освободительный фронт», т.е. NLF.) Немецкий студенческий лидер Руди Дучке заявил: «Скажите американцам, что придет день и час, когда мы вышвырнем вас, если вы сами не вышвырнете империалистов». Демонстранты призывали американских солдат дезертировать, что те уже и делали, обращаясь к Швеции, Франции и Канаде с просьбой о предоставлении политического убежища. В феврале в рамках программы «Торонто против призыва в армию» в Соединенные Штаты было отправлено пять тысяч экземпляров брошюры объемом сто тридцать две страницы под названием «Руководство для иммигрантов призывного возраста, въезжающих в Канаду», отпечатанной в подвале одного из домов американцами, уклонявшимися от призыва в Канаде. Кроме правовой информации, она содержала основные сведения о стране; среди прочего в ней имелась глава под названием: «Да, Джон, это Канада». К началу марта даже в Мехико, где студенческое движение имело относительно умеренные масштабы, прошла демонстрация против вьетнамской войны.Маршалл Маклуан и Квентин Файор. «Средство — это воздействие», 1967

«Призыв в армию, пропади пропадом» Американский антивоенный плакат, изображающий сожжение карточки призывника
Служба призыва в ряды вооруженных сил планировала призывать по сорок тысяч человек в месяц, но число это взлетело до сорока восьми тысяч. Администрация Джонсона отменила для студентов отсрочку для завершения образования и объявила, что сто пятьдесят тысяч аспирантов будут призваны в течение ближайшего финансового года, который должен был начаться в июле. Это явилось жестоким ударом не только для молодых людей, планировавших продолжать обучение в аспирантуре (среди них был и Билл Клинтон — лучший студент Правительственной школы Джорджтауна, получивший стипендию Родза для прохождения аспирантуры в Оксфорде), но также и для учреждений, где велась подготовка аспирантов (они заявили, что в результате потеряют двести тысяч абитуриентов и студентов первого года обучения). В одном из университетов руководитель выразил сожаление (с характерным тогда отсутствием политкорректности), что учреждения, готовящие аспирантов, теперь будут обречены обучать «увечных, хромых, слепых и женщин». В Юридической школе Гарварда Алан Дершовиц начал разрабатывать систему легальных путей противостояния войне. Пятьсот профессоров юриспруденции подписали петицию, призывая юристов к активному противостоянию военной политике администрации Джонсона. Случай с пятью тысячами морских пехотинцев в Кхе-Сан, окруженных вражескими войсками численностью двадцать тысяч человек (которых легко было переместить и усилить, прислав подкрепление с северной границы), привел ктому, что семь дней, истекшие 18 февраля, ознаменовались новым рекордным числом еженедельных потерь: убито было пятьсот сорок три американских солдата. 17 февраля лейтенант Ричард В. Першинг, внук командующего Американскими экспедиционными войсками в Первой мировой войне, служивший в 101-й воздушно-десантной дивизии и собиравшийся жениться, погиб под вражеским огнем, разыскивая останки товарища. Поданным социологических опросов, рейтинг президента Джонсона упал столь низко, что даже Ричард Никсон, вечно проигрывавший выборы республиканец, догнал его. Наиболее опасный соперник Никсона из числа демократов, сенатор от штата Нью-Йорк Роберт Кеннеди, по-прежнему настойчиво заявлявший о своей лояльности по отношению к Джонсону, произнес в Чикаго 8 февраля речь. В ней он утверждал, что во вьетнамской войне невозможно одержать победу. «Прежде всего мы должны избавиться от иллюзии, что события последних двух недель можно рассматривать как победу в своем роде, — сказал Кеннеди. — Это не так. Утверждают, что Вьетконг не сможет удержать город. Вероятно, это правда. Но вьетконгов-цы продемонстрировали, что, вопреки всем нашим заявлениям о прогрессе, силе правительства и слабости врага, полмиллиона американских солдат и семьсот тысяч их вьетнамских союзников, имея полное господство в воздухе и на море, используя колоссальные ресурсы и самое современное оружие, не могут обезопасить и одного-единственного города от нападений врага, чьи силы в совокупности насчитывают двести пятьдесят тысяч человек». Во время «Тет Оффенсив» возник неизбежный вопрос: отчего она застигла американцев врасплох? За 25 дней до наступления Тет посольство перехватило сообщение о готовящейся атаке на северные города, включая Сайгон, но не предприняло по этому поводу никаких действий. Даже вероломное нападение во время Тет само по себе не представляло собой ничего нового. В 1789 году, когда разразилась Великая Французская революция и Джордж Вашингтон принес присягу при вступлении на пост президента, вьетнамский император КвангТранг застал врасплох Китай, использовав празднества по случаю Тет, чтобы отвлечь внимание от марша на Ханой. Имея ббль-шие военные силы, нежели Вьетконг, он напал, используя тысячу человек и несколько сотен слонов, и заставил китайцев на время отступить. Был ли Вестморленд знаком с этой широко известной историей — своего рода предтечей «Тет Оффенсив», предпринятой Кванг Трангом? Небольшая статуэтка, изображающая этого императора — подарок друга-вьетнамца, — стояла в кабинете генерала Вестморленда. Кроме того, в 1960 году вьетконговцы уже одержали внезапную победу, напав накануне Тет. Нападения в дни праздника для Вьетнама были почти традиционными. Северовьетнамский генерал Во Нгуен Гьяп начал свою деятельность на военном поприще, вероломно напав на французов рождественским вечером 1944 года. Теперь изображение того самого генерала Во Гьяпа появилось на обложке журнала «Тайм». В самом журнале был помещен фотоматериал, занимавший несколько страниц и выполненный в цветной печати, — нечто необычное для «Тайм» 60-х годов. Это были изображения мертвых тел американских солдат. «Черт возьми, что происходит? — произнес Уолтер Крон-кайт из Си-би-эс, читая сообщения из Сайгона (камера в этот момент была отключена). — Я думал, мы вот-вот выиграем войну». В тот год, когда размежевание в обществе было полным, Уолтер Кронкайт продолжал оставаться «в центре» и чувствовал себя при этом вполне комфортно. Сын зубного врача из Канзас-Сити, Кронкайт был представителем среднего класса со Среднего Запада. Он знал себе цену, но не доходил в своей центристской позиции до самонадеянности, В американских гостиных отгадывание политических пристрастий Кронкайта даже стало своего рода игрой. Для большинства американцев Кронкайт был не тем, кто знает все, но тем, кому довелось узнать те или иные факты. Он был подчеркнуто нейтрален, нейтрален настолько, что наблюдатели изучали его мимику, надеясь хотя бы на этом основании угадать его мнение. Многие демократы, включая Джона Кеннеди, подозревали его в приверженности к республиканцам, а республиканцы, в свою очередь, воспринимали его как демократа. Опрос общественного мнения показал, что американцы доверяли Кронкайту более, чем какому бы то ни было политику, журналисту — любой фигуре, появляющейся на телеэкранах. Просмотрев результаты одного из таких опросов, Джон Бейли, председатель Национального демократического комитета, сказал: «Меня пугает, что, изменив интонацию своего глубокого баритона или подняв свои знаменитые густые брови, Кронкайт может сильно повлиять на мнение тысяч людей по всей стране». Кронкайт был одним из последних тележурналистов, отрицавших, что они интересны сами по себе. Он хотел быть своего рода передатчиком, каналом информации. Он ценил доверие, которое оказывали ему зрители, и считал, что оно обусловлено его правдивостью. При этом он неизменно настаивал на том, что Америка доверяет Си-би-эс, а не ему лично. «Вечерние новости Си-би-эс с Уолтером Кронкайтом» с самого начала своего существования (программа начала выходить в 1963 году) были самым популярным из новостных телешоу. Различие между поколениями (своего рода ярлыком для него стало выражение «generation gap» — букв, «глубокое расхождение между поколениями») не только раскололо все общество, но также проявилось и в журналистике. Дэвид Хель-берстем, работавший корреспондентом «Нью-Йорк тайме» во Вьетнаме, вспоминал, что репортеры и редакторы старшего возраста, которые начали свою профессиональную деятельность во время Второй мировой войны, были склонны поддерживать военных. «Они полагали, что мы не патриоты, и не верили, что генералы лгут». Когда более молодые репортеры, такие как Хельберстем и Джин Робертс, заявили, что генералы лгут, это вызвало сенсацию. «А потом пришло новое поколение, — рассказывал Хельберстем, — которое курило марихуану и знало все о музыке. Мы называли его «головы». «Головы» не доверяли ни единому слову из того, что говорили генералы. Уолтер Кронкайт принадлежал к старшему поколению времен Второй мировой войны, которое доверяло генералам (эта их вера создала Хельберстему определенные затруднения, когда он впервые начал вести репортажи из Вьетнама). Однако хотя в его тридцатиминутном вечернем выпуске новостей это никак не проявлялось, Кронкайт все более начинал подозревать, что правительство США и военные не говорят правды. Он не видел того «света в конце тоннеля», который постоянно обещал генерал Вестморленд. Для того чтобы понять происходящее во Вьетнаме, как представлялось, он должен был отправиться туда и увидеть все сам. Это решение обеспокоило американское правительство. Они могли пережить временную потерю контроля над собственным посольством, но американский народ никогда бы им не простил, если бы они потеряли Уолтера Кронкайта. Глава «Новостей» Си-би-эс Ричард Сэлант боялся того же. Журналистов, бывало, посылали в бой, но не тех, кто представлял для корпорации такую ценность, как Кронкайт. «Я сказал, — вспоминает Кронкайт, — ну, я должен ехать, потому что нам нужны документальные свидетельства насчет Тет. Мы получали ежедневные сообщения, но не знали, где в то время происходили события. Мы могли проиграть войну; если такая опасность реально существовала, я должен был быть там. Это первое. Если в конце концов акция «Тет Оффенсив» окажется успешной, это будет означать, что нам надо спасаться бегством, как мы в конечном итоге и сделали, но я хотел быть там, чтобы видеть, как протекает конфликт». Уолтер Кронкайт никогда не воспринимал себя как знаковую фигуру в истории развития средств массовой информации, как национальное достояние (как оценивали его другие). Всю свою жизнь он видел в себе репортера и не хотел пропускать важные события. Освещая Вторую мировую войну для Юнайтед Пресс Интернэшнл, он был с вместе с союзниками во время высадки в Северной Африке, первого полета бомбардировочной авиации над Германией, высадки в Нормандии, парашютного десанта в Нидерландах. И ему всегда хотелось быть на передовой. Первая реакция Сэланта была вполне предсказуемой. По воспоминаниям Кронкайта, он сказал: «Если вы должны быть там, если настаиваете на том, чтобы ехать, я не собираюсь вас останавливать. Но я считаю, что глупо рисковать жизнью в подобной ситуации, учитывая вашу ключевую роль для нас, и об этом надо серьезно подумать». Но затем он произнес нечто такое, что удивило Кронкайта: «Но если вы собираетесь ехать, я думаю, что вам надо снять документальный фильм о том, как вы туда едете, о том, что вас заставило сделать это. И может быть, тогда у вас найдется что сказать о том, как будут развиваться события в этой войне и к чему это все приведет». Надо заметить, что у Дика Сэланта была черта, известная журналистам Си-би-эс: он запрещал проводить какую бы то ни было редакторскую обработку новостей. Кронкайт рассказывал о нем: «Если приходилось менять какое-то слово в сообщении журналиста и это могло показаться редакторской правкой, продиктованной личным мнением, то в таких случаях он стоял насмерть против каких бы то ни былоизменений. Так было не только со мной: я имею в виду любую редактуру вне зависимости оттого, кто ее проводил». Итак, когда Сэлант объяснил Кронкайту свою идею относительно его поездки во Вьетнам в качестве специального корреспондента, тот ответил: «Здесь неизбежно мое редакторское вмешательство». «Ну что ж, — сказал Сэлант, — я думаю, что, вероятно, для этого настало время. Вы создали себе репутацию, и благодаря вам (и в ходе работы всей нашей компании) у зрителей сформировалось мнение, что информация, передаваемая Си-би-эс, является достоверной и основанной на реальных фактах и что мы, так сказать, находимся в центре. Вы сами говорили о том, что мы подвергаемся критике с обеих сторон. Вы сами же признавали, что мы получаем примерно столько же писем, где нас называют проклятыми консерваторами, сколько писем, где нас именуют проклятыми либералами. Мы поддерживаем войну, и мы являемся ее противниками. Вы и сами говорили, что, если мы положим эти письма на две чаши весов, они будут весить примерно одинаково. Мы не находимся ни поту, ни по другую сторону баррикад и позиционируем сами себя именно так. И если уж мы снискали себе подобную репутацию, то, может быть, нам сослужит хорошую службу это доверие народа — доверие к нашей компании и к вам лично, — если вы выскажете ваши собственные мысли. Сообщите им, как выглядит то, что вы увидите, когда окажетесь там и будете в курсе дела, выскажите им свое мнение». «Это забавно — слышать от вас такие рассуждения», — ответил Кронкайт Сэланту. Кронкайт подозревал, что все завоеванное доверие готово было улетучиться, поскольку он переступил черту, которую прежде никогда не переступал. Си-би-эс также испытывала опасения, что с превращением Уолтера из сфинкса в проповедника высокий рейтинг новостных шоу компании стремительно упадет. Но чем больше Кронкайт и Сэлант размышляли об этом, тем увереннее приходили к мысли, что в наступивший момент всеобщего замешательства общественность жаждет услышать голос, который четко объяснит, что произошло и что должно произойти. Приехав во Вьетнам, Кронкайт ощутил себя счастливым и не мог скрыть этого. Он сфотографирован в одежде военного корреспондента, со шлемом на голове и поднятым вверх большим пальцем — жест одобрения, совершенно бессмысленный в той ситуации. Но с самого начала у него и его команды возникли некоторые сложности. Не удавалось найти аэропорт, где можно было бы приземлиться. Они в конце концов попали в Сайгон 11 февраля и очутились в зоне боев. Излагая Крон-кайту происходящее, Вестморленд заявил: «Как удачно, что известный журналист прибыл как раз в тот момент, когда одержана великая победа! «Тет» исчерпал себя, как мы и надеялись». Но на самом деле тот день был уже двенадцатым, считая от начала «Тет Оффенсив», и хотя Соединенные Штаты отвоевали свои территории обратно, в ходе нападений вьетконгов-цев погибло уже девятьсот семьдесят три американца. Каждая неделя приносила с собой новое рекордное число убитых. За один только день на территории Кхе-Сан было убито пятьдесят шесть морских пехотинцев. Кхе-Сан, где окопались американские морские пехотинцы, находилась вблизи границы между Севером и Югом. Дела там шли все хуже и хуже. Ханой, так же как и французская пресса, начал сравнивать ситуацию с той, что сложилась в Дьен-Бьен-Фу, где вьетнамцы опустошили окруженную базу французской армии в 1954 году. При этом французская печать ликовала почти так же, как жители Северного Вьетнама. В Вашингтоне столь широко циркулировала идея, что США скорее предпочтут применить ядерное оружие, нежели потерять Кхе-Сан и пять тысяч солдат морской пехоты, что один журналист спросил генерала Эрла Дж. Уилера, председателя Объединенного комитета начальников штабов, рассматривается ли вопрос использования ядерного оружия во Вьетнаме. Ответ генерала: «Я не думаю, что ядерное оружие потребуется, чтобы защитить Кхе-Сан», — никого не успокоил. Журналист не упомянул Кхе-Сан в своем широко поставленном вопросе. Из корреспондентов, желающих провести день в Кхе-Сан, был составлен список. Однако Уолтера Кронкайта в него не включили: это сочли слишком опасным. Американские военные не желали потерять Кронкайта. Вместо Кхе-Сан его взяли в Хью, где артиллерия не оставила камня на камне от богато украшенных зданий бывшей колониальной столицы. Как сообщили Кронкайту, американцы вновь установили контроль над Хью, но когда он приехал туда, морская пехота по-прежнему вела бои за этот город. 16 февраля американские морские пехотинцы первого батальона пятого полка захватили двести ярдов городской территории, потеряв при этом одиннадцать человек убитыми и сорок пять ранеными. Именно в Хью американцы впервые познакомились с разработанным в СССР оружием — укороченными легкими АК-47, одинаково эффективными для одиночных снайперских выстрелов и при стрельбе очередями (десять пуль в секунду). Этому оружию суждено было стать символом войны на Ближнем Востоке, в Центральной Америке и Африке. Больше всего обескуражило ветерана войны и корреспондента Кронкайта следующее: солдаты, участники боевых действий, и младшие офицеры сообщали ему версии происходящего, которые абсолютно не совпадали с тем, что говорили ему командиры в Сайгоне. С этим сталкивались многие из тех, кто освещал в прессе события во Вьетнаме. «Столько было очевидной неправды в связи с войной, — рассказывал Джин Робертс. — Это было нечто большее, чем приукрашивание. Нам рассказывали то, чего просто-напросто не было. Офицеры в Сайгоне и солдаты на поле боя говорили прямо противоположные вещи. Это приводило к полному разрыву между журналистами и американским правительством». «Сообщение Уолтера Кронкайта из Вьетнама» было передано 27 февраля в десять часов вечера по западному времени. Поклонники Кронкайта (казалось, почти все население Америки) волновались, видя Уолтера во Вьетнаме, непосредственно в гуще событий, где, как в глубине души всегда считал Кронкайт, и находилось его настоящее место. После того как была разрушена последняя станция вещания, он вернулся туда, где было его место, по мнению Си-би-эс: он вновь сидел за столом, одетый в костюм. Он смотрел в камеру, и взгляд его был столь личностным, столь прямым и лишенным какой бы то ни было наигранности, что девять миллионов зрителей могли почти поверить: он обращается непосредственно к каждому из них. Впечатление искренности усиливалось от того, что он читал текст, написанный им самим (он настоял на этом): «Сказать, что сегодня мы достаточно близки к победе, — значит, вопреки очевидным фактам, поверить оптимистам, которые уже ошибались прежде. Предположить, что мы вот-вот потерпим поражение, — значит поддаться пессимизму; это было бы неразумно. Единственное реалистичное, хотя и неудовлетворительное, заключение состоит в том, что мы застряли на мертвой точке. В том маловероятном случае, если военные и политические аналитики правы, в ближайшие месяцы мы неизбежно узнаем о намерениях врага — если это действительно последний всплеск его активности перед началом переговоров. Но мне все более и более очевидно, что единственный разумный выход — вступить в переговоры, причем не с позиции победителей, но с позиции честных людей, которые живут в согласии со своим идеалом защиты демократии и делают все, что могут. Это был Уолтер Кронкайт. Доброй ночи». Эту позицию едва ли можно было назвать радикальной. Ряд содержащихся в ней утверждений являлся вполне приемлемым для большей части лидеров антивоенного движения. Но в период поляризации, когда каждое мнение оценивалось с той точки зрения, поддерживает ли его обладатель войну или нет, заявление Уолтера Кронкайта прозвучало как антивоенное. Он не принадлежал к поколению 60-х — Кронкайт происходил из поколения Второй мировой войны, и именно тогда он делал карьеру. Необходимость поддержки демократии в борьбе с коммунизмом для Кронкайта была очевидной, и ему никогда не приходило в голову, что его открытая поддержка «холодной войны» стала нарушением занятой им нейтральной позиции. И вот теперь он сказал: следует уйти. Конечно, к тому времени он был неодинок. Даже в передовице консервативного «Уоллстрит джорнал» говорилось: «В целом наши усилия во Вьетнаме можно считать неудачными». Все же, несмотря на все затруднения, стоявшие перед Джонсоном, его реакция на поступок Кронкайта была специфической, как если бы в этот раз он впервые столкнулся с реальной проблемой. Существуют две версии его высказывания. Согласно одной, он заявил: «Если я потеряю Кронкайта, я лишусь поддержки американского среднего класса». Согласно другой версии, цитировались такие слова президента: «Если я потеряю Кронкайта, я проиграю войну». Как сообщалось, шоу Кронкайта весьма сильно подействовало на президента. Кронкайт же твердил о сильном преувеличении своей роли. «Я никогда не спрашивал об этом Джонсона, хотя мы находились в дружеских отношениях. Однако было очевидно, что это была последняя соломинка на спине верблюда — возможно, просто соломинка, и ничего более, — но сам верблюд вот-вот погибнет, его спина вот-вот переломится».
Последствия американских бомбардировок
Для истории широкого вещания существенным стал тот факт, что рейтинг Кронкайта скорее повысился, нежели упал, после того как он высказал свое мнение. Отныне немногие профессионалы стали бы испытывать, подобно ему самому и Сэланту, колебания по поводу необходимости «небольшой редактуры». Заметим, что именно в 1968 году стал возрастать интерес к мнению по политическим вопросам таких персон, как деятели индустрии развлечений, диск-жокеи и ведущие ток-шоу, передаваемых по радио. Внезапно всем, чьи голоса звучали в эфире, независимо от их полномочий, начали задавать вопросы насчет их позиции, начиная от проблемы Вьетнама и кончая положением дел в малых городах. Другая новая тенденция заключалась в том, что политические фигуры начали принимать участие в телевизионных развлекательных программах. Наиболее примечательным из них было шоу Джонни Карсона «Сегодня вечером», но можно назвать и такие шоу, как «Смейтесь вместе с Рованом и Мартином» и «Веселый час братьев Смоутерс». Некоторые не одобряли это все усиливающееся смешение новостей и развлекательных программ. Джек Гоулд писал в «Нью-Йорк тайме»: «Чет Хантли и Дэвид Бринкли наденут модные колготки для своего вечернего дуэта, а Клайв Барнз8 будет анализировать предварительные выборы в Нью-Гэмпшире, — это только вопрос времени». Спустя несколько десятков лет после своего специального репортажа по поводу «Тет Оффенсив» Кронкайт сказал: «Я сделал это потому, что думал, что журналист должен был так поступить в тот момент. Конечно, с нашей стороны это было эгоистично... эгоистическим был мой поступок, да и в том, что Си-би-эс позволила мне его совершить, тоже присутствовал эгоизм». Когда вновь появится популярный ведущий, способный подвергнуть критике самого себя подобно Кронкайту?Глава 4 НАШЕПТЫВАЯ ПОЛЯКАМ НА УХО
Я хочу править так же, как и Ты, всегда тайноСтолкновение противоположностей, характеризующее стиль политиков и коммерсантов, является одним из путей, с помощью которых речь и диалог предохраняют их от выражения протеста и отказа. Герберт Маркузе. ♦Человек одного измерения», 1964 Ни для кого развертывание студенческого движения в «самом счастливом бараке социалистического лагеря» не было такой неожиданностью, как для самих студентов. «Счастливый барак» — это своеобразный польский юмор. Это не значит, что поляки были счастливы, но все же им удавалось отстаивать некоторые свои права, такие как право на передвижение, отсутствовавшее в других странах Восточной Европы. Они, несомненно, были счастливее, чем граждане новотновской Чехословакии. Польское правительство даже установило таксу в пять долларов в твердой валюте для тех поляков, которые хотели выехать за границу. К 1968 году в западных академических кругах уже несколько лет как распространилось мнение о том, что советский блок рушится. Летом 1964 году группа экспертов по вопросам экономики и бизнеса провела в Москве, Польше, Чехословакии и Югославии серию семинаров по проблеме дезинтеграции блока. Принимавший в них участие президент Университета штата Калифорния в Беркли Кларк Керр ощущал разлад в коммунистическом мире, но не имел ни малейшего представления о том, что, вернувшись в университет осенью, он окажется перед лицом первого крупного студенческого выступления. Теперь многие решили, что пришел последний час восточного блока. Когда Дубчек пришел к власти в Чехословакии и Брежнев бросился в Прагу, опытные советологи сразу же вспомнили октябрь 1956 года, когда Никита Хрущев поспешил в Варшаву и встретился с Владиславом Гомулкой, недавно находившимся в опале, вернувшимся в политику и пользовавшимся чрезвычайной популярностью. Несмотря на вмешательство Хрущева, Гомулка пришел к власти, и это неповиновение, проявленное Польшей, воодушевило венгров на восстание против Москвы. Была ли неудачная поездка Брежнева в Прагу прелюдией к мятежу в советском блоке? Великий страх охватил Москву. Вновь взбунтовались Румыния и Югославия. Даже Куба Фиделя Кастро давала Советскому Союзу основания для беспокойства. В разгар трений между СССР и Румынией встречу коммунистических партий в Будапеште бойкотировала Куба, где вовсю шла антисоветская чистка в правительстве. В январе Коммунистическая партия Кубы «разоблачила» просоветскую «микрогруппировку» в своей среде, и девять просоветских кубинских высокопоставленных чиновников были преданы суду и осуждены за «предательство революции». Один из них был приговорен к пятнадцати годам тюрьмы, восемь — к двенадцати, а еще двадцать шесть человек — к срокам от двух до десяти лет лишения свободы. Но хотя поляки и имели в Восточной Европе репутацию смутьянов, не Польша была главной головной болью Москвы в 1968 году. Хотя Гомулка в свои шестьдесят три года пережил Хрущева в политическом отношении, он понимал, что польский национализм и необходимость строить отношения с Москвой требуют лавирования и что нужно избежать всплеска, подобного произошедшему в Венгрии в 1956 году. Но вторжение в Венгрию и вызванное им возмущение в мире также создали трудности для Советов. Гомулка понимал, что Кремль совершил ошибку, и это давало шанс для получения уступок. Советская экономика находилась не в лучшем состоянии, и СССР не мог позволить себе отреагировать на враждебность Запада, вызванную разгромом Венгрии в 1956 году. Поскольку Москва проявляла колебания, это, как казалось, было удобное время, чтобы выяснить пределы возможного. Каковы эти пределы, было неизвестно, но все лидеры социалистического блока, включая Дубчека, понимали, что есть по крайней мере две вещи, которых Кремль им не позволит: выход из организации Варшавского Договора и оспаривание монополии Москвы на господство. Владислав Гомулка представлял собой такую загадку, что для агентов ЦРУ и КГБ попытка проанализировать его действия вполне оправдывала их жалованье. Он был антинационалистом с жилкой польского национализма, человеком, бунтовавшим против Москвы и в то же время лидером, страстно желавшим хороших отношений с СССР, человеком, подозреваемым в антисемитизме, но женатым на еврейке. Польские евреи острили, что брак с такой женщиной кого хочешь сделает антисемитом. Мариан Турский, обозреватель еженедельника «Политыка», говорил, что «между ним и де Голлем было нечто общее... чрезвычайно эгоистичный человек с безграничным самомнением». Гомулке пришлось столкнуться с тремя проблемами сразу, каждая из которых требовала особого внимания: неудовлетворенность населения, обусловленная провалами в экономике; паранойя Москвы; внутренняя борьба за власть с амбициозными генералами, составлявшими заговоры для свержения Гомулки. Согласно Яну Новаку, руководителю польской службы радиостанции «Свободная Европа», министр внутренних дел Мечислав Мочар составил заговор с целью свержения Гомулки еще в 1959 году. Мочар не читал ни Маркса, ни Ленина, да и, если на то пошло, других авторов. Необразованный и неотесанный, он любил власть и хотел превратить «самый счастливый барак социалистического лагеря» в полицейское государство, управляемое им самим. Он являлся представителем группировки крайних националистов, известных как «партизаны». Последние боролись с нацистами в самой Польше и были злейшими врагами так называемых «московитов», группировки, поддерживавшей Гомулку. Те, в свою очередь, боролись с немцами, бежав в Россию и присоединившись к Советам. Евреи, вынужденные оставить Польшу, становились «московитами», а не «партизанами». Чтобы обеспечить себе и «партизанам» приход к власти, Мочар сделал то, что не раз уже делалось в польской истории: разыграл еврейскую карту. В восемнадцатом веке Польша была местом проживания множества евреев, после того как в 1492 году их изгнали из Испании. Однако мало-помалу поляки становились антисемитами, и во время Второй мировой войны многие из них, оказывая сопротивление немцам, объединялись для истребления евреев, уничтожив почти двести семьдесят пять тысяч из трех миллионов проживавших в Польше. После войны выжившие евреи по-прежнему становились жертвами убийств и погромов со стороны поляков. Социализм не означал конца антисемитизма, как то обещали, и евреи волна за волной покидали Польшу в ответ на периодические вспышки такого рода. Польское правительство поощряло выезд евреев в Израиль, выдавая им паспорта и отправляя их в Вену. В среде польских евреев ходила такая шутка: «Как поговорить находчивому еврею с немым?» Ответ: «По телефону из Вены». В середине 60-х в Польше оставалось лишь около тридцати тысяч евреев, и большинство из них отождествляли себя скорее с Коммунистической партией, чем с иудаизмом. Несмотря на периодические всплески польского фанатизма, они чувствовали себя на удивление уютно, считая, что коммунизм — единственная надежда на построение справедливого общества и исчезновение антисемитизма. В действительности для коммунизма иудаизм и антисемитизм были устаревшими понятиями. Антисемитизм, как и иудаизм, оставался фактом прошлого Польши. В 1967 году Мочар выступил с разоблачениями: правительство Гомулки засорено евреями. Многие «московиты», поддерживавшие Гомулку, были евреями, и некоторые из них занимали высокие посты в правительстве. Польские антисемиты соглашались с этим, не нуждаясь в доказательствах того, что евреи — чужаки, агенты иностранных правительств и нелояльны Польше. В Польше польских евреев всегда называли евреями. Поляк по определению христианин. Евреев часто обвиняли в том, что они принимают сторону Советов против Польши или Израиля против Советов. Теперь Мочар заявил, что они виновны и в том и в другом. Все эти события совпали по времени — они произошли в 1967 году, когда арабы были разгромлены израильтянами во впечатляющей Шестидневной войне. Поляки поздравляли Израиль. Гомулке доставляли расшифровки поздравительных телефонограмм, поступавших в израильское посольство от высокопоставленных польских чиновников еврейского происхождения. Разумеется, эти расшифровки фабриковались группировкой Мочара, на самом же деле такие контакты не имели места. Но едва ли Гомулка игнорировал такие обвинения. Израильское посольство получало цветы и телеграммы с поздравлениями со всей Польши, хотя и не от лиц, работавших в правительстве. Поздравления поступали не только от евреев. Поляки спрашивали, не являются ли поляками израильтяне, участвовавшие в Шестидневной войне, — те люди, которые покинули Польшу через Вену. Неожиданно польские евреи стали поляками. Не были ли израильские силы обороны, Хагана, сформированы поляками? На самом деле они были созданы евреем из Одессы, Владимиром Жаботинским, но многие израильские солдаты действительно были выходцами из Польши. Не исчез ли во время этой войны «йойне», антисемитский стереотип трусливого еврея? «Jojne poszedl па woine» — «йойне» пошел на войну» — это даже рифмовали по-польски. И «йойне» даже победили, побив обученные Советами арабские войска за шесть дней. Это была чудесная шутка, и все — не евреи, а поляки — смеялись, пожалуй, слишком громко. Гомулка не являлся горячим поклонником русских, но знал, что сейчас не лучшее время для насмешек над ними. После поражения Советского Союза стало известно, что во время Шестидневной войны Брежнев направил советские атомные подводные лодки в Средиземное море. Затем он напрямую позвонил Джонсону, и оба лидера добились прекращения израильского наступления на Дамаск. Пока все это происходило, Гомулка и другие руководители стран Восточной Европы встретились с Брежневым. Записи секретаря Гомулки показывают: что новости о неудачах арабов приходили во время встречи Брежнева с Гомулкой и другими лидерами одна за другой. Русские чувствовали себя не только побежденными, но и униженными. Гомулка вернулся в Варшаву в сильном волнении. Он говорил, что мир сползает к войне. Затем к нему поступили сообщения от министра внутренних дел и главы тайной полиции Мочара о выявленной симпатии евреев Израилю. В сообщении умалчивалось о том, что аналогичные чувства испытывают и собственно поляки. 18 июня 1967 года в речи на съезде профсоюзов Гомулка говорил об активности «пятой колонны», и эту речь истолковывали как признак того, что чистка евреев, или, как тогда выражались, «антисионистская кампания», может вот-вот начаться. Выражения «пятая колонна» (для обозначения тайных предателей) и «сионист» теперь означали почти одно и то же. Сионизм следует вырвать с корнем, а сионистов убрать с ответственных постов. Но слово syjoninci, обозначавшее сионистов, было мало известно, и некоторые рабочие, которым приказывали участвовать в демонстрациях против syjoninci, несли плакаты: «Syjoninci do Syjamu!» — «Сионисты, убирайтесь в Сиам!» В то время как на Гомулку с одной стороны давил Мочар, а с другой — Москва, стало шириться диссидентское движение среди польских студентов. То, что студенты университетов стали источником беспокойства для верхов, явилось неожиданностью, поскольку они происходили из добропорядочных коммунистических семей и потому были на привилегированном положении. Из грубого материала — общества, ставшего кошмаром, — их родители создали благодаря коммунизму общество большей социальной справедливости и, если говорить о тех, кто был еврейского происхождения, общество, не терпевшее расизма. В конце Второй мировой войны, когда Красная армия быстро гнала немцев на запад, польская Армия Крайова подняла восстание в Варшаве, ожидая прихода советских войск. Но советские войска не пришли, и Армия Крайова, равно как и столица Польши, была уничтожена. Советская сторона утверждала, что ей помешало сопротивление немцев, поляки же говорили, что немцы хотят сокрушить Польшу и поставить ее на колени. Поданным советской стороны, Варшава была уничтожена на 80%, по данным польских историков — на 95%. Когда Красная армия вступила в польскую столицу, лишь одна десятая ее населения, сто тридцать тысяч человек, продолжала жить в городе. Люди жили в тесноте на другом берегу Вислы или обитали в руинах, готовых окончательно рухнуть. Польские коммунисты едва ли не первым делом принялись восстанавливать исторический центр Варшавы, культурную витрину столицы с ее прекрасными старыми живописными домами, построенный в романском стиле национальный театр с высокими колоннадами и барельефами и университет с кампусом, известным своими воротами и садом. Здесь, за черными железными воротами, в восстановленном историческом центре разрушенной столицы, мирно учились дочери и сыновья коммунистов, которые строили новую Польшу. Это не было настоящей демократией. Это не было настоящей свободой слова. Это слегка напоминало пьесу немецкого драматурга Петера Вайсса (1964) «“Преследование и убийство Жана Поля Марата”, поставленное обитателями сумасшедшего дома Шарантон под руководством маркиза де Сада», или «Марат/Сад», — название, получившее известность после английской постановки Питера Брука и фильма 1966 года. Эта пьеса не только дала начало моде на длинные названия, но также стала одной из самых обсуждаемых во всем мире театральных постановок середины 60-х годов. Выражая стремление молодежи во многих странах мира к свободе, автор «Марата/Сада» переносит действие вдень накануне годовщины взятия Бастилии в 1808 году. Лишь недавно закончилась Французская революция, и люди еще не совсем привыкли к свободе. В конце звучала песня «Четырнадцать славных лет», и обитатели сумасшедшего дома пели: Если у большинства мало, а кто-то обладает многим, вы можете видеть, насколько близка наша цель. Мы можем сказать, что любим без пристрастия и страха, а то, чего мы не можем сказать, мы нашептываем вам в ухо. Молодые польские коммунисты не всегда соглашались со своими родителями и испытывали ощущение «несвободы», как это называл другой чрезвычайно популярный немецкий автор середины шестидесятых годов, философ Герберт Маркузе. Польша и многие другие страны советского блока служили примером для теории Маркузе о том, что столкновение противоположностей мешает дискурсу. Чтобы критиковать правительство или «систему», в Польше нужно было уметь говорить иносказаниями. Еженедельник «Политыка» считался либеральным и свободомыслящим, писал о Дубчеке и Чехословакии, хотя преимущественно в форме критики. Часто о событиях говорилось задним числом. Если студенты устраивали акции протеста, «Политыка» об этом не рассказывала. Но она могла сообщить, что студент отказался от своего письма с выражением протеста, и могла даже перечислить кое-что из того, от чего, по его словам, автор теперь отрекался. Из этого рассказа польские читатели могли узнать о письме с выражением протеста и даже кое-что о его содержании. Когда редактор «Политыки» Мечислав Раковский, который несколько десятилетий спустя стал последним Первым секретарем правящей Польской социалистической партии, хотел подвергнуть правительство критике, он писал о нем хвалебную статью, а неделю спустя давал статью, критикующую его собственную. Он «нашептывал вам в ухо». Польская молодежь, ставшая более искушенной в диссидентстве, овладела новой техникой распространения информации. Западным журналистам рассказывали по секрету то, что те хотели бы узнать о польском народе. Особенно охотно имели дело с «Нью-Йорк тайме» и «Монд». Но годились не только эти издания, поскольку уже на следующее утро все это прочитывал Ян Новак и его сотрудники в Вене, где находилась польская служба радиостанции «Свободная Европа». Польская и чешская службы работали вместе, так что поляки могли получать сведения о событиях в Чехословакии, а чехи — о событиях в Польше. В1968 году поляки и чехи знали, что в обеих странах имеет место студенческое движение. Они знали, что то же происходит и в США. Они могли легко узнать и из польской прессы о Мартине Лютере Кинге, сидячих забастовках на Юге, американском студенческом движении и студенческих демонстрациях против вьетнамской войны. Главная официальная газета Польши, «Трибуна люду» («Народная трибуна»), сообщала мало новостей о событиях в Польше в 1968 году, но много писала о войне во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, в особенности о том, как много земель захватил Израиль, и о том, что он не собирается их отдавать назад. Она также много писала о борьбе за права человека и антивоенном движении в США. В официальной коммунистической прессе сообщалось о сидячих забастовках и маршах протеста, которые стали обычным делом в кампусах американских университетов. Но в 1968 году некоторые польские студенты стали использовать эти методы в Польше. По иронии судьбы в «самом счастливом бараке социалистического лагеря» зарубежная пресса не была запрещена. Любой поляк мог сходить в библиотеку и почитать «Монд» или британскую «Гардиан». Однако эти издания были доступны лишь тем, кто умел читать по-французски или по-английски, в том числе и многим студентам. Другим полякам приходилось ожидать передач радиостанции «Свободная Европа». Студенты, туристы, даже бизнесмены, путешествуя за границей, заходили на радиостанцию «Свободная Европа» в Вене и передавали ей различную информацию. Но многие отказывались сотрудничать со «Свободной Европой», поскольку поколение времен «холодной войны» росло, воспринимая капиталистов как врагов, отрабатывая методы защиты в случае американской ядерной атаки в немногочисленных переполненных школах и еще более раздражаясь на их нехватку и тесноту из-за больших расходов на убежища от радиоактивных осадков, которые должна была содержать каждая школа. Известный диссидент Яцек Куронь рассказывал: «Я знал, что радиостанция «Свободная Европа» была создана ЦРУ. Я этого не знал наверняка, но думал так. Но это было единственное средство, которым я располагал. Я бы предпочел иметь дело с более нейтральными СМИ, но других не было». Однако, несмотря на неприятные чувства, которые он испытывал по отношению к «Свободной Европе», ее руководство восхищалось им и доверяло ему. Ян Новак говорил о Куроне: «Он один из самых замечательных людей, с которыми я встречался в своей жизни». Альтернативой радиостанции «Свободная Европа» была «Культура», газета на польском языке, которую издавала группа поляков, живших в Париже. В Польшу могло попасть до пяти тысяч экземпляров, чего было слишком мало, да и переправка их происходила слишком медленно. Куронь вспоминал: «Моей главной заботой было донести информацию до польского народа. Кого избили, кого арестовали. Я был главным добытчиком информации и должен был распространять ее. — Он указал на белый телефон в маленькой темной варшавской квартире. — Этим телефоном я пользовался, чтобы по нескольку раз в день звонить на радиостанцию «Свободная Европа» для передачи им информации, поскольку она немедленно возвращалась в Польшу по каналам СМИ. Однажды я рассказывал им о семерых находившихся в тюрьме, и тут в комнату вошли два агента политической полиции и велели мне идти с ними. «Кого вы собираетесь арестовать?» — спросил я. «Мы собираемся арестовать вас, Яцек Куронь». Поскольку Куронь все еще находился на связи с радиостанцией «Свободная Европа», о его аресте стало известно и немедленно сообщено по радио. Радиостанция «Свободная Европа» вещала для Польши с пяти утра до полуночи, все семь дней в неделю. Радиопередачи велись поляками — носителями языка. Здесь были и музыка, и спорт, и новости к каждому часу. Радиостанция декларировала строгую объективность и отсутствие всякого редакторского вмешательства, чему, однако, верили немногие. Это мало кого волновало. Слушатели радиостанции надеялись, что она передает точку зрения Запада, однако значительная часть информации о Польше поступала из самой Польши. Правительство глушило радиостанцию, но это лишь служило ориентиром. Если поляк настраивался на соответствующую волну и слышал привычный треск в эфире, это означало, что программа была важной. Слова, несмотря на треск, можно было расслышать. «Глушение было нашим союзником, — вспоминает Ян Новак. — Людям становилось интересно, что же от них хотят скрыть». Однажды в 1964 году на радиостанцию «Свободная Европа» в Вене зашел белокурый поляк среднего роста и приятной наружности — он возвращался в Польшу из Парижа. Ему было всего восемнадцать лет, и он являлся последователем двух других, более старших и весьма известных диссидентов — Куроня и Кароля Модзалевского. Молодой человек с энтузиазмом говорил о своем видении социализма, демократического и гуманного. Через четыре года Александр Дубчек назовет это «социализмом с человеческим лицом». Новак так вспоминал об этом молодом человеке, которого звали Адам Михник: «На вид он казался совершенным мальчишкой, но его отличала удивительная для такого возраста интеллектуальная зрелость». Михник родился в 1946 году в семье выжившего во времена холокоста еврея из Львова, ныне находящегося на территории Украины, но в тот момент Львов был польским городом. До войны, когда в мире еще царила тишина, его отец происходил из семьи типичных нищих местечковых евреев. Отец и мать Михника были коммунистами, отца перед войной арестовали как партийного активиста. Но Адам рос в коммунистической атмосфере, где о Розе Люксембург и Льве Троцком (оба по совпадению евреи) говорили как о героях. «Я знал, что я еврей, только потому, что меня называли так антисемиты», — говорил Михник, имея в виду, что до 1968 года он особенно не задумывался о своем еврейском происхождении. В 1965 году Михник был студентом исторического факультета Варшавского университета, одним из тех пятнадцати студентов младших курсов, которые группировались вокруг Куроня и Модзалевского, опытного двадцатисемилетнего исследователя из исторического департамента и члена Коммунистической партии. Они все были коммунистами. Михник говорил о Куроне и Модзалевском: «Они были героями, лидерами». Яцек Куронь, как и Михник, был родом из Львова, но родился до войны. В 1965 году ему исполнился уже тридцать один год. Его мать имела ученую степень по юриспруденции и вышла замуж, уже будучи беременной Яцеком. Она потом не раз с горечью жаловалась, что «появилась на свет для лучших дел». Отец Куроня был инженером-механиком, лидером Польской социалистической партии. Он не любил Советы, и чем больше имел с ними дело, тем больше становился антикоммунистом. В 1949 году, когда Яцек решил вступить в Коммунистическую партию в возрасте пятнадцати лет, его отец горячо возражал против этого решения. Поначалу дискуссионные группы Куроня и Модзалевско-го встречали поддержку со стороны правительства. Молодые коммунисты имели возможность встречаться с партийными функционерами и обсуждать различные проблемы в узких дружеских кружках. Однако в середине 60-х годов стали иногда раздаваться столь неприятные вопросы, что партийные чиновники просто перестали на них отвечать. В ответ на речь Модза-левского к студентам младших курсов партийное руководство запретило деятельность Союза молодых социалистов (ZMS) — дискуссионной группы Модзалевского в Варшавском университете. Изгнанные из университета, члены Союза продолжали встречаться на частных квартирах. В этих встречах принимало участие до пятидесяти студентов. После многих и долгих обсуждений Куронь и Модзалев-ский пришли к выводу, что система, существующая в Польше, не может или не хочет соответствовать учению Маркса. Это был марксизм лишь по имени, по многочисленным ярлыкам, использовавшимся для того, чтобы сбить с толку и обмануть народ. В 1965 году они решили написать и распространить в фотокопиях открытое письмо, в котором говорилось, что господствующая система является обманом и лишена справедливости и свободы. Молодые люди не поставили своих подписей, не желая знакомиться с польской тюрьмой. Но каким-то образом польская политическая полиция узнала об их деятельности и нагрянула в помещение, где производилось фотокопирование. Полиция просто конфисковала оригинал и предупредила Куроня и Модзалевского, что если они будут распространять фотокопии, то их ждет тюремное заключение. Если бы за этим не последовало никакого наказания, то они, возможно, вняли бы этому предупреждению. Однако жена Куроня лишилась работы ассистента профессора, и Куроню и Модзалевскому пришлось немало поволноваться. Спустя несколько месяцев они решили, что у них нет иного выбора, кроме как выразить протест, вступив в открытую полемику, и за это пойти в тюрьму. Куронь и Модзалевский подписали свое открытое письмо, а после подписей добавили слова о том, что ожидают за свои действия трехлетнего заключения. «Мы оказались совершенно правы», — вспоминает Куронь. Они распространили только двадцать копий, но одну из них они передали Ежи Гедройцу, который издавал в Польше газету «Культура», то есть письмо было распространено более чем в пяти тысячах экземплярах в виде газетной публикации. Письмо было переведено на чешский, а затем и на большинство других европейских языков. Его читали по-испански на Кубе и по-китайски в КНР. Его читали студенты в Париже, Лондоне и Берлине. В девятнадцать лет Михник впервые попал в тюрьму вместе с героями поневоле Куронем и Модзалевским. В январе 1968 года диссидентское движение стало набирать силу среди студентов Варшавского университета, но особого резонанса не имело — о нем даже не знали за прекрасными воротами кампуса. Модзалевский говорил, что они блокированы и что нужно выступить. Он всегда предупреждал: когда они сделают это, правительство нанесет удар. Возможность выступить появилась в связи с постановкой пьесы «Дзяды» поэта начала девятнадцатого века Адама Мицкевича, одного из наиболее чтимых мастеров польской литературы. Неоспоримая репутация Мицкевича, не слишком плодовитого автора, основывалась прежде всего на поэме о сельской жизни в Литве «Пан Тадеуш» и пьесе «Дзяды». Одной из приоритетных задач при восстановлении старого центра Варшавы после войны являлась реконструкция украшенной садом площади, обустроенной в 1898 году в ознаменование столетия Мицкевича. Среди роз и плакучих ив стоит бронзовый памятник поэту. Поставить «Дзяды» в Варшаве было столь же естественно, сколь «Гамлета» в Лондоне или пьесы Мольера в Париже. При коммунистах, так же как и при прежних режимах, изучению этой пьесы много внимания уделялось в школе. «Дзяды», что иногда переводят на английский как «Канун праздника предков» («Forefathers’ Eve»), начинается с ритуального вызывания дзядов, умерших предков. Герой пьесы, Густав, умирает в тюрьме и возвращается на землю в облике революционера по имени Конрад. В пьесе отчетливо звучит тема бунта, борьбы с властью, равно как и польская национальная тема, поскольку значительная часть пьесы посвящена борьбе политических заключенных, находящихся в руках русских угнетателей. Но здесь есть также демоны, священник и ангелы. Эта пьеса — очень сложное произведение театрального искусства, трудное для постановки, и потому представляет собой большую проблему для польских режиссеров. 1968 год был звездным часом для театров, временем, бросившим вызов традициям, когда спектакли становились важной темой для обсуждений в обществе. В Нью-Йорке Юлиан Бек и его жена Джудит Малина пытались сломать последние барьеры традиционных постановок в своем «Живом театре» («Living Theater»). В своей гостиной в Верхнем Уэст-Сайде, Манхэттен, они занялись постановкой произведений сложных современных авторов, таких как Гарсиа Лорка, Бертольт Брехт, Гертруда Стайн, а также нью-йоркский писатель-абсурдист и обличитель общественных язв Пол Гудмен. Они устраивали спектакли в театрах и мансардах, где вместо продажи входных билетов собирали пожертвования, а позднее совершили поездку в Париж, Берлин и Венецию, не пользуясь особой известностью и имея очень мало денег. Юлиан делал эффектные и оригинальные декорации из обрезков бумаги. Он занимался постановками лишь время от времени, чаще это делала его жена Джудит (дочь хасидского раввина из Германии и честолюбивой актрисы, устраивавшей чтения классической немецкой поэзии и ставившей пьесы, особенно в стихах). Они все больше и больше увлекались политикой, гордясь тем, что сломали барьер между политикой и искусством. К 1968 году их театр стал серьезной антивоенной силой, и их спектакли обычно заканчивались не только аплодисментами, но и криками «Остановить войну!», «Освободить заключенных!» и «Изменить мир!». В ходе спектаклей мало-помалу налаживался контакт с аудиторией. Иногда актеры подавали еду зрителям, а во время одного из спектаклей прямо на сцене создавалось полотно в духе абстракционистской живописи, которое затем было продано зрителям с аукциона. В Театре шанса дальнейший ход спектакля определяли броском костей. В «Гауптвахте» Кеннета Брауна, темой которой была жестокость в тюрьмах Корпуса морской пехоты, актеры давали волю своей фантазии, изображая издевательства над заключенным. Оригинальная постановка «Марата/Сада» Питером Бруком также оказала влияние на режиссерское искусство во всем мире. В Нью-Йорке в январе была поставлена пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», трактующая сюжет шекспировского «Гамлета» с точки зрения этих двух второстепенных персонажей. Тогда же Джозеф Папп поставил «Гамлета» с декорациями «под современность» и с Мартином Шином в главной роли. Клайв Барнс писал в «Нью-Йорк тайме»: «Гамлет, непонятный для обывателей, которые хотяТ убедиться, что Бард существует для птичек». Ричард Уоттс-младший в «Нью-Йорк пост» отзывался о постановке так: «Безумный бурлеск, временами забавная сатира, временами бессмыслица». Все это было так, однако Паппа хвалили за смелость, смелостью в то время восхищались больше всего. В апреле он поставил новый спектакль, «Волосы. Американский рок-мюзикл из жизни племен», посвященный во многом жизни хиппи и почти не имевший сюжета. Том О’Хорган, перенесший эту постановку на Бродвей, отправил актеров собирать пожертвования и раздавать зрителям цветы. Барнс в очень благосклонной, прямо-таки восторженной рецензии писал: «В одном месте, которое позднее будут называть «голой сценой», известное число мужчин и женщин (надо бы сосчитать, сколько именно) показались в голом виде с ног до головы». По поводу нудизма в «Волосах» в «Пари-матч» указывалось, что были и те, кто возражал против демонстрации голой спины Марата в постановке Брука. В дубчековской Чехословакии подпольные драматурги вроде Вацлава Гавела и Павла Кохута стали мировыми знаменитостями, сочетая в своих сочинениях чешскую кафкианскую традицию абсурдистского остроумия с опасным слиянием политики и искусства в духе Бека. Излюбленной мишенью служила коммунистическая бюрократия. Публичный театр Паппа поставил пьесу Гавела «Меморандум» с Олимпией Дукакис в главной роли, где служащие борются против введения искусственного языка. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в условиях развития театра абсурда повсюду, особенно в соседней Чехословакии, постановка Польским национальным театром именно этой польской классической пьесы должна была стать чем-то поистине необычным. Эта пьеса с ее политической, но также и религиозной составляющей уходила корнями в христианский мистицизм славян и зачастую воспринималась в до-коммунистической Польше как мистическое и религиозноепроизведение. При коммунистах в ней видели прежде всего сочинение политической направленности. Вместо того чтобы выбирать между политическим и религиозным началами, режиссер Казимеж Деймек использовал и то и другое для создания цельного произведения, укорененного в древнем христианском ритуале, но в то же время отражавшего борьбу поляков за свободу. Роль Густава/Конрада играл Густав Голубек, один из самых популярных польских актеров, чья трактовка персонажа была построена на внутренней борьбе и неуверенности. Подобно старым, всем известным мелодрамам, где каждый знает судьбу добрых и злых героев, в «Дзядах» также были знакомые публике моменты, всегда вызывавшие аплодисменты. Большинство таких эпизодов затрагивало национальные чувства поляков, например фраза «Мы, поляки, продали душу за горсть серебряных рублей» или реплика русского офицера: «Нет ничего удивительного в том, что они так ненавидят нас: в течение целого столетия они видели, как из Москвы изливается в Польшу столь грязный поток». Эти моменты производили впечатление на поляков, приходивших смотреть постановку «Дзядов». Пьеса была антицаристской, вполне приемлемой для советского мышления. Она не являлась антикоммунистической. В ней ничего не говорилось о коммунистах и Советах, которых тогда еще не существовало. В действительности это произведение преподавалось и ставилось при коммунистах таким образом, чтобы оттенить политическую сторону. Далекая от проявлений антисоветизма, пьеса была первоначально поставлена предыдущей осенью в рамках празднования пятидесятой годовщины Октябрьской революции, которая привела коммунистов в России к власти. Именно внимание, уделенное в этой постановке христианской вере, встревожило правительство, поскольку коммунизм отвергает религию. Тем не менее никто не счел это серьезным отходом от ортодоксальных взглядов. «Трибуна люду» дала по-становке негативную оценку, но ее критика была не слишком резкой. Просто констатировалась ошибочность представления о том, что мистика играет в этой драме такую же важную роль, как и политика. Чтобы пьеса производила нужное впечатление, доказывал критик, Мицкевича необходимо рассматривать прежде всего как политического писателя. Спектакль посетил Адам Михник. «Я счел, что это фантастическая постановка. Просто потрясающе», — вспоминал он. Затем правительство поступило до странности неразумно: оно запретило эту популярную национальную пьесу в Национальном театре. Хуже того, последним днем постановки было назначено 30 января. Публике стало известно об этом за две недели, и теперь каждый знал, что 30 января — заключительный день этой постановки по решению полиции. Поляки привыкли к цензуре, но прежде о запретах не объявлялось заранее. Правительство словно приглашало людей на демонстрацию. Не было ли это провокацией или кознями генерала Мочара? Историки до сих пор спорят на сей счет. Наряду с теориями о заговоре и контрзаговоре часто высказывалась мысль о том, что правительство просто совершило глупость. Михник вспоминал: «Решение запретить спектакль показывало, что глупое правительство не понимает поляков. Мицкевич — это наш Уитмен, наш Виктор Гюго... Атака на Мицкевича была ярким проявлением варварства коммунистов». Вечером 30 января, когда занавес опустился в последний раз, триста студентов Варшавского университета и Школы Национального театра прошли маршем перед Национальным театром, всего в нескольких сотнях ярдах от памятника Адаму Мицкевичу. Они не рассматривали это как акт неповиновения. Просто коммунистическая молодежь решила напомнить старшим об идеалах коммунизма. Сам Михник, которого власти знали как «смутьяна», в марше участия не принимал. «Мы думали, что возможна эволюция в чешском стиле», — рассказывал Михник. Студенты не опасались, что ответом на их акцию станет насилие. «С 1949 года полиция в Польше никогда не предпринимала действий против студентов». Мих-ник, возможно, рассуждал слишком логично. Здесь, среди ив, перед садом, где росли розы, и бронзовой статуей Мицкевича, который стоит, прижав руку к сердцу, триста студентов были избиты дубинками «рабочими», прибывшими к месту проведения демонстрации якобы для беседы с ними. Тридцать пять студентов было арестовано. Ничего удивительного не было в том, что пресса ничего не сообщила о происшедшем. Михник и другой студент из числа диссидентов, Хенрык Шлайфер, имели разговор с корреспондентом «Монд», которого Михник охарактеризовал как «очень опасного человека». «Крайний реакционер и больше всего заботится о саморекламе». Но два молодых коммуниста не имели особого выбора, если они хотели, чтобы польский народ узнал об этих событиях. После публикации в «Монд» история была подхвачена радиостанцией «Свободная Европа» в Вене, а благодаря ее передачам стала известна всей Польше. Однако тайная полиция заметила, как Михник и Шлайфер встречались с корреспондентом, и когда статья появилась в «Монд», оба они были исключены из университета. Правительство очень кстати увязало все это с «антисиони-стской кампанией». Михник, Шлайфер и многие студенты, участвовавшие в демонстрации, были евреями. В этом не было ничего удивительного, учитывая, что университетские диссиденты происходили из добропорядочных коммунистических семей, где родители учили своих детей бороться за более справедливое общество. Но не так объясняло правительство действия евреев, участвовавших в студенческом движении. Правительство, удалявшее евреев со всех чиновничьих постов по обвинению в сионистском заговоре, теперь заявляло, что так называемое студенческое движение засорено сионистами. Арестованных студентов подвергали допросам. Если они не были евреями, то их спрашивали: «Вы не еврей. Почему же вы всегда вместе с евреями?» Неевреям предлагали назвать имена их еврейских лидеров. Допрашивая еврея, в полиции задают вопрос: «Вы еврей?» Студенты часто отвечают: «Нет, я поляк». — «Нет, вы еврей». Для Польши это привычный диалог.Адам Мицкевич. «Дзяды, или Канун»
Часть II ПРАЖСКАЯ ВЕСНА
Первое, что должна сделать любая революционная партия, — это захватить средства связи. Тот, кто владеет ими, владеет страной. И в наше время это справедливо в большей мере, чем было когда-либо в истории.Уильям Бэрроуз, интервью 1968
Глава 5 В ШЕСТЕРНЯХ НЕНАВИСТНОЙ МАШИНЫ
Работодатели начинают испытывать нежные чувства к этому поколению... Оно воспитано так, что им легко руководить. Никаких беспорядков не ожидается.Мы видим, что пугающее число наших молодых людей отказываются от повиновения каким бы то ни было формам власти, из каких бы источников она ни исходила. Их кредо — первобытный нигилизм, бурный в своих проявлениях, единственная цель которого — разрушение. Я не знаю другого такого периода в нашей истории, когда расхождение между поколениями имело бы такие масштабы и было бы чревато меньшими опасностями. Грейсон Кларк, президент Колумбийского университета, 1968 К весне 1968 года демонстрации в колледжах стали столь распространенным явлением в Соединенных Штатах (ежемесячно волнения происходили примерно в тридцати учебных заведениях), что даже учащиеся средних школ и старшеклассники оказались вовлечены в этот процесс. В феврале сотни восьмиклассников набились в залы, заняли классы и включили огни пожарной тревоги на здании младшей средней школы номер 258 города Бруклина (район Бедфорд-Стайвесант). Они требовали, чтобы ихлучше кормили и чаще устраивали для них танцы. Участники протеста понимали, что для достижения серьезных результатов следует делать нечто большее, нежели пройти маршем с транспарантами в руках и попасть в газеты: нужно захватить здание, остановить работу учреждения... Для выражения протеста против принятого в Колумбийском университете плана строительства нового спортзала (с этой территории должны были выселить бедных темнокожих обитателей Гарлема) студенты прыгали в стальной ковш экскаватора, дабы помешать строительству. В середине марта колумбийское антивоенное студенческое движение призвало к однодневному бойкоту занятий в знак протеста против войны. В общей сложности три с половиной тысячи студентов и тысяча сотрудников факультета не появились в аудиториях. Около трех тысяч студентов Вис-консинского университета в Медисоне наблюдали за тем, как участники антивоенного движения водрузили четыреста белых крестов на травянистом склоне Боскомского холма возле административного здания. Это означало: «Боскомское мемориальное кладбище, выпуск 1968 года». Джозеф Чандлер, бывший студент, работавший впоследствии в созданном на базе Меди-сонского университета Висконсинском союзе сопротивления призыву, говорил; «Мы хотели, чтобы кампус выглядел как кладбище, поскольку именно в кампусе большинство выпускников были внесены в призывной список». В первую неделю весны студенты общим числом от пятисот до тысячи человек захватили административное здание Университета Ховарда — ведущего «черного» университета — и отказались покинуть его. Они протестовали против отсутствия в программе курсов истории чернокожих. Затем темнокожие студенты заняли здание в Корнелле. Студенты также блокировали здание в Колгейте. В подобных акциях участвовали не только студенты. «Нью-Йорк тайме» сообщила 24 марта, что хиппи захватили нью-йоркский Центральный вокзал и «превратили свое обычное весеннее сборище в яростную антивоенную демонстрацию». Сообщение, в свою очередь, повлекло за собой длинную статью, посвященную вероятности превращения хиппи, поступки которых истеблишмент считал лишенными мотивации, в политических активистов. Но эти хиппи на самом деле были «Йиппи!» из Молодежной международной партии Эбби Хоффмана, которая всегда являлась политизированной. В Италии студенты, выражавшие протест против не соответствующих их требованиям условий учебы, несли длинный красный флаг от здания к зданию в кампусе Римского университета (в тот момент университет вновь открылся после того, как в середине марта он не работал в течение двенадцати дней в связи с беспорядками). Только в первый день двести студентов пострадали в столкновениях с полицией; во второй день профессора и преподаватели присоединились к студентам в знак протеста против жестокости полицейских. Некоторые требовали отставки ректора, причем главным аргументом было то, что именно он вызвал полицию. Студенты решили продолжать демонстрации. При этом итальянские коммунисты пытались взять контроль над студенческим движением, но безуспешно. В начале весны 1968 года Ассоциация немецких студентов имела свои организации в ста восьми университетах Германии и насчитывала три тысячи сотрудников. Студенты сплотились во время акций протеста против войны во Вьетнаме, но постепенно их внимание стало смещаться на проблемы в самой Германии, такие как статус Восточной Германии, требование отставки чиновников с нацистским прошлым, занимающих высокие государственные посты, и возможность студентов иметь право голоса при решении проблем, связанных с образованием. Тем временем после затишья, во время которого успело смениться целое поколение, испанские студенты начали выражать протест против откровенно фашистских проявлений режима, при попустительстве которого в апреле в Мадриде была отслужена месса по Адольфу Гитлеру. Начало весны совпало с очередным закрытием Мадридского университета в связи со студенческими демонстрациями. Занятия возобновились лишь 38 дней спустя, уже в мае. В Бразилии насильственные действия с применением оружия, в ходе которых погибли трое активистов, не смогли удержать студентов от протеста против военной диктатуры, длившейся уже тридцать четыре года. Японские студенты яростно протестовали против присутствия на территории их страны американской военщины, участвовавшей в событиях во Вьетнаме. Это поколение, чьи родители с их милитаристской идеологией погубили страну — страну, которая пострадала от единственной в истории ядерной атаки, — было резко настроено против войны. Студенческая организация «Зенгакурен» («Zengakuren») смогла поднять тысячи людей, чтобы не дать американскому авианосцу, участвовавшему во вьетнамской войне, войти в японский порт. «Зенгакурен» также организовывала протест, иногда с применением насилия, по таким вопросам местного значения, как конфискация земли у фермеров для строительства международного аэропорта в На-рите (в двадцати пяти милях к востоку от Токио). Японское правительство рассматривало законопроект, содержавший предложение относительно юридических мер репрессивного характера, чтобы контролировать действия «Зенгакурен». Именно «Зенгакурен» стала той студенческой группой, которая подтолкнула Уолтера Кронкайта к пониманию того, как следовало использовать телевидение в 60-е годы. Кронкайт находился в Японии вместе со съемочной группой Си-би-эс, дабы подготовить сообщение о визите в эту страну президента Эйзенхауэра (это было в 1960 году). Но для того чтобы выразить свой протест против визита, собралось столько участников группы «Зенгакурен», что Эйзенхауэр принял решение не приземляться. Однако члены «Зенгакурен», довольные, что бригада телевизионщиков Си-би-эс находилась рядом и могла запечатлеть их протест, остались. Десятки тысяч человек продолжали прибывать в течение целого дня, и единственными, кто при этом присутствовал, были телевизионщики. Видя, что президента нет, Кронкайт хотел уехать, но путь к автомобилю Си-би-эс преграждала огромная толпа, причем перед камерами она была плотнее всего. «Внезапно мне пришло в голову, — вспоминал Кронкайт, — что будет проще всего добраться до вершины холма, если я присоединюсь к «Зенгакурен». Итак, я сделал снимки, спрятал пленку в карман, сошел с грузовика и схватил за руку — они все держались за руки — одного из этих японцев. Он улыбнулся мне и произнес: «Банзай! Банзай, Банзай!» — энергично тряся руками. Я тоже завопил: «Банзай! Банзай! Банзай!» — и направился к цепи, которая поднималась на холм, приплясывая и крича: «Банзай! Банзай! Банзай!» Мы чудесно провели вместе время; я поднялся на вершину холма, где была наша машина, и сказал: «Ну пока». И они сказали: «Пока». Я сел в машину и поехал в аэропорт». В Великобритании студенческое движение также начало свои действия с демонстраций против войны США во Вьетнаме и перешло к вопросам местного значения, таким как размеры государственных средств, выделяемых на образование, и контроль над университетами. К весне крупные акции протеста уже прошли в Оксфорде, Кембридже и многих других британских университетах. О наличии особого рода интереса к собственному правительству — гораздо более значительного, нежели к антивоенному движению, — свидетельствовало стремление участников акций протеста напасть на каждого, кого можно было счесть представителем британского правительства. В марте, когда министр обороны Великобритании Денис Хили выступал в Кембридже, студенты прорвались сквозь полицейские кордоны и постарались перевернуть его машину. Вскоре после этого в Оксфорде студенты прервали выступление министра внутренних дел Джеймса Каллагана и попытались бросить его в пруд с рыбками. В Манчестерском университете Гордону Уокеру, министру образования и науки, помешали произнести речь. Не имея возможности говорить, он попробовал удалиться, но вынужден был идти по телам студентов, которые разлеглись у него на пути. Американские чиновники также не были застрахованы от подобных случаев. Когда американский дипломат, пресс-секретарь посольства США, совершил ошибку, появившись перед студентами университета Суссекса, они обрызгали его краской. У британских студентов также было хорошее чутье относительно средств массовой информации. В апреле они окрасили в красный цвет воду в фонтане на Трафальгарской площади Насилие предполагает наличие ряда идей, но противостояние с использованием ненасильственных методов требует еще и воображения. В этом заключается одна из причин, почему к нему обращаются столь немногие бунтари. В ходе своего развития американское движение за гражданские права училось на своих же ошибках, которых было совершено немало. Но к середине 60-х его участники, особенно члены Эс-эн-си-си, доказали всему миру, что воображение у них имеется, и произвели на всех глубокое впечатление смелостью своих идей, вдохновив студентов даже таких далеких стран, как Польша, на сидячие акции протеста. К 1968 году люди всего мира хотели подражать движению за гражданские права. Его гимн, «Все преодолеем» Пита Сигера — ставшая песней рабочих, из которой Сигер, в свою очередь, сделал песню борцов за гражданские права, когда в 1960 году начались сидячие акции протеста, — звучала на английском языке и в Японии, и в Южной Африке, и в Мексике. Движение за гражданские права приковало к себе внимание мировой общественности 1 февраля 1960 года, когда четверо темнокожих студентов-первокурсников из сельскохозяйственного и технического колледжа Северной Каролины (Гринсборо) зашли в торговый центр «Вулвортс», купили кое-что, а затем расположились в закусочной, предназначавшейся «только для белых». Одни из них, Изель Блейр-младший, попросил чашку кофе. Получив отказ, они просто просидели там до самого закрытия. Этот метод был несколько раз опробован прежде участниками борьбы за гражданские права для проверки реакции. Но эти четверо, не будучи членами какой-либо организации подобного рода, пошли значительно дальше. На следующий день в 10.30 утра они вернулись в закусочную вместе с двадцатью другими студентами и просидели там весь день. Официантка, отказавшаяся их обслуживать, объяснила представителям прессы: «Таково правило в нашем магазине — таков обычай». Студенты поклялись, что будут приходить и сидеть здесь каждый день, пока их не обслужат. Каждый день они набивались в закусочную «Вулвортса», причем их становилось все больше и больше. Вскоре они сидели в других закусочных Гринсборо, а потом то же началось и в других городах. В течение первых двух недель, когда подобный метод начал применяться впервые, национальная и международная пресса сообщала о его широкой значимости. «Вначале эти демонстрации, как правило, недооценивались и воспринимались как очередное чудачество студентов, — сообщала «Нью-Йорк тайме». — Однако число сторонников этого мнения значительно уменьшилось, когда движение распространилось из Северной Каролины по Виргинии, Флориде, Южной Каролине и Теннесси и в него оказались вовлечены пятнадцать городов». «Сидячие акции протеста застали существующие организации борьбы за гражданские права врасплох», — говорила Мэри Кинг, белая женщина, волонтер Эс-эн-си-си. Они вызвали изумление у членов недавно созданной Мартином Лютером Кингом «Конференции руководства христианских общин Юга» и шокировали организации, существовавшие ранее, такие как КОРЕ. Но они привлекли внимание прессы и произвели впечатление на публику. Появление Эс-эн-си-си во многом было вызвано желанием изобрести новые методы борьбы, которые ошеломляли бы так же, как этот.Кларк Керр, президент Калифорнийского университета (Беркли), 1963
 В 1959 году обширный, поросший деревьями кампус Мичиганского университета в Анн-Арборе насчитывал двадцать тысяч студентов. В нем с трудом можно было различить даже незначительные признаки движения за гражданские права или каких-либо других радикальных политических взглядов. Но в феврале 1960 года, вдохновленный сидячими акциями протеста в Гринсборо, Роберт Алан Хейбер, выпускник Мичиганского университета, объявил о создании новой группы, получившей название «Студенты за демократическое общество» («Students for Democratic Society», SDS). Дабы основать новую организацию, он привлек к сотрудничеству двух человек, имевших связи с традициями левого движения: Шэрон Джеффри, мать которой играла важную роль в Объединении рабочих автомобильных производств (United Auto Workers), и Боба Росса из
Южного Бронкса, любившего джаз и поэзию битников, — в свое время его дед и бабка общались с русскими революционерами. Они попытались сотрудничать с прилежным и работящим редактором «Мичиган дейли» Томом Хейденом. Хейден был родом из маленького городка недалеко от Анн-Арбора; он был поглощен работой в газете (она считалась одной из лучших среди тех, что выпускались в колледжах страны). Больше его интересовала другая организация, также начавшая свое существование в Мичиганском университете, — группа, лоббировавшая создание «Корпуса мира».
Эс-ди-эс имело намерение привлечь к сотрудничеству сообщество студенческих лидеров всей страны. Расчет оказался удачным. Февральские сидячие акции протеста в Гринсборо воодушевили американскую молодежь: у нее возникло желание сделать что-либо в том же духе. Позднее Хейден писал: «По мере того как тысячи студентов Юга подвергались аресту, а многие из них и избиению, я все более разделял их убеждения, и мое уважение к ним и желание совершать столь же смелые поступки возрастало». Хейбер, Джеффри и Росс начали с того, что присоединились к пикетам в Анн-Арборе в знак солидарности с сидячими акциями протеста в Гринсборо. Хейден сфотографировал их для «Дейли» и написал сочувственную передовицу. Весной движение Эс-ди-эс пригласило чернокожих рабочих, участников борьбы за равноправие, принять участие во встрече с белыми студентами Севера. Хейден дал сообщение о событии, к тому моменту он был уже главным редактором издания (чтобы исполнить эту мечту, ему пришлось немало потрудиться).
Хейден, которому в то время было двадцать лет, провел в Калифорнии лето, ознаменовавшееся для него крайне серьезными переменами. Он отправился в Беркли, спросил, где можно остановиться, и оказался среди активистов студенческого движения. Кампус в Беркли был чрезвычайно политизирован, и Хейден написал ряд обширных статей для «Дейли» о «новом студенческом движении». Он отправился в лабораторию Ливермор, где разрабатывалось ядерное вооружение США. Он взял интервью у исследователя-ядерщика Эдварда Теллера, который дал ему полубезумное объяснение, как пережить ядер-ную войну и что «лучше быть мертвым, чем красным». Во время съезда демократической партии в Лос-Анджелесе он встретился с Робертом Кеннеди, который в свои тридцать девять показался Хейдену слишком молодым для политика. Хейден явился свидетелем того, как кандидатуру старшего брата Кеннеди выставили на голосование, и был глубоко тронут речью Джона Кеннеди, хотя его новые радикально настроенные друзья уже заклеймили Кеннеди как «дутого либерала». Хейден еще не усвоил, что либералам не следует доверять. Он также взял интервью у Мартина Лютера Кинга, сказавшего: «В конечном итоге за убеждения надо платить своей жизнью».
Хейден отправил в «Дейли» свои статьи о появлении «новых левых». Когда же он возвратился в Мичиган, администрация университета обвинила его в том, что он больше изобретает новости, а не сообщает о происходящем. Однако он-то знал: «новые левые» существуют, — и при этом понимал, что не только его факультет, но и большая часть американцев по-прежне-му совершенно не беспокоятся об этом.
Хейден провел последний год обучения, мечтая отправиться на Юг и «принять участие». Он доставлял пищу чернокожим в Теннесси, изгнанным из дома за то, что они зарегистрировались для голосования. Но Хейден хотел делать больше. «Я нервничал в преддверии окончания обучения: Юг звал меня», — писал он позднее. По окончании университета он действительно отправился на Юг для установления связи Эс-ди-эс с Эс-эн-си-си. Но вскоре он понял, что Эс-эн-си-си — организация хорошо укомплектованная и не нуждается в нем. Хейден почувствовал себя одиноко, а ведь задача, которую ему предстояло выполнить на Юге, была трудной и подчас опасной. «Мне не хотелось попадать из драки в драку, из одной тюрьмы — в другую», — сообщал Хейден. В декабре 1961 года он писал из тюремной камеры в Олбани (Джорджия) своим товарищам, организаторам в Мичигане, предлагая провести собрание с целью превратить Эс-ди-эс в более обширную и важную организацию, подобную Эс-эн-си-си. В Эс-ди-эс состояло восемьсот человек, живущих по всей Америке; они платили членские взносы по одному доллару в год. Чтобы вырасти, организация должна была определиться.
В июне 1962 года небольшая группа молодых людей, называвших себя активистами Эс-ди-эс (около шестидесяти человек), устроила встречу в Порт-Гуроне (Мичиган), где когда-то Том Хейден мальчиком рыбачил вместе с отцом. К Хейдену, который выполнял роль Джефферсона (Хейбер же играл роль Адамса), обратились с просьбой составить проект документа, который послужит «повесткой дня для всего поколения». Оглядываясь в прошлое, Хейден изумлялся грандиозности проекта. «Я до сих пор не понимаю, — писал он десятилетия спустя, — откуда явилось это мессианство, эта вера в собственную правоту, эта убежденность в том, что мы можем обращаться к поколению». В итоге документ, известный как Декларация Порт-Гурона, на самом деле в значительной мере воплотил мысли, переживания и перспективы поколения. К1968 году, когда для старшего поколения стало очевидно, что молодежь думает и чувствует совершенно иначе, Декларация Порт-Гурона явилась для него откровением, позволявшим понять, как именно думает молодежь, — уникальной возможностью, за которую ухватились старшие. Когда декларация создавалась, студенты, пришедшие в колледж в 1968 году, посещали младшие классы средней школы, но теперь они настаивали на ее изучении при прохождении курсов социологии и политических наук.
Декларация не являлась манифестом, рассчитанным на все поколение целиком. Он была недвусмысленно адресована белым, принадлежавшим к верхушке среднего класса, привилегированным людям, которые сознавали свое привилегированное положение —■ и испытывали гнев по поводу этой несправедливости. Декларация начиналась так:
«Мы — люди этого поколения, воспитанные в условиях по крайней мере отчасти комфортных. Университет приютил нас. Но нам неловко глядеть на мир, в котором мы живем».
Отмечая, что ни темнокожие жители Юга, ни студенты колледжей не имели права голосовать, декларация призывала к демократии для всех. «Целью общества и каждого человека должна быть независимость личности». Декларация содержала упрек в адрес Соединенных Штатов в использовании военной силы, которая, по выраженному в документе мнению, больше сделала для того, чтобы остановить демократию, нежели коммунизм. Путь, описанный в документе, пролегал между коммунизмом и антикоммунизмом, причем ни тому ни другому направлению не было оказано никакой поддержки. Также давалось определение «новым левым» — левым, видевшим мало толку в либералах, которым нельзя доверять, коммунистах с их авторитарностью, капиталистах, отнима-ших у людей свободу, и хвастливых антикоммунистах. Американец, принадлежавший к «новым левым», был очень похож на студентов Польши, Франции и Мексики 1968 года. Аллен Гинзберг, который всегда проговаривал те или иные утверждения чуть более резко, нежели окружающие, писал: «И коммунистам нечего предложить: у них толстые щеки, очки и лживая полиция, — и капиталисты предлагают напалм и деньги в зеленых кейсах — нагим...»
Движение за гражданские права продолжало поражать окружающих новыми творческими подходами. В 1961-м Эс-эн-си-си изобрел «рейды свободы» (удачное название всегда играет большую роль при распространении той или иной идеи). «Райдеры свободы» ездили в автобусах (черные — в тех частях салона, которые предназначались для белых, белые — там, где полагалось находиться черным), в каждом магазине заходили не в «свои» комнаты отдыха, провоцировали проявления расизма среди белых по всей территории Юга. «Райдеры свободы» стали легендой. Джеймс Фармер, один из создателей этой тактики, говорил: «Мы чувствовали, что в попытке вызвать кризис можем рассчитывать на расистов Юга, и федеральное правительство будет вынуждено ужесточить соответствующие законы государства». Белые жители Юга отвечали насилием, и в результате события получили в прессе такое освещение, что борцы за гражданские права стали героями в глазах всего мира. В Монтгомери (Алабама) газета писала об одном из первых «рейдов свободы»:
«Двое несгибаемых «райдеров свободы» — избитые, все в синяках после расправы, учиненной толпой белых, — вечером в субботу поклялись принести в жертву свои жизни, если понадобится, чтобы сломать расовые барьеры на Юге. Их избила до потери сознания толпа, напавшая на группу из двадцати двух борцов за расовую интеграцию, когда они высадились здесь из автобуса в субботу утром».
Разъяренные толпы так жестоко реагировали на эти поездки, имевшие целью разрушение расовых барьеров, что администрация Кеннеди призвала к «временному затишью», а КОРЕ отказалось от тактики «рейдов свободы», сочтя ее слишком опасной. Но для Эс-эн-си-си это только послужило импульсом к увеличению числа «райдеров». При этом многие «рейды» закончились тем, что их участники отлично провели сорок девять дней в исправительном заведении в Миссисипи — Пэрчмэнской каторжной тюрьме, напоминавшей старинную крепость.
В 1963 году движения, ратовавшие за гражданские права, провели примерно девятьсот тридцать демонстраций, при этом арестовано было около двенадцати тысяч человек. Во всем мире молодое поколение росло, трепетно созерцая эту тактику, напоминавшую о борьбе Давида с Голиафом. Для него движение за гражданские права было зрелищем, имевшим гипнотический эффект; оно питало их идеализм, учило активности. Оно также было привлекательно тем, что требовало мужества, поскольку участники движения постоянно сталкивались с реальной опасностью. Чем сильнее было противостояние расистов, тем большими героями выглядели поборники гражданских прав. Что могло быть восхитительнее борьбы против хулига-нов-расистов, чье нападение на мирных молодых людей было заснято на пленку?
В 1964 году появилась стратегия борьбы, привлекшая наибольшее число сторонников; она стала называться «Лето свободы в Миссисипи». Те, кто был слишком стар для участия в событиях или для каких-либо действий, оказались готовы — иногда невольно — к тому, чтобы вести вперед свое поколение.
1964 год начался с оцепенения нации, охваченной скорбью после убийства молодого президента, на которого возлагалось столько надежд. Но дни шли за днями; в воздухе ощущалось напряжение, которое столь удачно воплотили Марта Ривс и Ванделлас в «Уличных танцах». 1964 год был годом новых начинаний. Именно в тот год американцы впервые увидели «Битлз», стриженных под горшок и в странных бесцветных костюмах. В тот год либералы обошли консерваторов во время предвыборной борьбы Джонсона и Голдуотера. Именно в 1964 году произошло впечатляющее событие: был принят Закон о гражданских правах — несмотря на мощное единодушное противостояние делегаций Алабамы, Арканзаса, Джорджии, Луизианы, Миссисипи, Северной Каролины, Южной Каролины и Виргинии (не случайно последняя оказалась единственным районом, где Голдуотер одержал уверенную победу над Джонсоном). Но наиболее волнующим событием года стало «Лето свободы в Миссисипи».
Идея проведения «Лета свободы» принадлежала родившемуся в Гарлеме и получившему образование в Гарварде лидеру Эс-эн-си-си, философу Бобу Мозесу, и активисту (позднее конгрессмену) Алларду Лоуенстейну. В то время, когда движение за гражданские права сосредоточило свои усилия на важной, но не слишком зрелищной работе по регистрации темнокожих избирателей на Юге, они поняли: их действия привлекут гораздо больше внимания средств массовой информации, если они призовут белых жителей Севера приехать летом в Миссисипи для регистрации черных участников голосования.
Вряд ли у кого-то из почти тысячной армии волонтеров были сомнения в том, что их работа сопряжена с опасностями. Действительно, в начале лета три работника Эс-эн-си-си: Джеймс Чейни, Эндрю Гудмен и Майкл Швернер — исчезли в отдаленном болотистом районе Миссисипи. Швернер был опытным активистом движения, Гудмен — волонтером-нович-ком из Северной Каролины, а Чейни — темнокожим волонтером из числа местных жителей. Драма развивалась в течение целого лета: сотрудники Эс-эн-си-си боролись, пытаясь установить сотрудничество с ФБР, и каждая улика (например, была найдена машина, принадлежавшая пропавшим) рисовала все более мрачную картину происшедшего. Развязка наступила 4 августа, через 44 дня после того, как все трое были объявлены пропавшими благодаря сообщению информатора ФБР. Их тела были обнаружены зарытыми на глубину двенадцать футов в земляной дамбе к югу от Филадельфии (Миссисипи). Все трое были застрелены. Чейни, чернокожего, перед смертью жестоко избили.
И все же ни один волонтер не отступил (одного заставили уехать родители: он был еще несовершеннолетним). Более того, Мозесу пришлось остановить волонтеров: их было столько, что сотрудники Эс-эн-си-си не в состоянии были обучить всех новичков.
Среди тех, кто этим летом отправился на Юг, оказался сын слесаря-итальянца из городка Куинс (штат Нью-Йорк), изучавший философию в Беркли. Марио Савио, 1942 года рождения, был ростом шесть футов два дюйма, худощавым, тихим. Он заикался настолько сильно, что прощальная речь, традиционно произносимая выпускниками-студентами, потребовала от него огромных усилий. Он был католиком и, как многие католики, принимал католическую мораль, будучи не в ладах с церковью как таковой. В юности он мечтал стать священником.
В 1964 году Савио (ему тогда исполнился 21 год) шел через кампус Беркли, и в районе Телеграф и Банкрофт (этой узкой полоске земли суждено было стать местом политической активности) кто-то вручил ему листовку, где говорилось о демонстрации, проводимой местным движением за гражданские права по поводу несправедливых условий трудового найма в Сан-Франциско. Впоследствии Савио вспоминал: «Я сказал: “Ну что ж, демонстрация — это отлично”. Эти демонстрации были своего рода отличительным знаком кампусов. Конечно, они выигрывали по сравнению с футбольными матчами, это уж точно».
Итак, после небольшой внутренней борьбы Савио пошел на демонстрацию. Пожилая женщина закричала ему: «Отправляйся в Россию!» Он, в свою очередь, попытался объяснить ей, что его семья итальянского происхождения.
В первый раз в жизни Марио Савио был арестован. В камере человек по имени Джон Кинг случайно спросил его: «Вы едете в Миссисипи?» Когда Савио узнал об акции «Лето свободы в Миссисипи», то понял, что его место там. (Надо сказать, что это ощущение испытывали многие волонтеры: они чувствовали, что должны быть там.) И Савио поехал. В Миссисипи он постучал в запертую дверь бедного чернокожего издольщика. Глава семьи, вежливый, но слегка испуганный, ответил, что он просто не хотел голосовать. Савио задал ему вопрос:
«Голосовал ли когда-нибудь ваш отец?»
«Нет, сэр».
«А ваш дед, он голосовал когда-нибудь?»
«Нет, сэр».
«А вы хотите, чтобы ваши дети принимали участие в голосовании?»
Затем Савио взял их с собой. Они поехали вместе с ним в город, отводя глаза и читая ненависть на лицах доброй половины горожан, и с риском для жизни зарегистрировались в списке избирателей.
Подобный опыт оказал большое влияние на формирование личности как Савио, так и всего поколения молодых северян. Приехав в Миссисипи, они выглядели молоденькими и чистенькими. Местные активисты приветствовали их; они взялись за руки, образовав прочную цепь, и запели «Все преодолеем». Голоса их дрожали, когда звучали слова «белые и черные — вместе»: ведь в тот момент именно так и было... Молодые, храбрые, они провели лето, рискуя жизнью, их избивали и сажали в тюрьмы. Подобно доктору из «Чумы» Альбера Камю (эту книгу читали все) они действовали, боролись с язвами общества. Уезжая в сентябре, они уже стали опытными активистами. «Лето свободы», возможно, дало для воспитания радикально настроенных руководителей студенческого движения больше, нежели все усилия Эс-ди-эс. Осенью волонтеры возвратились на Север энергичными, активными, настроенными на борьбу за изменения в политике. Они прошли одну из лучших школ гражданского неповиновения за всю историю Америки.
Савио вернулся в Беркли (к этому времени он стал президентом местного общества друзей Эс-эн-си-си), охваченный лихорадкой политической деятельности. Тем более он был ошеломлен, узнав, что университет запретил вести политическую пропаганду в кампусе даже на том крохотном клочке земли Телеграф и Банкрофт, где он впервые узнал о демонстрациях. Как мог он не подать голос в защиту своих собственных прав после того, как убедился, что жители Миссисипи рискуют всем в борьбе за свои права? Он живо помнил их молчание и то достоинство, с которым они требовали регистрации, произнося мягко, с местным акцентом слово «reddish» (register).
«Я что, Иуда? — спрашивал Савио сам себя (он по-прежне-му мыслил в религиозных категориях). — Теперь, когда я вернулся домой, —- собираюсь предать людей, которых сам же вверг в опасность? Забудь обо всем, говорят мне. Это было на самом деле? Или это просто сон? Детские игры? Я играл, когда был в Миссисипи, а теперь вернулся, и передо мной серьезная задача: стать тем, кем я собираюсь (хоть я и не имею ни малейшего представления, кем именно)».
Сделав выводы из уроков, полученных в Миссисипи, где даже стучать в двери надо было вдвоем, защитники свободы слова в Беркли никогда не действовали поодиночке, но всегда сообща. 1 октября 1964 года сотрудник движения за гражданские права Джек Вейнберг (он тоже был в Миссисипи и участвовал в акции «Лето свободы») был арестован в кампусе в Беркли. Он нарушил установленный запрет политической пропаганды тем, что сидел за столом, заваленным литературой по вопросам гражданских прав. Его втолкнули в полицейский автомобиль, который тут же окружили протестующие. Студенты не имели никакого плана действий, но у них был опыт участия в борьбе за права человека: они уселись на землю. Подходили все новые и новые студенты, не давая машине двигаться; она простояла на месте тридцать два часа.
Прежде чем влезть на крышу автомобиля и произнести речь, Марио Савио снял обувь, чтобы не повредить машину.
Позднее он даже не мог вспомнить, когда именно ему пришла в голову мысль влезть на автомобиль. Он поступил так, и все. Больше он не заикался. Эта речь стала для него своеобразным помазанием: он сделался оратором, голосом «Движения за свободу слова в Беркли».
Выпускница философского факультета Сьюзен Голдберг, впоследствии ставшая женой Марио, говорила, что «его харизма порождалась его искренностью». «Мне случалось видеть его среди людей из Беркли, несущих плакаты, но когда он заговорил, я была потрясена его искренностью. У Марио был дар говорить о сложных вещах так, что они становились простыми и понятными, — и при этом он обходился без риторики. Он считал, что, если людям известны все факты, им ничего не остается, как поступить правильно; увы, для многих из нас это не так... Говоря с людьми, он зачастую тратил на это много времени, надеясь, что сможет убедить их».
Хотя Марио Савио не обладал красноречием Мартина Лютера Кинга и юридической четкостью формулировок, свойственной Тому Хейдену, у него было чувство стиля, и он старался говорить как можно проще. В Беркли его заикание проявлялось очень редко, а произношение, присущее жителям Куинса, сохранилось. В своих речах, свободных от риторической пышности, он, казалось, всегда подчеркивал: «Все это настолько ясно...» Настоящее пламя можно было разглядеть лишь в его глазах. Взмахи его рук и постоянная жестикуляция напоминали о его сицилийских корнях. Высокая долговязая сутулая фигура выражала смирение и скромность (вспоминалось учение Ганди о том, что политический активист должен быть столь кротким, чтобы его противник, потерпев поражение, не почувствовал себя униженным). У Савио была любимая фраза: «Я прошу вас учесть...» Возникла даже легенда, по которой Савио во время одного из своих пребываний в тюрьме подошел к здоровенному заключенному и ни с того ни с сего предложил пари: он выльет ему стакан воды на голову, а тот ничего не сможет сделать, чтобы отомстить своему обидчику, как бы ни был тот слаб. Заключенный принял вызов. Савио налил воды в два стакана. Он опрокинул оба стакана одновременно: один на голову заключенному, второй — на самого себя, — и выиграл пари.
Два месяца спустя после сидячей акции протеста возле полицейского автомобиля Савио возглавил захват Спроул-Хол-ла — здания университета, который привел к проведению самого большого массового ареста студентов в истории США. Перед захватом здания Савио произнес речь — единственную из студенческих речей, произнесенных в 60-е годы, текст которой сохранился.
«Пришло время, когда ненависть к действиям машины стала столь сильна, приносит такую боль вашему сердцу, что вы просто не можете участвовать в них, даже если для этого достаточно всего лишь промолчать. Вы бросаетесь собственным телом на шестерни, на рычаги, на весь механизм, и вам удается его остановить. И вы даете понять тем, кто приводит машину в действие, ее хозяевам, что, пока вы здесь, машина не будет работать».
Большинство лидеров «Движения за свободу слова» участвовало в акции «Лето свободы». Им понадобилась волнующая песня Боба Дилана, где речь шла о гражданских правах: «Время пришло, а они неизменны» («The Times They Are A Changin»). Джоан Баез спела ее во время одной из крупнейших демонстраций, и за одну ночь песня Дилана стала гимном студенческого движения.
Заметим, что участники «Движения за свободу слова» (так было в большинстве движений 60-х) утверждали, что наличие лидеров у их организаций противоречило бы демократии. Савио всегда отрицал свое единоличное лидерство. Однако именно благодаря ему — в большей степени, нежели чем кому-либо другому, — студенты, поступившие в колледж в середине 60-х, воспринимали участие в демонстрациях как нечто естественное. Савио осуществил связь, идущую от движений за гражданские права к студенческому движению. От Варшавы до Берлина, Парижа, Нью-Йорка, Чикаго, Мехико студентов волновали речи Марио Савио, его методы борьбы и само «Движение за свободу слова». Имена, сидячие акции протеста, аресты, заголовки в прессе, сам факт того, что в кампусах стали выполняться их требования относительно товарищей-активистов, — все это стало легендой для студентов, пришедших в университеты в середине 60-х. К сожалению, забылась вежливость и воспитанность бунтовщика, который влез на полицейский автомобиль в одних носках,стараясь не повредить его.
Марио Савио и Том Хейден не слишком интересовались модой своего времени. В 1968 году, когда Том Хейден организовывал демонстрации во время Чикагской конвенции, его костюм по-прежнему мало чем отличался от одежды журналиста из «Мичиган дейли». Но если Хейден дал 1968 году формулировку принципов, а Савио воплотил его дух, то стиль его лучше всего выразил некий мужчина старше тридцати лет из Уорлес-тера (Массачусетс). За всю жизнь — и, возможно, за всю историю человечества — не было года, который бы лучше подходил Эбби Хоффману, нежели 1968-й. В тот год ему должно было казаться странным, что весь мир начал вести себя так, как он. Хоффман любил повторять, что родился вместе с десятилетием, в 1960 году, и, возможно, так он и чувствовал.
Эбби Хоффман был одним из первых американцев, кто полностью оценил те возможности и преимущества, которые обеспечивал современникам «век средств массовой информации». В движении «новых левых» он выполнял роль клоуна не только потому, что был им на самом деле, но и потому, что, как следует поразмыслив, понял нужду «новых левых» в клоуне: он мог привлечь внимание к их проблемам, и его нельзя было не заметить. Прежде всего Эбби Хоффман не хотел остаться незамеченным. И, как и все хорошие комики, он был мастером розыгрыша, и те, кто знал в этом толк, хохотали. Остальные присоединялись к телевизионщикам, ожидавшим, что Хоффман, как обещал, вознесется и будет левитировать над Пентагоном, и не понимали, почему он нимало не был смущен или разочарован, когда не смог этого сделать.
В 1960 году, когда он «родился», как он сам говорил, ему было двадцать четыре года (он появился на свет в 1936 году).
Он был первокурсником в Брэндисе, когда Том Хейден впервые проехал пятьдесят миль, чтобы попасть в Мичиганский университет, на шесть лет старше Марио Савио и на десять или больше — тех, кто окончил колледж в 1968 году. У Хоффмана было ощущение, что он пришел слишком поздно. Он никогда не ходил на политические демонстрации до 1960 года: тогда, на последнем курсе в Беркли, он принял участие в колоссальной акции протеста против смертной казни, во главе которой стояли Марлон Брандо и другие знаменитости, после того как Кэрил Чессмен, похитивший двух женщин и принуждавший их к оральному сексу, был приговорен к смерти за свое преступление. Но 2 мая, после того как первый предпринятый Хоффманом опыт политической активности потерпел неудачу, Чессмен был казнен в штате Калифорния.
В тот же год Хоффман женился. У него родилось двое детей, и в течение нескольких лет он безуспешно пытался вжиться в роль отца и быть как все. В 1964 году, к своему великому разочарованию, он видел «Лето свободы» по телевизору. Летом
1965 года, когда множество белых волонтеров в последний раз отправились на Юг, Хоффман был среди них. Следующие два года он также оказывался в числе немногих приезжих, выполняя задания Эс-эн-си-си. Хоффман пропустил не только «Лето свободы», но и другое важное событие в рамках движения за гражданские права — съезд демократов в Атлантик-Сити. На съезде всех прибрал к рукам Джонсон, ставший президентом после гибели Кеннеди. Кандидат на пост вице-президента при Джонсоне Губерт Хамфри, его протеже Уолтер Мондейл и другие лидеры либерального истеблишмента, боясь, что им придется уступить Юг Голдуотеру, отказались принять делегатов от Партии свободы Миссисипи. Это привело к расколу движения в соответствии с возрастом участников. Старшие лидеры, такие как Мартин Лютер Кинг, привыкли к мысли, что демократическая партия — надежный товарищ и с ней, что называется, надо работать. Но Эс-эн-си-си утратил веру в плодотворность работы с кем бы то ни было из белых представителей истеблишмента. Боб Мозес был в ярости. Молодые лидеры, такие как Стоукли Кармайкл, потеряли терпение. Они заговорили о «Власти черных», о том, что чернокожие должны идти своим путем.
Всего за несколько недель до съезда демократов поступило сообщение об обстреле канонерскими лодками Северного Вьетнама американских миноносцев в Тонкинском заливе. Джонсон ответил нападением на Северный Вьетнам и заставил конгресс принять резолюцию о Тонкинском заливе, которая уполномочивала президента использовать «любые необходимые средства» для защиты Южного Вьетнама. Многие данные (в их числе телеграмма с одного из эсминцев) свидетельствовали в пользу того, что в действительности нападения могло и не быть. В 1968 году сенат провел слушания по этому вопросу, однако так и не разрешил его окончательно. Существовало стойкое подозрение, что тонкинский инцидент (имел он место на самом деле или нет — не столь важно) использовался Джонсоном как предлог для продолжения войны. Том Хейден сказал: «То, что демократическая партия выразила согласие с резолюцией о Тонкинском заливе именно тогда, когда отказалась принять делегатов от Партии свободы Миссисипи, стало для меня своего рода переломным моментом».
На следующий год Стоукли Кармайкл отправился в Миссисипи, надеясь в одном из тамошних округов создать местную политическую партию для черных. Он выбрал округ Лоун-дес, где чернокожее население составляло 80%. Символом государственной демократической партии Миссисипи, сплошь состоявшей из белых, был белый петух. В поисках хищника, который пожрет петуха, Кармайкл назвал свою партию «Черные пантеры». Более чем через год два калифорнийца, Хью Ньютон и Бобби Сил, рассказали Кармайклу о том, что основали свою собственную партию в Калифорнии, для которой позаимствовали название «Черные пантеры». Отказ принять делегатов из Партии свободы Миссисипи на съезде 1964 года сделал движение за гражданские права более радикальным и повлек за собой глубокие перемены в истории Америки 60-х годов.
Через год после проведения акции «Лето свободы» Юг перестал быть центральной ареной борьбы за гражданские права.
Внимание «Власти черных» обратилось на северные города. Стоукли Кармайкл, Боб Мозес и другие участники движения за гражданские права смогли прийти к согласию по поводу первостепенного значения прекращения войны, а также и по некоторым другим вопросам.
Казалось, Хоффман не заметил произошедших изменений. Весной 1965 года он открыл магазин под названием «Сник шоп», где продавались изделия бедных чернокожих ремесленников с Юга, в то время как его товарищи по Эс-эн-си-си Рэп Браун, Стоукли Кармайкл, Джулиус Лестер и другие продавали книги и памфлеты на тему «Власти черных». Стоукли Кармайкл восхищал его своей личной храбростью. Это было нечто большее, чем личная храбрость, — он неудержимо стремился в самую гущу событий. Когда демонстранты подвергались нападению, он оказывался в первых рядах и делал все возможное, чтобы обратить на себя внимание. Однако когда Эс-ди-эс организовало первый антивоенный митинг в Вашингтоне, Хоффман даже не поехал туда. Смысл наиболее широко цитировавшегося его замечания по поводу антивоенных выступлений сводился к тому, что каждому следует выразить свой протест, посетив Джоунс-Бич на Лонг-Айленде в погожий летний день, при этом не имея на себе ничего, кроме купального костюма.
В 1968 году Джулиус Лестер опубликовал свое сочинение, имевшее большой резонанс, под названием «Берегитесь, белые! «Власть черных» вот-вот доберется до вашей мамаши!». Лестер писал о том, что сотрудники Эс-эн-си-си были рады видеть «белых и черных вместе» (говоря словами из гимна Пита Сигера) во время борьбы с расизмом в южных штатах. Но когда они очутились на Севере, стало ясно, что проблема отношений с белыми коренится именно здесь, а не на Юге. «Маска, — писал он, — начала спадать с лица Севера». Он отметил ценность использования «Власти черных» в средствах массовой информации с провокативными целями:
«Призыв к власти черных дал для формирования самосознания черных более, нежели что-либо иное. Само по себе это выражение не ново: им пользовались и чернокожие (среди них — Ричард Райт и Джеймс Боггс), и белые (например Чарлз Сильбермен). Однако мировую известность оно приобрело, прозвучав на дорогах Миссисипи во время марша Мередит, когда организатор Эс-эн-си-си Вилли Рикс выразил то, что все формулировали как «Власть для чернокожих», коротко: «Власть черных!» (Рикс не тратит слов понапрасну).
Заурядный марш обернулся новым событием большой важности. Каждый хотел знать, что это такое — «Власть черных». Если Эс-эн-си-си говорил «Власть неграм» или «Власть цветным», белые продолжали спокойно спать по ночам. Но ВЛАСТЬ ЧЕРНЫХ! Это слово «черных»! ЧЕРНЫЙ. Возникает видение: болота, кишащие аллигаторами; над ними склонились какие-то древние деревья с обросшими мхом сучьями... Из глубин болота поднимается черное чудовище; с его шкуры капает грязь... Папаши велят своим дочкам быть дома в 9, а не в 9.30... ВЛАСТЬ ЧЕРНЫХ! Боже мой, негры начали возвращать долги белым... Нация билась в истерике. Губерт Хамфри визжал: «В Америке нет места расовой дискриминации по отношению к людям с каким бы то ни было цветом кожи!» Он лгал. Черным было известно минимум сорок восемь штатов, где имелось столько места для расизма, что для других вещей его просто не оставалось.
Эс-эн-си-си никогда не насчитывал в своем составе белых больше, чем 20%, но в декабре 1966 года, через семь месяцев после того, как Кармайкл возглавил эту организацию, она с трудом провела в жизнь решение об ограничении числа белых сотрудников — всего при девятнадцати голосах за, восемнадцати против и двадцати четырех воздержавшихся. Приказ об исключении отдал не кто иной, как Боб Мозес — человек, двумя годами раньше отправивший на Юг тысячу волонтеров. Хоффман был в ярости. Он нанес ответный удар в статье, опубликованной в ежемесячнике «Вилледж войс», где использовал свой оригинальный стиль — он писал от первого лица, давая пояснения в разговорной манере (с того времени многие нью-йоркские публикации имитировали его). Он избрал в качестве мишени слабое место Эс-эн-си-си, а именно то, что, как и в случае многих движений 60-х, организаторы Эс-Эн-си-си спали друг с другом. Ведь они были молоды; они работали бок о бок, часто под угрозой серьезной опасности. Как говорил работник Эс-эн-си-си Кейси Хейден: «Если вам повезло и у вас есть постель, вам наверняка будет невесело, если делить ее не с кем». Эс-эн-си-си пытался сохранить информацию в рамках организации, поскольку здесь имел место не просто секс, но межрасовый секс: темнокожие мужчины занимались любовью с белыми женщинами, и ничто не приводило расистов-белых в такое бешенство, как этот факт. Эбби Хоффман писал о том, что белых женщин завлекли в организацию, соблазнили, а затем вышвырнули вон: «Я сочувствую другим белым сотрудникам Эс-эн-си-си, особенно белым женщинам. Все они напоминают мне шлюх из Бронкса, которых имеет и лишает куска хлеба некий темнокожий сутенер».
В июле 1967 года, когда в американских городах вспыхнули бунты, Джонсон назначил комиссию в составе одиннадцати человек во главе с губернатором штата Иллинойс Отто Кернером, дабы проанализировать происходящее и дать рекомендации по урегулированию «социальных беспорядков». В марте 1968 года комиссия Кернера опубликовала противоречивое, но снискавшее многочисленные похвалы исследование, в котором расизм был назван в качестве ключевой проблемы. В нем также звучал упрек в адрес средств массовой информации: они излишне подчеркивают факты насилия и занижают уровень нищеты в бедных городских районах. «Среди негров, в особенности среди молодежи, возникло новое настроение — апатию и подчинение «системе» заменили самоуважение и рост расовой гордости».
Отчет, продававшийся столь широко, что к апрелю 1968 года он занимал второе место в списке бестселлеров «нон-фикшн», опубликованном «Нью-Йорк тайме», призывал к решительному увеличению федеральных расходов. «Необходимо пойти навстречу насущным потребностям нации; в ряде случаев необходимо сделать трудный выбор и, если потребуется, ввести новые налоги». К несчастью, в тот самый день демократ из Арканзаса Уилбур Миллз (в качестве председателя
Комитета по изысканию денежных средств в палате представителей он являлся главной фигурой в налоговых вопросах) сообщил, что затраты на продолжение войны во Вьетнаме требуют форсировать рост налогов. Именно это комиссия подразумевала под трудным выбором. Мэр Нью-Йорка Джон Линдсей, член комиссии Кернера, был среди тех, кто, подобно Роберту Кеннеди, выражал сожаление, что военные расходы не дают государству реализовать свои социальные обязательства; число их все увеличивалось.
Но самая цитируемая и врезавшаяся в память строка звучала так: «Наша нация движется в направлении двух обществ, черного и белого, разделенных и неравных между собой». Это и произошло с активными движениями левого толка. В точности отражая процессы, происходившие в обществе, белые и темнокожие активисты все сильнее отдалялись друг от друга.
К 1967 году Эбби Хоффман стал воинствующим противником привилегированных слоев белого населения. Он протестовал против капитализма и духа торгашества, сжигая деньги и подстрекая других делать то же самое. Идея сожжения денег не вызвала бы отклика у чернокожего сельского населения на Юге или у горожан-северян. Но для Хоффмана бросить деньги в огонь означало привлечь внимание телекамер, поскольку это было зрелищно. В 1967 году, когда он наконец обратил внимание на антивоенное движение, главной его заботой было попасть на телеэкраны. В мае этого года он создал «Бригаду цветов»; в нее вошли молодые активисты антивоенного движения, чей внешний вид стал ассоциироваться с хиппи: длинные волосы, одежда, украшенная цветочным узором, синие джинсы, к которым внизу были пришиты колокольчики, повязки на головах, бусы. Все это, казалось, должно было привлечь телевизионщиков. Сам Хоффман, размахивавший американским флагом, надел накидку с надписью «Свобода».
Участие в движении за гражданские права приучило Хоффмана к мысли, что даже созидательные действия ненасильственного характера могут остаться незамеченными в том случае, если на их участников не будет совершено нападение.
«Бригада цветов» создавалась для того, чтобы подвергнуться атаке. Хоффман обучил своих людей, как нужно сгибаться, принимая защитную позу, — этому его научили сотрудники движения за гражданские права. И их атаковали; молодых женщин избили, американские флаги вырвали из их рук. Фотоснимки, запечатлевшие это, производили сильное впечатление, и «Бригада цветов» немедленно стала предметом разговоров в среде борцов за мир. Хоффман сообщил прессе, что торговцы из верхней части города плохо обеспечили их цветами, но они собираются «вырастить свои собственные». Он хвастливо заявил, что «цепи из одуванчиков окружат призывные пункты» (имелись в виду пункты призыва на военную службу).
Утвердившись в качестве одного из лидеров хиппи Ист-Вилледжа в Нью-Йорке, Хоффман присоединился к группе диггеров (ее основали актеры из Мимической труппы Сан-Франциско). Он объяснил разницу между диггерами и хиппи в статье, озаглавленной «Диггерство есть ниггерство» (при публикации она была названа «Победить»): «Диггеры — это хиппи, которые не дают собой манипулировать средствам массовой информации, но сами манипулируют прессой, телевидением и радио. В некотором смысле и то и другое представляет собой колоссальный розыгрыш».
«Диггеры» унаследовали наименование от движения за освоение свободных земель, существовавшего в Англии в семнадцатом веке. Его участники пророчили приход революции, которая будет состоять в отмене денег и собственности; их вдохновляли идеи уничтожить и то и другое и отпустить все живое на свободу.
Хоффман также организовал «уборку» на Третьей улице в Ист-Вилледже, считавшейся одной из самых грязных улиц Манхэттена. Полиция не знала, как реагировать, когда Хоффман и диггеры явились в этот квартал с метлами и швабрами. Один из пришедших даже подошел к полисмену и начал полировать его бляху. Тот расхохотался. Смеялись все, и в сообщении, опубликованном в «Вилледж войс», говорилось, что «уборка» была «дурачеством». Позже в том же году Хоффман организовал «перекур»: люди отправились в парк на Томпкинс-сквер и закурили марихуану (надо заметить, что этим так или иначе занимались почти все).
«Современная группа революционеров, — пояснял Хоффман, — направляется не на фабрику, а в телецентр».
Другом и соперником Хоффмана был Джерри Рубин, родившийся в семье «синих воротничков» в Цинциннати. Существует история о том, как в январе 1968 года Рубин и Хоффман, катаясь по полу в наркотическом ступоре, основали движение «Йиппи!», но в действительности все было наоборот: то было не событие, о котором участники предпочли бы умолчать (да вот беда: сведения случайно просочились в прессу по вине некоего коварного очевидца), а сознательно распространявшийся сюжет. На самом деле Рубин и Хоффман трезво взвесили и рассчитали многое, прежде чем основать это движение. Во время своего «свободного» периода Хоффман намеревался назвать группу «Свободные люди». Действительно, его первая книга «Революционный ад как самоцель», вышедшая в 1968 году, была подписана псевдонимом Свободный. Но после долгой дискуссии основатели отказались от названия «Свободные люди» в пользу «Йиппи!». Не менее года прошло до того момента, как они заметили при случае, что это название означает «Молодежная международная партия».
Никто не знал, насколько следует принимать Эбби Хоффмана всерьез, и в этом была его сила. Многое относительно этого непостижимого клоуна 60-х можно понять из следующей истории. В 1967 году Хоффман женился второй раз. Отчет о «свадьбе» был также опубликован в «Вилледж войс»: «Приносите цветы, угощение, приводите друзей; приветствуются шутки, костюмы, раскрашенные лица». Пара должна была сочетаться «по мановению Духа Святого»; оба были в белом, с гирляндами в волосах. На церемонии звучали строки из «И Сзин», китайской «Книги перемен», которой пользовались для предсказания будущего более трех тысяч лет назад и к которой вновь обратились в 1968 году любители популярного мистицизма. Жених явно находился под действием марихуаны и беспричинно хихикал. Журнал «Тайм» сообщил об этой свадьбе в своем июльском выпуске 1967 года, посвященном хиппи, но не упомянул имена «влюбленной пары»: имя Эбби Хоффмана не было широко известно до 1968 года. Но после «свадьбы», не придавая это никакой огласке, молодожены отправились в храм Эммануэля (несомненно, «буржуазный») в Верхнем Ист-Сайде — богатом районе Манхэттена, где рабби Натан А. Перельман спокойно совершил бракосочетание по обряду реформистской церкви.
Евреи активно участвовали в студенческом движении в 1968 году не только в Польше, но и в Соединенных Штатах и Франции (хотя соотношение их количества и общего числа участников было неодинаково). В Колумбийском и Мичиганском университетах (двух кампусах, где Эс-ди-эс действовало наиболее интенсивно), евреи составляли больше половины участников этого движения. Когда Том Хейден впервые приехал в Мичиганский университет, он заметил, что политические активисты были сплошь евреями из семей сторонников левого движения. Евреи составляли две трети белых «райдеров свободы». Марио Савио, представлявший собой примечательное исключение, говорил:
«Я не еврей, но мне случалось видеть такие картины — поразительные картины. Груды тел. Курганы из тел. Ничто так не действовало на мое сознание, как эти картины. И эти картины послужили для меня особым импульсом — может быть, другие люди приходят к таким мыслям иначе. Для меня это означало, что всякая вещь нуждается в осмыслении. И сама реальность тоже. Потому что это было, как если бы вы открыли ящик стола вашего отца и нашли порнографические картинки, где изображено, как взрослые пристают к детям. Это кажется темной и непонятной тайной человечества: в какой-то момент в недавнем прошлом людей сжигали и складывали в кучи... Эти картины повлияли на жизни людей. Я знаю, что они оказали влияние на мою жизнь, возможно не столь сильное, но у меня возникло что-то близкое к желанию, чтобы это больше никогда не повторялось. Несомненно, то же самое ощущают евреи. Однако у неевреев это чувство тоже есть».
* * *
Люди, родившиеся во время Второй мировой войны и сразу после нее, росли в мире, переменившемся из-за недавнего ужаса, и это заставило их видеть общество в совершенно ином свете. Великий урок нацистского геноцида, полученный послевоенным поколением, состоял в том, что каждый ощущал себя обязанным высказаться, оказавшись перед лицом зла. Тот, кто промолчал, чем бы он ни руководствовался, по мнению этого поколения, заслуживал сочувствия и обвинения в свете истории в той же мере, в какой этого заслуживали немцы. Так подсудимые на процессах военных преступников ссылались в свое оправдание на выполнение приказа. То было поколение, еще детьми узнавшее об Аушвице и Берген-Бельсене, о Хиросиме и Нагасаки; дети, которых учили все их детские годы, что в любой момент взрослые могут решиться начать атомную войну и жизни на Земле придет конец.
В то время как старшее поколение оправдывало ядерную бомбардировку Японии, потому что она прекратила войну, новое поколение еще раз, будучи детьми, увидело картину этого события и отнеслось к нему совершенно иначе. Оно так же видело по телевизору грибовидные облака от ядерных взрывов, поскольку США по-прежнему проводили наземные испытания атомного оружия. Американцы и европейцы, жители Запада и Востока, выросли с сознанием, что Соединенные Штаты, продолжавшие создавать бомбы — они становились все «больше» и «лучше», — были единственной страной, которая однажды действительно использовала их. И все время шли разговоры о том, что это произойдет вновь — в Корее, на Кубе, во Вьетнаме. Дети, родившиеся в 40-е годы в странах обоих блоков, росли, обучаясь самозащите во время ядерной атаки. Савио вспоминал, как в школе им велели прятаться под парты. «Я, в конце концов, получал по физике хорошие отметки, поэтому даже тогда задавал себе вопрос: “Неужели это действительно поможет?”»
«Холодная война» оказала такой же эффект на детей всего мира, чье детство пришлось на этот период. Она заставила их бояться обоих военных блоков. Поэтому молодежь Европы,
Латинской Америки, Африки и Азии столь быстро и решительно осудила военные действия США во Вьетнаме. В общем и целом это являлось не поддержкой коммунистов, но неприятием того факта, что военный блок (все равно какой) навязывает свою власть. Казнь Розенберга и жизни, погубленные в результате расследований комиссии сенатора Джозефа Маккарти, внушили американской молодежи недоверие к правительству.
Молодежь всего земного шара видела: мир обременен двумя равными — и несправедливыми — силами. Американская молодежь усвоила важность ведения борьбы как с коммунистами, так и с антикоммунистами. Декларация Порт-Гурона признавала, что коммунизму необходимо противостоять: «Советский Союз — система, ответственная за проведение тотального подавления организованного противостояния, а также носитель идеи будущего, во имя которого было принесено в жертву множество человеческих жизней; страна, где имели место многочисленные случаи унижения человеческого достоинства разной степени тяжести». Однако, согласно Декларации Порт-Гурона, антикоммунистические силы в Америке приносят скорее вред, чем пользу. Декларация предупреждала, что «безрассудное следование антикоммунистическим идеям стало серьезной социальной проблемой».
Впервые подобные мысли нашли свое выражение в 50-е годы с появлением образов, созданных в кино Джеймсом Ди-ном, Марлоном Брандо и Элвисом Пресли, а также литературы «поколения битников» — Гинзберга и Джека Керуака. Однако в 60-е эти настроения усилились. Молодежь возлагала надежды на Джона Кеннеди, во многом потому, что он тоже был относительно молод — Кеннеди стал вторым из наиболее молодых президентов в истории, и к тому же заменил Эйзенхауэра— самого старого президента. Инаугурация Кеннеди в 1961 году ознаменовала наиболее радикальное «возрастное изменение» в Белом доме: разница между уходящим и заступающим на пост президентами составляла почти тридцать лет. Но даже при Кеннеди молодые американцы ощутили кризис, возникший в результате размещения ракет на Кубе, как устрашающий опыт, и в результате осознали, что власть имущие склонны играть с жизнями себе подобных, даже если они молоды и обладают хорошим чувством юмора.
Большинство тех, кто приезжал в кампусы колледжей в середине 60-х годов, питали глубокое отвращение и недоверие к любым формам власти. Люди, занимавшее ключевые посты, не пользовались доверием, в какой бы части политического спектра они ни находились. По этой причине среди них не было полновластных лидеров. Если бы кто-нибудь из студенческих руководителей, скажем, Савио или Хейден, объявил себя лидером, он бы полностью лишился доверия.
Люди этого поколения отличались еще одной характерной особенностью. Они выросли в эпоху телевидения, им не приходилось учиться пользоваться им: это умение приходило естественно, подобно тому как дети, выросшие в 90-е, в эпоху компьютеров, имея с ними дело, руководствуются своего рода инстинктом, который у более старших людей не формируется даже в результате обучения. В 1960 году на одной из последних пресс-конференций Эйзенхауэра корреспондент Роберт Спи-вак задал президенту вопрос: как он считает, была ли справедлива пресса по отношению к нему за те восемь лет, что он провел в Белом доме? Эйзенхауэр ответил: «Ну, если уж вы заговорили об этом, то я не знаю, что репортер может сделать президенту. Не так ли?» Подобное мнение с тех пор никогда не звучало из уст представителей Белого дома. О Кеннеди, родившемся в 1917 году, говорили, что он «понимает телевидение», однако на самом деле создателем «телевизионного президентства» Кеннеди стал его брат Роберт — он был младше Джона на восемь лет.
К 1968 году Уолтер Кронкайт пришел к мысли, обескуражившей его самого: телевидение не только играет важную роль в распространении информации о событиях, но и формирует представление о них. По всему миру проводились демонстрации, и Кронкайту казалось очевидным, что они организуются для телесъемок. Уличные демонстрации — хорошее зрелище для телевидения. Не обязательна даже их многолюдность — нужно лишь, чтобы участники заполнили кадр во время съемок.
«Конечно, было бы неверным считать, что люди вышли на улицы только для этого: демонстрации проводились и до появления телевидения. Однако оно воодушевило людей на подобные действия, — размышлял Кронкайт десятилетия спустя. — Очевидно, они подумали, особенно после того, как увидели в передачах из других стран, что демонстрации успешно проводятся в разных обществах: вот так и надо делать. И это распространилось по всему миру подобно эпидемии».
Это поколение, не доверявшее власти и «понимавшее» телевидение, прошедшее лучшую школу политической активности — американское движение за гражданские права, — было исключительно подходящим для того, чтобы нести разрушение в мир. И вдобавок им «предложили» войну, в которой они не хотели сражаться и которую, по их мнению, вообще не следовало вести. Молодые люди, принадлежавшие к этому поколению — те, кто учился в колледже в 1968 году, — уклонялись от призыва. Хейдены, Савио, Эбби Хоффманы, слишком молодые для Кореи и слишком старые для Вьетнама, не шли в армию. Эти представители поколения 60-х, люди 1968 года, отличались неистовством, невиданным прежде.
В 1959 году обширный, поросший деревьями кампус Мичиганского университета в Анн-Арборе насчитывал двадцать тысяч студентов. В нем с трудом можно было различить даже незначительные признаки движения за гражданские права или каких-либо других радикальных политических взглядов. Но в феврале 1960 года, вдохновленный сидячими акциями протеста в Гринсборо, Роберт Алан Хейбер, выпускник Мичиганского университета, объявил о создании новой группы, получившей название «Студенты за демократическое общество» («Students for Democratic Society», SDS). Дабы основать новую организацию, он привлек к сотрудничеству двух человек, имевших связи с традициями левого движения: Шэрон Джеффри, мать которой играла важную роль в Объединении рабочих автомобильных производств (United Auto Workers), и Боба Росса из
Южного Бронкса, любившего джаз и поэзию битников, — в свое время его дед и бабка общались с русскими революционерами. Они попытались сотрудничать с прилежным и работящим редактором «Мичиган дейли» Томом Хейденом. Хейден был родом из маленького городка недалеко от Анн-Арбора; он был поглощен работой в газете (она считалась одной из лучших среди тех, что выпускались в колледжах страны). Больше его интересовала другая организация, также начавшая свое существование в Мичиганском университете, — группа, лоббировавшая создание «Корпуса мира».
Эс-ди-эс имело намерение привлечь к сотрудничеству сообщество студенческих лидеров всей страны. Расчет оказался удачным. Февральские сидячие акции протеста в Гринсборо воодушевили американскую молодежь: у нее возникло желание сделать что-либо в том же духе. Позднее Хейден писал: «По мере того как тысячи студентов Юга подвергались аресту, а многие из них и избиению, я все более разделял их убеждения, и мое уважение к ним и желание совершать столь же смелые поступки возрастало». Хейбер, Джеффри и Росс начали с того, что присоединились к пикетам в Анн-Арборе в знак солидарности с сидячими акциями протеста в Гринсборо. Хейден сфотографировал их для «Дейли» и написал сочувственную передовицу. Весной движение Эс-ди-эс пригласило чернокожих рабочих, участников борьбы за равноправие, принять участие во встрече с белыми студентами Севера. Хейден дал сообщение о событии, к тому моменту он был уже главным редактором издания (чтобы исполнить эту мечту, ему пришлось немало потрудиться).
Хейден, которому в то время было двадцать лет, провел в Калифорнии лето, ознаменовавшееся для него крайне серьезными переменами. Он отправился в Беркли, спросил, где можно остановиться, и оказался среди активистов студенческого движения. Кампус в Беркли был чрезвычайно политизирован, и Хейден написал ряд обширных статей для «Дейли» о «новом студенческом движении». Он отправился в лабораторию Ливермор, где разрабатывалось ядерное вооружение США. Он взял интервью у исследователя-ядерщика Эдварда Теллера, который дал ему полубезумное объяснение, как пережить ядер-ную войну и что «лучше быть мертвым, чем красным». Во время съезда демократической партии в Лос-Анджелесе он встретился с Робертом Кеннеди, который в свои тридцать девять показался Хейдену слишком молодым для политика. Хейден явился свидетелем того, как кандидатуру старшего брата Кеннеди выставили на голосование, и был глубоко тронут речью Джона Кеннеди, хотя его новые радикально настроенные друзья уже заклеймили Кеннеди как «дутого либерала». Хейден еще не усвоил, что либералам не следует доверять. Он также взял интервью у Мартина Лютера Кинга, сказавшего: «В конечном итоге за убеждения надо платить своей жизнью».
Хейден отправил в «Дейли» свои статьи о появлении «новых левых». Когда же он возвратился в Мичиган, администрация университета обвинила его в том, что он больше изобретает новости, а не сообщает о происходящем. Однако он-то знал: «новые левые» существуют, — и при этом понимал, что не только его факультет, но и большая часть американцев по-прежне-му совершенно не беспокоятся об этом.
Хейден провел последний год обучения, мечтая отправиться на Юг и «принять участие». Он доставлял пищу чернокожим в Теннесси, изгнанным из дома за то, что они зарегистрировались для голосования. Но Хейден хотел делать больше. «Я нервничал в преддверии окончания обучения: Юг звал меня», — писал он позднее. По окончании университета он действительно отправился на Юг для установления связи Эс-ди-эс с Эс-эн-си-си. Но вскоре он понял, что Эс-эн-си-си — организация хорошо укомплектованная и не нуждается в нем. Хейден почувствовал себя одиноко, а ведь задача, которую ему предстояло выполнить на Юге, была трудной и подчас опасной. «Мне не хотелось попадать из драки в драку, из одной тюрьмы — в другую», — сообщал Хейден. В декабре 1961 года он писал из тюремной камеры в Олбани (Джорджия) своим товарищам, организаторам в Мичигане, предлагая провести собрание с целью превратить Эс-ди-эс в более обширную и важную организацию, подобную Эс-эн-си-си. В Эс-ди-эс состояло восемьсот человек, живущих по всей Америке; они платили членские взносы по одному доллару в год. Чтобы вырасти, организация должна была определиться.
В июне 1962 года небольшая группа молодых людей, называвших себя активистами Эс-ди-эс (около шестидесяти человек), устроила встречу в Порт-Гуроне (Мичиган), где когда-то Том Хейден мальчиком рыбачил вместе с отцом. К Хейдену, который выполнял роль Джефферсона (Хейбер же играл роль Адамса), обратились с просьбой составить проект документа, который послужит «повесткой дня для всего поколения». Оглядываясь в прошлое, Хейден изумлялся грандиозности проекта. «Я до сих пор не понимаю, — писал он десятилетия спустя, — откуда явилось это мессианство, эта вера в собственную правоту, эта убежденность в том, что мы можем обращаться к поколению». В итоге документ, известный как Декларация Порт-Гурона, на самом деле в значительной мере воплотил мысли, переживания и перспективы поколения. К1968 году, когда для старшего поколения стало очевидно, что молодежь думает и чувствует совершенно иначе, Декларация Порт-Гурона явилась для него откровением, позволявшим понять, как именно думает молодежь, — уникальной возможностью, за которую ухватились старшие. Когда декларация создавалась, студенты, пришедшие в колледж в 1968 году, посещали младшие классы средней школы, но теперь они настаивали на ее изучении при прохождении курсов социологии и политических наук.
Декларация не являлась манифестом, рассчитанным на все поколение целиком. Он была недвусмысленно адресована белым, принадлежавшим к верхушке среднего класса, привилегированным людям, которые сознавали свое привилегированное положение —■ и испытывали гнев по поводу этой несправедливости. Декларация начиналась так:
«Мы — люди этого поколения, воспитанные в условиях по крайней мере отчасти комфортных. Университет приютил нас. Но нам неловко глядеть на мир, в котором мы живем».
Отмечая, что ни темнокожие жители Юга, ни студенты колледжей не имели права голосовать, декларация призывала к демократии для всех. «Целью общества и каждого человека должна быть независимость личности». Декларация содержала упрек в адрес Соединенных Штатов в использовании военной силы, которая, по выраженному в документе мнению, больше сделала для того, чтобы остановить демократию, нежели коммунизм. Путь, описанный в документе, пролегал между коммунизмом и антикоммунизмом, причем ни тому ни другому направлению не было оказано никакой поддержки. Также давалось определение «новым левым» — левым, видевшим мало толку в либералах, которым нельзя доверять, коммунистах с их авторитарностью, капиталистах, отнима-ших у людей свободу, и хвастливых антикоммунистах. Американец, принадлежавший к «новым левым», был очень похож на студентов Польши, Франции и Мексики 1968 года. Аллен Гинзберг, который всегда проговаривал те или иные утверждения чуть более резко, нежели окружающие, писал: «И коммунистам нечего предложить: у них толстые щеки, очки и лживая полиция, — и капиталисты предлагают напалм и деньги в зеленых кейсах — нагим...»
Движение за гражданские права продолжало поражать окружающих новыми творческими подходами. В 1961-м Эс-эн-си-си изобрел «рейды свободы» (удачное название всегда играет большую роль при распространении той или иной идеи). «Райдеры свободы» ездили в автобусах (черные — в тех частях салона, которые предназначались для белых, белые — там, где полагалось находиться черным), в каждом магазине заходили не в «свои» комнаты отдыха, провоцировали проявления расизма среди белых по всей территории Юга. «Райдеры свободы» стали легендой. Джеймс Фармер, один из создателей этой тактики, говорил: «Мы чувствовали, что в попытке вызвать кризис можем рассчитывать на расистов Юга, и федеральное правительство будет вынуждено ужесточить соответствующие законы государства». Белые жители Юга отвечали насилием, и в результате события получили в прессе такое освещение, что борцы за гражданские права стали героями в глазах всего мира. В Монтгомери (Алабама) газета писала об одном из первых «рейдов свободы»:
«Двое несгибаемых «райдеров свободы» — избитые, все в синяках после расправы, учиненной толпой белых, — вечером в субботу поклялись принести в жертву свои жизни, если понадобится, чтобы сломать расовые барьеры на Юге. Их избила до потери сознания толпа, напавшая на группу из двадцати двух борцов за расовую интеграцию, когда они высадились здесь из автобуса в субботу утром».
Разъяренные толпы так жестоко реагировали на эти поездки, имевшие целью разрушение расовых барьеров, что администрация Кеннеди призвала к «временному затишью», а КОРЕ отказалось от тактики «рейдов свободы», сочтя ее слишком опасной. Но для Эс-эн-си-си это только послужило импульсом к увеличению числа «райдеров». При этом многие «рейды» закончились тем, что их участники отлично провели сорок девять дней в исправительном заведении в Миссисипи — Пэрчмэнской каторжной тюрьме, напоминавшей старинную крепость.
В 1963 году движения, ратовавшие за гражданские права, провели примерно девятьсот тридцать демонстраций, при этом арестовано было около двенадцати тысяч человек. Во всем мире молодое поколение росло, трепетно созерцая эту тактику, напоминавшую о борьбе Давида с Голиафом. Для него движение за гражданские права было зрелищем, имевшим гипнотический эффект; оно питало их идеализм, учило активности. Оно также было привлекательно тем, что требовало мужества, поскольку участники движения постоянно сталкивались с реальной опасностью. Чем сильнее было противостояние расистов, тем большими героями выглядели поборники гражданских прав. Что могло быть восхитительнее борьбы против хулига-нов-расистов, чье нападение на мирных молодых людей было заснято на пленку?
В 1964 году появилась стратегия борьбы, привлекшая наибольшее число сторонников; она стала называться «Лето свободы в Миссисипи». Те, кто был слишком стар для участия в событиях или для каких-либо действий, оказались готовы — иногда невольно — к тому, чтобы вести вперед свое поколение.
1964 год начался с оцепенения нации, охваченной скорбью после убийства молодого президента, на которого возлагалось столько надежд. Но дни шли за днями; в воздухе ощущалось напряжение, которое столь удачно воплотили Марта Ривс и Ванделлас в «Уличных танцах». 1964 год был годом новых начинаний. Именно в тот год американцы впервые увидели «Битлз», стриженных под горшок и в странных бесцветных костюмах. В тот год либералы обошли консерваторов во время предвыборной борьбы Джонсона и Голдуотера. Именно в 1964 году произошло впечатляющее событие: был принят Закон о гражданских правах — несмотря на мощное единодушное противостояние делегаций Алабамы, Арканзаса, Джорджии, Луизианы, Миссисипи, Северной Каролины, Южной Каролины и Виргинии (не случайно последняя оказалась единственным районом, где Голдуотер одержал уверенную победу над Джонсоном). Но наиболее волнующим событием года стало «Лето свободы в Миссисипи».
Идея проведения «Лета свободы» принадлежала родившемуся в Гарлеме и получившему образование в Гарварде лидеру Эс-эн-си-си, философу Бобу Мозесу, и активисту (позднее конгрессмену) Алларду Лоуенстейну. В то время, когда движение за гражданские права сосредоточило свои усилия на важной, но не слишком зрелищной работе по регистрации темнокожих избирателей на Юге, они поняли: их действия привлекут гораздо больше внимания средств массовой информации, если они призовут белых жителей Севера приехать летом в Миссисипи для регистрации черных участников голосования.
Вряд ли у кого-то из почти тысячной армии волонтеров были сомнения в том, что их работа сопряжена с опасностями. Действительно, в начале лета три работника Эс-эн-си-си: Джеймс Чейни, Эндрю Гудмен и Майкл Швернер — исчезли в отдаленном болотистом районе Миссисипи. Швернер был опытным активистом движения, Гудмен — волонтером-нович-ком из Северной Каролины, а Чейни — темнокожим волонтером из числа местных жителей. Драма развивалась в течение целого лета: сотрудники Эс-эн-си-си боролись, пытаясь установить сотрудничество с ФБР, и каждая улика (например, была найдена машина, принадлежавшая пропавшим) рисовала все более мрачную картину происшедшего. Развязка наступила 4 августа, через 44 дня после того, как все трое были объявлены пропавшими благодаря сообщению информатора ФБР. Их тела были обнаружены зарытыми на глубину двенадцать футов в земляной дамбе к югу от Филадельфии (Миссисипи). Все трое были застрелены. Чейни, чернокожего, перед смертью жестоко избили.
И все же ни один волонтер не отступил (одного заставили уехать родители: он был еще несовершеннолетним). Более того, Мозесу пришлось остановить волонтеров: их было столько, что сотрудники Эс-эн-си-си не в состоянии были обучить всех новичков.
Среди тех, кто этим летом отправился на Юг, оказался сын слесаря-итальянца из городка Куинс (штат Нью-Йорк), изучавший философию в Беркли. Марио Савио, 1942 года рождения, был ростом шесть футов два дюйма, худощавым, тихим. Он заикался настолько сильно, что прощальная речь, традиционно произносимая выпускниками-студентами, потребовала от него огромных усилий. Он был католиком и, как многие католики, принимал католическую мораль, будучи не в ладах с церковью как таковой. В юности он мечтал стать священником.
В 1964 году Савио (ему тогда исполнился 21 год) шел через кампус Беркли, и в районе Телеграф и Банкрофт (этой узкой полоске земли суждено было стать местом политической активности) кто-то вручил ему листовку, где говорилось о демонстрации, проводимой местным движением за гражданские права по поводу несправедливых условий трудового найма в Сан-Франциско. Впоследствии Савио вспоминал: «Я сказал: “Ну что ж, демонстрация — это отлично”. Эти демонстрации были своего рода отличительным знаком кампусов. Конечно, они выигрывали по сравнению с футбольными матчами, это уж точно».
Итак, после небольшой внутренней борьбы Савио пошел на демонстрацию. Пожилая женщина закричала ему: «Отправляйся в Россию!» Он, в свою очередь, попытался объяснить ей, что его семья итальянского происхождения.
В первый раз в жизни Марио Савио был арестован. В камере человек по имени Джон Кинг случайно спросил его: «Вы едете в Миссисипи?» Когда Савио узнал об акции «Лето свободы в Миссисипи», то понял, что его место там. (Надо сказать, что это ощущение испытывали многие волонтеры: они чувствовали, что должны быть там.) И Савио поехал. В Миссисипи он постучал в запертую дверь бедного чернокожего издольщика. Глава семьи, вежливый, но слегка испуганный, ответил, что он просто не хотел голосовать. Савио задал ему вопрос:
«Голосовал ли когда-нибудь ваш отец?»
«Нет, сэр».
«А ваш дед, он голосовал когда-нибудь?»
«Нет, сэр».
«А вы хотите, чтобы ваши дети принимали участие в голосовании?»
Затем Савио взял их с собой. Они поехали вместе с ним в город, отводя глаза и читая ненависть на лицах доброй половины горожан, и с риском для жизни зарегистрировались в списке избирателей.
Подобный опыт оказал большое влияние на формирование личности как Савио, так и всего поколения молодых северян. Приехав в Миссисипи, они выглядели молоденькими и чистенькими. Местные активисты приветствовали их; они взялись за руки, образовав прочную цепь, и запели «Все преодолеем». Голоса их дрожали, когда звучали слова «белые и черные — вместе»: ведь в тот момент именно так и было... Молодые, храбрые, они провели лето, рискуя жизнью, их избивали и сажали в тюрьмы. Подобно доктору из «Чумы» Альбера Камю (эту книгу читали все) они действовали, боролись с язвами общества. Уезжая в сентябре, они уже стали опытными активистами. «Лето свободы», возможно, дало для воспитания радикально настроенных руководителей студенческого движения больше, нежели все усилия Эс-ди-эс. Осенью волонтеры возвратились на Север энергичными, активными, настроенными на борьбу за изменения в политике. Они прошли одну из лучших школ гражданского неповиновения за всю историю Америки.
Савио вернулся в Беркли (к этому времени он стал президентом местного общества друзей Эс-эн-си-си), охваченный лихорадкой политической деятельности. Тем более он был ошеломлен, узнав, что университет запретил вести политическую пропаганду в кампусе даже на том крохотном клочке земли Телеграф и Банкрофт, где он впервые узнал о демонстрациях. Как мог он не подать голос в защиту своих собственных прав после того, как убедился, что жители Миссисипи рискуют всем в борьбе за свои права? Он живо помнил их молчание и то достоинство, с которым они требовали регистрации, произнося мягко, с местным акцентом слово «reddish» (register).
«Я что, Иуда? — спрашивал Савио сам себя (он по-прежне-му мыслил в религиозных категориях). — Теперь, когда я вернулся домой, —- собираюсь предать людей, которых сам же вверг в опасность? Забудь обо всем, говорят мне. Это было на самом деле? Или это просто сон? Детские игры? Я играл, когда был в Миссисипи, а теперь вернулся, и передо мной серьезная задача: стать тем, кем я собираюсь (хоть я и не имею ни малейшего представления, кем именно)».
Сделав выводы из уроков, полученных в Миссисипи, где даже стучать в двери надо было вдвоем, защитники свободы слова в Беркли никогда не действовали поодиночке, но всегда сообща. 1 октября 1964 года сотрудник движения за гражданские права Джек Вейнберг (он тоже был в Миссисипи и участвовал в акции «Лето свободы») был арестован в кампусе в Беркли. Он нарушил установленный запрет политической пропаганды тем, что сидел за столом, заваленным литературой по вопросам гражданских прав. Его втолкнули в полицейский автомобиль, который тут же окружили протестующие. Студенты не имели никакого плана действий, но у них был опыт участия в борьбе за права человека: они уселись на землю. Подходили все новые и новые студенты, не давая машине двигаться; она простояла на месте тридцать два часа.
Прежде чем влезть на крышу автомобиля и произнести речь, Марио Савио снял обувь, чтобы не повредить машину.
Позднее он даже не мог вспомнить, когда именно ему пришла в голову мысль влезть на автомобиль. Он поступил так, и все. Больше он не заикался. Эта речь стала для него своеобразным помазанием: он сделался оратором, голосом «Движения за свободу слова в Беркли».
Выпускница философского факультета Сьюзен Голдберг, впоследствии ставшая женой Марио, говорила, что «его харизма порождалась его искренностью». «Мне случалось видеть его среди людей из Беркли, несущих плакаты, но когда он заговорил, я была потрясена его искренностью. У Марио был дар говорить о сложных вещах так, что они становились простыми и понятными, — и при этом он обходился без риторики. Он считал, что, если людям известны все факты, им ничего не остается, как поступить правильно; увы, для многих из нас это не так... Говоря с людьми, он зачастую тратил на это много времени, надеясь, что сможет убедить их».
Хотя Марио Савио не обладал красноречием Мартина Лютера Кинга и юридической четкостью формулировок, свойственной Тому Хейдену, у него было чувство стиля, и он старался говорить как можно проще. В Беркли его заикание проявлялось очень редко, а произношение, присущее жителям Куинса, сохранилось. В своих речах, свободных от риторической пышности, он, казалось, всегда подчеркивал: «Все это настолько ясно...» Настоящее пламя можно было разглядеть лишь в его глазах. Взмахи его рук и постоянная жестикуляция напоминали о его сицилийских корнях. Высокая долговязая сутулая фигура выражала смирение и скромность (вспоминалось учение Ганди о том, что политический активист должен быть столь кротким, чтобы его противник, потерпев поражение, не почувствовал себя униженным). У Савио была любимая фраза: «Я прошу вас учесть...» Возникла даже легенда, по которой Савио во время одного из своих пребываний в тюрьме подошел к здоровенному заключенному и ни с того ни с сего предложил пари: он выльет ему стакан воды на голову, а тот ничего не сможет сделать, чтобы отомстить своему обидчику, как бы ни был тот слаб. Заключенный принял вызов. Савио налил воды в два стакана. Он опрокинул оба стакана одновременно: один на голову заключенному, второй — на самого себя, — и выиграл пари.
Два месяца спустя после сидячей акции протеста возле полицейского автомобиля Савио возглавил захват Спроул-Хол-ла — здания университета, который привел к проведению самого большого массового ареста студентов в истории США. Перед захватом здания Савио произнес речь — единственную из студенческих речей, произнесенных в 60-е годы, текст которой сохранился.
«Пришло время, когда ненависть к действиям машины стала столь сильна, приносит такую боль вашему сердцу, что вы просто не можете участвовать в них, даже если для этого достаточно всего лишь промолчать. Вы бросаетесь собственным телом на шестерни, на рычаги, на весь механизм, и вам удается его остановить. И вы даете понять тем, кто приводит машину в действие, ее хозяевам, что, пока вы здесь, машина не будет работать».
Большинство лидеров «Движения за свободу слова» участвовало в акции «Лето свободы». Им понадобилась волнующая песня Боба Дилана, где речь шла о гражданских правах: «Время пришло, а они неизменны» («The Times They Are A Changin»). Джоан Баез спела ее во время одной из крупнейших демонстраций, и за одну ночь песня Дилана стала гимном студенческого движения.
Заметим, что участники «Движения за свободу слова» (так было в большинстве движений 60-х) утверждали, что наличие лидеров у их организаций противоречило бы демократии. Савио всегда отрицал свое единоличное лидерство. Однако именно благодаря ему — в большей степени, нежели чем кому-либо другому, — студенты, поступившие в колледж в середине 60-х, воспринимали участие в демонстрациях как нечто естественное. Савио осуществил связь, идущую от движений за гражданские права к студенческому движению. От Варшавы до Берлина, Парижа, Нью-Йорка, Чикаго, Мехико студентов волновали речи Марио Савио, его методы борьбы и само «Движение за свободу слова». Имена, сидячие акции протеста, аресты, заголовки в прессе, сам факт того, что в кампусах стали выполняться их требования относительно товарищей-активистов, — все это стало легендой для студентов, пришедших в университеты в середине 60-х. К сожалению, забылась вежливость и воспитанность бунтовщика, который влез на полицейский автомобиль в одних носках,стараясь не повредить его.
Марио Савио и Том Хейден не слишком интересовались модой своего времени. В 1968 году, когда Том Хейден организовывал демонстрации во время Чикагской конвенции, его костюм по-прежнему мало чем отличался от одежды журналиста из «Мичиган дейли». Но если Хейден дал 1968 году формулировку принципов, а Савио воплотил его дух, то стиль его лучше всего выразил некий мужчина старше тридцати лет из Уорлес-тера (Массачусетс). За всю жизнь — и, возможно, за всю историю человечества — не было года, который бы лучше подходил Эбби Хоффману, нежели 1968-й. В тот год ему должно было казаться странным, что весь мир начал вести себя так, как он. Хоффман любил повторять, что родился вместе с десятилетием, в 1960 году, и, возможно, так он и чувствовал.
Эбби Хоффман был одним из первых американцев, кто полностью оценил те возможности и преимущества, которые обеспечивал современникам «век средств массовой информации». В движении «новых левых» он выполнял роль клоуна не только потому, что был им на самом деле, но и потому, что, как следует поразмыслив, понял нужду «новых левых» в клоуне: он мог привлечь внимание к их проблемам, и его нельзя было не заметить. Прежде всего Эбби Хоффман не хотел остаться незамеченным. И, как и все хорошие комики, он был мастером розыгрыша, и те, кто знал в этом толк, хохотали. Остальные присоединялись к телевизионщикам, ожидавшим, что Хоффман, как обещал, вознесется и будет левитировать над Пентагоном, и не понимали, почему он нимало не был смущен или разочарован, когда не смог этого сделать.
В 1960 году, когда он «родился», как он сам говорил, ему было двадцать четыре года (он появился на свет в 1936 году).
Он был первокурсником в Брэндисе, когда Том Хейден впервые проехал пятьдесят миль, чтобы попасть в Мичиганский университет, на шесть лет старше Марио Савио и на десять или больше — тех, кто окончил колледж в 1968 году. У Хоффмана было ощущение, что он пришел слишком поздно. Он никогда не ходил на политические демонстрации до 1960 года: тогда, на последнем курсе в Беркли, он принял участие в колоссальной акции протеста против смертной казни, во главе которой стояли Марлон Брандо и другие знаменитости, после того как Кэрил Чессмен, похитивший двух женщин и принуждавший их к оральному сексу, был приговорен к смерти за свое преступление. Но 2 мая, после того как первый предпринятый Хоффманом опыт политической активности потерпел неудачу, Чессмен был казнен в штате Калифорния.
В тот же год Хоффман женился. У него родилось двое детей, и в течение нескольких лет он безуспешно пытался вжиться в роль отца и быть как все. В 1964 году, к своему великому разочарованию, он видел «Лето свободы» по телевизору. Летом
1965 года, когда множество белых волонтеров в последний раз отправились на Юг, Хоффман был среди них. Следующие два года он также оказывался в числе немногих приезжих, выполняя задания Эс-эн-си-си. Хоффман пропустил не только «Лето свободы», но и другое важное событие в рамках движения за гражданские права — съезд демократов в Атлантик-Сити. На съезде всех прибрал к рукам Джонсон, ставший президентом после гибели Кеннеди. Кандидат на пост вице-президента при Джонсоне Губерт Хамфри, его протеже Уолтер Мондейл и другие лидеры либерального истеблишмента, боясь, что им придется уступить Юг Голдуотеру, отказались принять делегатов от Партии свободы Миссисипи. Это привело к расколу движения в соответствии с возрастом участников. Старшие лидеры, такие как Мартин Лютер Кинг, привыкли к мысли, что демократическая партия — надежный товарищ и с ней, что называется, надо работать. Но Эс-эн-си-си утратил веру в плодотворность работы с кем бы то ни было из белых представителей истеблишмента. Боб Мозес был в ярости. Молодые лидеры, такие как Стоукли Кармайкл, потеряли терпение. Они заговорили о «Власти черных», о том, что чернокожие должны идти своим путем.
Всего за несколько недель до съезда демократов поступило сообщение об обстреле канонерскими лодками Северного Вьетнама американских миноносцев в Тонкинском заливе. Джонсон ответил нападением на Северный Вьетнам и заставил конгресс принять резолюцию о Тонкинском заливе, которая уполномочивала президента использовать «любые необходимые средства» для защиты Южного Вьетнама. Многие данные (в их числе телеграмма с одного из эсминцев) свидетельствовали в пользу того, что в действительности нападения могло и не быть. В 1968 году сенат провел слушания по этому вопросу, однако так и не разрешил его окончательно. Существовало стойкое подозрение, что тонкинский инцидент (имел он место на самом деле или нет — не столь важно) использовался Джонсоном как предлог для продолжения войны. Том Хейден сказал: «То, что демократическая партия выразила согласие с резолюцией о Тонкинском заливе именно тогда, когда отказалась принять делегатов от Партии свободы Миссисипи, стало для меня своего рода переломным моментом».
На следующий год Стоукли Кармайкл отправился в Миссисипи, надеясь в одном из тамошних округов создать местную политическую партию для черных. Он выбрал округ Лоун-дес, где чернокожее население составляло 80%. Символом государственной демократической партии Миссисипи, сплошь состоявшей из белых, был белый петух. В поисках хищника, который пожрет петуха, Кармайкл назвал свою партию «Черные пантеры». Более чем через год два калифорнийца, Хью Ньютон и Бобби Сил, рассказали Кармайклу о том, что основали свою собственную партию в Калифорнии, для которой позаимствовали название «Черные пантеры». Отказ принять делегатов из Партии свободы Миссисипи на съезде 1964 года сделал движение за гражданские права более радикальным и повлек за собой глубокие перемены в истории Америки 60-х годов.
Через год после проведения акции «Лето свободы» Юг перестал быть центральной ареной борьбы за гражданские права.
Внимание «Власти черных» обратилось на северные города. Стоукли Кармайкл, Боб Мозес и другие участники движения за гражданские права смогли прийти к согласию по поводу первостепенного значения прекращения войны, а также и по некоторым другим вопросам.
Казалось, Хоффман не заметил произошедших изменений. Весной 1965 года он открыл магазин под названием «Сник шоп», где продавались изделия бедных чернокожих ремесленников с Юга, в то время как его товарищи по Эс-эн-си-си Рэп Браун, Стоукли Кармайкл, Джулиус Лестер и другие продавали книги и памфлеты на тему «Власти черных». Стоукли Кармайкл восхищал его своей личной храбростью. Это было нечто большее, чем личная храбрость, — он неудержимо стремился в самую гущу событий. Когда демонстранты подвергались нападению, он оказывался в первых рядах и делал все возможное, чтобы обратить на себя внимание. Однако когда Эс-ди-эс организовало первый антивоенный митинг в Вашингтоне, Хоффман даже не поехал туда. Смысл наиболее широко цитировавшегося его замечания по поводу антивоенных выступлений сводился к тому, что каждому следует выразить свой протест, посетив Джоунс-Бич на Лонг-Айленде в погожий летний день, при этом не имея на себе ничего, кроме купального костюма.
В 1968 году Джулиус Лестер опубликовал свое сочинение, имевшее большой резонанс, под названием «Берегитесь, белые! «Власть черных» вот-вот доберется до вашей мамаши!». Лестер писал о том, что сотрудники Эс-эн-си-си были рады видеть «белых и черных вместе» (говоря словами из гимна Пита Сигера) во время борьбы с расизмом в южных штатах. Но когда они очутились на Севере, стало ясно, что проблема отношений с белыми коренится именно здесь, а не на Юге. «Маска, — писал он, — начала спадать с лица Севера». Он отметил ценность использования «Власти черных» в средствах массовой информации с провокативными целями:
«Призыв к власти черных дал для формирования самосознания черных более, нежели что-либо иное. Само по себе это выражение не ново: им пользовались и чернокожие (среди них — Ричард Райт и Джеймс Боггс), и белые (например Чарлз Сильбермен). Однако мировую известность оно приобрело, прозвучав на дорогах Миссисипи во время марша Мередит, когда организатор Эс-эн-си-си Вилли Рикс выразил то, что все формулировали как «Власть для чернокожих», коротко: «Власть черных!» (Рикс не тратит слов понапрасну).
Заурядный марш обернулся новым событием большой важности. Каждый хотел знать, что это такое — «Власть черных». Если Эс-эн-си-си говорил «Власть неграм» или «Власть цветным», белые продолжали спокойно спать по ночам. Но ВЛАСТЬ ЧЕРНЫХ! Это слово «черных»! ЧЕРНЫЙ. Возникает видение: болота, кишащие аллигаторами; над ними склонились какие-то древние деревья с обросшими мхом сучьями... Из глубин болота поднимается черное чудовище; с его шкуры капает грязь... Папаши велят своим дочкам быть дома в 9, а не в 9.30... ВЛАСТЬ ЧЕРНЫХ! Боже мой, негры начали возвращать долги белым... Нация билась в истерике. Губерт Хамфри визжал: «В Америке нет места расовой дискриминации по отношению к людям с каким бы то ни было цветом кожи!» Он лгал. Черным было известно минимум сорок восемь штатов, где имелось столько места для расизма, что для других вещей его просто не оставалось.
Эс-эн-си-си никогда не насчитывал в своем составе белых больше, чем 20%, но в декабре 1966 года, через семь месяцев после того, как Кармайкл возглавил эту организацию, она с трудом провела в жизнь решение об ограничении числа белых сотрудников — всего при девятнадцати голосах за, восемнадцати против и двадцати четырех воздержавшихся. Приказ об исключении отдал не кто иной, как Боб Мозес — человек, двумя годами раньше отправивший на Юг тысячу волонтеров. Хоффман был в ярости. Он нанес ответный удар в статье, опубликованной в ежемесячнике «Вилледж войс», где использовал свой оригинальный стиль — он писал от первого лица, давая пояснения в разговорной манере (с того времени многие нью-йоркские публикации имитировали его). Он избрал в качестве мишени слабое место Эс-эн-си-си, а именно то, что, как и в случае многих движений 60-х, организаторы Эс-Эн-си-си спали друг с другом. Ведь они были молоды; они работали бок о бок, часто под угрозой серьезной опасности. Как говорил работник Эс-эн-си-си Кейси Хейден: «Если вам повезло и у вас есть постель, вам наверняка будет невесело, если делить ее не с кем». Эс-эн-си-си пытался сохранить информацию в рамках организации, поскольку здесь имел место не просто секс, но межрасовый секс: темнокожие мужчины занимались любовью с белыми женщинами, и ничто не приводило расистов-белых в такое бешенство, как этот факт. Эбби Хоффман писал о том, что белых женщин завлекли в организацию, соблазнили, а затем вышвырнули вон: «Я сочувствую другим белым сотрудникам Эс-эн-си-си, особенно белым женщинам. Все они напоминают мне шлюх из Бронкса, которых имеет и лишает куска хлеба некий темнокожий сутенер».
В июле 1967 года, когда в американских городах вспыхнули бунты, Джонсон назначил комиссию в составе одиннадцати человек во главе с губернатором штата Иллинойс Отто Кернером, дабы проанализировать происходящее и дать рекомендации по урегулированию «социальных беспорядков». В марте 1968 года комиссия Кернера опубликовала противоречивое, но снискавшее многочисленные похвалы исследование, в котором расизм был назван в качестве ключевой проблемы. В нем также звучал упрек в адрес средств массовой информации: они излишне подчеркивают факты насилия и занижают уровень нищеты в бедных городских районах. «Среди негров, в особенности среди молодежи, возникло новое настроение — апатию и подчинение «системе» заменили самоуважение и рост расовой гордости».
Отчет, продававшийся столь широко, что к апрелю 1968 года он занимал второе место в списке бестселлеров «нон-фикшн», опубликованном «Нью-Йорк тайме», призывал к решительному увеличению федеральных расходов. «Необходимо пойти навстречу насущным потребностям нации; в ряде случаев необходимо сделать трудный выбор и, если потребуется, ввести новые налоги». К несчастью, в тот самый день демократ из Арканзаса Уилбур Миллз (в качестве председателя
Комитета по изысканию денежных средств в палате представителей он являлся главной фигурой в налоговых вопросах) сообщил, что затраты на продолжение войны во Вьетнаме требуют форсировать рост налогов. Именно это комиссия подразумевала под трудным выбором. Мэр Нью-Йорка Джон Линдсей, член комиссии Кернера, был среди тех, кто, подобно Роберту Кеннеди, выражал сожаление, что военные расходы не дают государству реализовать свои социальные обязательства; число их все увеличивалось.
Но самая цитируемая и врезавшаяся в память строка звучала так: «Наша нация движется в направлении двух обществ, черного и белого, разделенных и неравных между собой». Это и произошло с активными движениями левого толка. В точности отражая процессы, происходившие в обществе, белые и темнокожие активисты все сильнее отдалялись друг от друга.
К 1967 году Эбби Хоффман стал воинствующим противником привилегированных слоев белого населения. Он протестовал против капитализма и духа торгашества, сжигая деньги и подстрекая других делать то же самое. Идея сожжения денег не вызвала бы отклика у чернокожего сельского населения на Юге или у горожан-северян. Но для Хоффмана бросить деньги в огонь означало привлечь внимание телекамер, поскольку это было зрелищно. В 1967 году, когда он наконец обратил внимание на антивоенное движение, главной его заботой было попасть на телеэкраны. В мае этого года он создал «Бригаду цветов»; в нее вошли молодые активисты антивоенного движения, чей внешний вид стал ассоциироваться с хиппи: длинные волосы, одежда, украшенная цветочным узором, синие джинсы, к которым внизу были пришиты колокольчики, повязки на головах, бусы. Все это, казалось, должно было привлечь телевизионщиков. Сам Хоффман, размахивавший американским флагом, надел накидку с надписью «Свобода».
Участие в движении за гражданские права приучило Хоффмана к мысли, что даже созидательные действия ненасильственного характера могут остаться незамеченными в том случае, если на их участников не будет совершено нападение.
«Бригада цветов» создавалась для того, чтобы подвергнуться атаке. Хоффман обучил своих людей, как нужно сгибаться, принимая защитную позу, — этому его научили сотрудники движения за гражданские права. И их атаковали; молодых женщин избили, американские флаги вырвали из их рук. Фотоснимки, запечатлевшие это, производили сильное впечатление, и «Бригада цветов» немедленно стала предметом разговоров в среде борцов за мир. Хоффман сообщил прессе, что торговцы из верхней части города плохо обеспечили их цветами, но они собираются «вырастить свои собственные». Он хвастливо заявил, что «цепи из одуванчиков окружат призывные пункты» (имелись в виду пункты призыва на военную службу).
Утвердившись в качестве одного из лидеров хиппи Ист-Вилледжа в Нью-Йорке, Хоффман присоединился к группе диггеров (ее основали актеры из Мимической труппы Сан-Франциско). Он объяснил разницу между диггерами и хиппи в статье, озаглавленной «Диггерство есть ниггерство» (при публикации она была названа «Победить»): «Диггеры — это хиппи, которые не дают собой манипулировать средствам массовой информации, но сами манипулируют прессой, телевидением и радио. В некотором смысле и то и другое представляет собой колоссальный розыгрыш».
«Диггеры» унаследовали наименование от движения за освоение свободных земель, существовавшего в Англии в семнадцатом веке. Его участники пророчили приход революции, которая будет состоять в отмене денег и собственности; их вдохновляли идеи уничтожить и то и другое и отпустить все живое на свободу.
Хоффман также организовал «уборку» на Третьей улице в Ист-Вилледже, считавшейся одной из самых грязных улиц Манхэттена. Полиция не знала, как реагировать, когда Хоффман и диггеры явились в этот квартал с метлами и швабрами. Один из пришедших даже подошел к полисмену и начал полировать его бляху. Тот расхохотался. Смеялись все, и в сообщении, опубликованном в «Вилледж войс», говорилось, что «уборка» была «дурачеством». Позже в том же году Хоффман организовал «перекур»: люди отправились в парк на Томпкинс-сквер и закурили марихуану (надо заметить, что этим так или иначе занимались почти все).
«Современная группа революционеров, — пояснял Хоффман, — направляется не на фабрику, а в телецентр».
Другом и соперником Хоффмана был Джерри Рубин, родившийся в семье «синих воротничков» в Цинциннати. Существует история о том, как в январе 1968 года Рубин и Хоффман, катаясь по полу в наркотическом ступоре, основали движение «Йиппи!», но в действительности все было наоборот: то было не событие, о котором участники предпочли бы умолчать (да вот беда: сведения случайно просочились в прессу по вине некоего коварного очевидца), а сознательно распространявшийся сюжет. На самом деле Рубин и Хоффман трезво взвесили и рассчитали многое, прежде чем основать это движение. Во время своего «свободного» периода Хоффман намеревался назвать группу «Свободные люди». Действительно, его первая книга «Революционный ад как самоцель», вышедшая в 1968 году, была подписана псевдонимом Свободный. Но после долгой дискуссии основатели отказались от названия «Свободные люди» в пользу «Йиппи!». Не менее года прошло до того момента, как они заметили при случае, что это название означает «Молодежная международная партия».
Никто не знал, насколько следует принимать Эбби Хоффмана всерьез, и в этом была его сила. Многое относительно этого непостижимого клоуна 60-х можно понять из следующей истории. В 1967 году Хоффман женился второй раз. Отчет о «свадьбе» был также опубликован в «Вилледж войс»: «Приносите цветы, угощение, приводите друзей; приветствуются шутки, костюмы, раскрашенные лица». Пара должна была сочетаться «по мановению Духа Святого»; оба были в белом, с гирляндами в волосах. На церемонии звучали строки из «И Сзин», китайской «Книги перемен», которой пользовались для предсказания будущего более трех тысяч лет назад и к которой вновь обратились в 1968 году любители популярного мистицизма. Жених явно находился под действием марихуаны и беспричинно хихикал. Журнал «Тайм» сообщил об этой свадьбе в своем июльском выпуске 1967 года, посвященном хиппи, но не упомянул имена «влюбленной пары»: имя Эбби Хоффмана не было широко известно до 1968 года. Но после «свадьбы», не придавая это никакой огласке, молодожены отправились в храм Эммануэля (несомненно, «буржуазный») в Верхнем Ист-Сайде — богатом районе Манхэттена, где рабби Натан А. Перельман спокойно совершил бракосочетание по обряду реформистской церкви.
Евреи активно участвовали в студенческом движении в 1968 году не только в Польше, но и в Соединенных Штатах и Франции (хотя соотношение их количества и общего числа участников было неодинаково). В Колумбийском и Мичиганском университетах (двух кампусах, где Эс-ди-эс действовало наиболее интенсивно), евреи составляли больше половины участников этого движения. Когда Том Хейден впервые приехал в Мичиганский университет, он заметил, что политические активисты были сплошь евреями из семей сторонников левого движения. Евреи составляли две трети белых «райдеров свободы». Марио Савио, представлявший собой примечательное исключение, говорил:
«Я не еврей, но мне случалось видеть такие картины — поразительные картины. Груды тел. Курганы из тел. Ничто так не действовало на мое сознание, как эти картины. И эти картины послужили для меня особым импульсом — может быть, другие люди приходят к таким мыслям иначе. Для меня это означало, что всякая вещь нуждается в осмыслении. И сама реальность тоже. Потому что это было, как если бы вы открыли ящик стола вашего отца и нашли порнографические картинки, где изображено, как взрослые пристают к детям. Это кажется темной и непонятной тайной человечества: в какой-то момент в недавнем прошлом людей сжигали и складывали в кучи... Эти картины повлияли на жизни людей. Я знаю, что они оказали влияние на мою жизнь, возможно не столь сильное, но у меня возникло что-то близкое к желанию, чтобы это больше никогда не повторялось. Несомненно, то же самое ощущают евреи. Однако у неевреев это чувство тоже есть».
* * *
Люди, родившиеся во время Второй мировой войны и сразу после нее, росли в мире, переменившемся из-за недавнего ужаса, и это заставило их видеть общество в совершенно ином свете. Великий урок нацистского геноцида, полученный послевоенным поколением, состоял в том, что каждый ощущал себя обязанным высказаться, оказавшись перед лицом зла. Тот, кто промолчал, чем бы он ни руководствовался, по мнению этого поколения, заслуживал сочувствия и обвинения в свете истории в той же мере, в какой этого заслуживали немцы. Так подсудимые на процессах военных преступников ссылались в свое оправдание на выполнение приказа. То было поколение, еще детьми узнавшее об Аушвице и Берген-Бельсене, о Хиросиме и Нагасаки; дети, которых учили все их детские годы, что в любой момент взрослые могут решиться начать атомную войну и жизни на Земле придет конец.
В то время как старшее поколение оправдывало ядерную бомбардировку Японии, потому что она прекратила войну, новое поколение еще раз, будучи детьми, увидело картину этого события и отнеслось к нему совершенно иначе. Оно так же видело по телевизору грибовидные облака от ядерных взрывов, поскольку США по-прежнему проводили наземные испытания атомного оружия. Американцы и европейцы, жители Запада и Востока, выросли с сознанием, что Соединенные Штаты, продолжавшие создавать бомбы — они становились все «больше» и «лучше», — были единственной страной, которая однажды действительно использовала их. И все время шли разговоры о том, что это произойдет вновь — в Корее, на Кубе, во Вьетнаме. Дети, родившиеся в 40-е годы в странах обоих блоков, росли, обучаясь самозащите во время ядерной атаки. Савио вспоминал, как в школе им велели прятаться под парты. «Я, в конце концов, получал по физике хорошие отметки, поэтому даже тогда задавал себе вопрос: “Неужели это действительно поможет?”»
«Холодная война» оказала такой же эффект на детей всего мира, чье детство пришлось на этот период. Она заставила их бояться обоих военных блоков. Поэтому молодежь Европы,
Латинской Америки, Африки и Азии столь быстро и решительно осудила военные действия США во Вьетнаме. В общем и целом это являлось не поддержкой коммунистов, но неприятием того факта, что военный блок (все равно какой) навязывает свою власть. Казнь Розенберга и жизни, погубленные в результате расследований комиссии сенатора Джозефа Маккарти, внушили американской молодежи недоверие к правительству.
Молодежь всего земного шара видела: мир обременен двумя равными — и несправедливыми — силами. Американская молодежь усвоила важность ведения борьбы как с коммунистами, так и с антикоммунистами. Декларация Порт-Гурона признавала, что коммунизму необходимо противостоять: «Советский Союз — система, ответственная за проведение тотального подавления организованного противостояния, а также носитель идеи будущего, во имя которого было принесено в жертву множество человеческих жизней; страна, где имели место многочисленные случаи унижения человеческого достоинства разной степени тяжести». Однако, согласно Декларации Порт-Гурона, антикоммунистические силы в Америке приносят скорее вред, чем пользу. Декларация предупреждала, что «безрассудное следование антикоммунистическим идеям стало серьезной социальной проблемой».
Впервые подобные мысли нашли свое выражение в 50-е годы с появлением образов, созданных в кино Джеймсом Ди-ном, Марлоном Брандо и Элвисом Пресли, а также литературы «поколения битников» — Гинзберга и Джека Керуака. Однако в 60-е эти настроения усилились. Молодежь возлагала надежды на Джона Кеннеди, во многом потому, что он тоже был относительно молод — Кеннеди стал вторым из наиболее молодых президентов в истории, и к тому же заменил Эйзенхауэра— самого старого президента. Инаугурация Кеннеди в 1961 году ознаменовала наиболее радикальное «возрастное изменение» в Белом доме: разница между уходящим и заступающим на пост президентами составляла почти тридцать лет. Но даже при Кеннеди молодые американцы ощутили кризис, возникший в результате размещения ракет на Кубе, как устрашающий опыт, и в результате осознали, что власть имущие склонны играть с жизнями себе подобных, даже если они молоды и обладают хорошим чувством юмора.
Большинство тех, кто приезжал в кампусы колледжей в середине 60-х годов, питали глубокое отвращение и недоверие к любым формам власти. Люди, занимавшее ключевые посты, не пользовались доверием, в какой бы части политического спектра они ни находились. По этой причине среди них не было полновластных лидеров. Если бы кто-нибудь из студенческих руководителей, скажем, Савио или Хейден, объявил себя лидером, он бы полностью лишился доверия.
Люди этого поколения отличались еще одной характерной особенностью. Они выросли в эпоху телевидения, им не приходилось учиться пользоваться им: это умение приходило естественно, подобно тому как дети, выросшие в 90-е, в эпоху компьютеров, имея с ними дело, руководствуются своего рода инстинктом, который у более старших людей не формируется даже в результате обучения. В 1960 году на одной из последних пресс-конференций Эйзенхауэра корреспондент Роберт Спи-вак задал президенту вопрос: как он считает, была ли справедлива пресса по отношению к нему за те восемь лет, что он провел в Белом доме? Эйзенхауэр ответил: «Ну, если уж вы заговорили об этом, то я не знаю, что репортер может сделать президенту. Не так ли?» Подобное мнение с тех пор никогда не звучало из уст представителей Белого дома. О Кеннеди, родившемся в 1917 году, говорили, что он «понимает телевидение», однако на самом деле создателем «телевизионного президентства» Кеннеди стал его брат Роберт — он был младше Джона на восемь лет.
К 1968 году Уолтер Кронкайт пришел к мысли, обескуражившей его самого: телевидение не только играет важную роль в распространении информации о событиях, но и формирует представление о них. По всему миру проводились демонстрации, и Кронкайту казалось очевидным, что они организуются для телесъемок. Уличные демонстрации — хорошее зрелище для телевидения. Не обязательна даже их многолюдность — нужно лишь, чтобы участники заполнили кадр во время съемок.
«Конечно, было бы неверным считать, что люди вышли на улицы только для этого: демонстрации проводились и до появления телевидения. Однако оно воодушевило людей на подобные действия, — размышлял Кронкайт десятилетия спустя. — Очевидно, они подумали, особенно после того, как увидели в передачах из других стран, что демонстрации успешно проводятся в разных обществах: вот так и надо делать. И это распространилось по всему миру подобно эпидемии».
Это поколение, не доверявшее власти и «понимавшее» телевидение, прошедшее лучшую школу политической активности — американское движение за гражданские права, — было исключительно подходящим для того, чтобы нести разрушение в мир. И вдобавок им «предложили» войну, в которой они не хотели сражаться и которую, по их мнению, вообще не следовало вести. Молодые люди, принадлежавшие к этому поколению — те, кто учился в колледже в 1968 году, — уклонялись от призыва. Хейдены, Савио, Эбби Хоффманы, слишком молодые для Кореи и слишком старые для Вьетнама, не шли в армию. Эти представители поколения 60-х, люди 1968 года, отличались неистовством, невиданным прежде.
Глава 6 ГЕРОИ
Давайте договоримся, что мы не будем подражать Европе; давайте объединим усилия наших мускулов и наших умов и двинемся в новом направлении. Давайте попытаемся создать цельного человека — человека, которого Европа не смогла взносить до рождения, Дабы он с триумфом появился на свет1968 год должен был стать годом Джонсона. Зима уступала место весне, и все, кто мечтал о Белом доме (а их было немало), подсчитывали шансы на победу над ныне действующим президентом. Все эти предполагаемые состязания, очевидно, должен был бы выиграть Джонсон. Но даже люди, не участвовавшие в предвыборной гонке, так сказать, наталкивались на Джонсона. Мартин Лютер Кинг и его «Конференция руководства христианских общин Юга» обнародовали план: привлечь сотни тысяч бедняков, как белых, так и чернокожих, для проведения весной марша на Вашингтон. Бедность, обычно скрываемая, на этот раз будет явлена воочию и показана по телевизору. Преподобный Ральф Альбернати, второе лицо среди руководителей движения, сказал: «Мы отправляемся туда, чтобы говорить с Эл-Би-Джи. А если Эл-Би-Джи ничего не предпримет по поводу того, что мы ему говорим, мы собираемся сместить его. У нас будет другой президент, который будет прислушиваться к нам». Однако к марту уже стало ясно, что 1968 год не обязательно будет годом Джонсона. В тот день президент одержал победу по результатам первого предварительного голосования. В этом нетрудном состязании в Нью-Гэмпшире его соперником остался только сенатор Юджин Маккарти — человек невероятный. Журнал «Лайф» месяцем раньше назвал его «загадкой». Тот факт, что президент победил «загадку» с преимуществом более чем двести тридцать голосов, вызвал шок. Новость облетела весь мир, как будто никому не известный сенатор только что был избран президентом или по крайней мере нанес поражение Джонсону. В то время как студенты Варшавы дрались на улицах с полицейскими, а чехи вышли из-под контроля СССР, как никогда ранее, советская газета «Правда» писала: результаты предварительных выборов показали, что война во Вьетнаме станет главным и решающим вопросом на президентских выборах 1968 года. В Испании, где был закрыт Мадридский университет, католическая газета «Я» («Ya») предсказывала, что в результате ноябрьских выборов «для Джонсона все перевернется с ног на голову». В Риме, где университет закрыли сами студенты, пресса левого толка объявила о победе антивоенного движения.Франц Фэнон. «Отребья Земли», 1961
 Нельсон Рокфеллер, глава администрации Нью-Йорка (он не присутствовал на баллотировке, организованной партией республиканцев в Нью-Гэмпшире), провел кампанию за включение себя в список в качестве нового кандидата. Результаты были неутешительны: он набрал только 10% голосов. После предварительного голосования он объявил о своем решении не участвовать в предвыборной гонке, предоставив республиканцам возможность сделать, казалось бы, невероятное: снова номинировать Никсона. Однако Никсону не суждено было долго злорадствовать: Роберт Кеннеди объявил о своем намерении участвовать в выборах. В душе Никсона зародились пугающие предчувствия: представлялось, его ждет повторение кампании, которая почти погубила его карьеру, — поединок с Кеннеди. Однако вначале Кеннеди должен был одолеть действующего президента. 31 марта произошло нечто подобное взрыву бомбы: выступая по телевидению, президент Джонсон объявил: «Я не стану добиваться того, чтобы моя партия выставила на выборах мою кандидатуру, а если это произойдет, не буду участвовать в выборах».
Итак, лидер предвыборной гонки — избранный президент— внезапно вышел из игры. Что будет дальше, не знал никто. «Вся Америка впала в транс, — писал Эбби Хоффман, — мы просто застыли. Как нам было теперь снять штаны? Америка уже была голой. Что мы могли разрушить? Америка трещала по швам».
Историки до сих пор спорят о мотивах Джонсона. Сторонники Маккарти и активисты антивоенного движения торжествовали победу: им удалось, как считали они, убедить президента, что ему не одержать победы. Последующие годы показали, что кабинет Джонсона, состоявший из «ястребов», высказал мнение о невозможности как продолжения войны с политической точки зрения, так и победы в ней силой оружия. Одновременно со своим отказом от участия в выборах Джонсон объявил о временном уменьшении числа бомбардировок и намерении предложить переговоры Северному Вьетнаму. Но в данном случае президент повел себя не как всем известный Эл-Би-Джи. Были серьезные основания считать, что он выиграет выборы. Могло случиться так, что из-за метели верные сторонники Джонсона остались дома и незначительный перевес, с которым он одержал победу, был лишь делом случая. Даже если бы события в Нью-Гэмпшире на самом деле предвещали нечто серьезное, надо учесть: Джонсон никогда раньше не избегал сложных ситуаций в политической борьбе. После предварительных выборов в Нью-Гэмпшире лондонская «Таймс» предсказывала, что результат «раззадорит» Джонсона и «разбудит в нем политика». Некоторые считали, что от участия в гонке его отговорила жена. «Нью-Йорк тайме» полагала, возможной причиной итогов предварительного голосования неважное положение дел на фронте.
С 8 по 14 марта мир пережил еще одно потрясение, вызванное участием США во вьетнамском конфликте. Война обходилась Соединенным Штатам примерно в тридцать миллиардов долларов ежегодно, и баланс выплат дефицита размером в три с половиной миллиарда был столь чудовищным, что такие меры, как ограничения зарубежных поездок, оказывались бесполезными. Финансируя войну, Соединенные Штаты использовали золотой запас, составлявший к тому моменту лишь половину от послевоенного (по окончании Второй мировой войны он равнялся двадцати четырем с половиной миллиардам долларов). Стоимость доллара была привязана к золоту, и биржевики, оценивая вышеназванные цифры, делали вывод о неспособности США удержать цену золота на уровне тридцати пяти долларов за унцию: согласно теоретическим расчетам, у США не хватит резервов, чтобы продавать его по тридцать пять долларов всем желающим, и это приведет к росту цен на золото. В этом случае владельцы золота получили бы баснословную прибыль. То же самое случилось с английской валютой в ноябре 1967 года, когда британцы провели девальвацию фунта. Бум, возникший в результате деятельности перекупщиков золота, породил панику, которую пресса назвала «самым сильным в истории всплеском «золотой лихорадки». Более двух тонн золота стоимостью двести двадцать миллионов долларов перешло из рук в руки на лондонском рынке золота, в результате чего был установлен мировой рекорд по продажам этого металла в течение одного дня. В Швейцарию попало столько золота, что в одном из банков из-за увеличения веса хранимых в нем ценностей пришлось укрепить подвал. Экономисты всего мира предрекали наступление катастрофы. «Мы присутствуем при первом акте депрессии мирового масштаба», — говорил британский экономист Джон Вейзли.
Пока мир негодовал, наблюдая, как расходы Америки на военные действия во Вьетнаме дестабилизируют мировую экономику, гримаса войны становилась все уродливее. 14 марта американское командование сообщило, что на прошедшей неделе было убито пятьсот девять и ранено две тысячи семьсот шестьдесят шесть военнослужащих США. В итоге общее число потерь с 1 января 1961 года достигло 139 801 человек (из них убитыми — 19 670). Это было значительно меньше, нежели за три года войны в Корее, где погибло тридцать три тысячи человек. Однако впервые общее число потерь во Вьетнаме, включая раненых, превысило потери, понесенные в Корее.
16 марта двадцать третья пехотная дивизия — так называемая Американская дивизия — вела бои на территории Центрального Вьетнама вдоль бурого берега Южно-Китайского моря. В деревне Сон-Май в тот день они перебили около пятисот мирных жителей. Больше всего убийств было совершено в небольшом поселении Май-Лай, однако жестокости творились повсюду. Пожилые люди, женщины, мальчики и девочки, младенцы планомерно расстреливались (часть войск отказалась в этом участвовать). Один солдат дважды промахнулся, посылая пули из пистолета 45-го калибра в лежащего перед ним на земле младенца, прежде чем попал в цель (в это время его товарищи хохотали над тем, какой он плохой стрелок). Они бросали гранаты в бомбоубежища под домами, где пытались укрыться жители. Тех, кто выбегал наружу, спасаясь от взрывов, расстреливали. Дома были сожжены. Том Глен, солдат одиннадцатой бригады, написал письмо в штаб дивизии, сообщил о преступлениях и ждал ответа.
Какими бы ни были основания для отказа Джонсона участвовать в предвыборной гонке, отказ этот породил странную ситуацию. Демократы выдвигали Юджина Маккарти из Миннесоты — этот сторонник мира отказывался сформулировать какую бы то ни было программу, выходящую за рамки этой проблемы, — и сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Кеннеди, который, согласно февральскому выпуску журнала «Фор-чун», пользовался наибольшей неприязнью деловых кругов. Молодежь 1968 года, знаменитая тем, насколько она была чужда «традиционной» политике, вдруг начала восхищаться двумя кандидатами, боровшимися за то, чтобы участвовать в выборах от правящей партии. Оба этих человека, принадлежавшие к традиционному политическому истеблишменту, сумели снискать доверие и уважение молодежи, у которой слова «демократы» и «либералы» неизменно вызывали усмешку. Никто не верил, что им удастся надолго сохранить за собой «поле битвы». Очевидно было, что политический истеблишмент выдвинет своего собственного кандидата — все полагали, что им станет вице-президент Губерт Хамфри, — однако на тот момент происходящее казалось забавным. На агитационном плакате Маккарти был изображен сенатор, окруженный молодежью. Подпись гласила: «Наши дети вернутся домой».
Внезапно к избирателям пришла надежда.
Внезапно они вернулись в основное русло политической жизни Америки. И оказалось, что это совсем другая страна.
Внезапно дети со всей присущей им сообразительностью и невероятной энергий бросились в политику. И нас ждут новые выборы.
Генри Киссинджер, ставший советником по вопросам безопасности при Никсоне, дал интервью журналу «Лук», в котором проявил присущую ему невероятную способность: его слова звучали весомо, будучи абсолютно неправильными.
«Я сочувствую страданиям молодого поколения. Ему недостает образцов, у них нет героев, оно не видят великой цели, к которой движется мир. Но отказ от военной службы есть деструктивное явление с точки зрения общества. Императивы личности всегда противоречат устройству общественного организма. Отказываться от военной службы следует лишь в случаях, сложнейших с моральной точки зрения, и события во Вьетнаме — не из их числа. Это, очевидно, явление не того масштаба».
Очевидно, Киссинджер был не в состоянии понять «страдания молодого поколения». Для начала, у этого поколения оказалось столько героев, что из их имен можно было составить длинный список, хотя ни самого Киссинджера, ни тех, кем он восхищался, в нем не найти. Большинство из них не являлись ни политическими лидерами, ни генералами, они не занимали ведущих постов в государстве. У тогдашней молодежи всего мира были одни и те же герои; само открытие, что в любой стране можно найти тех, кто думает так же, как и ты, волновало всех. Для американцев же воспринимать жизнь в «международной перспективе» оказалось делом необычным. Можно возразить, что появление спутниковой связи и телевидения вызвало к жизни формирование первого «глобального» поколения. Но следующим покрлениям такой космополитизм уже не был присущ.
Другой факт, необычный для американцев, заключался в том, что авторитетом пользовались интеллектуалы. Возможно, писателем, оказавшим в 60-х наибольшее влияние на молодежь, был француз, родившийся в Алжире, — лауреат Нобелевской премии Альбер Камю. Он погиб в автомобильной катастрофе в I960 году в возрасте сорока семи лет (как раз тогда, когда началось десятилетие, которое должно было стать для него наиболее плодотворным). Благодаря эссе 1942 года «Миф о Сизифе», где он доказывал, что человеческое существование в основе своей абсурдно, его имя часто ассоциируется с экзистенциализмом. Однако сам он отказывался рассматривать себя как часть этого течения. Он был не из тех, кто охотно присоединяется к начинаниям других, что являлось одной из причин большего к нему почтения, нежели к экзистенциалисту и коммунисту Жану Полю Сартру, даже несмотря на то, что Сартр в 60-х был жив и принимал участие в студенческом движении Камю сотрудничал с движением Сопротивления, участвуя в борьбе против оккупационного режима, установленного нацистами во Франции (он работал в подпольной газете «Борьба»), и его произведения неоднократно поднимали тему побуждающего к действию морального императива. Его роман 1948 года «Чума» рассказывает о докторе, который рискует собой и своей семьей, пытаясь избавить общество от обнаруженной им болезни. В 60-х студенты всех стран мира читали этот роман, и для них он прозвучал как призыв к активности.
Знаменитая речь Марио Савио 1964 года «Пришло время, когда ненависть к действиям машины стала столь сильна, что вы... бросаетесь собственным телом на шестерни... и останавливаете ее» звучит как строки из «Чумы». «В нынешнее время я испытываю лишь одно чувство — чувство протеста, яростное и безумное», — писал Камю. Участники движения за гражданские права были знакомы с его произведениями: волонтеры Эс-эн-си-си передавали его книги друг другу. Том Хейден писал, что он считает Камю одним из тех, кто оказал влияние на его решение оставить журналистику и стать активистом студенческого движения. Эбби Хоффман использовал Камю для объяснения некоторых идей движения «Йиппи!», ссылаясь на его слова из «Записных книжек»: «Революция, ставшая мифом, имеет решающее значение».
Другим мыслителем, к 1968 году приобретшим такую популярность, что, казалось, все желали цитировать его, был революционно настроенный, пересмотревший учение Маркса и Гегеля Герберт Маркузе. Наиболее известна его идея «великого отказа. По мнению Маркузе, пришло время сказать «Нет, это неприемлемо» (еще одно утверждение, прозвучавшее в речи Савио о «ненавистной машине»). Маркузе, американский гражданин (он бежал от нацистов и прошел натурализацию), преподавал на факультете в Брэндисе, где тогда учился Эбби Хоффман, и оказал на последнего огромное влияние, особенно своей книгой «Эрос и цивилизация», где автор говорил о физическом наслаждении, свободном от чувства вины, и предостерегал против «лживых отцов, учителей и героев». Наибольшее внимание в конце 60-х привлекла книга Маркузе «Человек одного измерения», вышедшая в свет в 1964 году. В ней он развенчивал технологическое общество как пустое и конформистское и связывал с немецкой философией (прошедшей, так сказать, тщательную оркестровку) эмоции бунтарей 50-х типа Джеймса Дина и революционно настроенных студентов 60-х. «Нью-Йорк тайме» охарактеризовала Маркузе как «ведущего философа из ныне живущих».
В 1968 году в возрасте семидесяти лет Маркузе преподавал в Государственном университетеСан-Диего. Можно было наблюдать, как он нервничает, беспокоясь о своем рыжем коте, любуется бегемотами в зоопарке, — седой дедушка, повлиявший на умонастроения всего мира. Студенты, вынудившие руководство Римского университета закрыть в марте это учебное заведение, несли плакат с тремя буквами М, означавшими «Маркс, Мао и Маркузе».
В то время как менее радикальные мыслители настаивали, что технологическое развитие оставляет больше времени для досуга, Маркузе предостерегал, что, напротив, люди окажутся в своего рода тюрьме и начнут вести «вторичную» жизнь, будучи лишены возможности творчески мыслить. Он предупреждал: случалось, что новые технологии служили оппозиционерам, но они, несомненно, будут использоваться и для подавления протеста. Происходящее с людьми можно назвать своего рода анестезией: они словно погружаются в удовлетворенность, которая ошибочно принимается за счастье. Различные блага и удобства приведут к тому, что человечество ощутит себя ни к чему не годным и не способным к подлинному мышлению. В сфере средств массовой информации ощущается подъем, но он сопровождается постепенным оскудением с точки зрения идей. В современном мире люди, которые «скользят», как на серфинге, по восьмидесяти (или более) телеканалам и при этом находят для себя меньше, чем в те годы, когда их было только четыре, могут начать усваивать видение технологической эпохи, содержащееся в книгах Маркузе: хотя мы и думаем, что у людей появилось больше возможностей для выбора, однако что бы они ни выбрали, отличия будут несущественны. Отчего в век изобилия, когда благодаря технологиям возможности отдельной личности необыкновенно возросли, люди проводят за работой еще больше времени, чем раньше? Почему такое количество видов деятельности не требует умственных усилий, вместо того чтобы стимулировать мышление? Будучи одним из первых марксистов, потерявших веру в советскую систему, Маркузе видел, что и на Западе царит то же состояние «несвободы», и часто высказывал предположение, что, возможно, революция — это единственный путь к истинной свободе.
Маркузе, старый профессор, по-видимому, вошел в роль наставника радикально настроенных студентов. Он часто обсуждал студенческие движения. При этом он предостерегал Эбби Хоффмана от идеи «власти цветов» (flower power), говоря, что «у цветов нет власти»: она осуществляется лишь силами тех, кто их выращивает. Это был один из тех случаев, когда Хоффман не нашелся что ответить. Но Маркузе охотно допускал, что многие из юных бунтарей, которые толковали о его идеях, никогда не читали его книг, и это было действительно так. Его работы были написаны в традициях немецкой диалектики. Маркузе стал популярен, даже не пытаясь выработать доступный стиль в своих сочинениях. Луис Гонсалес де Альба, один из руководителей студенческого движения в Мехико, описывал, как он взялся за чтение некоторых текстов Маркузе просто потому, что президент Густаво Диас Ордас обвинил это движение в том, что оно испытало на себе влияние философа.
«Я открыл книгу “Человек одного измерения” и продвинулся аж до пятой страницы. “Эрос и цивилизация” была ужасно скучной. А теперь мне снова предстояло читать Маркузе, и все потому, что Диас Ордас как-то упомянул этого “философа-разрушителя”».
Франц Фэнон (уроженец Мартиники, психиатр) приобрел международную известность благодаря своей книге «Проклятые жители Земли» («Lesdamn&de la terre”), написанной в 1961 году. Она была переведена на двадцать пять языков; в переводе на английский, который читали учащиеся американских колледжей, она называлась «Отребья Земли». Фэнон завершил свое медицинское образование, полученное во Франции, в 1953 году в Алжире, где он стал членом Алжирского Народного фронта и одним из лидеров борьбы за независимость этой страны Само по себе это являлось достаточной рекомендацией для участников молодежного движения во Франции, начавшегося в конце 50-х с выступлений против французской политики в Алжире. Независимый Алжир, подобно Кубе, стал рассматриваться как символ противостояния существующему мировому порядку. Не будучи тирадой, которую можно было бы вложить в уста противника колониализма, книга «Отребья Земли» рассматривала как психологический феномен не только колониализм, но и его свержение, а также тип нового человека, необходимый для построения постколониального общества.
Объясняя сложность внутренней борьбы, необходимой, чтобы порвать с колониализмом, книга Фэнона оказала большое влияние на движение за гражданские права в США: она помогла установить связь между угнетаемыми темнокожими американцами, пытающимися вырваться из-под владычества белых, и находящимися в сходной ситуации африканцами-мусульмана-ми, стремящимися выйти из-под власти европейцев. Именно это стало главной идеей движения «Черных мусульман», особенно при Малкольме Иксе. Как и Фэнон, он родился в 1925 году, но в 1965-м был убит; считалось, хотя и не было доказано, что это дело рук «Черных мусульман». Участник этого движения, боксер Мухаммед Али, выступавший против основ и устоев белых, часто воспринимался как своего рода знаменосец обездоленных народов, поднимающихся на борьбу. Элдридж Кливер назвал Али «черным Фиделем Кастро от бокса».
Даже Мартин Лютер Кинг-младший отождествлял движение за гражданские права с борьбой, которую ведут слаборазвитые нации. В 1955 году он заявил по поводу бойкота Монтгомери: «Это часть движения, в котором принимает участие весь мир. Посмотрите буквально на любую точку на карте: повсюду те, кого эксплуатируют, восстают против эксплуататоров. Это характерная особенность нашего поколения».
Элдридж Кливер стал знаковой фигурой 60-х во многом благодаря своему литературному таланту. Впервые он оказался в тюрьме в восемнадцать лет за то, что курил марихуану. Впоследствии он вновь попал туда за изнасилование. Освободившись в 1966 году, он стал сотрудником журнала «Рэмпартс»: это издание пропагандировало идеи контркультуры. Оно прославилось тем, что на него подали в суд после того, как в 1968 году на его обложке было изображено сожжение карточек призывников. Работники журнала посоветовали Кливеру опубликовать эссе, которые он написал, сидя в тюрьме, — в них звучала и жестокая критика в адрес самого себя и не менее острые отзывы по поводу мира, который создал его таким. В сущности, Кливер оставался неизвестен до 1968 года, когда вышел сборник его эссе «Душа во льду» и критика, в том числе и книжное обозрение «Нью-Йорк тайме», охарактеризовала его как дерзкого, но четко выражающего свои мысли автора. Время появления его произведений в печати было как нельзя более удачным: в 1968 году американское общество главным об-* разом задавалось вопросом: что же в нем не так? Июньский опрос общественного мнения показал, что белые (при соотношении 3:2) не считают Америку «больной», но чернокожие (при соотношении 8:7) думают именно так. «Душа во льду» была опубликована почти в тот же самый момент, что и отчет Кернера о расовом насилии, и, как указывало обозрение «Нью-Йорк тайме», подтвердила содержавшиеся в нем выводы. «Поглядите в зеркало, — писал Кливер. — Все дело в вас, мистер и миссис Вчера, в ваших раздвоенных языках».
Вскоре после публикации своей книги Кливер выступил посредником при заключении в Калифорнии важного альянса между чернокожими и белыми. Здешние «новые левые» создали политическую партию — «Партию мира и свободы», собравшую сто тысяч подписей в ходе выдвижения своих кандидатов на выборы в Калифорнии. Благодаря Кливеру партии удалось заключить союз с «Черными пантерами»: она признала требования последних, и среди них — освобождение чернокожих от военной службы, выход на свободу всех чернокожих заключенных, а также условие, чтобы все процессы над неграми в будущем велись судами, состоящими из негров же. Кливер должен был стать кандидатом от партии на пост президента (в качестве вице-президента при нем баллотировался Джерри Рубин). Новая жена Кливера Кэтлин, участница комитета Эс-эн-си-си, должна была стать кандидатом на выборах в ассамблею; также в этот орган собирался баллотироваться Бобби Сил из «Черных пантер». Именно в ходе своей избирательной кампании в день предварительных выборов (он назвал его «День пред-стояния») Кливер призвал к «власти влагалищ» и союзу с «пулеметчиками Келли» — то есть со всяким, у кого есть огнестрельное оружие и кто хочет пустить его в ход. В октябре он вызвал бурные аплодисменты, выступая в Стэн-фордском университете (зал был набит битком, люди стояли на улице) и отзываясь о губернаторе Калифорнии следующим образом: «Рональд Рейган — гнилой тип, маменькин сынок и трус. Я вызываю его на дуэль, и мы будем драться, пока один из нас не погибнет (или до тех пор, пока он не назовет меня «дядюшка Элдридж»). Я предоставляю ему выбор оружия: пистолет, нож, бейсбольная бита или конфета на палочке».
1968 год был лучшим в жизни Элдриджа Кливера. В следующем году, спасаясь от обвинения в участии в перестрелке, затеянной «Черными пантерами» в Окленде, он бежал на Кубу, а затем в Алжир. К моменту своего возвращения в США в 1975 году он перестал быть сторонником левого движения.
Сказать по правде (в те времена правду говорили редко и только в частных беседах), большинство белых считали «Черных пантер» жутковатыми В то время как белые участники движения «новых левых» происходили из среднего класса, а большая часть чернокожих борцов за гражданские права — таких как Боб Мозес и Мартин Лютер Кинг — получили хорошее образование, «Черные пантеры» в основном были «уличными», из бандитских кварталов, часто с тюремным прошлым. Одетые в черное, в черных беретах, позируя с оружием для фотографий, они стремились выглядеть жутко. Они восхваляли насилие и побуждали чернокожих вооружаться в преддверии грядущей — насильственной — революции. Все это не снискало бы им симпатии окружающих, и поклонников у них осталось бы немного, если бы не два обстоятельства. К 1968 году стало ясно, что политический истеблишмент, особенно в некоторых областях, таких как Чикаго, где властвовал майор Ричард Дейли, и Калифорния, где правил Рональд Рейган, готовится к применению оружия против безоружных демонстрантов. В апреле Дейли объявил, что отдал полиции приказ «стрелять на поражение» в каждого поджигателя, во всякого, у кого будет в руках «коктейль Молотова»9, и «стрелять, чтобы искалечить» всех грабителей: это позволяло открывать огонь в любой ситуации гражданского неповиновения. Став губернатором в 1967 году, Рейган урезал в бюджете статьи расходов на медицинскую помощь и образование и начал вести политику жестокого обращения с демонстрантами. После разгрома полицейскими Окленда антивоенной демонстрации 16 октября 1967 года (за особую жестокость его окрестили «кровавый вторник») он похвалил полицейское управление Окленда за «исключительное умение и превосходные профессиональные навыки». Полиция начала угрожать белой молодежи из привилегированных слоев населения, как угрожала чернокожим много лет.
В январе 1968 года после нападения на семьсот активистов антивоенного движения, устроивших пикет во время речи государственного секретаря Дина Раска в Сан-Франциско, один из студентов Беркли, оказавшийся в числе жертв и заключенный в тюрьму, сказал о набросившихся на него полицейских: «Они хотели убивать, и убивали бы, если бы не боялись ответственности. Теперь я знаю, что они явились убрать Хью, если бы у того недостало ума защититься».
Речь шла о Хью Ньютоне, который в 1966 году вступил в ряды «Черных пантер» в Калифорнии и стал кандидатом от Партии мира и свободы на выборах в палату представителей от округа Беркли и Окленда в 1968 году. В тот момент он находился в тюрьме, ожидая суда по делу о смерти одного и ранении другого оклендского полисмена в перестрелке, произошедшей в 1966 году. Первый процесс (летом 1968 года) завершился тем, что присяжные не смогли принять единого решения; так же заканчивались почти все громкие процессы над «Черными пантерами»; бывало и так, что подсудимых оправдывали или следовало обжалование приговора. Все это укрепляло подозрения, что «Пантеры» подвергаются преследованиям со стороны полиции. В ходе процессов обнаруживались правдоподобные улики, свидетельствовавшие о жестокости полицейских (в том числе случай, когда двое подозреваемых были якобы убиты в своих постелях). «Черные пантеры» все в большей мере воспринимались как жертвы насилия, мученики, храбро противостоящие полиции.
В то время как бывшие негры боролись за то, чтобы определить, какими должны стать новые чернокожие, среди чернокожих шли великие споры. Многие из великих чернокожих деятелей культуры к маю 1968 года уже неоднократно подвергались нападениям со стороны тех же черных. В «Душе во льду» Элдридж Кливер свирепо накинулся на Джеймса Болдуина, который, пожалуй, являлся самым почитаемым чернокожим писателем первой половины 60-х. Признаваясь, что чтение произведений такого мастера слова, как чернокожий Болдуин, повергло его в трепет, Кливер делает вывод, что Болдуину присуща «самая отвратительная, агонизирующая, всецело пронизывающая его ненависть к черным, в особенности к себе самому, — и самая постыдная, фанатичная любовь к белым, любовь прихлебателя и подхалима, какую не найти ни у кого из чернокожих американских писателей, известных в наше время». Кливер, обвинявший других чернокожих в том, что они не любят людей своей расы, сумел в своей маленькой книжке осудить не только Болдуина, но и Флойда Паттерсона, Луи Армстронга, Джо Льюиса, Гарри Белафонта, Лин Хорн и Мартина Лютера Кинга. Звезда джаза Луи Армстронг, согласно Кливеру, был «дядей Томом» — чернокожим, который прислуживает белым расистам, скаля свои огромные зубы и тараща большие глаза.
В основном Кливер писал о чернокожих, сумевших добиться популярности. Малкольм Икс, погибший насильственной смертью, Мухаммед Али, лишенный звания чемпиона по боксу, Поль Робсон, вынужденный покинуть родную страну, — все это были подлинные чернокожие герои, тогда как Мартин Лютер Кинг заслуживал презрения, так как получил Нобелевскую премию. Кливер писал: «Присуждение Нобелевской премии Мартину Лютеру Кингу и своего рода инфляция, которую претерпел его образ, перейдя в разряд героев всего международного сообщества, служит доказательством исторического факта, что те немногие негры-американцы, которым было дозволено получить национальное или международное признание, являлись марионетками и лакеями властных структур». Коль скоро сделан такой вывод, от него остается один шаг до проверки с помощью лакмусовой бумажки: если чернокожий сумел добиться признания, не доказывает ли этот факт, что он «лакей»?
Линкольн Теодор Монро Эндрю Перри, более известный как Степин Фетчит (тогда ему было семьдесят шесть лет), яростно отреагировал, когда в 1968 году Си-би-эс показала программу, само название которой уже говорило о многом: «История черных — потери, кражи, заблуждения», — в исполнении чернокожего комика Билла Кроссби. Степин Фетчитбыл представлен в этой программе с точки зрения расистских стереотипов. Степин Фетчит, друг боксера Мухаммеда Али, заявил: «Это не Мартин Лютер Кинг добился освобождения негров. Это сделал Степин Фетчит». Он негодовал, что в программе участвовал не он сам, а артисты, изображавшие его: они разыграли спектакль, шаркали ногами, вращали глазами. «Я был первым негром, остановившимся в гостинице на Юге, — говорил он в гневе. — Я был первым негром, не побоявшимся сесть в самолет и перелететь с побережья на побережье. Я сорвал с негров маску насильников, я сделал эту черную работу — вместе с теми, кто был согласен в ней участвовать». Затем он обрушился на некоторые из новых фильмов, такие как «Отгадайте, кто придет обедать», где дочь Спенсера Трейси и Кэтрин Хепберн приводит на обед своего жениха (его играл Сидни Пуатье) — замечательного доктора, молодого, красивого, с потрясающей дикцией. Белый отец, Трейси, возражает, не высказывая при этом, впрочем, соображений, которые дали бы повод уличить его в расизме. В конце концов он сдается, по-видимому, полагая, что межрасо-вый брак возможен, если чернокожий является одним из лучших граждан Америки. По мнению Степина Фетчита, фильм «больше повредил заключению межрасовых браков, нежели способствовал им», ведь в течение всего фильма Пуатье ни разу не прикоснулся к женщине, игравшей его невесту. Он заявил, что Пуатье и другие чернокожие звезды нынешнего времени — «это орудия в чужих руках. Как в банке. Вы помещаете одного негра на передний план, но больше их здесь нет».
Ежедневно новые чернокожие герои сменяли старых. К 1968 году Мухаммед Али оставался одним из тех немногих, чей авторитет левые не могли поколебать. И молодежь, и черные восхищались им, когда в 1967 году он был лишен боксерской лицензии за уклонение от призыва. В пьесе «Великая надежда белых» Джеймс Эрл Джонс играл нового героя черных — первого чернокожего чемпиона в тяжелом весе Джека Джонсона. Джонсон не нуждался в оправдании, или, если выразиться в терминах 1968 года, не был негром, и история, в результате которой последовало его изгнание из бокса, казалось, напоминало случай с самим Мухаммедом Али.
То были времена, нелегкие для чернокожих героев, и неудивительно, что частой критике подвергали и Мартина Лютера Кинга. Многие активисты движения за гражданские права, особенно сотрудники Эс-эн-си-си, часто именовали его в шутку «де Лоуд». Начиная с 1966 года активисты Эс-эн-си-си, случалось, прерывали Кинга, когда он говорил или кричал, воплями «Власть черных!». Кинг однажды сказал в ответ: «Если фараон хочет держать своих рабов в повиновении, надо, чтобы они дрались между собой».
Его часто обвиняли в том, что он привлекает к себе больше внимания средств массовой информации, нежели заслуживает. Возможно, это так и было. Он был создан для средств массовой информации и именно благодаря им стал лидером. Иногда он рассуждал о том, как хорошо бы ему жилось, если бы он не оказался вовлечен в борьбу за права человека. Кинг происходил из привилегированной семьи: он был сыном известного в Атланте священника. Ему не довелось родиться в нищете и в условиях дискриминации, с которой он пытался покончить. Он не знал о том, что расизм существует, вплоть до шестого класса, когда его белый товарищ перестал играть с ним, так как они пошли в разные школы.
Будучи докторантом Бостонского университета, он производил впечатление на молодых женщин своим поведением и костюмом: для выпускника университета он одевался непривычно хорошо. Коретта Скотг, его будущая жена, вспоминала: «Он отличался особым обаянием». Она называла это «интеллектуальный джаз». Кинг был маленького роста и казался незаметным, пока не начинал говорить. С самого начала его выбирали на главные роли из-за ораторских способностей, а также потому, что представителям прессы он казался гораздо старше и выглядел более зрелым человеком, нежели был на самом деле. Всего в двадцать шесть лет, будучи новичком в Алабаме, он возглавил бойкот автобусов в Монтгомери.
Он часто говорил, что в жизни у него не было выбора. «Когда я оказался вовлечен в это движение и когда люди начали буквально испытывать вдохновение от сотрудничества, я понял, что выбор ускользает из рук. Люди ждут, что ты возглавишь их...»
Хотя Кинг и родился в 1929 году (на десять лет раньше, чем самые старшие лидеры 60-х, такие как Том Хейден), он мыслил как активист 60-х — мечтал о чем-то большем, нежели один лишь Юг, и о решении более масштабных вопросов, чем проблема сегрегации. Он чувствовал, что весь мир борется за свободу, и видел себя участником этой борьбы.
При Дж. Эдгаре Гувере, которого Элдридж Кливер называл «самым прямолинейным из американцев», ФБР безжалостно преследовало Кинга. Его агенты шпионили за ним, фотографировали, окружали его доносчиками, записывали разговоры. Очевидно, Гувер пытался установить факт связи Кинга с коммунистами и убеждал министра юстиции США Роберта Кеннеди, которому суждено было принять большую часть наихудших своих решений в период «холодной войны», что у него, Кеннеди, есть достаточно оснований одобрить подслушивание телефонных переговоров. Кинг, явно видевший недостатки капитализма и изредка выражавший свое восхищение Марксом, был достаточно осторожен и избегал говорить помногу в таком духе. Когда речь заходила о его формальных отношениях с коммунистами, вся информация сводилась к тому, что он лично знал одного-двух человек, у которых ранее могли быть связи с коммунистами.
Материалы, которые раздобыло ФБР, доказывали лишь то, что преподобный Мартин Лютер Кинг имел постоянные сексуальные связи с большим числом женщин (правда, доказательства были весомыми). Близкие люди время от времени предупреждали его, что движению может быть нанесен ущерб, если эти истории получат огласку. Кинг однажды сказал: «Секс — это способ уменьшить тревогу и беспокойство». Немногие из участников движения могли бросить в него камень, поскольку большинство тоже позволяло себе это удовольствие. «Трахались буквально все», — говорил политический активист Майкл Харрингтон. Но Кинг делал это чаще других. При этом он не преследовал женщин: это они следовали за ним повсюду.
ФБР предъявило фотографии и другие свидетельства, чтобы журналисты могли выбрать их для своих сообщений. Однако никто не хотел публиковать эти истории. В 60-х годах подобные сюжеты считались не соответствующими журналистской этике. В 1965 году ФБР зашло слишком далеко, отправив отпечатанные на машинке сведения о сексуальных похождениях Кинга ему самому и его жене — с примечанием, что у него остается лишь один выход — уйти в частную жизнь.
Но все эти нападки не очень беспокоили Кинга. Куда больше его тревожило сознание, что более никто не верит в ненасилие. В 1967 году он сказал: «Я по-прежнему проповедую ненасилие со всем пафосом, на который способен, но, боюсь, меня никто не слышит». К 1968 году стали заметны его подавленность, постоянные разговоры о смерти и полнота от переедания на нервной почве. Нобелевская премия мира мало порадовала его. Он говорил Ральфу Эбернати: «Возможно, мы просто вынуждены признать, что настал день, когда насилие разразится, и, может быть, мы должны просто сдаться и позволить событиям идти своим чередом. Нация не прислушивается к нам. Может быть, ее внимание привлечет голос насилия».
Кинг говорил, что живет среди «больного народа». Теперь в своих речах он выказывал нездоровое пристрастие к теме смерти. Он сравнивал себя с Моисеем, который вывел свой народ из рабства, но умер на вершине горы в Иордане, когда уже видна была Земля обетованная.
Весной он то и дело наезжал в Мемфис для поддержки забастовки тамошних мусорщиков. За такую работу, как правило, выполнявшуюся чернокожими, платили чуть больше прожиточного минимума, а отпусков и пенсий не полагалось — в общем, чернокожие были обездолены (пример того, как это делалось в Америке). Попытка провести демонстрацию 28 марта обернулась для Кинга катастрофой: участники марша применили насилие, полиция пустила в ход оружие, витрины были разбиты... 3 апреля Кинг вновь возвратился в Мемфис для повторной попытки. Журналисты встретили его саркастическими усмешками. Вечером 4 апреля Кинг остановился в гостинице. Он готовил проповедь, которую собирался произнести на будущей неделе в своем храме в Атланте, где до него проповедовал его отец, — проповедь, озаглавленную «Америка может провалиться в преисподнюю», когда раздался выстрел. Пуля попала Кингу в лицо с правой стороны. Через несколько минут он скончался.
Нельсон Рокфеллер, глава администрации Нью-Йорка (он не присутствовал на баллотировке, организованной партией республиканцев в Нью-Гэмпшире), провел кампанию за включение себя в список в качестве нового кандидата. Результаты были неутешительны: он набрал только 10% голосов. После предварительного голосования он объявил о своем решении не участвовать в предвыборной гонке, предоставив республиканцам возможность сделать, казалось бы, невероятное: снова номинировать Никсона. Однако Никсону не суждено было долго злорадствовать: Роберт Кеннеди объявил о своем намерении участвовать в выборах. В душе Никсона зародились пугающие предчувствия: представлялось, его ждет повторение кампании, которая почти погубила его карьеру, — поединок с Кеннеди. Однако вначале Кеннеди должен был одолеть действующего президента. 31 марта произошло нечто подобное взрыву бомбы: выступая по телевидению, президент Джонсон объявил: «Я не стану добиваться того, чтобы моя партия выставила на выборах мою кандидатуру, а если это произойдет, не буду участвовать в выборах».
Итак, лидер предвыборной гонки — избранный президент— внезапно вышел из игры. Что будет дальше, не знал никто. «Вся Америка впала в транс, — писал Эбби Хоффман, — мы просто застыли. Как нам было теперь снять штаны? Америка уже была голой. Что мы могли разрушить? Америка трещала по швам».
Историки до сих пор спорят о мотивах Джонсона. Сторонники Маккарти и активисты антивоенного движения торжествовали победу: им удалось, как считали они, убедить президента, что ему не одержать победы. Последующие годы показали, что кабинет Джонсона, состоявший из «ястребов», высказал мнение о невозможности как продолжения войны с политической точки зрения, так и победы в ней силой оружия. Одновременно со своим отказом от участия в выборах Джонсон объявил о временном уменьшении числа бомбардировок и намерении предложить переговоры Северному Вьетнаму. Но в данном случае президент повел себя не как всем известный Эл-Би-Джи. Были серьезные основания считать, что он выиграет выборы. Могло случиться так, что из-за метели верные сторонники Джонсона остались дома и незначительный перевес, с которым он одержал победу, был лишь делом случая. Даже если бы события в Нью-Гэмпшире на самом деле предвещали нечто серьезное, надо учесть: Джонсон никогда раньше не избегал сложных ситуаций в политической борьбе. После предварительных выборов в Нью-Гэмпшире лондонская «Таймс» предсказывала, что результат «раззадорит» Джонсона и «разбудит в нем политика». Некоторые считали, что от участия в гонке его отговорила жена. «Нью-Йорк тайме» полагала, возможной причиной итогов предварительного голосования неважное положение дел на фронте.
С 8 по 14 марта мир пережил еще одно потрясение, вызванное участием США во вьетнамском конфликте. Война обходилась Соединенным Штатам примерно в тридцать миллиардов долларов ежегодно, и баланс выплат дефицита размером в три с половиной миллиарда был столь чудовищным, что такие меры, как ограничения зарубежных поездок, оказывались бесполезными. Финансируя войну, Соединенные Штаты использовали золотой запас, составлявший к тому моменту лишь половину от послевоенного (по окончании Второй мировой войны он равнялся двадцати четырем с половиной миллиардам долларов). Стоимость доллара была привязана к золоту, и биржевики, оценивая вышеназванные цифры, делали вывод о неспособности США удержать цену золота на уровне тридцати пяти долларов за унцию: согласно теоретическим расчетам, у США не хватит резервов, чтобы продавать его по тридцать пять долларов всем желающим, и это приведет к росту цен на золото. В этом случае владельцы золота получили бы баснословную прибыль. То же самое случилось с английской валютой в ноябре 1967 года, когда британцы провели девальвацию фунта. Бум, возникший в результате деятельности перекупщиков золота, породил панику, которую пресса назвала «самым сильным в истории всплеском «золотой лихорадки». Более двух тонн золота стоимостью двести двадцать миллионов долларов перешло из рук в руки на лондонском рынке золота, в результате чего был установлен мировой рекорд по продажам этого металла в течение одного дня. В Швейцарию попало столько золота, что в одном из банков из-за увеличения веса хранимых в нем ценностей пришлось укрепить подвал. Экономисты всего мира предрекали наступление катастрофы. «Мы присутствуем при первом акте депрессии мирового масштаба», — говорил британский экономист Джон Вейзли.
Пока мир негодовал, наблюдая, как расходы Америки на военные действия во Вьетнаме дестабилизируют мировую экономику, гримаса войны становилась все уродливее. 14 марта американское командование сообщило, что на прошедшей неделе было убито пятьсот девять и ранено две тысячи семьсот шестьдесят шесть военнослужащих США. В итоге общее число потерь с 1 января 1961 года достигло 139 801 человек (из них убитыми — 19 670). Это было значительно меньше, нежели за три года войны в Корее, где погибло тридцать три тысячи человек. Однако впервые общее число потерь во Вьетнаме, включая раненых, превысило потери, понесенные в Корее.
16 марта двадцать третья пехотная дивизия — так называемая Американская дивизия — вела бои на территории Центрального Вьетнама вдоль бурого берега Южно-Китайского моря. В деревне Сон-Май в тот день они перебили около пятисот мирных жителей. Больше всего убийств было совершено в небольшом поселении Май-Лай, однако жестокости творились повсюду. Пожилые люди, женщины, мальчики и девочки, младенцы планомерно расстреливались (часть войск отказалась в этом участвовать). Один солдат дважды промахнулся, посылая пули из пистолета 45-го калибра в лежащего перед ним на земле младенца, прежде чем попал в цель (в это время его товарищи хохотали над тем, какой он плохой стрелок). Они бросали гранаты в бомбоубежища под домами, где пытались укрыться жители. Тех, кто выбегал наружу, спасаясь от взрывов, расстреливали. Дома были сожжены. Том Глен, солдат одиннадцатой бригады, написал письмо в штаб дивизии, сообщил о преступлениях и ждал ответа.
Какими бы ни были основания для отказа Джонсона участвовать в предвыборной гонке, отказ этот породил странную ситуацию. Демократы выдвигали Юджина Маккарти из Миннесоты — этот сторонник мира отказывался сформулировать какую бы то ни было программу, выходящую за рамки этой проблемы, — и сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Кеннеди, который, согласно февральскому выпуску журнала «Фор-чун», пользовался наибольшей неприязнью деловых кругов. Молодежь 1968 года, знаменитая тем, насколько она была чужда «традиционной» политике, вдруг начала восхищаться двумя кандидатами, боровшимися за то, чтобы участвовать в выборах от правящей партии. Оба этих человека, принадлежавшие к традиционному политическому истеблишменту, сумели снискать доверие и уважение молодежи, у которой слова «демократы» и «либералы» неизменно вызывали усмешку. Никто не верил, что им удастся надолго сохранить за собой «поле битвы». Очевидно было, что политический истеблишмент выдвинет своего собственного кандидата — все полагали, что им станет вице-президент Губерт Хамфри, — однако на тот момент происходящее казалось забавным. На агитационном плакате Маккарти был изображен сенатор, окруженный молодежью. Подпись гласила: «Наши дети вернутся домой».
Внезапно к избирателям пришла надежда.
Внезапно они вернулись в основное русло политической жизни Америки. И оказалось, что это совсем другая страна.
Внезапно дети со всей присущей им сообразительностью и невероятной энергий бросились в политику. И нас ждут новые выборы.
Генри Киссинджер, ставший советником по вопросам безопасности при Никсоне, дал интервью журналу «Лук», в котором проявил присущую ему невероятную способность: его слова звучали весомо, будучи абсолютно неправильными.
«Я сочувствую страданиям молодого поколения. Ему недостает образцов, у них нет героев, оно не видят великой цели, к которой движется мир. Но отказ от военной службы есть деструктивное явление с точки зрения общества. Императивы личности всегда противоречат устройству общественного организма. Отказываться от военной службы следует лишь в случаях, сложнейших с моральной точки зрения, и события во Вьетнаме — не из их числа. Это, очевидно, явление не того масштаба».
Очевидно, Киссинджер был не в состоянии понять «страдания молодого поколения». Для начала, у этого поколения оказалось столько героев, что из их имен можно было составить длинный список, хотя ни самого Киссинджера, ни тех, кем он восхищался, в нем не найти. Большинство из них не являлись ни политическими лидерами, ни генералами, они не занимали ведущих постов в государстве. У тогдашней молодежи всего мира были одни и те же герои; само открытие, что в любой стране можно найти тех, кто думает так же, как и ты, волновало всех. Для американцев же воспринимать жизнь в «международной перспективе» оказалось делом необычным. Можно возразить, что появление спутниковой связи и телевидения вызвало к жизни формирование первого «глобального» поколения. Но следующим покрлениям такой космополитизм уже не был присущ.
Другой факт, необычный для американцев, заключался в том, что авторитетом пользовались интеллектуалы. Возможно, писателем, оказавшим в 60-х наибольшее влияние на молодежь, был француз, родившийся в Алжире, — лауреат Нобелевской премии Альбер Камю. Он погиб в автомобильной катастрофе в I960 году в возрасте сорока семи лет (как раз тогда, когда началось десятилетие, которое должно было стать для него наиболее плодотворным). Благодаря эссе 1942 года «Миф о Сизифе», где он доказывал, что человеческое существование в основе своей абсурдно, его имя часто ассоциируется с экзистенциализмом. Однако сам он отказывался рассматривать себя как часть этого течения. Он был не из тех, кто охотно присоединяется к начинаниям других, что являлось одной из причин большего к нему почтения, нежели к экзистенциалисту и коммунисту Жану Полю Сартру, даже несмотря на то, что Сартр в 60-х был жив и принимал участие в студенческом движении Камю сотрудничал с движением Сопротивления, участвуя в борьбе против оккупационного режима, установленного нацистами во Франции (он работал в подпольной газете «Борьба»), и его произведения неоднократно поднимали тему побуждающего к действию морального императива. Его роман 1948 года «Чума» рассказывает о докторе, который рискует собой и своей семьей, пытаясь избавить общество от обнаруженной им болезни. В 60-х студенты всех стран мира читали этот роман, и для них он прозвучал как призыв к активности.
Знаменитая речь Марио Савио 1964 года «Пришло время, когда ненависть к действиям машины стала столь сильна, что вы... бросаетесь собственным телом на шестерни... и останавливаете ее» звучит как строки из «Чумы». «В нынешнее время я испытываю лишь одно чувство — чувство протеста, яростное и безумное», — писал Камю. Участники движения за гражданские права были знакомы с его произведениями: волонтеры Эс-эн-си-си передавали его книги друг другу. Том Хейден писал, что он считает Камю одним из тех, кто оказал влияние на его решение оставить журналистику и стать активистом студенческого движения. Эбби Хоффман использовал Камю для объяснения некоторых идей движения «Йиппи!», ссылаясь на его слова из «Записных книжек»: «Революция, ставшая мифом, имеет решающее значение».
Другим мыслителем, к 1968 году приобретшим такую популярность, что, казалось, все желали цитировать его, был революционно настроенный, пересмотревший учение Маркса и Гегеля Герберт Маркузе. Наиболее известна его идея «великого отказа. По мнению Маркузе, пришло время сказать «Нет, это неприемлемо» (еще одно утверждение, прозвучавшее в речи Савио о «ненавистной машине»). Маркузе, американский гражданин (он бежал от нацистов и прошел натурализацию), преподавал на факультете в Брэндисе, где тогда учился Эбби Хоффман, и оказал на последнего огромное влияние, особенно своей книгой «Эрос и цивилизация», где автор говорил о физическом наслаждении, свободном от чувства вины, и предостерегал против «лживых отцов, учителей и героев». Наибольшее внимание в конце 60-х привлекла книга Маркузе «Человек одного измерения», вышедшая в свет в 1964 году. В ней он развенчивал технологическое общество как пустое и конформистское и связывал с немецкой философией (прошедшей, так сказать, тщательную оркестровку) эмоции бунтарей 50-х типа Джеймса Дина и революционно настроенных студентов 60-х. «Нью-Йорк тайме» охарактеризовала Маркузе как «ведущего философа из ныне живущих».
В 1968 году в возрасте семидесяти лет Маркузе преподавал в Государственном университетеСан-Диего. Можно было наблюдать, как он нервничает, беспокоясь о своем рыжем коте, любуется бегемотами в зоопарке, — седой дедушка, повлиявший на умонастроения всего мира. Студенты, вынудившие руководство Римского университета закрыть в марте это учебное заведение, несли плакат с тремя буквами М, означавшими «Маркс, Мао и Маркузе».
В то время как менее радикальные мыслители настаивали, что технологическое развитие оставляет больше времени для досуга, Маркузе предостерегал, что, напротив, люди окажутся в своего рода тюрьме и начнут вести «вторичную» жизнь, будучи лишены возможности творчески мыслить. Он предупреждал: случалось, что новые технологии служили оппозиционерам, но они, несомненно, будут использоваться и для подавления протеста. Происходящее с людьми можно назвать своего рода анестезией: они словно погружаются в удовлетворенность, которая ошибочно принимается за счастье. Различные блага и удобства приведут к тому, что человечество ощутит себя ни к чему не годным и не способным к подлинному мышлению. В сфере средств массовой информации ощущается подъем, но он сопровождается постепенным оскудением с точки зрения идей. В современном мире люди, которые «скользят», как на серфинге, по восьмидесяти (или более) телеканалам и при этом находят для себя меньше, чем в те годы, когда их было только четыре, могут начать усваивать видение технологической эпохи, содержащееся в книгах Маркузе: хотя мы и думаем, что у людей появилось больше возможностей для выбора, однако что бы они ни выбрали, отличия будут несущественны. Отчего в век изобилия, когда благодаря технологиям возможности отдельной личности необыкновенно возросли, люди проводят за работой еще больше времени, чем раньше? Почему такое количество видов деятельности не требует умственных усилий, вместо того чтобы стимулировать мышление? Будучи одним из первых марксистов, потерявших веру в советскую систему, Маркузе видел, что и на Западе царит то же состояние «несвободы», и часто высказывал предположение, что, возможно, революция — это единственный путь к истинной свободе.
Маркузе, старый профессор, по-видимому, вошел в роль наставника радикально настроенных студентов. Он часто обсуждал студенческие движения. При этом он предостерегал Эбби Хоффмана от идеи «власти цветов» (flower power), говоря, что «у цветов нет власти»: она осуществляется лишь силами тех, кто их выращивает. Это был один из тех случаев, когда Хоффман не нашелся что ответить. Но Маркузе охотно допускал, что многие из юных бунтарей, которые толковали о его идеях, никогда не читали его книг, и это было действительно так. Его работы были написаны в традициях немецкой диалектики. Маркузе стал популярен, даже не пытаясь выработать доступный стиль в своих сочинениях. Луис Гонсалес де Альба, один из руководителей студенческого движения в Мехико, описывал, как он взялся за чтение некоторых текстов Маркузе просто потому, что президент Густаво Диас Ордас обвинил это движение в том, что оно испытало на себе влияние философа.
«Я открыл книгу “Человек одного измерения” и продвинулся аж до пятой страницы. “Эрос и цивилизация” была ужасно скучной. А теперь мне снова предстояло читать Маркузе, и все потому, что Диас Ордас как-то упомянул этого “философа-разрушителя”».
Франц Фэнон (уроженец Мартиники, психиатр) приобрел международную известность благодаря своей книге «Проклятые жители Земли» («Lesdamn&de la terre”), написанной в 1961 году. Она была переведена на двадцать пять языков; в переводе на английский, который читали учащиеся американских колледжей, она называлась «Отребья Земли». Фэнон завершил свое медицинское образование, полученное во Франции, в 1953 году в Алжире, где он стал членом Алжирского Народного фронта и одним из лидеров борьбы за независимость этой страны Само по себе это являлось достаточной рекомендацией для участников молодежного движения во Франции, начавшегося в конце 50-х с выступлений против французской политики в Алжире. Независимый Алжир, подобно Кубе, стал рассматриваться как символ противостояния существующему мировому порядку. Не будучи тирадой, которую можно было бы вложить в уста противника колониализма, книга «Отребья Земли» рассматривала как психологический феномен не только колониализм, но и его свержение, а также тип нового человека, необходимый для построения постколониального общества.
Объясняя сложность внутренней борьбы, необходимой, чтобы порвать с колониализмом, книга Фэнона оказала большое влияние на движение за гражданские права в США: она помогла установить связь между угнетаемыми темнокожими американцами, пытающимися вырваться из-под владычества белых, и находящимися в сходной ситуации африканцами-мусульмана-ми, стремящимися выйти из-под власти европейцев. Именно это стало главной идеей движения «Черных мусульман», особенно при Малкольме Иксе. Как и Фэнон, он родился в 1925 году, но в 1965-м был убит; считалось, хотя и не было доказано, что это дело рук «Черных мусульман». Участник этого движения, боксер Мухаммед Али, выступавший против основ и устоев белых, часто воспринимался как своего рода знаменосец обездоленных народов, поднимающихся на борьбу. Элдридж Кливер назвал Али «черным Фиделем Кастро от бокса».
Даже Мартин Лютер Кинг-младший отождествлял движение за гражданские права с борьбой, которую ведут слаборазвитые нации. В 1955 году он заявил по поводу бойкота Монтгомери: «Это часть движения, в котором принимает участие весь мир. Посмотрите буквально на любую точку на карте: повсюду те, кого эксплуатируют, восстают против эксплуататоров. Это характерная особенность нашего поколения».
Элдридж Кливер стал знаковой фигурой 60-х во многом благодаря своему литературному таланту. Впервые он оказался в тюрьме в восемнадцать лет за то, что курил марихуану. Впоследствии он вновь попал туда за изнасилование. Освободившись в 1966 году, он стал сотрудником журнала «Рэмпартс»: это издание пропагандировало идеи контркультуры. Оно прославилось тем, что на него подали в суд после того, как в 1968 году на его обложке было изображено сожжение карточек призывников. Работники журнала посоветовали Кливеру опубликовать эссе, которые он написал, сидя в тюрьме, — в них звучала и жестокая критика в адрес самого себя и не менее острые отзывы по поводу мира, который создал его таким. В сущности, Кливер оставался неизвестен до 1968 года, когда вышел сборник его эссе «Душа во льду» и критика, в том числе и книжное обозрение «Нью-Йорк тайме», охарактеризовала его как дерзкого, но четко выражающего свои мысли автора. Время появления его произведений в печати было как нельзя более удачным: в 1968 году американское общество главным об-* разом задавалось вопросом: что же в нем не так? Июньский опрос общественного мнения показал, что белые (при соотношении 3:2) не считают Америку «больной», но чернокожие (при соотношении 8:7) думают именно так. «Душа во льду» была опубликована почти в тот же самый момент, что и отчет Кернера о расовом насилии, и, как указывало обозрение «Нью-Йорк тайме», подтвердила содержавшиеся в нем выводы. «Поглядите в зеркало, — писал Кливер. — Все дело в вас, мистер и миссис Вчера, в ваших раздвоенных языках».
Вскоре после публикации своей книги Кливер выступил посредником при заключении в Калифорнии важного альянса между чернокожими и белыми. Здешние «новые левые» создали политическую партию — «Партию мира и свободы», собравшую сто тысяч подписей в ходе выдвижения своих кандидатов на выборы в Калифорнии. Благодаря Кливеру партии удалось заключить союз с «Черными пантерами»: она признала требования последних, и среди них — освобождение чернокожих от военной службы, выход на свободу всех чернокожих заключенных, а также условие, чтобы все процессы над неграми в будущем велись судами, состоящими из негров же. Кливер должен был стать кандидатом от партии на пост президента (в качестве вице-президента при нем баллотировался Джерри Рубин). Новая жена Кливера Кэтлин, участница комитета Эс-эн-си-си, должна была стать кандидатом на выборах в ассамблею; также в этот орган собирался баллотироваться Бобби Сил из «Черных пантер». Именно в ходе своей избирательной кампании в день предварительных выборов (он назвал его «День пред-стояния») Кливер призвал к «власти влагалищ» и союзу с «пулеметчиками Келли» — то есть со всяким, у кого есть огнестрельное оружие и кто хочет пустить его в ход. В октябре он вызвал бурные аплодисменты, выступая в Стэн-фордском университете (зал был набит битком, люди стояли на улице) и отзываясь о губернаторе Калифорнии следующим образом: «Рональд Рейган — гнилой тип, маменькин сынок и трус. Я вызываю его на дуэль, и мы будем драться, пока один из нас не погибнет (или до тех пор, пока он не назовет меня «дядюшка Элдридж»). Я предоставляю ему выбор оружия: пистолет, нож, бейсбольная бита или конфета на палочке».
1968 год был лучшим в жизни Элдриджа Кливера. В следующем году, спасаясь от обвинения в участии в перестрелке, затеянной «Черными пантерами» в Окленде, он бежал на Кубу, а затем в Алжир. К моменту своего возвращения в США в 1975 году он перестал быть сторонником левого движения.
Сказать по правде (в те времена правду говорили редко и только в частных беседах), большинство белых считали «Черных пантер» жутковатыми В то время как белые участники движения «новых левых» происходили из среднего класса, а большая часть чернокожих борцов за гражданские права — таких как Боб Мозес и Мартин Лютер Кинг — получили хорошее образование, «Черные пантеры» в основном были «уличными», из бандитских кварталов, часто с тюремным прошлым. Одетые в черное, в черных беретах, позируя с оружием для фотографий, они стремились выглядеть жутко. Они восхваляли насилие и побуждали чернокожих вооружаться в преддверии грядущей — насильственной — революции. Все это не снискало бы им симпатии окружающих, и поклонников у них осталось бы немного, если бы не два обстоятельства. К 1968 году стало ясно, что политический истеблишмент, особенно в некоторых областях, таких как Чикаго, где властвовал майор Ричард Дейли, и Калифорния, где правил Рональд Рейган, готовится к применению оружия против безоружных демонстрантов. В апреле Дейли объявил, что отдал полиции приказ «стрелять на поражение» в каждого поджигателя, во всякого, у кого будет в руках «коктейль Молотова»9, и «стрелять, чтобы искалечить» всех грабителей: это позволяло открывать огонь в любой ситуации гражданского неповиновения. Став губернатором в 1967 году, Рейган урезал в бюджете статьи расходов на медицинскую помощь и образование и начал вести политику жестокого обращения с демонстрантами. После разгрома полицейскими Окленда антивоенной демонстрации 16 октября 1967 года (за особую жестокость его окрестили «кровавый вторник») он похвалил полицейское управление Окленда за «исключительное умение и превосходные профессиональные навыки». Полиция начала угрожать белой молодежи из привилегированных слоев населения, как угрожала чернокожим много лет.
В январе 1968 года после нападения на семьсот активистов антивоенного движения, устроивших пикет во время речи государственного секретаря Дина Раска в Сан-Франциско, один из студентов Беркли, оказавшийся в числе жертв и заключенный в тюрьму, сказал о набросившихся на него полицейских: «Они хотели убивать, и убивали бы, если бы не боялись ответственности. Теперь я знаю, что они явились убрать Хью, если бы у того недостало ума защититься».
Речь шла о Хью Ньютоне, который в 1966 году вступил в ряды «Черных пантер» в Калифорнии и стал кандидатом от Партии мира и свободы на выборах в палату представителей от округа Беркли и Окленда в 1968 году. В тот момент он находился в тюрьме, ожидая суда по делу о смерти одного и ранении другого оклендского полисмена в перестрелке, произошедшей в 1966 году. Первый процесс (летом 1968 года) завершился тем, что присяжные не смогли принять единого решения; так же заканчивались почти все громкие процессы над «Черными пантерами»; бывало и так, что подсудимых оправдывали или следовало обжалование приговора. Все это укрепляло подозрения, что «Пантеры» подвергаются преследованиям со стороны полиции. В ходе процессов обнаруживались правдоподобные улики, свидетельствовавшие о жестокости полицейских (в том числе случай, когда двое подозреваемых были якобы убиты в своих постелях). «Черные пантеры» все в большей мере воспринимались как жертвы насилия, мученики, храбро противостоящие полиции.
В то время как бывшие негры боролись за то, чтобы определить, какими должны стать новые чернокожие, среди чернокожих шли великие споры. Многие из великих чернокожих деятелей культуры к маю 1968 года уже неоднократно подвергались нападениям со стороны тех же черных. В «Душе во льду» Элдридж Кливер свирепо накинулся на Джеймса Болдуина, который, пожалуй, являлся самым почитаемым чернокожим писателем первой половины 60-х. Признаваясь, что чтение произведений такого мастера слова, как чернокожий Болдуин, повергло его в трепет, Кливер делает вывод, что Болдуину присуща «самая отвратительная, агонизирующая, всецело пронизывающая его ненависть к черным, в особенности к себе самому, — и самая постыдная, фанатичная любовь к белым, любовь прихлебателя и подхалима, какую не найти ни у кого из чернокожих американских писателей, известных в наше время». Кливер, обвинявший других чернокожих в том, что они не любят людей своей расы, сумел в своей маленькой книжке осудить не только Болдуина, но и Флойда Паттерсона, Луи Армстронга, Джо Льюиса, Гарри Белафонта, Лин Хорн и Мартина Лютера Кинга. Звезда джаза Луи Армстронг, согласно Кливеру, был «дядей Томом» — чернокожим, который прислуживает белым расистам, скаля свои огромные зубы и тараща большие глаза.
В основном Кливер писал о чернокожих, сумевших добиться популярности. Малкольм Икс, погибший насильственной смертью, Мухаммед Али, лишенный звания чемпиона по боксу, Поль Робсон, вынужденный покинуть родную страну, — все это были подлинные чернокожие герои, тогда как Мартин Лютер Кинг заслуживал презрения, так как получил Нобелевскую премию. Кливер писал: «Присуждение Нобелевской премии Мартину Лютеру Кингу и своего рода инфляция, которую претерпел его образ, перейдя в разряд героев всего международного сообщества, служит доказательством исторического факта, что те немногие негры-американцы, которым было дозволено получить национальное или международное признание, являлись марионетками и лакеями властных структур». Коль скоро сделан такой вывод, от него остается один шаг до проверки с помощью лакмусовой бумажки: если чернокожий сумел добиться признания, не доказывает ли этот факт, что он «лакей»?
Линкольн Теодор Монро Эндрю Перри, более известный как Степин Фетчит (тогда ему было семьдесят шесть лет), яростно отреагировал, когда в 1968 году Си-би-эс показала программу, само название которой уже говорило о многом: «История черных — потери, кражи, заблуждения», — в исполнении чернокожего комика Билла Кроссби. Степин Фетчитбыл представлен в этой программе с точки зрения расистских стереотипов. Степин Фетчит, друг боксера Мухаммеда Али, заявил: «Это не Мартин Лютер Кинг добился освобождения негров. Это сделал Степин Фетчит». Он негодовал, что в программе участвовал не он сам, а артисты, изображавшие его: они разыграли спектакль, шаркали ногами, вращали глазами. «Я был первым негром, остановившимся в гостинице на Юге, — говорил он в гневе. — Я был первым негром, не побоявшимся сесть в самолет и перелететь с побережья на побережье. Я сорвал с негров маску насильников, я сделал эту черную работу — вместе с теми, кто был согласен в ней участвовать». Затем он обрушился на некоторые из новых фильмов, такие как «Отгадайте, кто придет обедать», где дочь Спенсера Трейси и Кэтрин Хепберн приводит на обед своего жениха (его играл Сидни Пуатье) — замечательного доктора, молодого, красивого, с потрясающей дикцией. Белый отец, Трейси, возражает, не высказывая при этом, впрочем, соображений, которые дали бы повод уличить его в расизме. В конце концов он сдается, по-видимому, полагая, что межрасо-вый брак возможен, если чернокожий является одним из лучших граждан Америки. По мнению Степина Фетчита, фильм «больше повредил заключению межрасовых браков, нежели способствовал им», ведь в течение всего фильма Пуатье ни разу не прикоснулся к женщине, игравшей его невесту. Он заявил, что Пуатье и другие чернокожие звезды нынешнего времени — «это орудия в чужих руках. Как в банке. Вы помещаете одного негра на передний план, но больше их здесь нет».
Ежедневно новые чернокожие герои сменяли старых. К 1968 году Мухаммед Али оставался одним из тех немногих, чей авторитет левые не могли поколебать. И молодежь, и черные восхищались им, когда в 1967 году он был лишен боксерской лицензии за уклонение от призыва. В пьесе «Великая надежда белых» Джеймс Эрл Джонс играл нового героя черных — первого чернокожего чемпиона в тяжелом весе Джека Джонсона. Джонсон не нуждался в оправдании, или, если выразиться в терминах 1968 года, не был негром, и история, в результате которой последовало его изгнание из бокса, казалось, напоминало случай с самим Мухаммедом Али.
То были времена, нелегкие для чернокожих героев, и неудивительно, что частой критике подвергали и Мартина Лютера Кинга. Многие активисты движения за гражданские права, особенно сотрудники Эс-эн-си-си, часто именовали его в шутку «де Лоуд». Начиная с 1966 года активисты Эс-эн-си-си, случалось, прерывали Кинга, когда он говорил или кричал, воплями «Власть черных!». Кинг однажды сказал в ответ: «Если фараон хочет держать своих рабов в повиновении, надо, чтобы они дрались между собой».
Его часто обвиняли в том, что он привлекает к себе больше внимания средств массовой информации, нежели заслуживает. Возможно, это так и было. Он был создан для средств массовой информации и именно благодаря им стал лидером. Иногда он рассуждал о том, как хорошо бы ему жилось, если бы он не оказался вовлечен в борьбу за права человека. Кинг происходил из привилегированной семьи: он был сыном известного в Атланте священника. Ему не довелось родиться в нищете и в условиях дискриминации, с которой он пытался покончить. Он не знал о том, что расизм существует, вплоть до шестого класса, когда его белый товарищ перестал играть с ним, так как они пошли в разные школы.
Будучи докторантом Бостонского университета, он производил впечатление на молодых женщин своим поведением и костюмом: для выпускника университета он одевался непривычно хорошо. Коретта Скотг, его будущая жена, вспоминала: «Он отличался особым обаянием». Она называла это «интеллектуальный джаз». Кинг был маленького роста и казался незаметным, пока не начинал говорить. С самого начала его выбирали на главные роли из-за ораторских способностей, а также потому, что представителям прессы он казался гораздо старше и выглядел более зрелым человеком, нежели был на самом деле. Всего в двадцать шесть лет, будучи новичком в Алабаме, он возглавил бойкот автобусов в Монтгомери.
Он часто говорил, что в жизни у него не было выбора. «Когда я оказался вовлечен в это движение и когда люди начали буквально испытывать вдохновение от сотрудничества, я понял, что выбор ускользает из рук. Люди ждут, что ты возглавишь их...»
Хотя Кинг и родился в 1929 году (на десять лет раньше, чем самые старшие лидеры 60-х, такие как Том Хейден), он мыслил как активист 60-х — мечтал о чем-то большем, нежели один лишь Юг, и о решении более масштабных вопросов, чем проблема сегрегации. Он чувствовал, что весь мир борется за свободу, и видел себя участником этой борьбы.
При Дж. Эдгаре Гувере, которого Элдридж Кливер называл «самым прямолинейным из американцев», ФБР безжалостно преследовало Кинга. Его агенты шпионили за ним, фотографировали, окружали его доносчиками, записывали разговоры. Очевидно, Гувер пытался установить факт связи Кинга с коммунистами и убеждал министра юстиции США Роберта Кеннеди, которому суждено было принять большую часть наихудших своих решений в период «холодной войны», что у него, Кеннеди, есть достаточно оснований одобрить подслушивание телефонных переговоров. Кинг, явно видевший недостатки капитализма и изредка выражавший свое восхищение Марксом, был достаточно осторожен и избегал говорить помногу в таком духе. Когда речь заходила о его формальных отношениях с коммунистами, вся информация сводилась к тому, что он лично знал одного-двух человек, у которых ранее могли быть связи с коммунистами.
Материалы, которые раздобыло ФБР, доказывали лишь то, что преподобный Мартин Лютер Кинг имел постоянные сексуальные связи с большим числом женщин (правда, доказательства были весомыми). Близкие люди время от времени предупреждали его, что движению может быть нанесен ущерб, если эти истории получат огласку. Кинг однажды сказал: «Секс — это способ уменьшить тревогу и беспокойство». Немногие из участников движения могли бросить в него камень, поскольку большинство тоже позволяло себе это удовольствие. «Трахались буквально все», — говорил политический активист Майкл Харрингтон. Но Кинг делал это чаще других. При этом он не преследовал женщин: это они следовали за ним повсюду.
ФБР предъявило фотографии и другие свидетельства, чтобы журналисты могли выбрать их для своих сообщений. Однако никто не хотел публиковать эти истории. В 60-х годах подобные сюжеты считались не соответствующими журналистской этике. В 1965 году ФБР зашло слишком далеко, отправив отпечатанные на машинке сведения о сексуальных похождениях Кинга ему самому и его жене — с примечанием, что у него остается лишь один выход — уйти в частную жизнь.
Но все эти нападки не очень беспокоили Кинга. Куда больше его тревожило сознание, что более никто не верит в ненасилие. В 1967 году он сказал: «Я по-прежнему проповедую ненасилие со всем пафосом, на который способен, но, боюсь, меня никто не слышит». К 1968 году стали заметны его подавленность, постоянные разговоры о смерти и полнота от переедания на нервной почве. Нобелевская премия мира мало порадовала его. Он говорил Ральфу Эбернати: «Возможно, мы просто вынуждены признать, что настал день, когда насилие разразится, и, может быть, мы должны просто сдаться и позволить событиям идти своим чередом. Нация не прислушивается к нам. Может быть, ее внимание привлечет голос насилия».
Кинг говорил, что живет среди «больного народа». Теперь в своих речах он выказывал нездоровое пристрастие к теме смерти. Он сравнивал себя с Моисеем, который вывел свой народ из рабства, но умер на вершине горы в Иордане, когда уже видна была Земля обетованная.
Весной он то и дело наезжал в Мемфис для поддержки забастовки тамошних мусорщиков. За такую работу, как правило, выполнявшуюся чернокожими, платили чуть больше прожиточного минимума, а отпусков и пенсий не полагалось — в общем, чернокожие были обездолены (пример того, как это делалось в Америке). Попытка провести демонстрацию 28 марта обернулась для Кинга катастрофой: участники марша применили насилие, полиция пустила в ход оружие, витрины были разбиты... 3 апреля Кинг вновь возвратился в Мемфис для повторной попытки. Журналисты встретили его саркастическими усмешками. Вечером 4 апреля Кинг остановился в гостинице. Он готовил проповедь, которую собирался произнести на будущей неделе в своем храме в Атланте, где до него проповедовал его отец, — проповедь, озаглавленную «Америка может провалиться в преисподнюю», когда раздался выстрел. Пуля попала Кингу в лицо с правой стороны. Через несколько минут он скончался.
 Время насилия действительно пришло, как предсказывал Кинг. По мере распространения новости об убийстве Кинга белым человеком, беглым заключенным Джеймсом Эрлом Рэем, насилие охватило «черные» кварталы в ста двадцати американских городах; по сообщениям, в сорока городах начались беспорядки. Национальная гвардия была направлена во многие города, сожженные и разграбленные. Именно тогда мэр Чикаго Ричард Дейли отдал свой печально известный приказ «стрелять на поражение». Ущерб, нанесенный собственности в «черных» кварталах, исчислялся миллионами долларов. Только в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) погибло двадцать чернокожих. Кинг перестал быть подозрительным «дядей Томом», лауреатом Нобелевской премии: он умер, не дожив до сорока, он был убит белым человеком и наконец стал настоящим чернокожим мучеником. Стоукли Кармайкл сказал: «Теперь, когда они убрали доктора Кинга, пора положить конец этому г...ному ненасилию».
Время насилия действительно пришло, как предсказывал Кинг. По мере распространения новости об убийстве Кинга белым человеком, беглым заключенным Джеймсом Эрлом Рэем, насилие охватило «черные» кварталы в ста двадцати американских городах; по сообщениям, в сорока городах начались беспорядки. Национальная гвардия была направлена во многие города, сожженные и разграбленные. Именно тогда мэр Чикаго Ричард Дейли отдал свой печально известный приказ «стрелять на поражение». Ущерб, нанесенный собственности в «черных» кварталах, исчислялся миллионами долларов. Только в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) погибло двадцать чернокожих. Кинг перестал быть подозрительным «дядей Томом», лауреатом Нобелевской премии: он умер, не дожив до сорока, он был убит белым человеком и наконец стал настоящим чернокожим мучеником. Стоукли Кармайкл сказал: «Теперь, когда они убрали доктора Кинга, пора положить конец этому г...ному ненасилию».
Глава 7 ПОЛЬСКИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ
Гросс. Боже милостивый! Не сошли ли вы с ума? Б а л л а с. Не сошли ли тогда с ума все мы, мистер Пи? П и л л а р (качает головой). Конечно, нет. Когда благо Человека ставится превыше всего, мы не можем сойти с ума.8 марта 1968 года несколько сотен студентов Варшавского университета — демонстрация настолько скромная, что ее участники могли поместиться в одной из аудиторий, — проследовали к кабинету ректора, требуя встречи с ним. Студенты выкрикивали: «Нет занятиям без свободы!» Затем они прошли по территории университета. Это сочли бы незначительным инцидентом, случись он в 1968 году в одном из американских университетов, где тысячи студентов устраивали марши, захватывали здания, вынуждали закрывать учебные заведения, но в Польше прежде ничего подобного не случалось. Рабочая милиция, натасканная для подавления всяких «контрреволюционных» попыток, численностью примерно в пятьсот человек, одетых в гражданское платье, но с красно-белыми повязками (цвета польского флага) на рукавах, приехала на грузовиках. Прибывшие сказали, что хотят поговорить с демонстрантами, но вскоре после начала разговора достали дубинки и в присутствии двух сотен полицейских погнали студентов через территорию университета, нанося удары, тогда как полиция арестовывала тех, кто пытался убежать. Студенты были шокированы этой жестокостью, равно как и вторжением полиции на территорию университета в нарушение всех традиций. Прошли те времена, когда периодические диссидентские акции, осуществлявшиеся под руководством Яцека Куроня и Кароля Модзалевского привлекали к себе внимание лишь горстки таких же, как и они, диссидентов. Теперь жестокость правительства породила целое движение. На следующий день двадцать тысяч студентов прошли маршем по центру Варшавы. Снова их подвергли избиению дубинками переодетые полицейские. Среди арестованных оказались Куронь, Модзалевский и их молодой протеже Адам Михник. Молодые польские коммунисты, дети представителей элиты страны, приняли участие в этом новом и беспрецедентном движении. Трое из них были детьми членов правительства. Родители многих демонстрантов занимали важные посты в партии. До этого момента идеалистически настроенные молодые поляки, хотя и не были согласны со своими родителями, продолжали оставаться в партии, чтобы изменить ее, добиться ее эволюции. Теперь же они увидели жестокость системы, готовой применить насилие, лишь бы воспрепятствовать любым переменам. Предвоенному поколению польских коммунистов был присущ цинизм, который послевоенное поколение, выросшее в обстановке спокойствия и безопасности, до 1968 года не усвоило. Константы Геберт — ему тогда было пятнадцать лет — примкнул к движению в 1968 году. Его отец, обладатель жесткого характера, коммунист старого закала, до войны являвшийся партийным организатором в США, а после нее вернувшийся в Польшу для строительства нового коммунистического государства и работавший дипломатом, узнал о происшедших демонстрациях и арестах. Юный Константы вообразил, что его отец будет гордиться своим сыном, вышедшим на демонстрацию подобно добропорядочному коммунисту. Но у его родителя оказалась иная точка зрения на сей счет. «Мой отец посчитал меня истеричным ребенком, связавшимся с политикой, которая ужасно разочаровала меня... Меня воспитывали в коммунистическом духе. И вот идет демонстрация, участники которой выкрикивают: «Социализм, свобода, независимость!» Я подумал, что это прекрасно. Я присоединился к ней. Мы сражались с полицией и все такое. Я вернулся домой, опоздав на три часа. «Папочка, мы сражались с полицией! За независимость!» Я ожидал, что он откроет бутылку водки и у нас будет праздник. Они заперли меня дома на три дня — как раз то, что я сделал бы со своим ребенком. Пятнадцать лет — не лучший возраст для уличных драк. Но что за беда? Я думал, что стал как все парни. Папа думал так же». Молодые поляки очень быстро поняли, что выражать протест на улицах опасно и чревато насилием. Но это не устрашило, а лишь ожесточило их. На следующий день студенты собрались для выражения протеста по поводу арестов, вторжения на территорию университета и закрытия «Дзядов». Студенты Политехнической школы вышли на улицы, выкрикивая приветствия в адрес Чехословакии, понося министра внутренних дел Мочара и его «гестапо» и бросая камни в полицию, которая ответила на это применением слезоточивого газа. Дорожная полиция оцепила территорию, сюда были переброшены на грузовиках переодетые блюстители порядка. Они повыпрыгивали из машин и опять пустили в ход дубинки. Другие студенты, небольшой группой устроившие демонстрацию на территории Варшавского университета перед церковью, где погребено сердце композитора Фредерика Шопена, также были избиты переодетыми полицейскими. 11 марта сотни студентов прошли маршем по центру Варшавы к серому тяжелому зданию с фасадом в стиле ар-деко, где находилась штаб-квартира Польской социалистической партии10. Здесь, на глазах партийных функционеров, взиравших на происходящее с высоты шестого этажа, вновь появившиеся полицейские обрушивали на юные головы удары дубинок, валили молодых людей наземь, тащили прочь. Некоторые демонстранты оказывали сопротивление, бросая в полицейских обломки. Схватка закончилась через два часа. Эти несколько сотен студентов являли собой немногочисленную группу по сравнению с теми, кто собирался в Берлине, Риме и других западноевропейских городах, чтобы выразить протест против вьетнамской войны, но для страны советского блока это был шокирующий случай, о нем сообщали по всему миру как об очень важном событии. За пределами университета грузовики, полные переодетых полицейских, были встречены криками демонстрантов: «Гестапо!» В 1968 году от Варшавы до Берлина, Парижа, Чикаго и Мехико вряд ли была хоть одна демонстрация, участники которой не сравнивали бы полицию с нацистскими штурмовиками. В Варшаве эти шокировавшие толпу переодетые полицейские, привезенные на грузовиках, те, кого студенты называли «гестапо», зачастую оказывались рабочей милицией. Они говорили, что протестующие студенты — привилегированная молодежь, которая живет в лучших домах и может позволить себе поездки в Париж. Это было в значительной степени правдой. Несмотря на то что поступало немало сообщений об отказе рабочих участвовать в контрдемонстрациях, натравливание рабочих на студентов являлось удачной для правительства стратегией. 11 марта студенты и милиция почти восемь часов дрались на улицах Варшавы. Правительство раньше обычного закрыло фабрики, чтобы организовать рабочие контрдемонстрации, и объявило студентов «пятой колонной». В тот же день, 11 марта, студенты одновременно устроили демонстрации в Гданьске, Кракове, Познани, Вроцлаве и Лодзи. Все они подверглись нападению со стороны полиции, применившей дубинки, а в некоторых случаях — водометы и слезоточивый газ. Студенты позаимствовали методы борцов за права человека в Америке, о которых им доводилось читать. Они устраивали бойкоты и сидячие забастовки. Поначалу многие студенты не понимали, что во время сидячей забастовки они действительно должны сидеть. Правительство считало, что демонстрации в Варшаве и буржуазном Кракове происходят из-за проживания в этих городах большого числа студентов элитарных университетов. Но гораздо труднее было объяснить демонстрации в Лодзи и Гданьске с их сильными пролетарскими коммунистическими корнями. В Гданьске студенты во время демонстрации призывали рабочих присоединиться к ним. Было хорошо известно, что в США участники антивоенных демонстраций призывали людей: «Присоединяйтесь к нам!» Но студентам в Гданьске повезло с рабочими не больше, чем студентам в Вашингтоне с национальной гвардией. В Познани студенты кричали: «Да здравствуют рабочие Познани!» Но последние и здесь не примкнули к демонстрантам. Яцек Куронь вспоминал: «Прежде чем начать действовать, мы, студенты, хотели обратиться к рабочим, но делали это очень осторожно, робко. Никто не ожидал такого взрыва И когда он произошел, правительство объяснило это тем, что студенты — избалованные привилегированные евреи, дети элиты». «В 1968 году у студентов был лозунг: «Не бывает хлеба без свободы», — вспоминает Евгениуш Смоляр, сын влиятельного партийного работника, в те времена активист студенческого движения. — Рабочие считали этот лозунг издевательским — не бывает свободы без хлеба. Большинство из нас никогда не оказывались без хлеба. Хлеб всегда стоит на первом месте. Мы не понимали друг друга». В течение многих лет правительству удавалось сдерживать недовольство, поскольку ни рабочие не поддерживали студентов и интеллигенцию, ни студенты не поддерживали рабочих. Демонстранты несли плакаты и выкрикивали лозунги с обвинениями в адрес контролируемой государством прессы, изображавшей студенческое движение как хулиганство, но отказывавшейся давать объективные материалы о демонстрантах или писать о результатах демонстраций. «Лживая пресса» являлась одним из главных пунктов недовольства студентов. Февральская писательская конференция, участники которой впервые попытались спокойно рассмотреть вопрос о цензуре и запрещении «Дзядов», была впервые упомянута в газете «Трибуна люду» месяц спустя, в конце марта, после нескольких недель открытых протестов, сидячих забастовок и уличных схваток. Однако сообщения о насилии распространились по всему миру. В Вене Яну Новаку понадобилось лишь проанализировать еженедельные сообщения «Монд», «Нью-Йорк тайме» и других газет, чтобы провести на польском языке радиопередачу об этих событиях, которую могла услышать вся Польша. Яна Щесна из Лодзи была семнадцатилетней первокурсницей. Она происходила из простой семьи, была книжным червем и знала об ужасах капитализма из французских романов девятнадцатого века. «Я не считала себя несвободной. В университете я могла говорить все, что хотела. В марте студент Варшавского университета, родом из Лодзи, вернулся домой и рассказал, что варшавские студенты устроили демонстрацию против цензуры, против запрещения театральных постановок и что полиция жестоко избила их. Возможно, я жила в мире своих книжек, но я была шокирована, — рассказывает Щесна. — Я не читала газет, за исключением разделов о кино, но теперь я просматривала их, и это было так необычно. Газеты писали о хулиганах, авантюристах, детях богатых, сионистах. Это было неприемлемо. Я поняла, что не могу остаться в стороне. Что-то носилось в воздухе, атмосфера сгущалась». Она подписала петицию и присоединилась к маршу, участники которого выражали протест против арестов студентов и требовали, чтобы пресса писала правду. Ее мать Ядвига, конторская служащая, мечтавшая участвовать в общественном движении, испугалась возможного применения насилия и настояла на том, чтобы идти с дочерью, дабы защищать ее. В качестве средства защиты она взяла с собой зонтик. Уже более тысячи человек присоединились к маршу, когда они столкнулись с рабочими, кое-кого из которых Ядвига знала. «Что вы здесь делаете? — обратился к ней один из них. Ядвига, взяв зонтик на изготовку, отвечала: «А вы что здесь делаете?» Была объявлена трехдневная сидячая забастовка. Правительство отключило в кампусе телефоны, так что студенты одних факультетов не знали, что делают другие. Там, где училась Яна, разнесся слух, что остальные отделения университета прекратили борьбу. Но ее мать, Ядвига, принесшая для нее бутерброды, уже побывала в другой части университета, куда она носила бутерброды бойфренду дочери, и сообщила ее друзьям, что и на остальной территории вуза борьба продолжается. Через двадцать четыре часа, когда среди студентов пошли разговоры об отказе от сидячей забастовки, именно Яна Щесна, которая произнесла первую речь в своей жизни, настаивая, что они должны довести до конца то, о чем говорят и что делают, предложила превратить сидячую забастовку в голодовку. «Я была взрослой, но я была также и ребенком, — рассказывала Яна. — Я хотела, чтобы наши родители присоединились к нам. Я знала, что если я продолжу голодовку, то моя мама пойдет в атаку на штаб-квартиру Коммунистической партии». Кто-то из деятелей подполья услышал ее речь и предложил ей присоединиться к ним. Таким образом семнадцатилетняя Яна Щесна стала политическим диссидентом и позднее сотрудничала с Куронем, Модзалевским и Михником. Партия утверждала, что демонстрантами манипулировали старые сталинисты. Правительство не допускало и мысли о спонтанности действий демонстрантов. Как писала газета «Трибуна люду», «события 8 марта не возникли как deus ex machina11. Им предшествовала длительная подготовка, многочисленные кампании более мелких масштабов и калибров, но все они готовили как лидеров, так и рядовых участников к более решительным действиям». В качестве предводителей называли Модзалевского и Михника. Однако в то время как эти и другие лидеры находились в тюрьме, по всей Польше ежедневно проходили демонстрации. Их действительно никто не координировал. «Я был поражен, услышав об этом, — вспоминает Куронь, в ту пору также находившийся в тюрьме. — У меня были кое-какие связи с Вроцлавом, но речь шла только об университетах». Некоторые руководители были избраны на демонстрации 8 марта, но всех их арестовали. Большинство последующих попыток выбрать лидеров также заканчивались их арестом. Демонстрации в Польше продолжались две недели. Многие их участники несли плакаты с лозунгами «Варшавские студенты не одни» и сжигали экземпляры официозных газет, которые не сообщали о движении. Правительство было застигнуто врасплох, но больше всего удивились сами студенты. После нескольких лет дискуссий, проходивших в немногочисленных кружках, рассказывает Ев-гениуш Смоляр, «внезапно стала ясна популярность обсуждавшихся там проблем. Было большой неожиданностью, что столь многие в Варшавском университете поднялись на борьбу, и еще большей — то, что все крупные университеты не остались безучастными». По-видимому, многие молодые поляки с большим сомнением относились к современному обществу. Как рассказывает Смоляр, «в воздухе носилась мысль о том, что коммунизм не дает той свободы, которой они хотели». Коммунистический режим, сам того не желая, разоблачил себя в глазах коммунистической молодежи. Жена Смоляра, Нина говорила: «Антисемитизм стал полной неожиданностью. Другой неожиданностью явилось насилие». Антисемитская кампания 1967 года, столкнувшаяся с широким общенародным протестом, в 1968 году достигла еще большего размаха. Многие польские коммунисты, особенно евреи, такие как Смоляры, считали это полностью противоречившим их представлениям о Коммунистической партии. Во всех коммунистических государствах пропаганда антисемитизма была запрещена. Адам Михник рассказывал: «Я не встречал ничего подобного до того, как увидел антисемитские статьи. Это был фашизм. Это было недопустимо. До сих пор антисемитизм был для меня абстрактным понятием. Я думал, что после холокоста антисемитизм невозможен». «До войны я видел коммунистов-антисемитов, — вспоминает Куронь, — но никогда прежде не сталкивался с тем, чтобы это становилось их государственной политикой». Но бесполезно было объяснять правительству причины общенародного движения протеста. Теория сионистского заговора отлично удовлетворяла партийные нужды. Михника арестовали 9 марта, следователи спросили его: «Господин Михник, уедете ли в Израиль после того, как вас освободят?» «Только если вы уедете в Россию», — последовал вызывающий ответ. Но на него оказывали давление, говорили, что освободят, если он согласится уехать в Израиль. Польша хотела окончательно избавиться от своих евреев. Гомулка объявил, как это было сделано уже год назад, во время Шестидневной войны, что все евреи, желающие отправиться в Израиль, могут получить заграничные паспорта. 15 марта в газете «Трибуна люду» появилась статья, в которой рассматривался вопрос о сионизме. «Общеизвестен тот факт, что денежные сборы среди американских евреев приносят Израилю сотни миллионов долларов. Эти капиталы позволяют Израилю развивать его экономический потенциал и армию, вести агрессивные войны против арабских государств (самой последней была третья война с арабами) и таким образом покрывать расходы, связанные с оккупацией арабских стран... Сионистские лидеры требуют помощи, чтобы финансировать экспансионистскую политику Израиля, которую поддерживают империалистические державы, в особенности США и Западная Германия. С помощью Израиля империализм решил ликвидировать прогрессивные правительства арабских стран, усилить свой контроль над арабской нефтью и превратить Ближний Восток в плацдарм против Советского Союза и других социалистических стран. Оправдывая агрессивную политику правящих кругов Израиля и пособничая империализму, сионистская пропаганда пытается убедить мировое общественное мнение в том, что Израиль ведет борьбу за свое существование и что ему угрожают арабы, которые-де хотят “сбросить Израиль в море”». Но постепенно слово «сионист» начинает использоваться для обозначения студенческих вожаков. Проблема, как утверждало правительство, возникла в результате сионистских интриг и заговора сталинистов. Это слишком увлекающиеся родители и профессора-сталинисты, все — евреи по происхождению, обхаживают таких опасных людей, как Куронь, Модзалевский и Михник. 26 марта «Трибуна люду» обрушилась на профессоров, особенно философии, экономики и права — отраслей знания, связанных с идеологией. «Эти ученые постоянно защищают ревизионистские группировки, используя для этого свой авторитет и привилегированное положение в науке и университете, хотя эти группировки вступают в конфликт с законами государства и университетскими правилами».Дезориентированные полученным в сталинские времена образованием, эти преподаватели поддерживают опасных и упорных разрушителей устоев: «Всякий раз, когда им угрожает наказание, они обращаются за защитой к таким преподавателям. Во время различных собраний и митингов эти профессора защищают студентов, утверждая, что «молодежь должна перебеситься», и хотя, по сути, они говорят сомнительные вещи, преподаватели подогревают политическую активность учащихся. Некоторые профессора даже защищают их в суде. В. Брус, выступавший в качестве свидетеля защиты на процессе по делу К. Модзалевского, охарактеризовал его как «честного идеалиста, преданного делу строительства социализма и пекущегося о политических интересах молодежи». Трудно себе представить более откровенное поощрение для прочих членов подобных групп». Влодзимеж Брус был одним из многих преподавателей еврейского происхождения, отстраненных от своей должности в начале марта. Теперь правительство начало увольнять профессоров и других преподавателей, в массе своей также евреев. Начиная с 12 марта правительство стало брать на заметку студен-тов-евреев — лидеров движения. Три высокопоставленных правительственных чиновника были смещены со своих постов, и им сообщили, что их дети являются лидерами студенческого движения. Чистки продолжались, затрагивая в основном евреев. Против поэтов, философов и профессоров еврейского происхождения, работавших в системе польских университетов, выдвигались обвинения в соучастии в заговоре, многие были уволены. 18 марта бывший член Политбюро Роман Замбров-ский был обвинен в причастности к студенческому движению и исключен из партии. Особых связей со студенческим движением Замбровский не имел, но он был евреем и политическим противником Мочара. Не имел таких связей и его сын, студент Антоний, обвиненный в принадлежности к руководству движением. По мере того как все больше евреев теряло работу и все больше учащихся подвергалось избиениям и арестам, последним становилось ясно: правительство закусило удила и не собирается возиться с недовольными студентами. Другим фактором, стимулировавшим спонтанные студенческие выступления, стали события в Чехословакии. Польские студенты несли плакаты с лозунгом «Polska Czeka па DubCze-ка!» — «Польша ждет своего Дубчека!». Некоторые историки утверждают, что Дубчек был обречен в тот момент, когда эти плакаты появились в Варшаве. С того момента как Дубчек в январе пришел к власти, кошмаром для Москвы стала мысль о том, что чехословацкие реформы вызовут к жизни движение, которое захватит всю Центральную Европу. Поляки носились с собственным героическим образом, мир же не интересовался их делами и мало знал о них. Одной из черт лестного образа поляков, существовавшего в их воображении, была непокорность. Согласно польской версии истории, чехи позволили немцам оккупировать свою страну, тогда как поляки оказали сопротивление. Чехи приняли коммунизм в 1948 году, а поляки сопротивлялись. Поляки взбунтовались в 1956 году и поддержали будапештское восстание, в то время как чехи промолчали и остались лояльными Москве. Поляки вспоминали тот факт, что они направили колонну с продовольствием венгерским повстанцам, но грузовики были задержаны на территории Чехословакии. Сложность взаимоотношений народов Центральной Европы нашла выражение в словах поляков: «В 1956 году венгры действовали, как поляки, поляки — как чехи, а чехи — как свиньи». Теперь же чехи, при Новотном презираемые поляками, считавшими их порядки сталинистским анахронизмом, оказались в авангарде коммунистических наций. «Было неожиданно увидеть, что чехи опережают нас. Обычно их считали оппортунистами и трусами», — вспоминает Евгениуш Смоляр. Полностью понять это неорганизованное движение не могло ни правительство, ни сами студенты. Активисты, отрезанные от своих лидеров, не знали, что с ним делать. «Мы не были готовы ни к жестоким ответным мерам властей, ни к популярности у народа, — говорил Евгениуш Смоляр. — Мы вообще не были готовы». 22 марта, когда западная пресса была переполнена материалами о сидячих забастовках студентов в Кракове, Варшаве и других польских городах, а польская пресса писала лишь о сионистах, хулиганах, сталинистах и смутьянах, советская сторона впервые дала публичное объяснение беспорядкам в Польше. В этот день ТАСС, советское агентство новостей, сообщило о смещении Новотного с его второго поста, то есть президента Чехословакии, тогда как «Правда», орган советской Коммунистической партии12, и «Известия», правительственный орган13, наконец сообщили об «антисоветских агитаторах» в Польше. Тогда же, 22 марта, хиппи — Эбби Хоффман, Джерри Рубин и Пол Красснер — присутствовали на встрече в Лейк-Вилле, штат Иллинойс. Встреча была организована МОУБ. Том Хейден и Ренни Дейвис из Эс-ди-эс также были здесь. Обсуждался вопрос об организации акции протеста во время съезда демократической партии, который должен был состояться в Чикаго в августе следующего года. Было высказано предложение блокировать движение в городе, устроив траурное шествие, поскольку на президентских выборах была выставлена кандидатура Джонсона. Другие предлагали организовать нападение на съезд. Эбби Хоффман — смутьян, шут и гений саморекламы — был, как всегда, эксцентричен. В течение всей встречи покуривая марихуану, он подбрасывал идеи: то требовал перестать взимать плату за посещение туалетов, то предлагал, чтобы МОУБ как-то выразил поддержку протестующим польским студентам. Ни одно из предложений принято не было. 24 марта, когда сидячие забастовки проходили уже во всех университетах Польши и все больше и больше «сионистских заговорщиков» отстранялось со своих должностей, было опубликовано послание епископов польской католической церкви. В нем говорилось, что участники студенческого движения «выступают за истину и свободу, которые являются естественным правом каждого человека». «Применение грубой силы, — продолжали епископы, — представляет собой попрание человеческого достоинства». Это послание означало появление в Польше нового альянса. Никогда прежде католическая церковь и левая интеллигенция не были союзниками. По словам Михника, послание епископов привело к радикальным переменам в мышлении. «Традиционно левые в Польше были антиклерикалами, — говорит Михник. — Так оставалось вплоть до 1968 года. Когда церковь опубликовала послание в поддержку студентов, я впервые подумал, что она, может быть, не является врагом. Возможно, она способна стать партнером по диалогу». 28 марта триста студентов Варшавского университета провели демонстрацию, требуя, чтобы цензура была отменена, профсоюзы стали свободными, а молодежное движение — независимым от Коммунистической партии. Этой демонстрации было суждено стать последней. Восемь факультетов университета закрыли. Тысяче студентов Варшавского университета не был зачтен пройденный ими курс обучения и предложено заново сдавать вступительные экзамены. Еще тридцать четыре человека были исключены. «Довольно с нас массовых митингов. Мы не можем и не будем терпеть тех, кто устраивает беспорядки, и людей злой воли», — заявила «Трибуна люду». После того как почти тысяча студентов оказалась в тюрьме, студенческое движение было задавлено. Правительство продолжало искать сионистских вожаков, чтобы удалить их с занимаемых ими постов. Университеты понесли тяжелый урон, поскольку многие из лучших преподавателей предпочли уйти, дабы избежать обвинений антисемитского характера; они были заменены лакеями партии. Полякам лишь оставалось выражать желание уехать в Израиль, предъявив доказательства своего еврейского происхождения. Одному человеку не разрешили покинуть Польшу, поскольку он не смог доказать, что он еврей. Единственным доказательством, предъявленным им, была бумага, в которой правительство объявляло его сионистом. Однако примерно тысяча евреев отбыла из страны, что серьезно подорвало позиции еврейства в Польше. Но Евгениуш и Нина Смоляр остались. «Март 1968 года был последним моментом, когда люди верили, что систему можно улучшить, — вспоминает Евгениуш. — Люди вступали в Коммунистическую партию для ее изменения. Чтобы сделать что-либо, играть какую-то роль, нужно было состоять в партии. После марта 1968 года вступавшие в партию стали более циничными и использовали пребывание в партии лишь в карьерных целях». Другим евреем, оставшимся в Польше, был Михник. Но он остался, так как был арестован. Позднее его спрашивали: когда он находился за решеткой, и университеты подверглись разгрому, а интеллектуальная жизнь в их стенах замерла, не думал ли он, что совершил ужасную ошибку? Этот маленький энергичный человек, поджав губы, отвечал без колебаний: «Я никогда не думал так. На мое воспитание повлияло молчание моих родителей во время процессов 1935 года. Протестовать против диктатуры нужно всегда. Это то, что Иммануил Кант называл категорическим императивом». Смоляр говорил: «Поколение шестьдесят восьмого родилось в огне. Оно училось на собственном опыте и принимало участие во всех движениях, возникших впоследствии. Активисты сумели добиться того, что к ним присоединились церковь и рабочие. Как невольно предсказал корреспондент газеты «Трибуна люду», «события в университете показали, что, несмотря на господствующую наивность и доверчивость, некоторые студенты сохраняют огромный потенциал, идеологически выдержаны и желают перемен к лучшему в стране. Мы ждем, что этот капитал принесет нам плоды». Яне Щесна было только девятнадцать лет, когда она впервые оказалась в тюрьме. Она развлекала других заключенных пересказом «Унесенных ветром» и романов Голсуорси. В 1981 году движение, к которому теперь присоединились рабочие и священнослужители, достигло небывалого размаха: правительству пришлось ввести военное положение, чтобы удержать ситуацию под контролем. Мать Яны, Ядвига, оказалась самой пожилой из женщин, подвергшихся тогда аресту. Яна сказала: «Наверное, я дурно повлияла на нее».Вацдав Гавел. «Меморандум» (первая постановка — США, 1968)
Глава 8 ПОЭЗИЯ, ПОЛИТИКА И КРУТОЙ ВТОРОЙ АКТ
Я ушел с первого акта: слишком закрученным было действие — и со второго. Он удивлял своей сложностью. Я не могу написать третий акт.Казалось, 1968 год был одним из тех редких периодов, когда поэзия играла в Америке существенную роль. Телефонная служба Нью-Йорка в 1968 году предлагала «поэзию по телефону» (dial-a-poem). В тот год в рамках пробной правительственной программы поэты отправлялись в университеты страны, чтобы проводить чтения и дискуссии. Это вызвало восторженную реакцию повсеместно. В Детройте учащиеся неполной средней школы изловили поэта Дональда Холла в коридоре и в восторге кричали* «Расскажи нам стишок!» Он прокричал одно стихотворение, но тут толпа удвоилась за счет новоприбывших и ему пришлось снова читать стихи. Роберт Лоуэлл, родившийся в аристократической семье Бостона в 1917 году (год рождения Джона Кеннеди), стал поэтом 60-х. Как и Дэвид Деллинджер, участник движения МОУБ (они были выходцами примерно из одних и тех же кругов), Лоуэлл был пацифистом. Он предпочел бы сидеть в тюрьме, нежели участвовать в боях Второй мировой войны. К 1968 году он был «на виду» больше, чем кто-либо другой из американских поэтов, поскольку сотрудничал с Юджином Маккарти. Аллен Гинзберг, родившийся в 1926 году, по возрасту был ближе к Лоуэллу, нежели к студентам 1968 года Несмотря на это, Гинзберг, со своей густой бородой и «венком» растрепанных черных волос, принадлежал 60-м и душой, и своей творческой манерой. На самом деле он был фигурой 50-х — центральной фигурой поколения битников. Но к 1968 году это поколение постепенно сошло на нет. Джек Керуак пропил свой талант. Он не был сторонником антивоенного движения и обвинял своего старого друга Гинзберга в антипатриотизме. Нил Кэсседи умер в Мексике в начале 1968 года во время прогулки (его путь длиной пятнадцать миль пролегал вдоль железной дороги). Он говорил, что проведет время, считая шпалы. Но по дороге он умудрился напроситься на свадьбу, где провел несколько часов, пил и принимал секонал. На следующий день его нашли у железнодорожных путей, где он провел дождливую ночь. Он умер от переохлаждения. Можно сказать, что его уход из жизни осуществился в той же свободной и странной манере, благодаря которой стала знаменитой его группа. По легенде, его последние слова были: «Шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать восемь». Несмотря на то что алкоголь и наркотики погубили многих друзей Гинзберга, сам он был убежденным поклонником некоторых наркотиков, особенно марихуаны, псилосибина и ЛСД. В сущности, хотя он отчетливо выражал свое отрицательное отношение к войне во Вьетнаме, да и ко всей американской военной машине и индустрии, существовали другие три темы, на которые в большинстве случаев он сводил разговор. Одна заключалась в уважительном отношении к гомосексуалистам. Будучи предельно откровенным в стихах — можно сказать, «наглядных» — относительно собственных сексуальных пристрастий, Гинзберг был борцом за права геев еще до того, как появилось само это слово. Также он всегда защищал теории о пользе употребления наркотиков и о том, что нечестно преследовать тех, кто их употребляет. Кроме того, он был твердо убежден в силе буддийских песнопений. К 1968 году, когда следовать восточным религиям стало модно, легко было позабыть, что Гинзберг очень серьезно исповедовал буддизм в течение многих лет. Индуизм также был популярен; особенно престижно считалось иметь гуру (в 1968 году это слово было достаточно новым для прессы, поэтому то и дело предлагалось его написания: «гу-ру»). Махеш Йоги, называвший себя «махариши» — «великий мудрец», — нашел формулу мгновенной медитации, которая, как он обещал, позволит достигать самадхи — состояния святости; при нем сознание расширяется без трудностей, сопряженных с постом и бесконечными молитвами. В результате его деятельности тысячи европейцев стали адептами «трансцендентальной медитации», прежде чем он приехал в 1968 году в США; с ним пришло увлечение индийской одеждой и музыкой. Многие знаменитости, включая «Битлз» и «Бич бойз», стали последователями махариши Махеш Йоги. «Битлз» даже отправились в Индию, чтобы провести там три месяца, занимаясь медитацией под руководством махариши. Однако Ринго Старр, всегда считавшийся наименее интеллектуальным участником квартета, вернулся вместе с женой Маурин в свой особняк близ Лондона через десять дней, удрученный условиями, в которых пришлось им жить у великого мудреца. «У нас с женой есть свои причуды относительно питания, и мы не любим острую пищу», — объяснил Ринго. Так как махариши возражал против употребления ЛСД и настаивал на том, чтобы молодежь не уклонялась от призыва, он не пользовался большим авторитетом у Гинзберга, поэта и певца с большим «стажем». Гинзберг продолжал петь, вести борьбу против войны, защищать права гомосексуалистов и выступать в поддержку использования галлюциногенных наркотиков. К 60-м годам Гинзберг стал одним из наиболее почитаемых поэтов среди живущих. Его приглашали выступать по всему миру, хотя во многих странах, которые ему довелось посетить, в том числе в Соединенных Штатах, Советском Союзе, на Кубе, в Чехословакии и Италии, его высказывания создавали ему трудности. Доброта Гинзберга была широко известна, и о нем до сих пор вспоминают в Ист-Вилледже (Нью-Йорк), в том квартале, где он жил, как о вежливом, воспитанном джентльмене. Его пронизанные страстью стихи, начиная с самой первой публикации, заслужили противоречивые оценки, но многие считали его поэзию блистательной. Иногда он выступал вместе со своим отцом, Луисом, также писавшим стихи. Луис, школьный учитель из Нью-Джерси, писал лирические стихи с четкой структурой, часто в форме рифмованных двустиший. Отец и сын любили и уважали друг друга, хотя Луис полагал, что сыну следовало бы избегать излишних вольностей в отношении формы. Он также считал, что Аллену не стоит использовать лексику, которая шокирует людей. Отцу хотелось бы, чтобы сын был чуть менее откровенен насчет своей гомосексуальности. Но таков был Аллен, и тут уж ничего поделать было нельзя. Он открыто говорил о том, кого он любит, кого хочет и как именно. Однажды он зашел чересчур далеко и упомянул о развлечениях своего отца, которым тот предавался на стороне; тогда Луис заставил его удалить эти строки. Их совместные выступления в эпоху «разрыва между поколениями» воспринимались как грандиозные шоу. При этом Луис носил костюм из твида, а Аллен — рубаху и бусы. В 1966 году они появились в родном городе Гинзберга Патерсоне (штат Нью-Джерси). Луис читал для своих местных поклонников, а его более знаменитый сын исполнял политические стихи, а также стихотворение о Патерсоне. Они рассказывали о том, как днем раньше посетили водопады на реке Пассейк (Луис называл это «поделиться сокровенным моментом»). Тут Аллен (он всегда добавлял подробности, о которых не спрашивали) сказал, что, будучи возле водопада, курил марихуану и это очень обогатило его опыт. На следующий день мэр Патерсона Фрэнк К. Грейвз, ссылаясь на то, что к нему поступило множество звонков по поводу публичного признания в употреблении наркотиков, получил распоряжение суда на арест Гинзберга-младшего. В итоге полицейские нашли и арестовали человека в очках и с бородой, приняв его по ошибке за поэта. А Гинзберг в это время благополучно вернулся в Ист-Вилледж. К 1968 году, когда они появились вместе в Бруклинской музыкальной академии, бородатый хиппи, курящий травку, стал более привычной фигурой, хотя вдвоем они по-прежнему выглядели необычно. Луис начал с каламбура, а Аллен — с пения мантры, которая, как писал обозреватель «Нью-Йорк тайме», была длиннее любого его стихотворения. Они закончили вечер семейной ссорой по поводу недавнего случая с Леруа Джонсом, попавшим в тюрьму по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия. Для сына было очевидным, что чернокожий драматург пострадал невинно и обвинение было ложным, а для отца — нет. Слушатели также разошлись во мнениях, и оба Гинзберга встретили поддержку аудитории. Леруа Джонс также принадлежал к числу поэтов, пользовавшихся популярностью у поколения 1968 года. Его строчка «Лицом к стене, ублюдок, это ограбление!» приобретала все большую известность. В 1967 году «группа единомышленников» из Ист-Вилледжа назвала себя «Ублюдки», воспользовавшись словом из стихотворения Джонса. «Группа единомышленников» вела напряженные интенсивные интеллектуальные беседы: это был своего рода уличный театр, предназначенный для привлечения внимания журналистов (подобные акции очень хорошо удавались Эбби Хоффману). Во время забастовки нью-йоркских мусорщиков «Ублюдки» перевозили мусор на метро (он кучами лежал на тротуарах, распространяя сильный запах) в недавно открытый Линкольн-центр. Поэтом, чьи книги пользовались огромной популярностью, был Род Маккуин. Он создавал маленькие изящные ритмизированные остроты и читал их дребезжащим голосом, который наводил на мысли либо об эмоциях чтеца, либо о бронхите. Автор песен для Голливуда, чисто выбритый Маккуин отнюдь не принадлежал к числу битников. В начале 1968 года он уже продал двести пятьдесят тысяч экземпляров сборников неожиданно сентиментальных стихов. Два сборника его стихов, «Стэниен-стрит и другие горести» и «Внимайте теплу», продавались быстрее, чем какие-либо книги из списка бестселлеров в «Нью-Йорк тайме». С характерной для него скромностью и прямотой он сказал в интервью 1968 года: «Я не поэт; я лишь нанизываю слова». Когда он заболел гепатитом, поклонники сотнями стали присылать ему мягкие игрушки. Многим он и его почитатели казались невыносимыми. Если автора песен можно считать поэтом, то в 1968 году на эту роль были кандидаты и посерьезнее, чем Маккуин. Боб Дилан определил свою позицию, выбрав сценический псевдоним Дилан. Тем самым устанавливалась некоторая связь между его ясно выраженным лиризмом и лиризмом валлийского поэта Томаса Дилана. Группа «Дорз» («Doors») взяла свое название из строчки Уильяма Блейка: «Врата познания» («The doors of perception»). В журнале «Лайф» ведущий певец этой группы Джим Моррисон был назван «прекрасным поэтом и прекрасным актером», конкретно же — «даровитым поэтом в черных кожаных штанах». Не имело значения то обстоятельство, что слова не всегда передавали суть, если их не сопровождали произвольные выкрики Моррисона. Пола Саймона и Арта Гарфун-келя, чьи баллады отличались лиризмом и были полны метафор и образов, многие их поклонники считали поэтами. Но Пол Саймон, занимавшийся сочинением текстов песен, относился к этому скептически. «Я пытался заниматься поэзией, но это не имело ничего общего с моими песнями... Однако тексты популярных песен настолько банальны, что, если в вас есть искорка интеллекта, вас назовут поэтом. И если вы скажете, что вы не поэт, люди подумают, что вы принижаете себя. Но те многие, которые назовут вас поэтом, не знакомы с поэзией. Таковой они считают нечто вроде Боба Дилана. Они никогда не читали, скажем, Уоллеса Стивенса. Вот Стивенс — это поэзия». С другой стороны, некоторые сомневались в том, что Гинз-берг является поэтом, а в том, что Эзра Паунд — поэт, не сомневался никто. Паунд, порождение времени, когда только формировалась поэзия двадцатого века, ныне восьмидесятилетний старик, доживал свои годы в Италии. Несмотря на его фашистские и антисемитские взгляды, его имя и имя его политически консервативного протеже Т.С. Элиота сохранялись в списке явлений культуры, актуальных для поколения 1968 года. Даже если не углубляться в исследование поэзии, преемственность была очевидной. Если бы не было Паунда, то не было бы и Элиота, а также Дилана Томаса, Лоренса Ферлингетти, Аллена Гинзберга. Или они писали бы совсем по-иному. В этом смысле Гинзберг ощущал себя должником Паунда, поэтому он, еврейский поэт (или, как он сам любил говорить, еврейский буддийский поэт), хотел посетить Паунда. Когда в 1967 году в Венеции ему это удалось, он не стал читать свои стихи. Вместо этого после обеда он свернул самокрутку, набил ее марихуаной и, не давая никаких пояснений, закурил. Затем он включил для старшего поэта записи: «Yellow Submarine» и «Eleanor Rigby» «Битлз», «Sad-eyed Lady of Lowlands», «Absolute Sweet Marie» и «Gates of Eden» Боба Дилана и «Sunshine Superman» Донована14. Слушая, Паунд улыбался; казалось, некоторые строки ему нравятся; он постукивал своей палкой с набалдашником из слоновой кости в такт музыке, однако не сказал ни слова. Позднее Ольга Радж, давняя спутница жизни старого поэта, уверила Гинзберга, что если бы ему не понравилось предложенное и он не принял бы его, то просто бы вышел из комнаты. Но возникал вопрос, кто поэт, а кто — нет. Политика оказалась тесно связана с предпочтениями в поэзии. Русские поэты, особенно те, кто открыто высказывался на политические темы, снискали огромную популярность среди учащихся колледжей на Западе. 1968 год был значимым для Евгения Евтушенко, который участвовал в дискуссиях на политические темы на родине и добился признания деятелей искусства за рубежом. Евтушенко родился в 1933 году и принадлежал к новой школе русской лирической поэзии. Критики часто высказывали соображения, что другие участники новой школы, такие как протеже Бориса Пастернака Андрей Вознесенский (также родившийся в 1933 году), были лучшими поэтами, нежели Евтушенко. Но в 60-е он был наиболее известным пишущим русским поэтом во всем мире. В 1962 году он опубликовал четыре вещи, в которых советская действительность была подвергнута острой критике, и в их числе — «Бабий Яр», где говорилось о массовых убийствах евреев — факт, который безуспешно скрывала советская власть. В 1965 году, когда Гинзберг был в России (он оказался там в промежутке между изгнанием с Кубы и выдворением из Чехословакии), то встретился со знаменитым собратом по перу. Евтушенко сказал Гинзбергу, что слышал немало скандальных историй, но не верит им. Гинзберг уверил его, что, возможно, то была правда. Так как он гомосексуалист и такова реальность, в которой он живет, скандалы возникают из-за его готовности открыто говорить о своем опыте в этой области. Видно было, что русский поэт чувствует себя все более неловко. Он произнес: «О подобных случаях я ничего не знаю». Гинзберг быстро перевел разговор на другую любимую им тему — употребление наркотиков. Евтушенко ответил: «Эти две темы — гомосексуализм и наркотики — мне не близки, и мне кажется, они имеют значение прежде всего в связи с проблемами подростков. Для нас здесь, в России, они не важны». В 1962 году, когда английский композитор Бенджамин Бриттен написал «Реквием по войне», он не имел в виду Вьетнам. Этим произведением он отметил открытие собора в Ковентри, восстановленного после бомбардировки во время Второй мировой войны. Текст был взят из стихов Уилфреда Оуэна о Первой мировой войне. Но к 1968 году многие воспринимали «Реквием по войне» как антивоенный, а все имевшее антивоенную направленность вызывало интерес. Почти забытые стихи Уилфреда Оуэна вновь стали популярны у читателей, и не только потому, что выражали ненависть к войне, но и потому, что в них рассказывалась история печальной судьбы автора. В годы Первой мировой войны Оуэн был командиром экипажа; он открыл в себе поэтический талант, пытаясь дать выход переживаниям, порожденным его военным опытом. Он мог начать блистательный путь на литературном поприще, но за неделю до окончания войны погиб в бою в возрасте 25 лет. Большинство его произведений были опубликованы после его смерти. В 1968 году популярны стали стихи не только Оуэна, но и Руперта Брука — другого молодого поэта, погибшего во время Первой мировой войны. Даже Гийом Аполлинер, французский писатель, скончавшийся за день до того, как завершилась Первая мировая война, от раны, полученной за несколько месяцев до этого в результате взрыва шрапнели, — даже он стал культовой фигурой в 1968 году. Известный в мире искусства по большей части как критик, который поддерживал Пикассо, Брака, Дерена, свою любовницу Мари Лоренсан и многих других, изобретатель слова surreal, то есть «над-реальность», он также был и поэтом. В 1968 году, когда вышла в свет книга «Убийство поэта — сверить» в нов.ом английском переводе, Ричард Фридман в своем отзыве на это произведение, опубликованном в журнале «Лайф», писал: «Через полвека после своей гибели Аполлинер для населения кампусов — это нечто даже большее, чем фигура первой величины». Казалось, что в то время «капитал» поэтов — противников войн (любых войн) неуклонно рос. Немец Герман Гессе, пацифист, перебравшийся в Швейцарию, чтобы избежать военной службы в годы Первой мировой войны, пользовался огромной популярностью среди молодежи. Хотя в 1962 году он умер, его романы точно соответствовали мироощущению молодежи конца 60-х годов: они, почти как сочинения Маркузе, были пронизаны ощущением присущего современному обществу отчуждения, а также обаянием азиатского мистицизма. Вероятно, он был бы поражен, если бы узнал, что в октябре 1967 года появилась группа «Steppenwolf» («Степной волк»), игравшая в стиле хард-рок. По словам двадцатичетырехлетнего канадца, солиста группы, игравшего также на гитаре и губной гармонике, Джона Кея, участники его ансамбля, в 1968 году известного прежде всего благодаря песне «Born to be Wild» («Рожденный, чтобы быть диким»), исповедовали философию, близкую к той, которой придерживался герой романа Гессе. «Он отвергает стандарты среднего класса, — объяснял Кей, — и все же пытается найти счастье «внутри» или «возле» них. То же делаем и мы». Казалось, что в 1968 году поэтом хочет быть каждый. Юджин Маккарти, сенатор и кандидат в президенты, напечатал два своих первых стихотворения в журнале «JI айф» (номер вышел 12 апреля). По его словам, он начал писать стихи примерно за год до этого. Но журналисты считают, что политики ничего не делают в год выборов «просто так», и обозреватель журнала «Лайф» Шана Алекзандер писала: «Позже Маккарти обнаружил с некоторым удивлением, что люди, которым нравится его политика, также склонны любить стихи. Полные энтузиазма толпы ринулись вперед, узнав, что вместе с кандидатом в президенты путешествует Роберт Лоуэлл». Это обращение Маккарти к поэзии показало, как он понимает своих сторонников: они были изумлены поступком своего кандидата, который крайне редко что-либо предпринимал, дабы понравиться избирателям. По большей части традиционные политики-профессионалы и журналисты, освещавшие в средствах массовой информации его деятельность, не понимали его. Маккарти оставлял без внимания речи и события, нимало о том не беспокоясь. Когда телеведущий Дэвид Фрост спросил у него, что, по его мнению, после его кончины следовало бы написать в некрологе, Маккарти ответил без малейшей иронии: «“Он умер”, я полагаю». Его грандиозная популярность в кампусах колледжей и среди молодежи, не любившей «стандартных» политиков с традиционными взглядами, прежде всего обязана была своим существованием тому, что среди участников предвыборной гонки Маккарти оказался единственным, кто настаивал на немедленном окончании войны во Вьетнаме. В начале его кампании настроенные против войны левые, выдвинувшие его кандидатуру, были настолько разочарованы двусмысленной манерой поведения и полным отсутствием пафоса у сенатора, что начали опасаться неудачи. Некоторые думали, не стоило ли обратиться к Бобби Кеннеди. Однако стиль Маккарти импонировал молодежи, которой не нравились лидеры и, напротив, были симпатичны те, кто вел себя не как лидер. Молодежь говорила о нем так, будто он был поэтом, впоследствии ставшим сенатором, хотя истинное положение вещей (не столь романтическое), заключавшееся в том, что он смог «превратиться» в поэта, явилось, пожалуй, более удачным трюком. Не кто иная, как Шана Алекзандер, окрестила его «загадкой», поясняя: «Первое ощущение от знакомства с ним — это удивление. Восхищение приходит позже (если приходит)». Возможно, одна из причин, по которой он вызывал симпатии у студентов колледжей, заключалась в том, что его внешний облик и манера говорить больше подошли бы профессору, нежели кандидату в президенты. Когда ему задали вопрос относительно беспорядков в «черных» кварталах Уоттс в Лос-Анджелесе, он озадачил всех, сравнив эти события с крестьянским восстанием 1381 года15. Норман Мейлер, описывая промахи кандидата, совершенные во время последних часов избирательной кампании в Чикаго, возможно, попал в точку относительно причин симпатий, которые питали к Маккарти молодые, настроенные против войны активисты 1968 года: «Он говорил без подготовки, в своей холодноватой манере, приобретшей популярность благодаря отсутствию выразительности, энергии, драматической сосредоточенности. Можно было подумать, что первоочередное желание, присущее всякому, заключалось не в том, чтобы стать президентом, но в том, чтобы ни в коем случае ни к чему не принуждать собственную персону (как будто дьявол стремится сделать вас орудием вашей собственной воли). На протяжении месяцев, пока продолжалась кампания, он настаивал, что должен остаться самим собой. Он никогда не пытался воспользоваться случаем, не пытался показать себя, хотя внешнеполитические события, казалось, располагали к демонстрации ораторских способностей. Нет, Маккарти следовал логике, какая могла быть присуща святому: не говорить, что он святой (хотя время от времени бывает и такое!). В его сознании глубоко укоренилась мысль о том, что о значении события судит не человек, но Господь, и в нужный момент он даст человеку язык, если это потребуется». THE WINDS OF CHANGEЮджин Маккарти, «Жалобы старого политика», 1968

Агитационный плакат за избрание Маккарти в президенты. 1968 год.
Учитывая, насколько необычен был год, о котором идет речь, может быть, публикация стихов Маккарти в середине избирательной кампании имела смысл, но вот выбор стихов с точки зрения содержания оставлял желать лучшего. Для чего кандидат в президенты США добровольно признается, что второй акт удивил его и что он не может написать третий акт? Когда его попросили объяснить, почему в стихотворении сказано, что он не может написать третий акт, Маккарти ответил: «Я действительно не хочу писать его». Это укрепило подозрение многих его сторонников, а также журналистов и профессиональных политиков, что он и вправду не хочет быть президентом. Но сенатор продолжал размышлять: «Вы знаете старые правила: в первом акте ставится проблема, во втором акте действие осложняется, а третий акт разрешает эти затруднения. Можно сказать, что я — человек второго акта. Именно там я и существую. Да, инволюции и усложнение». Маккарти продолжал рассуждать обо всем, от Наполеона до Франклина Рузвельта, и наконец дошел до своего соперника — Роберта Кеннеди. «Бобби — человек первого акта. Он говорит: вот проблема. А вот другая. А вот еще одна. Он никогда не имеет дела со вторым актом, но я думаю, что, может быть, он начнет писать третий. Трагедия Бобби в том, что он должен уничтожить своего брата, если хочет побить меня в этой борьбе. Сейчас я занимаю большинство позиций на игровой доске, которые занимал Джек. Ситуация как у греков*, не правда ли?» Какие бы черты сходства ни существовали между Джином Маккарти и покойным Джоном Кеннеди, сенатор от Миннесоты был едва ли не единственным, кто их видел. С другой стороны, многие надеялись, что Бобби Кеннеди может оказаться похожим на брата. Правда, были и такие, кто считал, что у него нет ничего общего со старшим братом, кроме разве что манеры произношения, свойственной американцам, живущим близ Трескового мыса, и незначительного фамильного сходства. Роберт родился в 1925 году и был младше Джека на восемь лет. Он никоим образом не принадлежал к поколению, принимавшему участие во Второй мировой войне, поскольку оказался слишком молод для военной службы, хотя его юношеские годы прошли под знаком мышления и опыта, обретенных обществом в тот период. К началу 50-х ему было уже двадцать пять, то есть жизненный опыт ребенка и юноши поколения 50-х был ему уже недоступен. Итак, он родился на рубеже поколений. В 50-е он участвовал в «холодной войне» и даже был юрисконсультом у печально знаменитого своими антикоммунистическими настроениями сенатора Джозефа Маккарти. Эти отношения были недолгими, и позднее Кеннеди говорил о совершенной ошибке. По его словам, несмотря на заблуждения, он был искренне озабочен возможностью подспудного распространения коммунистических идей в американском обществе. Но может быть, на самом деле все объяснялось тем, что отец устроил его на эту работу. Роберт Кеннеди боролся за то, чтобы быть достойным отца и своих старших братьев. Ему не довелось участвовать во Второй мировой войне, и он всегда восхищался военными, «людьми войны». В 1960 году на вечеринке в Джорджтауне его спросили, кем бы он хотел стать, если бы мог начать жизнь сначала, и он ответил: «Парашютистом». Ему не хватало легкости и обаяния, присущих старшим братьям. Однако он понимал, как должен использовать телевидение обаятельный президент. Наняв — впервые за всю историю Белого дома — советника по средствам массовой информации, он фактически сделал Кеннеди первым «телевизионным» президентом. Джон, мало понимавший в телевидении, выглядел естественно, поскольку был прост, раскован, остроумен и обладал красивой улыбкой. Его младший брат Бобби, прекрасно разбиравшийся в телевидении, выглядел на телеэкране ужасно — неуклюже и напряженно, как, впрочем, и в жизни. Джон часто посмеивался над серьезностью Бобби, называя его «Черным Робертом». Теперь, когда мы знаем, как все обернулось, легко может показаться, что Бобби, рассудительный и в то же время скованный, всегда выглядел человеком, которого ждет жестокая участь. «Рок был вплетен в твои нервы», — писал о нем Роберт Лоуэлл. Бобби был искренне религиозным человеком, набожным католиком, верным и преданным мужем. Он любил детей. В тех ситуациях, когда другие политики улыбались, глядя на младенцев, или принимали заученные позы в окружении детей, Бобби всегда выглядел так, словно хочет играть с ними. Дети, вероятно, понимали это и чувствовали себя рядом с ним легко и свободно. Как случилось, что челойек, который превозносил войну, желал стать парашютистом, участвовал в «холодной войне» и даже санкционировал прослушивание разговоров Мартина Лютера Кинга, поскольку боялся, что тот связан с коммунистами, — как же он стал героем поколения 60-х и «новых левых»? Был момент, когда Том Хейден предполагал отменить планируемую в Чикаго демонстрацию, если на выборах будет выдвинута кандидатура Бобби. В 1968 году Роберту Кеннеди исполнилось сорок два года, но выглядел он значительно моложе. За восемь лет до этого Том Хейден подошел к нему во время съезда демократической партии в Лос-Анджелесе и без долгих церемоний представился; когда же разговор был закончен, главное впечатление Хейдена состояло в том, что Кеннеди кажется очень молодым. Может быть, именно поэтому мальчишеская кличка Бобби прилипла к нему. Это был именно Бобби, который во время предвыборной гонки в конце тяжелого дня выглядел так, будто ему двенадцать лет и он готов приступить к вечернему ритуалу поедания большой миски мороженого. Кеннеди был одержим идеей самосовершенствования и, вероятно, в то же время пытался найти себя. Он носил с собой книги, чтобы учиться. В какой-то момент это был «Греческий путь» Эдит Гамильтон (после этой книги он стал читать сочинения греческих авторов, в первую очередь Эсхила). Некоторое время он увлекался Эмерсоном. Пришел и черед Камю. Его пресс-секретарь Фрэнк Манкевич сожалел, что у него было мало времени для общения с политиками на местном уровне, но зато он часами болтал с литераторами, такими как Роберт Лоуэлл, которого он хорошо знал. Несмотря на занятость в связи с избирательной кампанией, он жаждал встретиться с поэтом Алленом Гинзбергом. Он с уважением слушал, как косматый поэт высказывает свое мнение по поводу употребления наркотиков. Поэт спросил у сенатора, курил ли тот когда-нибудь марихуану, и получил отрицательный ответ. Они говорили и о политике — о возможных союзах между «властью цветов» и «Властью черных», то есть между хиппи и чернокожими борцами. Когда тощий Бобби провожал коренастого бородатого поэта до двери своего офиса в сенате, Гинзберг достал губную гармонику и в течение нескольких минут пел мантру. Кеннеди подождал, пока Гинзберг закончит, и спросил: «А что это означает?» Гинзберг объяснил, что он закончил песнопение, обращенное к Вишну, богу-хранителю в индуистской религии, и таким образом вознес молитву о сохранении планеты. «Вам надо было спеть это парню, который находится там, вверх по улице», — заметил Кеннеди, указывая на Белый дом. С Мартином Лютером Кингом Кеннеди с трудом находил общий язык, и разговор этих двоих всегда производил впечатление борьбы. В то же время он внезапно — и искренне — подружился с лидером сельскохозяйственных рабочих Сезаром Чавесом. Под лозунгом «Viva la Huelga!» — «Да здравствует забастовка!» — Чавес успешно провел в национальном масштабе кампании, направленные на то, что он называл «1а Causa», бойкотируя калифорнийский виноград и другие продукты, чтобы добиться более приемлемых условий для рабочих. Наиболее уважающие себя студенты в 1968 году не притрагивались к винограду из опасения, что его произвела компания, бойкотируемая Чавесом. Он поднял на борьбу семнадцать тысяч сельхозрабочих и добился повышения минимальной платы с 1,10 до 1,75 доллара за час. Чавес был героем молодого поколения, и Кеннеди и Чавес, богатый аристократ и вождь иммигрантов, смотрелись рядом неожиданно естественно, даже несмотря на то что Бобби прославился, закончив митинг словами: «Viva la Huega! Viva la Causa!» — а затем, когда его знаний* испанского оказалось недостаточно для выражения его энтузиазма, сказал: «Viva вы все». Бобби даже пытался установить взаимопонимание с прессой и при этом старался шутить. Обычно речи, которые он произносил во время избирательной кампании, заканчивались цитатой из Бернарда Шоу, и в какой-то момент он заметил, что это стало для репортеров своего рода сигналом: услышав имя Шоу, они отправлялись к автобусу. И в один прекрасный день он закончил речь так: «Как однажды сказал Джордж Бернард Шоу, бегите на автобус». После смерти брата Роберт сильно изменился. По-видимо-му, он осознал себя как нечто самоценное, обнаружил вещи, значившие, как оказалось, для него больше, нежели семейные ценности, и решил защищать их, даже если ради этого ему придется пойти против своих давних союзников, которых он приобрел в бурные дни правления брата. (О том времени он всегда вспоминал с благоговением, а о брате — с неутихающей скорбью.) К антивоенным взглядам он пришел в результате глубокой внутренней борьбы. Одного из своих сыновей, родившегося в 1965 году, он назвал в честь генерала Максвелла Тейлора, другого, появившегося на свет в 1967-м, в честь Аве-релла Гарримана и Дугласа Диллона — то были три фигуры, сыгравшие ключевую роль в ходе войны. Он не был хорошим оратором, но говорил необычные вещи. В отличие от сегодняшних политиков он произносил не то, что хотели от него услышать люди, но то, что они, по его мнению, должны услышать. Он всегда касался проблемы личной ответственности, причем во многом в тех же выражениях и с тем же религиозным пылом, что и Мартин Лютер Кинг-млад-ший. Борьба за права рассматривалась им как обязанность. Заняв четкую антивоенную позицию, он вместе с тем критиковал студентов, пытавшихся уклониться от службы в армии. Он приезжал в кампусы, где толпы встречали его приветственными возгласами, и говорил студентам, какую ответственность они несут перед людьми из менее привилегированных слоев за уклонение от призыва. Но он также говорил, что тот, кто не согласен с действиями правительства во Вьетнаме, обязан высказать это, поскольку в демократическом обществе война ведется «от вашего имени». Маккарти предпринимал сходные шаги: он тоже говорил своим молодым сторонникам, что им надо усердно работать и тщательнее следить за ходом кампании. Девушки удлинили подолы, а юноши сбрили бороды, чтобы «ради Джина» выглядеть «опрятнее». Однако Кеннеди, пытаясь определить, что идет не так и что следует делать, заходил очень далеко. Он нападал на охватившую всю нацию страсть к экономическому процветанию (это утверждение Хейден процитировал, так как оно было близко к ДекларацииПорт-Гурона): «Мы не считаем простое продолжение экономического развития и бесконечное накопление собственности ни тем, что должно быть целью всей нации, ни тем, что может удовлетворить отдельную личность. Мы не можем измерять национальный дух с помощью «Среднего показателя Доу-Джонса», а национальные достижения — с помощью валового национального продукта. Ибо за этим стоят и загрязнение атмосферы, и «скорая помощь», которую вызывают на наши дороги во время кровавой резни. Валовой национальный продукт складывается в результате уничтожения лесов, где растут секвой, и гибели озера Верхнего. Он растет вместе с производством напалма, ракет, ядерных боеголовок... Он повышается в результате... выхода на радио и телевидении программ, которые прославляют насилие, чтобы продавать товары нашим детям. И коль скоро валовой национальный продукт включает в себя все это, есть и многое такое, что в него не входит. Он не учитывает здоровье наших семей и наших детей, уровень образования, которое они получают, ту радость, которую они испытывают во время игр. Ему также безразличен уровень порядочности на наших заводах и безопасность на улицах. Он не учитывает ни красоты нашей поэзии, ни прочности заключаемых браков, ни интеллектуального уровня наших публичных дебатов, ни честности чиновников... В валовом национальном продукте не измерить ни остроты нашего ума, ни смелости, ни мудрости, ни учености, ни жалости, ни нашей преданности родине. Короче говоря, он служит мерой всего кроме того, ради чего стоит жить, и его уровень дает понятие обо всей Америке — за исключением нашей гордости». Мог ли человек, высказывавший такие революционные идеи, войти в Белый дом? Вполне — ведь это же Кеннеди. Самые радужные прогнозы сторонников Маккарти сводились к тому, что избирательная кампания поможет закончить войну, однако втайне они полагали нереальным избрание этого человека в президенты. Но Роберт Кеннеди имел реальную возможность въехать в Белый дом, хотя историки с тех самых времен спорят, каким президентом он мог быть. В него могло поверить молодое поколение. Он мог стать его героем даже в тот год — год, отравленный убийством Кинга.
Энергия Кеннеди в ходе избирательной кампании казалась неиссякаемой. Он мог догнать и перегнать Маккарти, он даже имел шанс одолеть Губерта Хамфри — вице-президента, который, несомненно, должен был наследовать Джонсону и вступить в предвыборную гонку вместо него. Даже если бы сбылся кошмар Никсона и тому суждено было бы еще раз вступить в состязание с Кеннеди, Бобби мог одержать победу. Если бы весной он смог приблизиться по уровню популярности к Маккарти, его уже нельзя было бы остановить. Но мысль о том, что он не остановится, легла тяжким грузом на Кеннеди, на его сторонников и клеветников — не остановится, если его не остановит чья-то пуля.
Мог ли человек, высказывавший такие революционные идеи, войти в Белый дом? Вполне — ведь это же Кеннеди. Самые радужные прогнозы сторонников Маккарти сводились к тому, что избирательная кампания поможет закончить войну, однако втайне они полагали нереальным избрание этого человека в президенты. Но Роберт Кеннеди имел реальную возможность въехать в Белый дом, хотя историки с тех самых времен спорят, каким президентом он мог быть. В него могло поверить молодое поколение. Он мог стать его героем даже в тот год — год, отравленный убийством Кинга.
Энергия Кеннеди в ходе избирательной кампании казалась неиссякаемой. Он мог догнать и перегнать Маккарти, он даже имел шанс одолеть Губерта Хамфри — вице-президента, который, несомненно, должен был наследовать Джонсону и вступить в предвыборную гонку вместо него. Даже если бы сбылся кошмар Никсона и тому суждено было бы еще раз вступить в состязание с Кеннеди, Бобби мог одержать победу. Если бы весной он смог приблизиться по уровню популярности к Маккарти, его уже нельзя было бы остановить. Но мысль о том, что он не остановится, легла тяжким грузом на Кеннеди, на его сторонников и клеветников — не остановится, если его не остановит чья-то пуля.
Глава 9 СЫНЫ И ДОЧЕРИ НОВОГО ОТЕЧЕСТВА
Как можно будет ощущать свою принадлежность к нации, работать в рамках духовной традиции нации, которая никогда не знала, как стать нацией, и от отчаянных попыток которой стать ею — попыток, сопровождавшихся манией величия, — мир претерпел такие страдания! Быть немецким автором — как это будет возможно? За каждым предложением, придуманным нами, стоит сломленный, духовно выжженный народ... народ, который никогда не сможет вновь показать своего лица.Никогда не смогут постичь люди других национальностей, что означало быть немцем и родиться в конце 40-х годов, когда были закрыты концентрационные лагеря, виновные разбежались, а мертвые исчезли. Приобретшая известность драма Герхарда Шредера, родившегося в 1944-м и избранного канцлером Германии в 1998 году, была историей, характерной для его поколения. Он никогда не знал своего отца, погибшего на войне до его рождения. Как умер его отец и кто он был, оставалось тайной. Вступив в должность канцлера, Шредер нашел выцветшую фотографию отца в форме немецкого солдата, но узнать о нем смог немного. После Второй мировой войны, когда было не две, а четыре Германии — американский, английский, французский и русский секторы, — во всех четырех секторах проводилась политика денацификации, — чистка, изгнание тех, кто занимал при нацистах должности как высокого, так и низкого уровня, со всех постов, а также суды над военными преступниками — нацистами всех рангов. В 1947 году США приступили к выполнению плана Маршалла по восстановлению европейской экономики. Русские отказались участвовать; вскоре Германия и вся Европа разделились надвое, и началась «холодная война». В 1949 году США основали свою собственную Германию, Западную, со столицей в Бонне — городе, наиболее приближенном к Западу. Советы ответили созданием Восточной Германии, столицей которой стал прежний столичный город, разделенный пополам, — Берлин. К июлю 1950 года, когда «холодная война» переросла в вооруженный конфликт в Корее, денацификация в Западной Германии потихоньку прекратилась: в конце концов, нацисты были убежденными антикоммунистами, — но в Восточной Германии чистки продолжались. В самой Германии всегда существовало разделение на «север» и «юг»: на севере жили протестанты, на юге — католики, у них были разные кушанья и разное произношение. Но Восточной и Западной Германии не существовало никогда. Новая граница протяженностью восемьсот пятьдесят восемь миль не соответствовала ни культурной, ни исторической логике. Жителям Запада говорили, что они свободны, а жители восточной части страны живут под игом коммунизма. Тем, кто жил на Востоке, объясняли: они — часть новой, «экспериментальной» страны, которая должна порвать с кошмарным прошлым и построить совершенно новую Германию. Им говорили, что «запад» — нацистское государство, и оно не предпринимает никаких усилий, чтобы очиститься от позорного прошлого. Действительно, в Западной Германии в 1950 году при одобрении США и союзников была объявлена амнистия для нацистских преступников низшего звена. В Восточной Германии 85% судей, прокуроров и юристов были лишены права на свою деятельность по причине нацистского прошлого, а в Западной Германии большинство из них вернулись к профессиям, связанным с юриспруденцией, получив это право в результате амнистии. В Восточной Германии уволены были нацисты, занимавшие должности школьных учителей, железнодорожных и почтовых служащих. В Западной Германии эти люди также могли продолжать работать по специальности. Для многих жителей как Востока, так и Запада представление о том, что происходит в новой Германской Демократической Республике, выкристаллизовалось в результате дела Глобке. В 1953 году канцлер Конрад Аденауэр выбрал на пост государственного секретаря Ханса Глобке. Его нацистское прошлое не было тайной. Глобке юридически обосновал Нюрнбергские законы, которые лишали прав евреев. Он предлагал принудить всех евреев носить имена Сара или Израиль для облегчения идентификации. Восточные немцы протестовали против присутствия Глобке в немецком правительстве, но Аденауэр настаивал, что Глобке не совершил ничего дурного, и Глобке оставался в немецком правительстве до 1963 года, после он вышел в отставку и удалился в Швейцарию. В 1968 году факты нацистского прошлого тех или иных людей продолжали становиться общим достоянием. Эдда Геринг участвовала в судебном процессе, пытаясь доказать свое право собственности на картину шестнадцатого века Лукаса Кранаха «Мадонна с младенцем». Эта вещь была ей дорога как память, поскольку картину подарил на крещение покойный отец, Герман Геринг. Геринг, похитивший картину из Кельна, основатель и глава гестапо16, был главным обвиняемым на Нюрнбергском процессе — важнейшем мероприятии по денацификации. Он покончил с собой за несколько часов до назначенного срока казни. С того момента власти Кельна пытались вернуть картину. Хотя Эдда Геринг вновь проиграла процесс в январе 1968 года, ее адвокаты предсказывали, что она будет минимум дважды подавать на апелляцию. Тогда же обнаружились доказательства участия Генриха Любке, семидесятитрехлетнего президента Западной Германии, в создании концентрационных лагерей. Восточная Германия предъявила обвинения тремя годами ранее, но представленные документы были отвергнуты как фальшивые. Западногерманский журнал «Штерн» пригласил американского эксперта-графолога, и тот подтвердил, что подписи на государственных бумагах и на планах концлагеря идентичны. К 1968 году вопрос о деятельности чиновников высшего уровня в годы войны обсуждался на телевидении. Французский журнал «Пари-матч» писал: «Когда вам семьдесят два года и ваша политическая карьера достигла апогея — вы стали первым лицом в государстве, вас показывают по телевидению, причем на вас смотрят двадцать миллионов человек, и при этом вы оказываетесь в роли обвиняемого — хуже этого трудно что-либо себе представить». В феврале двое студентов были исключены из университета в Бонне за то, что взломали дверь в кабинет ректора и на списке отличившихся своими успехами выпускников, против фамилии Любке, написали: «Строил концентрационный лагерь». За их исключением последовала петиция, подписанная двадцатью из двухсот профессоров Бонна, требовавших от Любке публичного выступления по данному вопросу. Президент Германии встретился с канцлером (в Германии это глава правительства и наиболее влиятельная фигура во всей государственной системе). Канцлер Курт Георг Кизингер рассмотрел вместе с президентом различные способы выхода из ситуации, за исключением отставки или ухода с должности по возрасту. Через несколько дней президент выступил по телевидению. Он отверг обвинения, но при этом сказал: «Естественно, теперь, когда прошло уже почти четверть века, я не помню всех подписанных мною бумаг». До того момента, как его в конце концов принудили уйти в отставку, прошло более десяти месяцев. У канцлера Кизингера, работавшего в аппарате правительства Третьего рейха, в 1968 году возникли собственные проблемы. Его вызывали в качестве свидетеля по делу о военных преступлениях, совершенных Фрицем Гебхардом фон Ханом (тому инкриминировали соучастие в уничтожении тридцати тысяч греческих и болгарских евреев в 1942 и 1943 годах). Едва ли не в тот момент, как канцлер занял место свидетеля, он также оказался под судом. Защита вызвала его для объяснения, почему во время службы в министерстве иностранных дел сведения о депортации и убийстве евреев не передавались отделом радиомониторинга. Но сначала он должен был объяснить, как он занял пост в министерстве иностранных дел. Кизингер ответил, что это была «уступка», но сознался в своем членстве в нацистской партии. Он объяснил, что вступил в партию в 1933 году, «но не по убеждениям и не из-за оппортунизма». По его словам, почти до конца войны он был убежден в отправке «на заводы по изготовлению военного снаряжения или в иные подобные места». Так передавал ли радиоотдел новости о судьбе депортированных евреев? «Какую информацию?» — ответил Кизингер вопросом. Он отрицал, что знал хоть что-нибудь об убийствах евреев. Правительство Кизингера пришло к власти двумя годами раньше благодаря разумному и успешно осуществленному компромиссу — созданию коалиции, выступавшей за политическую стабильность. Но именно после этого дало знать о себе в полную силу студенческое движение. Новое поколение было возмущено и взволновано окончанием денацификации и решением ремилитаризовать Западную Германию. Университеты были переполнены благодаря политике, которую начали проводить союзники, — они ввели отсрочку от призыва в армию для студентов колледжей. Даже в 1967 году учащиеся университетов составляли около 8% населения, то есть слишком тонкий элитарный слой. Студенты же отнюдь не хотели быть элитой и требовали от правительства облегчения возможности поступления в университеты. В марте 1968 года Торгово-промышленная палата ФРГ жаловалась, что немецкое общество может оказаться не в состоянии обеспечить достойную карьеру всем, кто получил высшее образование. 2 марта прокурор объявил, что Роберт Мульке освобождается из тюрьмы в связи с тем, что он, будучи уже в возрасте семидесяти одного года, находится в таком физическом состоянии, которое больше не позволяет держать его в заключении. Мульке был осужден тремя годами ранее за участие в убийстве трех тысяч человек в качестве помощника коменданта концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим). В1968 году лидеры студенческого движения оценивали число своих активных сторонников в шесть тысяч. Однако они могли поднять по разным поводам еще многие тысячи. Вьетнамская война, незаконная военная диктатура в Греции, притеснения со стороны шаха в Иране были тремя наиболее популярными темами выступлений, если речь шла о загранице, но внутригерман-ские проблемы собирали подчас еще больше протестующих. Организация Фрица Тойфеля «Коммуна 1» и студенческая группа по изучению марксизма, по случайному совпадению также называвшаяся SDS (Sozialistische Deutsche Studentenbund), обладали большим опытом и были хорошо организованы. Одной из важнейших тем, обсуждавшихся участниками студенческого движения, был репрессивный характер немецкого общества. При этом подразумевалось «все еще», Германия все еще была страной с репрессивным режимом, что означало провал попытки перехода от Третьего рейха к истинно демократическому обществу. Присутствие нацистов в правительстве оказалось лишь наиболее ярким проявлением этого. Многие студенты подозревали, что их родители могли участвовать в ужасных злодеяниях или сочувствовать им, и это породило разрыв между поколениями — более глубокий, чем в Колумбийском университете. Страх перед прошлым или, во многих случаях, отсутствие прошлого признавались многими психиатрами и терапевтами как специфическая проблема послевоенного поколения немцев. Родившийся в Израиле Самми Шпейер, психоаналитик, занимавшийся частной практикой во Франкфурте, писал: «Со времен Аушвица больше не существует традиции устного повествования, и едва ли остались родители, бабушки и дедушки, которые возьмут на колени детей и расскажут им о своей жизни в старые времена. Детям нужны волшебные сказки, но очень важно, чтобы у них были родители, которые рассказывали бы им о своей жизни, дабы они могли установить связь с прошлым». Первоочередными проблемами были свобода студентов и университетская автономия. Но эти часто обсуждавшиеся проблемы не являлись сутью конфликта. Сей факт доказывается тем, что впервые студенческое движение сформировалось, быстрее всего развивалось и особенно ярко проявило себя в Свободном университете Берлина — как показывает его название, самом свободном университете Германии. Он был создан после войны, в 1948 году, и потому избавлен от черт прошлого, характерных для прежней Германии и зачастую никчемных. По уставу избираемая демократическим путем студенческая организация голосовала по поводу решений факультета с помощью парламентской процедуры. Значительную часть первого состава студенческой организации составляли политически активные восточные немцы, порвавшие с университетской системой Восточной Германии, поскольку они отказались смириться с диктатом Коммунистической партии. Они оставались ядром Свободного университета, так что когда восточные немцы начали строить в 1961 году Берлинскую стену, студенты Свободного университета в западной части города пытались штурмовать ее. После того как стену построили, студенты из Восточного Берлина уже не могли посещать Свободный университет, и это стало хорошей школой для политизированных студентов Западной Германии. Куда активнее, чем американцы, студенты Западного Берлина — дети «холодной войны» — отвергали капитализм и коммунизм одновременно. Берлин, отчасти потому, что находился в эпицентре «холодной войны», стал центром всеобщего протеста. Восточные немцы просачивались в Западный Берлин, западные — в Восточный. Об этом говорили меньше, и в Западной Германии статистики на сей счет не вели. В 1968 году власти ГДР утверждали, что ежегодно две тысячи западных немцев перебираются в Восточную Германию. О последних говорили, что они поступают так не по политическим причинам, но этот миф был рассеян в марте 1968 года, когда в ГДР приехал Вольфганг Килинг, который был популярным западногерманским актером, известным в США благодаря роли восточного немца в фильме Альфреда Хичкока «Разорванный занавес» (1966) с Полом Ньюменом в главной роли. Килинг, который воевал за Третий рейх на русском фронте, оказался в Лос-Анджелесе во время расовых волнений в Уоттсе из-за съемок «Разорванного занавеса» и сказал, что Америка ужаснула его. Он заявил, что покидает Западную Германию, поскольку за ее спиной стоят США, а они, по его словам, являются «самым опасным противником человечества на сегодняшний день», и в доказательство сослался на «преступления против негров и народа Вьетнама». В декабре 1966 года впервые произошли уличные схватки студентов Свободного университета с полицией. К тому времени «американская война» в Америке стала одной из важнейших проблем, которые стимулировали развитие студенческого движения. Используя методы выражения протеста, применявшиеся американскими студентами против американской политики, они быстро превратили свое движение в одно из самых известных. Но студенты выступали также против материалистического духа, царившего в Западной Германии, и добивались лучших путей для осуществления обещания Восточной Германии —• полностью порвать с прошлым. А в ожидании этого они начали выступать за снижение стоимости проезда в трамвае и улучшение условий жизни студентов. 2 июня 1967 года студенты собрались для выражения протеста мэру Вилли Брандту, который принимал иранского шаха. Когда гостей благополучно доставили в городской оперный театр, где шла «Волшебная флейта» Моцарта, полиция яростно атаковала находившихся на улице студентов Свободного университета. Те разбежались в панике, но двенадцать человек были так жестоко избиты, что их пришлось госпитализировать, а одного из тех, кто пытался убежать, Бенно Онесорга, застрелили. Онесорг не был членом военизированной организации: для него это был один из первых случаев, когда он вышел на демонстрацию. Полицейского, который застрелил его, вскоре оправдали, меж тем как Фрицу Тойфелю (лидеру группы протеста «Коммуна I») грозило тюремное заключение сроком на пять лет за организацию «бунта». Это убийство привело студентов в негодование, спровоцировав рост их активности: акции протеста с требованием создать новую парламентскую группу для противодействия германским законодательным учреждениям прошли не только в Берлине, но и в других городах страны. 23 января 1968 года немецкий пастор Гельмут Тилике (он отличался убеждениями правого толка) обнаружил церковь полной студентов, осуждающих его проповедь. Он вызвал западногерманские войска, чтобы те очистили помещение от студентов, распространявших памфлеты — переиначенные тексты молитвы «Отче наш»: Столица наша, иже еси на Западе, да будут погашены Твои долги, Да умножится прибыль Твоя и возрастут Твои процентные ставки И на Уолл-стрит, как и в Европе. Булочку нашу даждь нам днесь. И продли нам кредиты наши, как и продляем должникам нашим, И не введи нас во банкротство, но избави нас от профсоюзов, Ибо Твоя есть половина мира, власти и богатые, В течение последних двухсот лет. Мамона. К 1968 году студенты-теологи также участвовали в демонстрациях, настаивая на том, что невозможно больше слушать церковные проповеди, не задавая вопросов и не ведя диалога во время службы, не обращаясь к темам аморальности германского государства, равно как и грубого произвола, чинимого на войне против Вьетнама. В сущности, церковь должна была стать дискуссионной группой, призванной повышать политическую и гражданскую ответственность и осведомленность в обществе. Наиболее выдающимся из этих студентов-теологов был беглец из Восточного Берлина Руди Дучке (его иногда называли Красным Руди). Германская Эс-дэ-эс имела великолепную организацию в университетах. 17 февраля, сочетая тонкое чувство момента с умелой организацией, группа приняла студентов со всего мира, собиравшихся участвовать в митинге против вьетнамской войны. Международный конгресс по вьетнамской проблеме был первой крупномасштабной встречей представителей студенческих движений в 1968 году и совпал с самыми горячими днями «Тет Оффенсив», когда вьетнамская война освещалась телепрограммами во всем мире. В большинстве стран противостояние войне было не просто делом, снискавшим наибольшую популярность среди населения, — во многих случаях антивоенные группы представляли собой высокоорганизованные движения. Хотя иранские «революционеры» привлекали к себе внимание, как и американские и канадские военные, включая двух чернокожих ветеранов Вьетнама, которые салютовали сжатыми кулаками и скандировали, взявшись за руки: «Нет уж, дудки, не пойду!» (слишком поздно, поскольку они уже побывали там), — но все-таки по большей части это была европейская встреча: в ней участвовали немецкие, французские, итальянские, греческие и американские студенты. Они встретились для проведения в огромном зале Свободного университета продолжительной сессии, состоящей из речей и дискуссий (избыток слушателей, который мог составить не одну тысячу, планировалось отправить в два других больших зала). Главный зал был украшен огромным флагом Национально-освободительного фронта Северного Вьетнама и баннером с изречением Че Гевары, с которым трудно спорить: «Обязанность революционера состоит в том, чтобы делать революцию». Выступающие были самые разные: и Дучке, и лидеры других национальных движений, и драматург Петер Вайсс, чью пьесу «Марат/Сад» цитировали студенты всего мира.Томас Манн. «Трагедия Германии», 1946

Плакат, выражающий протест против войны во Вьетнаме, на улице одного из городов в Германии, 1968 г.
На многих зарубежных активистов немцы произвели неизгладимое впечатление. Один из ораторов, двадцатисемилетний Ален Кривин, французский троцкист, который впоследствии стал одним из лидеров весеннего восстания в Париже, сказал: «Многое из тактики студентов, использованной в 1968 году, разучивалось годом раньше в Берлине и Брюсселе в ходе антивоенных демонстраций. Движение против войны во Вьетнаме было хорошо организовано по всей Европе. Дучке и немцы были пионерами в вопросах тактики при проведении демонстраций. Когда мы явились, у них уже были готовы баннеры и плакаты, свои собственные силы безопасности и все, что касалось тактики ведения вооруженной борьбы. Для меня и для других французов это было внове». На Даниэля Кон-Бенди, франко-немецкого студенческого лидера, большое впечатление произвело то, как немецкое движение Эс-дэ-эс «вплетало» чисто студенческие проблемы в акции протеста по более общим вопросам. Французские студенты пригласили Карла Д. (Кадая) Вольфа, председателя немецкой Эс-дэ-эс в 1968 году, выступить перед студентами во Франции. Руди Дучке, родившийся в 1940 году, был самым старшим из немецких студенческих лидеров. Тарик Али, лидер британского «Движения солидарности с Вьетнамом» (Ви-эс-си) и соучредитель подпольного обозрения» Блэк двоф» («Черный гном»), в течение недолгого времени выходившего в Лондоне в 1968 году, описывал его как «человека среднего роста с угловатым лицом и нежной улыбкой. Его глаза всегда улыбались». Длинные черные волосы Дучке развевались, он поминутно встряхивал головой; щетина на его подбородке, казалось, не знала бритвы. Он считался оратором, способным наэлектризовать своих слушателей, но немецкая молодежь всегда воспринимала эту способность недоверчиво. Немцы, по-видимо-му, научились с осторожностью относиться к зажигательным речам, и наградой ему бывали лишь вежливые аплодисменты. Другие студенческие лидеры советовали Дучке при выступлении избирать более скромный стиль. В своей речи на конгрессе он проводил параллели между войной вьетнамского народа за свободу и европейцев за разрушение классового общества. Затем он сравнил их борьбу со знаменитым «Великим походом» Мао 1934—1935 годов. За время исключительно тяжелого перехода девяноста тысяч китайских коммунистов через территорию Китая Мао создал своему движению репутацию в масштабах нации. Конечно, Дучке не упоминал о том, что половина людей Мао погибла в ходе этого долгого путешествия. Дискуссии велись часами. Выступал Фриц Фрид. Он был немецким евреем — редкостью в послевоенной Германии. Он родился в 1921 году в Австрии и бежал от нацистов. Несмотря на принадлежность к другому поколению, Фрид был тесно связан личными отношениями со многими немецкими студенческими лидерами, особенно с Дучке. Немецкие «новые левые» особенно ценили его за выступления против сионистов и поддержку палестинцев. Немецкие «новые левые», подобно многим своим единомышленникам в Европе и США, рассматривали появившуюся палестинскую террористическую организацию под руководством молодого Ясира Арафата как еще одно овеянное духом романтики националистическое движение. Однако этим молодым немцам неловко было поддерживать организацию, поставившую недвусмысленную цель — убивать евреев, в том числе и живущих в Европе, поэтому их весьма вдохновляла возможность заполучить настоящего, выжившего в войну еврея в свои ряды. Отказ от поддержки Израиля наметился после Шестидневной войны и взлета Арафата. Однако он также совпал с угасанием интереса к ненасилию. Этих палестинцев интересовало только насилие, но отсюда следовало лишь то, что их можно было рассматривать как участников партизанской войны, подобных Че. Выражения «движение за мир» и «антивоенное движение», бывшие на слуху у американцев, быстро стали старомодными в некоторых кругах левых. Европейские радикалы не были заинтересованы ни в окончании войны, ни в победе Северного Вьетнама. Они были склонны рассматривать «Тет Оффенсив» не как трагическую гибель людей, а как триумф угнетенного народа. Английский радикал Тарик Али говорил по поводу «Тет Оффенсив»: «Весь мир ощутил прилив веселья и энергии, и новые миллионы людей внезапно и с радостью перестали верить в мощь своих угнетателей». На всех нас лежит бремя нашей истории. Американские активисты хотели положить конец агрессии. Европейцы желали поражения колониализму, хотели, чтобы США потерпели крах, как это произошло с европейскими колониальными державами. Это было особенно заметно, когда французы настаивали, что моряки в Кхе-Сан должны потерпеть столь же унизительное поражение, как французские солдаты в Дьен-Бьен-Фу. Постоянно появлявшиеся во французской прессе статьи, где задавался вопрос: «Является ли Кхе-Сан повторением Дьен-Бьен-Фу?» — являли неприкрытое желание, чтобы так оно и было. Европейским «новым левым» была свойственна характерная черта — ненависть к самим себе, и все грехи других они сопоставляли с теми, что присущи были людям в их странах. На взгляд французских и британских левых, американцы были колониалистами, а по мнению немцев — нацистами. Пьеса Петера Вайс-са «Вьетнамский дискурс» доказывала, что присутствие американцев во Вьетнаме было злом, подобным нацизму. Утром следующего дня толпа, насчитывавшая приблизительно от восьми до двенадцати тысяч человек, появилась на Курфюрстендам — широком бульваре, тянущемся вдоль модных магазинов (они стали предлагать дорогую одежду в духе новых направлений моды с тех пор, как в результате изоляции Западного Берлина изучать рынок сделалось значительно проще). Удивительно, что в ряды студентов влились сотни жителей Западной Германии, которые пересекли Восточную Германию и провели предыдущую ночь в Берлине у товарищей. «Нью-Йорктайме», насчитавшая более десяти тысяч демонстрантов, назвала эту акцию «крупнейшим антиамериканским выступлением, когда-либо происходившим в городе». Через холодные, сырые, серые улицы Западного Берлина несли они причудливую смесь культур — портреты Че Гевары, Хо Ши Мина и Розы Люксембург — еврейки из Польши, придерживавшейся левых взглядов и убитой в Германии в 1919 году. Они выкрикивали лозунг, который постоянно слышался во время американских антивоенных демонстраций: «Хо, Хо, Хо Ши Мин! Эн-эл-эф победит!» Они прошли до городского оперного театра, где был застрелен Бенно Онесорг, а затем — до Берлинской стены, где вновь начали звучать речи. Дучке заявил приветствовавшей его толпе: «Скажите американцам, что настанет день и час, когда мы выгоним их, если они сами не избавятся от империализма». Но несмотря на весь свой очевидный антиамериканизм, Красный Руди, считавшийся главным сту-дентом-революционером в Европе, был женат на американке — студентке из Чикаго, изучавшей теологию. Полиция (многие были верхом) выставила посты по большей части для охраны зданий, принадлежащих американским военным и дипломатам. Но демонстранты не пытались приблизиться к ним. Они вскарабкались по двум строительным кранам на тридцатиэтажное здание и водрузили там огромный знак Вьетконга и красные флаги. Затем они шумели и кричали, когда строители сняли флаги и сожгли их. Восточный Берлин, в котором активно действовали профсоюзы, мог бы собрать на «контрдемонстрацию» такое же количество народу под лозунгами «Берлин — за Америку!» и «Выгоните Дучке из Западного Берлина!». Студенты из других стран, вернувшиеся домой после берлинской демонстрации против войны во Вьетнаме, были в восторге. Англичане устроили свою собственную демонстрацию 17 марта — вторую по счету организованную Тариком Али и Ви-эс-си. Первая, подобно большинству лондонских демонстраций, была не столь многолюдной; кроме того, дело обошлось без насилия. Но на этот раз Оксфорд-стрит заполнили тысячи человек. Красных флагов было так много, что они сливались в целый поток. Звучали голоса: «Эн-эл-эф победит!» Сотрудники немецкой Эс-дэ-эс настойчиво советовали Ви-эс-си захватить американское посольство, но Тарик Али не был уверен, что это возможно. Британская конная полиция, вооруженная дубинками, атаковала демонстрантов с жестокостью, какую редко видели в Лондоне. Мик Джаггер из «Роллинг стоунз» был там и описал увиденное в песне «Street Fighting Man» («Человек, который сражается на улицах»).
Антивоенная демонстрация в Лондоне
Помимо важного вьетнамского вопроса и ухудшения обстановки в Северной Ирландии основной проблемой Британии в тот год был расизм. Здесь главной фигурой стал депутат парламента Энок Пауэлл. В стране распространялся «вирулентный штамм» того, что американское движение за права человека называло обратной реакцией белых на предложенный лейбористским правительством закон об иммиграции из стран Британского Содружества. По мере распада британской колониальной империи рабочих учили, что люди с черной и смуглой кожей будут приезжать в метрополию и отнимать у них работу. Под лозунгами Пауэлла «Сохраним Британию белой» многие рабочие группировки выходили на демонстрации. Произошел забавный случай, когда дипломата из Кении у входа в палату общин обступили сторонники лозунга «Сохраним Британию белой», кричавшие: «Возвращайся на Ямайку!» Казалось, что именно в Германии на этот раз должен был произойти взрыв. 3 апреля приверженцы насилия из числа левых устроили пожар в двух магазинах Франкфурта. 11 апреля Руди Дучке подходил к одной из аптек Западного Берлина, чтобы купить лекарство для своего маленького сына Хосеа Че — он получил свои имена в честь пророка* и революционера, — когда Йозеф Бахман, безработный маляр двадцати трех лет, приблизился к нему и выпустил три пули из пистолета. Одна попала Дучке в подбородок, другая — в скулу, а третья, по-видимому, застряла в мозге. То была первая в Германии попытка политического убийства с момента падения Третьего рейха. Арестованный после перестрелки с полицией Бахман объяснил: «Я услышал о смерти Мартина Лютера Кинга, и так как я ненавижу коммунистов, я почувствовал, что должен убить Дучке». Бахман, хранивший в своей квартире портрет Гитлера и чувствовавший свою общность с ним, поскольку тот тоже был мюнхенским маляром, являлся постоянным читателем газеты правого толка «Бильд», материалы которой буквально источали ненависть. Ее владельцем был Аксель Шпрингер, самый могущественный газетный магнат Германии, его статьи рабски поддерживали все политические начинания США и изобиловали яростными нападками на левое движение, поощряя и вдохновляя направленные против него атаки. «Не оставляйте полицейским всю черную работу!» — гласил один из заголовков. «Бильд», основанная в 1952 году, сыграла роль базиса для построения целой «империи» прессы правого толка, величайшей в Европе. У «Бильд» было четыре миллиона читателей — больше, чем у любого европейского ежедневного издания; четырнадцать изданий Шпрингера, включая пять ежедневных газет, выпускались общим тиражом пятьдесят миллионов экземпляров. Газеты не только имели антикоммунистическую направленность: это были издания расистского толка, и многие чувствовали, что они взывают к тому самому зверю, которого строители новой Германии пытаются отправить на покой. Шпрингер всегда утверждал, что выражает мысли среднестатистического немца, а именно это и вызывало страх. Он не отрицал: подчас его газеты, что называется, выходят за рамки. «Можно увидеть, как я падаю с кровати от удивления, читая свои собственные газеты», — сказал он однажды. Все это вызывало ярость не только у студентов. Еще до покушения на Дучке двести писателей обратились к своим издателям с просьбой объявить бойкот газетам Шпрингера. Но в то время как заявление Бахмана о вдохновившей его газете потрясло многих, сам Аксель Шпрингер оказался в еще более сложном положении. Он был известен как отличный предприниматель и так хорошо обращался с рабочими, что, вопреки его симпатии к правым, рабочие организации поддерживали его. Кроме того, несмотря на тон его газет, напоминавший о нацизме, Шпрингер оказывал большую поддержку евреям, на что истратил немалую часть своего состояния. Он неустанно боролся за то, чтобы Германия выплачивала репарации Израилю, и статьям его были присущи явные произраильские настроения. Однако в 1968 году «новые левые» немцы полностью осознали, что пресса Шпрингера объявила им войну, требуя введения репрессивных законов в отношении демонстраций и жестоких расправ с их участниками, которых он называл террористами. Шпрингер настаивал на том, чтобы в отношении студентов применялся неусыпный контроль. Реакция последовала незамедлительно: гнев, вызванный покушением на Дучке, сразу перерос в яростное негодование по отношению к Шпрингеру. Это было вызвано проводимой им кампанией против левых, длившейся годами, а также долго вызревавшей неприязнью к рассуждениям о том, что Европой могут управлять могущественные газетные магнаты. Он был предшественником Мурдоха и Берлускони, обладателем империи, которая кажется теперь старомодной из-за той скромной роли, которую играли средства вещания. Однако вопрос остается: как этот человек, которого англичане выкопали из-под обломков Германии для управления радиовещанием, смог оказывать столь мощное воздействие на общественное мнение Европы? Всего через несколько часов после покушения на Дучке разъяренные молодые люди собрались перед девятнадцатиэтажным офисным зданием из стекла и стали в Кройцбурге, богемном районе Берлине. Шпрингер выстроил здание именно здесь нарочно — оно стояло прямо напротив Берлинской стены. Он водрузил щит с неоновой надписью «Berlin bleibt frei» («Берлин остается свободным»). Полиция использовала водометы, чтобы рассеять толпы студентов, бросавших в ответ камни и горящие факелы. На следующий день колонны студентов, взявшихся за руки, шли по направлению к западноберлинскому офису Шпрингера. К тому моменту как они достигли здания, оно уже было защищено колючей проволокой и окружено полицией, направленной для усмирения бунтовщиков. Толпа скандировала имя Дучке и кричала: «Шпрингер — убийца!» и «Шпрингер — нацист!». Полиция направила на молодежь водометы и принялась арестовывать демонстрантов. Возле здания городского совета демонстранты скандировали: «Фашисты!» и «Нацисты!». Студенты также двинулись маршем на американскую радиостанцию и разбили окна в здании. В Мюнхене демонстрантам удалось проникнуть в здание офиса Шпрингера и удерживать его, пока их не выгнала полиция. Когда попытки захватить здания окончились неудачей, студенты стали поджигать грузовики службы доставки. Тысячи студентов также участвовали в столкновениях с полицией в Гамбурге, Эслингене, Ганновере и Эссене. По большей части студенты оказывались беззащитными перед полицейскими брандспойтами, и мощные струи воды в тот день одержали победу. Однако демонстранты остановили или замедлили распространение газет Шпрингера. Во Франкфурте они остановили распространение ведущей газеты западногерманского бизнеса «Франкфуртер альгемайне», поскольку она издавалась в типографии Шпрингера. Демонстранты также появлялись возле офисов Шпрингера в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. В Лондоне Тарик Али возглавил группу, которая после окончания митинга памяти Мартина Лютера Кинга на Трафальгарской площади попыталась захватить офисы Шпрингера. Что касается Парижа, то Ален Кривин вспоминал: «После покушения на Руди в Париже состоялась первая спонтанная демонстрация с применением насилия. У полицейских даже не было снаряжения для подавления беспорядков — ни шлемов, ни щитов, — когда студенты в Латинском квартале внезапно начали бросать в них столы и стулья». В Германии происшествие совпало с праздником Пасхи, а после покушения пять дней шли уличные бои. Во время этих беспорядков двое были убиты — фотограф Ассошиэйтед Пресс и студент, причем оба стали мишенью для студентов же, — и несколько сот человек ранены. Арестованные исчислялись многими сотнями. Помня о последствиях, которые имела в Германии политическая нестабильность, большинство западных немцев не были сторонниками применения насилия на улицах. В июне 1968 года журнал «Шпигель» провел опрос, судя по его результатам, 92% жителей Берлина возражали против применения насилия студентами во время акций протеста. Студентам не удалось получить поддержку рабочего класса: 78% берлинцев (30% из них составляли люди из рабочих семей) заявили, что являются противниками применения насилия студентами. Даже некоторые студенты открыто высказывались против насилия. Дучке выжил и даже написал письмо своему несостоявше-муся убийце, где раскрывал видение идеалов социализма. Бахман же повесился в тюремной камере. Среди двухсот тридцати студентов, арестованных в Берлине, оказался Петер Брандт, сын Вилли Брандта, бывшего мэра Берлина, министра иностранных дел и вице-канцлера Германии. Вилли Брандт всегда был, если можно так выразиться, хорошим немцем. Он выступал против фашизма, и ему нечего было скрывать из своего прошлого. Но Петер заявил, что разочаровался в своем отце с тех пор, как тот вошел в правительство. Брандт-старший был социал-демократом (немецкий эквивалент либерала). «Я никогда не говорил, что отцу следует отказаться от своего поста. Это неправда, — утверждал Петер. — Но мне кажется, он изменился, а жаль. Он перестал быть таким, как раньше. Он не был социалистом, который отправился воевать в Испанию во время гражданской войны. Между нами больше нет согласия». Когда отец заявил, что сын уделяет политике слишком много времени, а учебе — слишком мало, тот сказал: «Если я вижу, что надо что-то изменить, то считаю своим долгом сделать все, чтобы эти изменения наступили». Один из профессоров Петера Брандта предупредил вице-канцлера: «Через полгода ваш сын Петер станет коммунистом». Брандт пожал плечами: «Тот, кто в двадцать лет не был коммунистом, никогда не станет хорошим социал-демократом».Глава 10 МЕЛАНХОЛИЧНЫЕ ОБЕРТОНЫ ВАГНЕРА И «БОРОДАТАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ
На меня произвело глубокое впечатление то, как Эррол Флинн играл Робин Гуда, и образ самого бессмертного героя, борющегося против несправедливости и ведущего народ к победе над тиранией. Я думаю, что кубинские события обладают подлинно голливудским масштабом.В феврале 1968 года в Гавану из Мехико прибыла группа из двадцати молодых американцев. Поездка была организована американским отделением Эс-ди-эс. В состав группы входил двадцатилетний студент предпоследнего курса Колумбийского университета из Нью-Джерси Марк Радд, сумевший заработать деньги на путешествие продажей гашиша на месте сборищ американских студентов в Верхнем Манхэттене. Группа встретилась с вьетнамской дипломатической делегацией и была удивлена ее исключительной учтивостью. Вьетнамский посол сказал, что понял, сколь велика разница между американским правительством и простыми американцами. Хотя студенты восприняли любезное замечание посла с облегчением, Радд воспользовался случаем подчеркнуть: он хотел бы, чтобы комментарии посла были корректными, но в действительности большинство американцев поддерживают войну. Серьезность юного белокурого студента вызвала улыбку вьетнамского дипломата. «Эта война будет очень долгой, — сказал он. — Для нас она длится уже более двадцати лет. Мы можем продержаться еще дольше. В конечном счете американский народ устанет от войны и обратится против нее. Тогда войне придет конец». Радд осознал правоту посла. Один из дипломатов сказал, что боролся в Южном Вьетнаме семь лет, живя в подземельях и покидая их по ночам для совершения нападений на американцев. Во все уголки Кубы стекались новости из Вьетнама. На больших неоновых табло на главной улице Гаваны, ла Рампе, высвечивались сведения о количестве сбитых американских самолетов на данный момент. Прибывшие в сельскую местность студенты увидели, как местные жители сидят у радиоприемников и слушают новости о «Тет Оффенсив». Кто-то дал Радду кольцо, которое, как ему говорили, сделано из металла со сбитого американского самолета. Студенты встретили многих кубинцев — своих сверстников, в том числе и Сильвио Родригеса, которые распевали баллады в стиле Джоан Баез. Они проводили время под сенью листвы тропического парка рядом с известной «Коппелией». Раддпозднее вспоминал: «Мы болтались в «Коппелии», поедая гаспачо, и ходили на отличные вечера афрокубинской музыки, которую я прежде никогда не слышал и просто не понимал. Я увидел на Кубе то, что мечтал увидеть: предприятия, фермы и институты, которые были переданы в собственность государства, социализированы. Я хотел увидеть другой способ организации общества. Я не замечал очевидного: не должно быть однопартийного государства, должен быть выбор». Фидель Кастро, бородач и в военной форме, ставший неожиданной и немного необычной сенсацией 1959 года, в 1968 году сделался героем «новых левых». Он не был ни бородачом, ни революционером в 1955 году, когда прибыл в США искать финансовой помощи для свержения диктатуры Фульхенсио Батисты, который захватил власть три года назад и запретил все политические партии. Батиста был человеком продажным и антипатичным, а Кастро, доктор Фидель Кастро, как его называли в США из уважения к его степени в области юриспруденции, — рассудительным, серьезным, убежденным, ярко выраженным представителем среднего класса. В декабре 1956 года Кастро высадился с яхты в провинции Ориенте с отрядом из восьмидесяти двух человек. Кубинское правительство сообщило, что почти все повстанцы, включая самого Кастро, убиты. Это было преувеличением лишь в малой степени: пострадали все, но дюжина выжила и ушла в горы, и среди них — доктор Кастро. Наверняка об этом не было известно до тех пор, пока корреспондент «Нью-Йорк тайме» Герберт Л. Мэтьюз не опубликовал один из самых знаменитых и полемических газетных материалов двадцатого столетия, после того как обнаружил живого доктора Кастро, бородатого, словоохотливого, в убежище в горах среди восемнадцати колоритного вида бородатых повстанцев, один из которых был игроком бейсбольной команды США. «Таймс» напечатала интервью, взятое Мэтьюзом, в трех номерах — 24,25 и 26 февраля 1957 года. Оно было встречено в штыки многими противниками Кастро, поскольку тот изображался как заслуживающий сочувствия борец за свободу наподобие партизан эпохи Второй мировой войны. Американцы в массе своей забыли, что многие партизаны времен Второй мировой были также коммунистами. Самая памятная из нападок на материал Мэтьюза — карикатура, появившаяся в 1960 году в консервативном «Нэшнл ревью», где изображен Кастро, с жадными глазами сгорбившийся над островом с надписью «Кубинское полицейское государство». Подпись под карикатурой гласит: «Я получил работу благодаря “Нью-Йорк тайме”». Однако «Таймс» была не единственным средством массовой информации, сочувственно освещавшим деятельность доктора Кастро в то время. Ярый антикоммунист, венгерский эмигрант Эндрю Сент-Джордж благосклонно отзывался о кубинских повстанцах на страницах «Лук». С симпатией писал о них Жюль Дюбуа в отнюдь не прогрессивной, придерживавшейся правых позиций газете «Чикаго трибюн». Фотожурналист Дикки Чапелл провел три недели с Кастро по заданию крайне консервативного журнала «Ридерс дайджест». «Тайм», еще одно издание с правым уклоном, поместил тридцать две статьи о кубинских повстанцах в течение двух лет, предшествовавших их победе. Большинство из них носили сочувственный характер. В декабре 1956 года «Тайм» назвал Фиделя «адвокат Кастро» и писал, что он «двадцатидевятилетний смельчак из хорошей преуспевающей семьи». Американские журналисты всегда подчеркивали принадлежность Кастро к среднему классу, происхождение, воспитание и неизменно указывали на чисто испанскую кровь в его жилах. Никогда не говорилось напрямую, но подразумевалось, что восстание на Кубе не угрожает «бунтом негров». Для американской прессы это был хороший сюжет, колоритный и воодушевляющий рассказ о борьбе за свободу. Но особую важность приобретало то, что Кастро сделал для телевидения. Он лихо смотрелся в форме, а благодаря нетвердому английскому выглядел трогательно-ранимым и не слишком уверенным в себе, каким на самом деле не являлся. Он чувствовал себя неуютно, когда говорил по-английски. Три месяца спустя после публикации материалов Мэтьюза группа сотрудников «Новостей» Си-би-эс совершила поездку в зеленые, покрытые густой тропической растительностью горы кубинской провинции Ориенте и сняла специальный репортаж, появлявшийся на экранах в мае под названием «Повстанцы Сьерра-Маэстры: история кубинских борцов в джунглях». Для Мексиканской революции телевидение появилось слишком поздно и упустило романтическую историю очаровательного Эмилиано Сапаты, знаменитого своим искусством наездника, и дикого Панчо Вильи, посадившего на коней северных разбойников, хотя в пятидесятых годах Голливуд и снял о них фильм, где роли романтических бунтарей играли такие звезды, как Марлон Брандо (Сапата). Но теперь перед телевизионщиками была живая революция с широкоплечим косматым доктором Фиделем Кастро и его единомышленником и соратником аргентинцем Че. Это были барбудос* — отряд бородатых повстанцев, с сигарами в зубах, одетые в зеленое, с огромными ружьями, больше годившимися для того, чтобы позировать с ними для фотографий, чем воевать. Спустившись с зеленых склонов, чтобы нанести удар по ненавистной диктатуре и ее плохо оплачиваемым и не уверенным в себе сторонникам, Фидель мог сидеть на корточках в джунглях, что прямо к югу от Майами, с корреспондентом Си-би-эс Робертом Тэй-бером и говорить в микрофон. Студенты стремились приехать на Кубу и сражаться за Фиделя, но самих повстанцев это не слишком вдохновляло. Французу Режи Дебре удалось принять участие в борьбе вместе с Че лишь позднее, в Латинской Америке. Бернарду Коучнеру, которому исполнилось двадцать лет в год триумфа Фиделя, не удалось присоединиться к Фиделю. Коучнер возвратился во Францию, где поступил в медицинскую школу и создал организацию «Врачи без границ». Это стало ответом медиков на идеалы сторонников теории о мессианской роли «третьего мира». «Нью-Йорк тайме» сообщала, что двадцать пять американцев ведут борьбу вместе с Фиделем (хотя, возможно, их и больше: просто мы знаем имена лишь некоторых из них). Трое сыновей американских моряков, служивших в Гуантанамо, присоединились к отрядам партизан; американцы (грингос), чьи личности не установлены, упоминались в повстанческих сводках. В марте 1957 года студент из Беркли, Ханк ди Суверо, писал Герберту Мэтьюзу, что по окончании весеннего семестра может прибыть с группой друзей и двумя джипами в провинцию Ориенте, для помощи Фиделю. Мэтьюз, однако, был не столь благоприятного мнения о Кастро, чтобы думать, что революция продлится до конца весеннего семестра. Ди Суверо в результате остался в том году в Беркли и стал основателем студенческой политической партии СЛЭЙТ (SLATE), которая положила начало студенческой активности на территории этого университета. Казалось, все любили Фиделя. Даже Эйзенхауэр вел в 1958 году секретные переговоры с Батистой, пытаясь убедить его уступить власть коалиционному правительству, в состав которого вошел бы и Кастро. Американцы и множество людей в других странах мира трепетали от возбуждения, когда смотрели телерепортаж о том, как бородатые революционеры во главе с Фиделем и Че, столь фотогеничные, что могли с успехом пройти отбор в Голливуде, с триумфом вступили в Гавану в первый день 1959 года. Все хотели видеть Фиделя на телеэкране. Эд Салливан и Джек Парр прилетели, чтобы снимать выступления Фиделя. Однако эйфория, когда и телевидение, и журналисты, и левые студенты, и политический истеблишмент были влюблены в Кастро, продолжалась недолго. Придя к власти, Фидель начал чинить расправу над сотнями сторонников Батисты. Неожиданно политический истеблишмент, те самые люди, выступавшие за смертный приговор в деле Чессмена в предыдущем году, пришли в ужас от этих репрессий. А левые, Эбби Хоффман и Марлон Брандо, активисты и знаменитости, устраивавшие пикеты у калифорнийской тюрьмы в знак протеста против казни Чессмена, ни слова не сказали в защиту жертв Фиделя. Но даже на самой Кубе многие ставили под вопрос действия революционного правосудия. В марте 1959 года сорок четыре летчика из армии Батисты были отданы под суд за военные преступления. Свидетельские показания о том, что они отказались бомбить мирное население и сбросили бомбы в поле, привели к их оправданию, после чего председатель суда был заменен более лояльным революционером. Дело стали рассматривать заново, и все сорок четыре обвиняемых были приговорены к тюремному заключению. Министр здравоохранения Элена Медерос подала в отставку, сказав: «Я из другого поколения, чем вы и ваши друзья. Мы совершенно разные по духу люди. Я должна уйти». Однако Кастро сумел уговорить ее остаться. Расправы и революционное правосудие обсуждали и критиковали в США. Но главным предметом дискуссий являлась сама революция. Спустившись с гор и придя к власти, доктор Кастро и его благородные повстанцы из среднего класса не стали сбривать свои бороды. Это были шестидесятые годы, когда длинные волосы ассоциировались с бунтом. В 1961 году Мэтьюз выпустил книгу, где кратко определял события на Кубе так: «Настоящая революция не смена почетного караула, не перетасовывание лидеров и не просто приход новой власти, но социальная революция, прямая наследница Французской революции 1789 года». Поскольку стало ясно, что происходит на самом деле, во многих странах представители истеблишмента, испытывавшие страх и недоверие по отношению к революции, превратились в ярых противников Кастро. Многие пребывали в нерешительности. Однако радикальное меньшинство, люди, которые страстно желали революции, видя в ней единственную надежду на социальные перемены, единственную возможность продвинуться по пути к более справедливому обществу, были готовы приветствовать Фиделя, несмотря на все его недостатки, поскольку он ке только взял власть, не только собирался проводить революцию, но и осуществлял ее на практике. Наряду с Хо Ши Мином и Мао Фидель был представителем их пантеона. Но у Хо был странный стоический характер, не такой, как у Фиделя. Что же до революции Мао, то, хотя она и захватывала дух, радикалы никогда до конца не осознавали всех особенностей огромного Китая. Для многих бредивших революцией радикальных студентов, принадлежавших к среднему классу, доктор Кастро, юрист, и его соратник, доктор Че Гевара, врач — люди из среднего класса, ставшие революционерами, — были идеалами. В ноябре 1960 года К. Райт Миллз опубликовал «Слушайте, янки», первое из числа эссе левого толка, которому суждено было стать бестселлером шестидесятых годов. Большинство подобных произведений, таких как «Душа во льду» Элдриджа Кливера, не выходили вплоть до 1968 года. К. Райт Миллз, социолог, пользовавшийся большим уважением в академических кругах (он умер, достигнув пика популярности в начале 60-х годов) был весьма читаемым автором, после того как издал в 50-х книгу «Правящая элита». В ней шла речь о военно-промышленном комплексе — еще до того, как Эйзенхауэр произнес свою знаменитую фразу в прощальном послании в 1960 году, Миллз сформулировал точку зрения на властные структуры общества, которая была воспринята значительной частью молодежи из числа «новых левых». Согласно Миллзу, правящий класс состоит из новой клики политиканов, клана чиновников и военных функционеров, которые удерживаются у власти, пока продолжается «холодная война». В своем эссе «Слушайте, янки» Миллз нарушил рамки академического изложения. Книга написана от лица вымышленного кубинского революционера. Он говорит быстро, в его речь вплетено немало отступлений — умелая имитация того, что Кастро говорил по-испански. Кубинец говорит не только о своей революции, но и о революции в Америке. В 1960-м, как и в 1968 году, разговоры о революции в Америке были чрезвычайной редкостью. Пока Куба приводила в трепетный восторг левых, большинство бывших поклонников в США отвернулись от нее. В начале 1959 года глава повстанческой армии Камило Сьенфуэ-гос приехал в США, чтобы добиться поддержки, и поездка закончилась полной неудачей. Эти барбудос больше не были колоритными партизанами, они оказались небритыми и неотесанными радикалами. Но в апреле Фидель сам приехал в Америку, и на какой-то момент она не устояла перед его, казалось, неотразимым обаянием. Производители игрушек выпустили сто тысяч фуражек бледно-оливкового цвета с надписью «Е1 Libertador» («Освободитель») и датой — 26 июля — в память о начале движения Фиделя. Каждая фуражка имела подбородочный ремень с прикрепленной к нему черной бородой. Особенно хорошо Фиделя приняли во время чрезвычайно многолюдного митинга в Центральном парке Нью-Йорка. Мэр Нью-Йорка Роберт Ф. Вагнер-старший радушно принял его. Но что, казалось, является знамением будущего, так это успех, которым сопровождалось посещение им Колумбийского и других университетов. Весной опрос общественного мнения в США показал почти полный раскол между противниками Кастро и теми, кто поддерживал его или не составил определенного мнения на сей счет. Кастро утратил большое число своих сторонников в первые шесть месяцев 1959 года. Американская пресса, еще недавно обвинявшаяся в симпатиях к бородатым героям, так яростно обрушилась на революцию, что Роберт Тэйбер, корреспондент Си-би-эс, который встречался с Кастро в горах, решил создать организацию «Комитет «Честная игра» в защиту Кубы». К несчастью, недолгая жизнь этой организации запомнилась в основном благодаря тому странному и необъяснимому факту, что в ее деятельности участвовал убийца Джона Кеннеди Ли Харви Освальд. Но в этой группе было и нечто более интересное. Тэйбер, по мнению большинства, являлся человеком совершенно аполитичным и просто считал, что кубинская революция положила начало значительным социальным и экономическим переменам, которые игнорируются прессой. Среди тех, кого он привлек к работе организации, были Жан Поль Сартр и Симона де Бовуар, Норман Мейлер, Джеймс Болдуин, театральный критик .Кеннет Тайнан, а также Трумэн Капоте. Эта группа занималась рекламой высокого уровня, оправдывающей кубинскую революцию. Будучи лишь в малой степени политически ангажированными людьми (за исключением Сартра и де Бовуар, связанных с Французской коммунистической партией), они привлекали тысячи людей к кампаниям по выдвижению кандидатов и участию в демонстрациях. Это показало наличие в США большого числа сторонников левых настроений, которые не принадлежали клевому истеблишменту. Они стали известны как «новые левые». В первые два года правления Кастро трещина в отношениях между Вашингтоном и Гаваной неуклонно увеличивалась. В начале 1959 года уже делались намеки на американское вторжение, и в одной из своих знаменитых речей Кастро заявил, что «двести тысяч грингос погибнет», если такая попытка будет предпринята. 3 июня 1959 года закон об аграрной реформе на Кубе ограничил максимальные размеры земельных владений и ввел правило, что собственники должны быть кубинцами. Сразу после этого акции сахарных компаний на Уоллстрит упали в цене, а правительство США заявило решительный, но безуспешный протест. В октябре майор Убер Матос и его подчиненные были арестованы за свои антикоммунистические воззрения, соответствовавшие взглядам самого Кастро всего год назад, и были отданы под суд за «нерешительное, антипатриотическое и контрреволюционное поведение». В ноябре 1959 года правительство Эйзенхауэра решило устранить Кастро насильственным путем и начало готовить находившихся во Флориде кубинских изгнанников для осуществления этой цели. Два месяца спустя приступил к работе «Комитет «Честная игра» в защиту Кубы». В феврале 1960 года Куба подписала соглашение с Советским Союзом сроком на пять лето продаже кубинского сахара в обмен на советское промышленное оборудование. Всего через пять недель французский корабль «Ле Кубр», привезший винтовки и гранаты, взорвался в гаванском порту по причинам, до сих пор остающимся неизвестными. Семьдесят пять докеров погибли, двести получили ранения. Кастро объявил день траура, обвинив в диверсии США, хотя он признавал, что у него нет доказательств. В одной из своих знаменитых речей он заявил: «Вам не сломить нас ни войной, ни голодом». Сартр, посетивший Кубу, увидел в этой речи «подлинное лицо всех революций, их скрытое в тени лицо: в страданиях обвиняют внешнюю силу». США отозвали с Кубы своего посла, а конгресс дал Эйзенхауэру полномочия сократить квоту на закупку сахара на Кубе, которая, как утверждал Эйзенхауэр, нужна не для наказания Кубы, а только для необходимости регулирования снабжения сахаром США. 7 мая Куба и Советский Союз установили дипломатические отношения, а летом принадлежавшие США очистные заводы, отказывавшиеся принимать советскую нефть, были национализированы. Когда Советский Союз пообещал защищать Кубу от внешней агрессии, Эйзенхауэр резко сократил квоту на покупку кубинского сахара. Очевидно, что тенденция на сближение Кубы с Советским Союзом подогревала враждебность США, но в действительности, как сейчас стало известно, еще в середине марта, до установления дипломатических отношений между Гаваной и Москвой, Эйзенхауэр уже одобрил план по вторжению кубинских эмигрантов на остров. В течение всей летней предвыборной кампании 1960 года Джон Кеннеди не раз обвинял республиканцев в «мягкости» по отношению к Кубе. В октябре 1960 года Куба национализировала все крупные компании, а на следующей неделе в ответ на обвинения со стороны Кеннеди в адрес администрации Никсона и Эйзенхауэра в том, что она «потеряла» Кубу, последний ввел торговое эмбарго. Кастро отреагировал на это национализацией последних 166 предприятий на острове, принадлежавших американцам. В январе 1961 года, когда Кеннеди вступил в должность президента, американо-кубинские отношения уже достигли той точки, откуда уже не было возврата. Кеннеди разорвал дипломатические отношения с Кубой, запретил вести с ней торговлю и потребовал, чтобы «Комитет «Честная игра» в защиту Кубы» зарегистрировался в качестве организации — иностранного агента, но она отказалась сделать это. Но Кеннеди высокомерно отвечал: «Мы можем гордиться тем, что не применяем силу против столь маленькой страны». Кеннеди бывал разным, этот либерал с его «новыми рубежами»17. Затем он сделал как раз то, чем гордиться не следовало, — санкционировал вторжение на Кубу кубинских изгнанников. Эта акция так называемой «бригады 2506» 17 апреля обернулась полной катастрофой. Эмигранты убеждали американцев, что кубинцы восстанут против Кастро и присоединятся к ним. Но те так не сделали. Кубинцы решительно выступили на защиту своего острова против иноземных интервентов. Кроме того, кубинские эмигранты думали, что если нанесут удар, то в дело вступит и американская армия, чего Кеннеди не желал. В течение трех дней операция, которая стала известна как вторжение на Плая Хирон, закончилась. Фидель спас Кубу. Как заметил Дин Ачесон, «не было нужды обращаться к «Прайс Уотерхаус», чтобы узнать, что полторы тысячи кубинцев хуже двухсот пятидесяти тысяч». Плая Хирон стала исключительно важным событием в послевоенной истории. Это было первое поражение Америки в «третьем мире». Но это также свидетельствовало о сдвиге, который произошел после окончания Второй мировой войны. Идея антиколониализма играла ведущую роль при создании Соединенных Штатов; они читали нотации Европе за ее колониалистскую политику, как это еще недавно делал Франклин Рузвельт. Все это время набирал силу их собственный империализм — безжалостные манипуляции в странах Карибского бассейна, Латинской Америки, а отчасти и в Азии для собственной выгоды при равнодушии к положению местного населения. Европейцы же той порой вопреки своей воле теряли колонии. Америка стала ведущим империалистом. В то время, когда происходило вторжение на Плая Хирон, Франция потерпела поражение в колониальной войне во Вьетнаме и увязла в войне с Алжиром. За год до этого англичане прекратили борьбу с мау-мау и теперь предполагали дать независимость Кении. Бельгийское Конго было охвачено кровавой гражданской войной после обретения независимости. Голландия боролась против движения за независимость в Индонезии и Новой Гвинее. Это были европейские проблемы, и «новые левые» Европы сплачивались, обсуждая вопросы антиколониализма и борьбу заявивших о себе ныне народов. Вторжение на Плая Хирон вызвало в США немало острых дебатов, породив интерес у американцев к таким писателям, как Франц Фэнон, не говоря уже о Хо Ши Мине, и повлияло на формирование последующего восприятия Вьетнама молодежью из числа левых в Америке и в других странах. Для нее Куба стала символом антиколониализма. Дело было не в характере кубинской революции, а в самом факте и в том, что она выступила против огромного империалистического государства и выжила. Вторжение на Плая Хирон вбило клин между либералами и левыми, которые ненадолго сплотились, увлеченные перспективами президентства Кеннеди. Видный сторонник Кеннеди, журналист Норман Мейлер писал в открытом послании: «Был ли рядом с Вами кто-нибудь, кто рассказал бы Вам о Кубе? Осознаете ли Вы, сколь велика Ваша ошибка? Вы вторглись в страну, не зная ее по-настоящему». Однако примечательно, что среди многочисленных протестов против вторжения, раздававшихся по всей Америке, было немало от студентов колледжей, прежде не увлекавшихся политикой. На четвертом месяце пребывания у власти администрации Кеннеди стало ясно, что ее интересуют не только «новые рубежи», «Корпус мира» и путешествие на Луну. Совсем как и его предшественник, новый президент хотел использовать военную силу, чтобы поддерживать навязчивые идеи «холодной войны» и не позволять маленьким бедным странам проявлять строптивость. Молодые сторонники Кеннеди, такие как Том Хейден, вскоре начали пересматривать свое отношение к нему. Даже «Корпус мира» изменил позицию. Был ли он в действительности организацией, благодаря которой люди с другими взглядами могли помочь растущим нациям? Или он служил проводником колониалистской политики американского правительства и не носил антиколониального характера, как об этом повсюду заявляли? Плая Хирон стала событием, определившим презрительное отношение к либералам. В 1968 году слово «либерал» стало почти синонимом слова «sellout»18, и певец Фил Оке развлекал молодежь во время демонстраций песней «Люби меня, я либерал». Смысл ее был в том, что либералы говорят правильные вещи, но нет уверенности, что они сделают их. Фидель Кастро был обольстителен. Он обладал невероятной способностью очаровать, убедить, привлечь на свою сторону. Он был настолько уверен в себе, что мог войти в помещение, и все присутствующие, даже против собственной воли, ощущали волнение — чувство, что должно произойти что-то интересное. Он прекрасно знал, как использовать этот талант, который обрел еще большее значение, поскольку Кастро и все остальные стали рассматривать революцию как продолжение самих себя. Фидель, которого приветствовали в американских колледжах, знал, что у Кубы много сторонников среди молодежи США. В силу всех этих причин политики Кубы стали привлекать на остров как можно больше сочувствующих американцев, чтобы они воочию увидели революцию. Дорожные трудности и сложности, связанные с экономическим эмбарго, преодолевались благодаря спонсированию поездок кубинским правительством. Большинство приезжих понимали, что кубинцы всеми силами хотят завлечь их. Некоторые отказались, другие согласились поехать. В любом случае результат обычно был один и тот же. На большинство левых кубинская революция произвела глубокое впечатление: ликвидация неграмотности, строительство новых школ по всему острову, развитие вширь и вглубь системы здравоохранения. Кубинцы даже усиливали роль женщин, проводили антимачистскую пропаганду, включив в брачную церемонию обязательство мужей помогать в уборке дома. Эти эксперименты, призванные создать «нового человека», восхищали. И пока революция была молодой, они оказывались весьма заразительными. Большинство наблюдало и неприятные вещи — слишком много полицейских, слишком много арестов, нет свободной прессы. Но свидетели революции также видели немало смелого, экспериментального, воодушевляющего. Они прекрасно знали: недруги Кубы, особенно правительство США и кубинские эмигранты, относятся к революции враждебно не из-за ее недостатков, а из-за ее достоинств — и сосредоточивали свое внимание на этих важных изменениях.Лepya Джонс. «Автобиография Леруа Джонса/Амири Барака», 1984
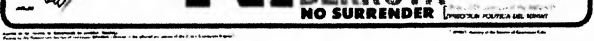
Кубинекий правительственный плакат 1968 года. Вверху надпись: «Эти сукины дети могут быть уверены, что никакая агрессия не застигнет нас врасплох».
Сьюзан Зонтаг три месяца провела на Кубе и нашла, что в стране «удивительно мало репрессий». Несмотря на очевидную несвободу прессы, она похвалила революцию за то, что та не обернулась против себя самой, как это случается со многими революциями. Это могло бы быть ободряющей новостью для Убера Матоса, отбывавшего свой двадцатипятилетний срок, и других пятнадцати тысяч «контрреволюционеров», находившихся в кубинских тюрьмах в середине шестидесятых годов, — многие из них сами были в свое время революционерами. Но поскольку левые считали, что с Кубой несправедливо обращается правительство США, то самое, которое творит страшные жестокости во Вьетнаме, и находились под впечатлением реальных достижений Кастро, они были склонны оценивать ситуацию в пользу Кубы. Некоторые полагали, что это лишь реакция на очевидную ложь и необоснованные утверждения врагов Кубы. Куба изменила Лepya Джонса. Он родился в 1934 году и в пятидесятые годы занимался поэзией, не обращая внимания ни на гонки, ни на революции. По сути, он был политиком еще меньше, чем его коллега Аллен Гинзберг, с которым он основал в 1958 году поэтический журнал. В 1960 году он побывал в спонсируемой кубинским правительством поездке, устроенной для чернокожих писателей. Как и многие другие литераторы на подобных организованных Фиделем встречах, он беспокоился о том, «не возьмут ли его в оборот», как это произошло, судя по разговорам, с Гербертом Мэтьюзом. «Я сразу почувствовал, что так оно и случилось», — писал он. И трудно было не почувствовать этого, когда его возили с одного мероприятия на другое сотрудники правительственной организации «Каса де лас Аме-рикас», молодые, серьезные, хорошо образованные люди, которые могли поговорить о латиноамериканском искусстве и литературе. Возглавляла «Каса» Хайде Сантамария, которая с самого начала входила в ближайшее окружение Кастро. Сантамария, позднее приобретшая недобрую славу из-за преследований недовольных революционных кубинских писателей, считала, что невозможно быть аполитичным сочинителем, поскольку аполитичность и сама по себе уже политическая позиция. Джонс поначалу был разочарован тем, что в группу, с которой приехал, входили далеко не самые крупные из негритянских писателей. Он был среди них наиболее выдающимся литератором. Но на него произвели большое впечатление беседы с латиноамериканскими литераторами — некоторые из них критиковали его за недостаточно определенную политическую позицию. Решающий шаг, как представляется, был сделан 26 июля, в годовщину неудачной, донкихотской атаки Кастро в 1953 году на армейскую крепость19, что стало началом революции. По возвращении из поездки в горы Сьерра- Маэстра с группой кубинцев, праздновавших годовщину, он описал соответствующую сцену в эссе «Свободная Куба» («Cuba Libre»): «Во время речи [Кастро] толпа в какой-то момент прерывает ее примерно на двадцать минут криками: «Венсеремос, вен-серемос, венсеремос, венсеремос, венсеремос, венсеремос, венсеремос, венсеремос!» Вся толпа, шестьдесят или семьдесят тысяч человек, скандирует в унисон. Фидель отошел от ораторского места, заулыбался и заговорил со своими помощниками. Он призвал толпу к тишине движениями рук и заговорил вновь. Поначалу Фидель был спокоен, плавно и четко выговаривал слова, а затем его голос зазвенел, и речь звучала уже почти как музыкальное произведение. Он обвинял Эйзенхауэра, Никсона, Юг и Фульхенсио Батисту в невероятно длинной фразе. Крики вновь прервали его: «Фидель, Фидель, Фидель, Фидель, Фидель, Фидель, Фидель, Фидель, Фидель, Фидель, Фидель, Фидель!» Он наклонился с ораторского места и улыбнулся командующему армией. Речь продолжалась почти два с половиной часа, прерываемая время от времени ликующими криками и один раз — пятиминутным дождем. Когда пошел дождь, Алмейда накинул дождевик на плечи Фиделя, и он вновь зажег свою сигару. Когда выступление закончилось, толпа, не помня себя, ревела почти двадцать минут». «Свободная Куба» — это эссе, в котором Джонс критиковал себя самого за богемный стиль жизни и брал кубинскую революцию за образец. Джонс писал: «Бунтарями среди нас стали только люди, подобные мне, которые выращивают бороду и не хотят участвовать в политике». Именно в «Свободной Кубе» отчасти лежат интеллектуальные истоки нового типа черного американца, негра-революционера. Путешествие на Кубу стало своего рода хаджем, обязательной поездкой, которую каждый левый должен был совершить хотя бы раз в жизни. Писатели ехали туда, чтобы участвовать в дискуссиях о культуре; активисты — чтобы увидеть революцию; молодежь — чтобы рубить сахарный тростник и «разделить их (кубинцев) труды». Одним из наименее удачных было путешествие Аллена Гинзберга, хотя даже он был приятно удивлен тем, что увидел. «Марксистская историческая революционная / пустота с вагнеровскими обертонами / заставила стучать мое сердце». Как и всех американских писателей в то время, его поселили в «Гавана ривьера», которая имела характерный для архитектуры пятидесятых годов фасад. Надо было пройти по небольшому пешеходному мостику, пересекавшему пруд, чтобы попасть в многоэтажный не очень дорогой отель с видом на Гаванскую гавань поверх извилистой дороги вдоль береговой линии. Сидя в своей роскошной комнате, Гинзберг, как и многие до него, думал о том, что «ему умело промывают мозги». В первую ночь пребывания там он встретил трех молодых поэтов-геев, рассказавших ему о преследованиях гомосексуалистов, битников и длинноволосых бородачей, — сами они тем не менее были бородатыми фиделистами. Они просили Гинзберга заявить протест правительству по этому поводу, что он и сделал, добившись, однако, лишь того, что правительственные чиновники заверили его: этот инцидент в прошлом. Гинзберг, за которым следили сотрудники многих спецслужб, в том числе и ФБР, отнесся к этому скептически. У Гинзберга появились последователи среди молодых поэтов. Они неожиданно пришли на его выступление; их не пускали до тех пор, пока Гинзберг не настоял, чтобы им разрешили войти. Кубинский журналист спросил Гинзберга, что тот сказал бы Кастро, если бы смог с ним встретиться. Гинзберг ответил, что задал бы два вопроса: о политике преследований гомосексуалистов, затем о том, почему не легализована марихуана на Кубе, а потом предложил бы, чтобы оппонентов режима не наказывали, а, накормив галлюциногенными грибами, отправляли работать лифтерами в «Гавана ривьера». «Мой рот словно выстреливал слова, — говорил поэт позднее. — Я продолжал говорить там, как говорил бы здесь, в антиавторитарных выражениях. Но в целом я продолжал симпатизировать революции». Революция быстро устала от его рта. Хайде Сантамария сказала Гинзбергу, что он может рассуждать о наркотиках и гомосексуалистах с высокопоставленными чиновниками. Но они не позволят поэту распространять его идеи среди населения. «У нас и так есть над чем работать, и не можем позволить этой чрезмерной роскоши, которая противоречит здравому смыслу», — сообщила она по поводу идеи о легализации наркотиков. Подобно другим приезжим Гинзберг находился под впечатлением кубинского эксперимента по созданию нового общества. Но сам Гинзберг не произвел впечатления на кубинцев. Все закончилось стуком в дверь в восемь часов утра, когда Гинзберг вернулся с вечеринки, где провел большую часть ночи. Чиновник в сопровождении трех человек в униформе велел поэту собираться и доставил его на ближайший отлетающий самолет, который, как выяснилось, направлялся в Чехословакию — страну, откуда Гинзберга также быстро выдворят. Первые месяцы 1968 года стали высшей точкой революции для Кубы. Процессы над просоветски настроенными руководителями продемонстрировали наличие дистанции по отношению к Советскому Союзу, хотя это продолжалось недолго. Кастро, как казалось, больше, чем СССР, интересовался Китаем. По мнению «новых левых», эта азиатская страна шла по правильному пути. В 1968 году разрушительный процесс в Китае, официально именуемый «великой пролетарской культурной революцией», был в самом разгаре. Его начал в 1966 году председатель Коммунистической партии Мао Цзэдун, чтобы сломить те элементы, которые, как он считал, хотят нанести урон его авторитету и революционной идеологии. Все это быстро превратилось в борьбу за власть между председателем партии и более умеренными руководителями в правительстве. В 1968 году в Китае жило первое поколение, родившееся и выросшее в эпоху революции и, как и во всем остальном мире, склонившееся на сторону левых. Во время «культурной революции» они выступили в защиту Мао, чтобы стать авангардом «Красной гвардии» — так их окрестили в мае 1966 года радикально настроенные студенты университета Циньхуа. Мао поставил своей целью борьбу с ползучим буржуазным сознанием. В августе он опубликовал шестнадцать пунктов, «как бороться и сокрушить людей во власти, которые идут по капиталистическому пути» и как действовать в области воспитания, искусства и литературы в соответствии с социалистической доктриной. Для левых идеологов во всем мире «культурная революция» была замечательной попыткой сделать революцию чище и лучше. Как казалось, китайцы не хотят дать своей революции опуститься до продажности и лицемерия Советов. Но на практике «культурная революция» оказалась жестокой и разрушительной. Подростки подходили ко взрослым и предлагали им сменить обувь, поскольку она произведена в Гонконге. Девушки насильно отрезали длинные волосы женщинам. Армия охраняла библиотеки и музеи от «Красной гвардии», желавшей уничтожить все, что не соответствовало ее представлениям об идеологической чистоте. Ученые подвергались нападениям и публичному поношению за знание иностранных языков. Учитывая крайнее почтение к старшим, принятое в Китае, такое поведение производило даже более шокирующее впечатление, чем если бы это имело место в западных странах. Постепенно общество было парализовано почти всеобщим страхом. Даже в самой «Красной гвардии» произошел раскол между студентами, происходившими из семей рабочих, крестьян, солдат, кадровых военных или мучеников революции* — «пять оттенков красного», отобранных для особого обращения, — и студентов буржуазного происхождения. Правительства многих стран мира озаботились не столько проблемами революционной чистоты в Китае, сколько политической и экономической стабильностью. В 1968 году впервые стала ощущаться нехватка продовольствия, обусловленная «культурной революцией». Западные правительства даже больше интересовались воздействием «культурной революции» на реализацию китайской программы ядерных вооружений. Китай стал ядерной державой в 1964 году, продемонстрировав, что может отправить ракеты с атомными боеголовками в цель, находящуюся на расстоянии пятисот миль. С тех пор особого прогресса в программе не наблюдалось. Это могло быть одной из причин, по которой Пентагон не особенно беспокоился из-за нее, но другие опасались, что американские военные излишне оптимистичны.
Китайский плакат 1968года времен «культурной революции», на котором изображен «красногвардеец» (хунвейбин) с книгой трудов Мао в руке. Надпись гласит: «Установим для народа новые представления о заслугах: подобно тому как отряд №4 и товарищ Ли Вэнь Чжун трудились для того, чтобы сокрушить эгоизм и послужить на пользу общему благу, мы будем претворять в жизнь новейшие идеи председателя Мао».
Физик Ральф Э. Лапп в 1968 году предупреждал, что в 1973 году китайцы будут в состоянии нанести удар по Лос-Анджелесу и Сиэтлу, к тому же они вот-вот создадут водородную бомбу (она действительно прошла испытания в конце 1968 года). Кубинские лидеры заинтересовались попытками китайцев «очистить» свою революцию. Революционная чистота была любимой темой обсуждения для мученически погибшего Че, яростно протестовавшего против денежных стимулов, поскольку он опасался, что деньги могут оказать развращающее воздействие на революцию20. Кастро был более прагматичен, и разногласия по этому вопросу, как и то обстоятельство, что собственно революция уже закончилась, подтолкнули Че к решению оставить работу в правительстве и принять участие в другой революции. Кастро провозгласил 1968-й «годом героического герилье-ро»*. Это означало, что дань памяти Че будет воздаваться весь год. Словно подчиняясь собственной пропаганде — расклеенным всюду плакатам, призывавшим каждого быть как Че, — правительство и в самом деле решило стать более похожим на Че. Тот, подобно «новым левым», с насмешкой и недоверием относился к Советскому Союзу, который, как он считал, скомпрометировал революционные принципы. Кастро начал год в антисоветском духе. Он заявил, что ожидает увеличения объемов экспорта до уровня двухлетней давности, чтобы не зависеть от Советов. 14 марта он провозгласил «революционное наступление». Новое наступление уничтожило остатки частного бизнеса на Кубе — было закрыто без всякой компенсации пятьдесят пять тысяч малых частных предприятий, включая фруктовые ларьки, прачечные, гаражи, клубы и рестораны. Закрылись многие знаменитые рестораны Гаваны. В почти пятичасовой речи — не самой длинной для него — Фидель объявил, что в одной только Гаване должно быть закрыто девятьсот пятьдесят баров. Он сказал, что нечестно зарабатывать пятьдесят долларов в день в магазине, когда другие получают куда меньше на рубке тростника. Подобно Че он выступил против денежных стимулов труда. На Кубе попытались сотворить народ, который работал бы на благо общества. Частные предприниматели, рассуждал Фидель, враждебны типу «нового человека», который они пытались создать. «Мы собираемся строить социализм или мы собираемся строить торговые точки?» Фидель задавал вопросы, толпа смеялась и одобряла. «Мы не для того совершали революцию, чтобы вводить право на торговлю! Такая революция имела место в 1789 году — это был век буржуазной революции, революции коммерсантов, буржуа. Когда они наконец поймут, что это социалистическая революция, что это коммунистическая революция... что никто не будет проливать свою кровь в борьбе против тирании, против наемников, против бандитов, чтобы устанавливать для кого-либо право зарабатывать двести песо на продаже рома или пятьдесят песо на продаже яичницы или омлетов... Мы должны со всей ясностью и очевидностью понимать, что наша цель — уничтожить все проявления частной торговли!» Толпа криками и аплодисментами выражала свое одобрение. 16 марта в речи, с последовавшим заявлением о закрытии национальной лотереи, Кастро сказал, что подобные институты лишь продлевают жизнь «мистики денег», которой он стремится положить конец. Он хотел более «чистого» коммунизма и говорил, что надеется в конце концов полностью отменить деньги. 1968-й стал годом концепции «нового человека». Че желал создать человека социализма, который работает для общего блага, посвящает всего себя революции и лишен эгоизма и жадности. «Новый человек» теперь иногда соотносился с «человеком, подобным Че». Впервые Кастро заговорил о «новом человеке» в своей речи в мае 1967 года, но именно 1968 год с его «революционным наступлением» стал годом «нового человека». В середине речи о новом наступлении Кастро обратился к еще одному феномену. «Сейчас нет почти ни одного авиационного маршрута, где не захватывали бы самолеты». Когда Фидель произносил эту речь, самолет «Нэшнл эйрлайнз» вылетел рейсом № 28 из Тампы в Гавану. После пяти минут полета два кубинских эмигранта выхватили пистолеты, принудили обслуживающий персонал самолета пропустить их в кабину летчиков и закричали: «Гавана, Гавана!» Это был седьмой случай угона самолета на Кубу за последнее время и третий — за месяц. В данном случае действовали два кубинца, ускользнувшие с Кубы на корабле, но их охватила ностальгия по родному острову. Однако большинство пиратов были американцами, которых преследовали американские органы правопорядка. Воздушное пиратство все чаще и чаще становилось выходом для угнетаемых черных борцов Америки. Вскоре на Кубе стали отводить целые дома для черных американских воздушных пиратов. Некоторые из них остаются там до сих пор. В 1968 году кубинское правительство приняло неожиданно прибывших невольных визитеров с гостеприимством, которое революция оказывала большинству приезжих. Кубинцы фотографировали всех пассажиров и затем сопровождали их при посещении магазинов в аэропорту, предлагая купить превосходный кубинский ром и несравненные сигары. После их покормили, причем в меню были роскошные блюда, ставшие дефицитом для самих кубинцев, такие как ростбиф. Самолет был дозаправлен, а авиакомпании выставили немалый счет за бензин и право посадки — тысячу долларов. Много часов спустя самолет возвратился в США, где таможня, проводя в жизнь эмбарго, как обычно, отобрала ром и сигары. Сравнительно приличный прием, оказываемый в таких случаях, привел к тому, что впоследствии в течение долгого времени пилоты, сопровождающие самолеты лица и пассажиры оставались пассивными, сталкиваясь с воздушными пиратами. Федеральная авиационная администрация даже рекомендовала это. В своей мартовской речи Кастро предупредил, что не сможет впредь оказывать гостеприимство. Фидель заявил, что он позволяет возвращаться угнанным самолетам, тогда как самолеты и корабли, на которых убегают в США, никогда не возвращаются. Враги режима Кастро в США продолжали укреплять свои позиции. Губернатор штата Алабама Джордж Уоллес, в том же 1968 году независимый кандидат на президентских выборах, вновь обрушился на Герберта Мэтьюза за его интервью с Фиделем. Хотя поражение на Плая Хирон наглядно продемонстрировало, что народ поддерживает революцию, а не ее врагов, это не успокоило группы наиболее рьяных кубинских эмигрантов — противников Кастро, приверженцев прежней диктатуры, неособенно интересовавшихся мнением большинства. В годы, последовавшие за провалом вторжейия на Кубу, они лишь еще более ожесточились. Весной 1968 года группа кубинских эмигрантов повела наступление на страны, поддерживавшие отношения с Кубой, которыми в действительности были большинство государств в мире. Французская туристическая контора на Манхэттене, мексиканское консульство в Ньюарке, туристические агентства в Лос-Анджелесе, польское судно в Майами, британское судно в Новом Орлеане оказались среди объектов террористических актов, которые планировалось совершить с помощью простых самодельных бомб. Офицер команды минеров в Нью-Йорке сказал: «Слава Богу, что здесь больше нет таких сумасшедших, поскольку нет ничего труднее, чем остановить их». Однако в действительности многие из них попались из-за элементарных ошибок вроде оставленных на месте преступления отпечатков пальцев. В декабре американский окружной судья Уильям О. Мертенсин, приговоривший девять кубинцев к десяти годам, сказал: «Эти террористические акты — глупость. Я не могу признать разумным такой способ борьбы с коммунизмом». Поклонники Фиделя любили его так же сильно, как враги ненавидели. Для молодежи из числа «новых левых» события на Кубе были самой волнующей темой. Кастро, казалось, разделял их критическое отношение к Советам. В то время как Советский Союз и Восточная Европа перед лицом экономического кризиса прибегли к экспериментам со свободным предпринимательством, Куба в пуристских традициях Мао собиралась идти по другому пути. Тодд Гитлин из американской Эс-ди-эс писал, что «здесь налицо модель революции, осуществляемой студентами, а не Коммунистической партией, причем они действуют во многом вопреки ей». Молодежь мира желала увидеть Кубу, и кубинцы хотели показать ей свою витрину социализма. Такой смелый эксперимент, так близко от США, поражал, несмотря на все неудачи. Поэтому Гинзберг оставался под впечатлением от увиденного даже после того, как его выдворили с Кубы. Жесткая оппозиция со стороны США придавала героический ореол маленькому острову сахарного тростника. Официальная позиция Эс-ди-эс по отношению к Кубе и другим революциям в странах «третьего мира» именовалась «критической поддержкой». Когда Тодд Гитлин подобно своим предшественникам — Леруа Джонсу и Аллену Гинзбергу принял участие в поездке на Кубу, организованной Эс-ди-эс, то решил не поддаваться восхищению. Он писал: «Я знал все страшные и смешные истории приезжих с Запада (Линкольн Стеффене, Джордж Бернард Шоу, Х.Г. Уэллс, Сидней и Беатрис Вебб), совершавших путешествия на Восток и попадавших в ловушки собственных апологий. Я не собирался допустить, чтобы то же произошло со мной». И он укрепился в своем скептическом отношении к чарам революции, взяв с собой список вопросов о гражданских свободах, демократии и правах инакомыслящих. Поездка началась, как это часто бывало, через Мехико, чтобы обойти препятствия для туристов со стороны США. Мексиканское правительство открыто расходилось во мнении с США по вопросу об отношении к Кубе и отказалось прервать связи с исторически близким ей соседом по Карибскому бассейну. Однако молодые американцы, ехавшие через Мехико, не знали, что президент Мексики Густаво Диас Ордас, испытывавший параноидальный страх перед кубинской революцией, тщательно отмечал в списках пассажиров, которые следовали рейсом до Гаваны, всех мексиканцев, находившихся на борту. Если же там были американцы, он передавал список спецслужбам США. Приезд группы представителей Эс-ди-эс удачно совпал по времени с проведением длившегося неделю международного культурного конгресса. Английский историк Эрик Хобсбаум писал для «Таймс литэрари сапплемент»: «Куба была, бесспорно, идеальным местом для такого конгресса. Это не только готовая к борьбе героическая страна, дольше которой, как указывал Кастро, сопротивляется Америке только Вьетнам, но и очень привлекательная и замечательная хотя бы потому, что это одно из тех редких государств мира, где народ действительно любит свое правительство и доверяет ему». Среди светил, присутствовавших на конференции, были писатель Хулио Кортасар и знаменитый своими фресками художник Давид Сикейрос. Ходил слух, что некий разъяренный троцкист признал в Сикейросе одного из участников покушения на Троцкого.
Группу Эс-ди-эс разместили в гостинице «Гавана либре», бывшей «Гавана Хилтон», достроенной перед самой революцией. Этот чистый современный отель был одним из первых и последних многоэтажных зданий в Гаване. Молодые радикалы чувствовали себя там комфортно. Они ели крабовые и креветочные салаты, запивая их «Куба либре»*, посещали фабрики, что, по общему признанию, редко делали в США, учебные курсы, фермы, работники которых действительно пели по дороге на работу. Гитлин попытался сохранить свой скептицизм, но даже он признал: «Повсюду я видел энергию, удивительную ответственность. Обыкновенные люди казались одновременно и собранными, и раскованными». Нечасто приходилось видеть такое сочетание: этих людей питала энергия молодой революции, их воодушевлял харизматический лидер, и вместе с тем им были присущи спокойствие, музыкальность, чувствительность, добрый юмор, открытость, свойственная карибской культуре. Гитлин, Том Хейден, другие лидеры Эс-ди-эс рассуждали о революции и говорили о том, что будут делать во время съезда демократической партии, который должен был состояться летом.
Гитлин возвратился в США, исполненный далеко не одних положительных впечатлений, но и увиденное им оказалось достаточным для организации поездок членов Эс-ди-эс на Кубу.
Влияние Эс-ди-эс быстро росло в кампусах колледжей, и в 1968 году ее численность составляла приблизительно сто тысяч человек.
Марк Радд был в первой группе, чью поездку на Кубу организовали Гитлин и Эс-ди-эс. Эту группу разместили в «Ривьере», невысоком здании над пешеходным мостиком возле бухты. Но Радд и его спутники были против такой роскоши и захотели, чтобы их поселили в пустующих студенческих общежитиях, находившихся в многоквартирных домах по соседству. Куда бы они ни направлялись в тот год героического герильеро, они везде видели портрет Че — на стенах, в магазинах, в домах. Проезжая по сельской местности на автобусах, они посмотрели на долину и увидели портрет Че размером в несколько акров, сделанный из белого камня и красной земли. Радд знал правило Че: «Долг каждого революционера — делать революцию». Он страстно желал стать революционером, быть «как Че». Вскоре ему предстояло вернуться в кампус «Лиги плюща». Он рвался назад.
Приезд группы представителей Эс-ди-эс удачно совпал по времени с проведением длившегося неделю международного культурного конгресса. Английский историк Эрик Хобсбаум писал для «Таймс литэрари сапплемент»: «Куба была, бесспорно, идеальным местом для такого конгресса. Это не только готовая к борьбе героическая страна, дольше которой, как указывал Кастро, сопротивляется Америке только Вьетнам, но и очень привлекательная и замечательная хотя бы потому, что это одно из тех редких государств мира, где народ действительно любит свое правительство и доверяет ему». Среди светил, присутствовавших на конференции, были писатель Хулио Кортасар и знаменитый своими фресками художник Давид Сикейрос. Ходил слух, что некий разъяренный троцкист признал в Сикейросе одного из участников покушения на Троцкого.
Группу Эс-ди-эс разместили в гостинице «Гавана либре», бывшей «Гавана Хилтон», достроенной перед самой революцией. Этот чистый современный отель был одним из первых и последних многоэтажных зданий в Гаване. Молодые радикалы чувствовали себя там комфортно. Они ели крабовые и креветочные салаты, запивая их «Куба либре»*, посещали фабрики, что, по общему признанию, редко делали в США, учебные курсы, фермы, работники которых действительно пели по дороге на работу. Гитлин попытался сохранить свой скептицизм, но даже он признал: «Повсюду я видел энергию, удивительную ответственность. Обыкновенные люди казались одновременно и собранными, и раскованными». Нечасто приходилось видеть такое сочетание: этих людей питала энергия молодой революции, их воодушевлял харизматический лидер, и вместе с тем им были присущи спокойствие, музыкальность, чувствительность, добрый юмор, открытость, свойственная карибской культуре. Гитлин, Том Хейден, другие лидеры Эс-ди-эс рассуждали о революции и говорили о том, что будут делать во время съезда демократической партии, который должен был состояться летом.
Гитлин возвратился в США, исполненный далеко не одних положительных впечатлений, но и увиденное им оказалось достаточным для организации поездок членов Эс-ди-эс на Кубу.
Влияние Эс-ди-эс быстро росло в кампусах колледжей, и в 1968 году ее численность составляла приблизительно сто тысяч человек.
Марк Радд был в первой группе, чью поездку на Кубу организовали Гитлин и Эс-ди-эс. Эту группу разместили в «Ривьере», невысоком здании над пешеходным мостиком возле бухты. Но Радд и его спутники были против такой роскоши и захотели, чтобы их поселили в пустующих студенческих общежитиях, находившихся в многоквартирных домах по соседству. Куда бы они ни направлялись в тот год героического герильеро, они везде видели портрет Че — на стенах, в магазинах, в домах. Проезжая по сельской местности на автобусах, они посмотрели на долину и увидели портрет Че размером в несколько акров, сделанный из белого камня и красной земли. Радд знал правило Че: «Долг каждого революционера — делать революцию». Он страстно желал стать революционером, быть «как Че». Вскоре ему предстояло вернуться в кампус «Лиги плюща». Он рвался назад.
Глава 11 АПРЕЛЬСКИЕ УБЛЮДКИ
Никогда не объясняйте, что вы делаете. Это отнимает кучу времени и редко срабатывает. Покажите им это с помощью ваших действий, а если они не поймут, вставьте им хорошенько — может, в следующий раз до них дойдет.«Я ощутил, что Марк — фанатик в душе, поэтому в его присутствии чувствовал себя немного не в своей тарелке». Так писал Том Хейден о своей встрече с Марком Раддом; в тот момент ему было двадцать девять лет, а Радду — двадцать, и он был студентом Колумбийского университета. В 1968 году существовало выражение: «Не доверяйте тем, кому за тридцать». Эту формулировку иронически предлагал Чарльтон Хестон, давая советы молодым воинственным шимпанзе в голливудском фильме 1968 года «Планета обезьян». В другой картине, «Дикость на улицах», выпущенной в том же году, речь идет о диктатуре молодежи; на всех, кто старше тридцати пяти лет, ведется облава, их отправляют в концентрационные лагеря, где доводят до беспомощного состояния, заставляя принимать большие дозы ЛСД. Создателям этого фильма было за тридцать, как и тем, кто утверждал, что молодежь не доверяет никому из перешагнувших тридцатилетний рубеж. Двадцатилетние никогда не высказывали столь нелепых суждений. В1968 году Эбби Хоффману исполнилось двадцать два, как и «черной пантере» Бобби Силу. Товарищу Хоффмана Джерри Рубину стукнуло тридцать, а Элдриджу Кливеру — тридцать три. Но студенты колледжей конца 60-х отличались от студентов начала десятилетия. Бунтарство было им присуще даже в большей степени, чем их старшим товарищам, а выражать подобные настроения они умели хуже. Том Хейден описывал Радда как «хорошего, с несколько нечеткой дикцией и сумбурной речью паренька из пригорода Нью-Джерси, с голубыми глазами, песочного цвета волосами и беззаботной манерой держать себя. Трудно было определить, в чем проявлялась его беззаботность: по-видимому, в том, что у него не было времени для смены одежды или участия в бесплодных спорах». Стиль и манера поведения Радда, несомненно, отличались от манеры поведения Тома Хейдена или Марио Савио. Они были консервативны в одежде; их превосходное произношение обращало на себя внимание; наконец, они часами участвовали в спорах с участниками движения, к которому принадлежали. Хейден, выражавшийся с блистательной ясностью, мог обратить внимание на «нечеткость» речи Радда, но подлинное отличие заключалось в том, что Радд, будучи упорным и вдумчивым читателем, тем не менее не придавал словам такого значения, как Хейден. Подрастающее поколение бунтовщиков не стремилось вести себя цивилизованно. В то время как Савио — возможно, лучший оратор из среды студентов поколения 60-х — был известен тем, что снял обувь, дабы не запачкать полицейский автомобиль, Радд был известен тем, что, сидя в апартаментах вице-президента Колумбийского университета, стаскивал с себя ботинки. Быть студентом в конце 60-х означало нечто иное, нежели в начале десятилетия. Одно из важных отличий было связано с призывом. Ни Эбби Хоффман, ни Том Хейден, ни Марио Савио не подлежали призыву, бывшему угрозой для студентов: их могли отправить на войну, на которой американцев убивали, где они погибали тысячами. Вероятно, еще важнее было то, что войну с ее жестокостью и бессмысленным насилием каждый вечер показывали по телевизору. Как бы студенты ни поносили войну, они не в силах были ее остановить. Они даже не имели права голосовать, если им не исполнился двадцать один год, хотя призыву подлежали с восемнадцати лет. Но несмотря на все эти различия, одно, к несчастью, оставалось неизменным — университет как таковой. Если в последние годы американские университеты оказались своего рода заповедником взглядов левого направления и активности, то это надо оценивать как наследие выпускников конца шестидесятых. В 1968 году университеты все еще оставались очень консервативными учреждениями. Научное сообщество с энтузиазмом поддерживало правительство во Второй мировой войне, дружно выступало в поддержку «холодной войны» и, хотя уже и начало проявлять колебания, склонно было поддерживать и войну во Вьетнаме. По этой причине руководство университетов воображало, что их кампусы — весьма подходящее и даже желательное место для вербовки тех, кто будет воевать с помощью оружия, разработанного в «Доу кемикал», не говоря уже о наборе офицеров в вооруженные силы. И хотя университеты были знамениты работавшими в них интеллектуалами, такими как Герберт Маркузе или С. Райт Миллз, более типичным их «продуктом» были деятели вроде Генри Киссинджера, выпускника Гарварда. В особенности оплотом консервативной элиты выступало объединение университетов «Лига плюща» на северо-востоке страны. Почетным членом совета директоров Колумбийского университета был Дуайт Эйзенхауэр. Среди действительных членов присутствовали: основатель Си-би-эс Уильям С. Пэйли; Артур X. Шульцбергер, семидесятилетний издатель «Нью-Йорк тайме»; его сын Артур О. Шульцбергер, который годом позже после смерти отца принял эту должность; прокурор округа Манхэттен Фрэнк С. Хоуган; Уильям А. М. Верден, директор «Локхид», главный поставщик оружия для вьетнамской кампании; Уолтер Тейер из «Уитни корпорейшн», фандрайзер, работавший на Никсона в 1968 году; и, наконец, Лоуренс А. Уэйн, кинопродюсер, советник Линдона Джонсона и член правления «Консолидейтед Эдисон». Годом позже студенты опубликовали документ, в котором утверждалось существование связи между членами правления Колумбийского университета и Си-ай-эй. Колумбийский и другие университеты, входившие в «Лигу плюща», выпускали специалистов, призванных занять руководящие посты в промышленности, издательском и финансовом деле, готовили людей, стоявших за спинами политиков и военных, тех самых, кого С. Райт Миллз определил в своей книге как политическую элиту. В Колумбийском университете декан предложил проводить «часы хереса», во время которых студенты, одетые в блузы и серые шерстяные штаны, потягивали слабый херес из граненых бокалов, обсуждая проблемы, возникавшие в жизни кампуса. То был исчезающий мир, за сохранение которого администрация боролась в 1968 году. Причины недовольства нового «урожая» студентов не слишком отличались от прежних. Том Хейден, учившийся в Мичиганском университете, был недоволен, обнаружив, что оказался союзником корпоративного мира. Новые студенты могли ощутить то же самое еще острее. Марк Радд говорил о Колумбийском университете: «Вступая в университет, я многого ожидал от Башни Плюща на Холме: я думал, что это место, где преданные своему делу профессора будут учить правде, которую нужно будет нести в мир, ожидающий этого с надеждой. Вместо этого я увидел огромную корпорацию, извлекавшую деньги из недвижимости и государственных контрактов на исследования, а также богатевшую за счет платы за обучение, вносимой студентами; я увидел преподавателей, которые заботились только о том, чтобы мы продвигались в изучении преподаваемых ими узкоспециальных предметов (каждый — своего). Хуже всего было то, что университет оказался организацией, бессильно взиравшей на расизм и милитаризм, царившие в обществе». Престижнейшие учебные заведения — те, что стремились использовать свой статус, дабы «снимать сливки» с молодого поколения — привлекать самые светлые умы, самых многообещающих, — на самом деле были худшими. Нью-Йорк, особенно многочисленные кварталы, расположенные в Ист- Вилледже — центре города, стал центром контркультуры хиппи. Здесь жили Эбби Хоффман и Аллен Гинзберг, а также Эд Сандерс — лидер группы «Фагз» (в ее названии было использовано слово, употребленное Норманом Мей-лером в романе «Обнаженные и мертвые», поскольку Сандерс не мог использовать другое слово на «F», которое хотел). Во время различных мероприятий Хоффман часто приносил с собой в Ист-Вилледж свой особый мед, смешанный с вытяжкой из гашиша. Ист-Вилледж, обветшалый район в Нижнем Ист-Сайде, лишь недавно получил свое название, поскольку Грин-вич-Вилледж, ныне Вест-Вилледж, где прежде жили битники, стал чересчур дорогим. Чрезвычайно преуспевающий Боб Дилан по-прежнему жил в Вест-Вилледже. То же самое произошло в Сан-Франциско, где Ферлингетти остался в районе Норт-Бич, который благодаря битникам стал чрезвычайно модным, между тем как хиппи перебрались в районы победнее и подальше от центра — Филлмор и Хейт-Эшбери. Ист-Вилледж стал настолько знаменит своим «хипповым» стилем, что экскурсионные автобусы начали останавливаться около многолюдных магазинов на улице Святого Марка — или Святого Маркса, как любил называть ее Эбби Хоффман, — чтобы туристы могли посмотреть на хиппи. В сентябре 1968 года обитатели Ист-Вилледжа взбунтовались: они организовали собственный автобусный тур по респектабельному району Куинс, где задавали вопросы людям, косившим лужайки, и фотографировали тех, кто снимал их самих. В 1968 году Сан-Франциско и Нью-Йорк были двумя центрами американской поп-культуры, расположенными на противоположных полюсах. Это проявилось, в частности, в том, что у продюсера рок-концертов Билла Грэхэма было два зала: «Филл-мор-Вест» в районе Филлмор в Сан-Франциско и «Филлмор-Ист», открывшийся в 1968 году на пересечении Второй авеню и Шестой улицы в Ист-Вилледже. Теперь рок-концерты шли в помещении, где прежде размещался «Театр Эндрсон идиш». Джон Моррис, которому удалось попасть в «Филлмор-Ист», был там тремя годами раньше на заключительном показе шоу Андерсона «У невесты есть Фарбланджет» с Менашей Скапьником и Молли Пикон в главных ролях. Вновь открытый Моррисом театр представил концерты таких групп, как «Фагз», «Кантри джой» и «Фиш»; последние стали знамениты благодаря своей острой сатире, направленной против войны во Вьетнаме, — «1 Feel Like Fm Fixin’ to Die Rad» («Я чувствую себя как приговоренный к смерти»). Затем они убедили Грэхэма открыть «Ист-Вилледж-Филлмор» в здании на другой стороне улицы. Грэхэм не только был наиболее влиятельной фигурой в сфере рок-музыки в 1968 году: он часто устраивал бесплатные концерты во время различных мероприятий, связанных с политикой, в том числе и для студентов Колумбийского университета, когда они объявили забастовку в апреле. Между рок-музыкой и кампусами колледжей стали формироваться тесные связи. «Более 70% выступлений профессиональных исполнителей приходится на концерты в колледжах», — говорила Фэнни Тейлор, исполнительный секретарь Ассоциации организаторов концертов в колледжах и университетах в 1968 году. Студенты колледжей также представляли собой значительную долю среди тех, кто покупал записи. В 1967 году общий объем продаж записей в Америке достиг рекордной цифры: он превысил миллиард долларов, удвоившись за последние десять лет. При этом впервые записи альбомов обогнали синглы по количеству продаж. Те же тенденции сохранились и в 1968 году. О музыке конца 60-х существует достаточно устойчивое представление. Она была «тяжелой», характеризовалась вибрирующими, медленно затухающими звуками электронных инструментов и другими приемами, милыми сердцу тех, кто употребляет наркотики (многие из этих особенностей были впервые введены «Битлз»). Обратная связь и записи по двенадцати каналам обеспечивали сложное и часто громкое звучание, даже когда играло всего несколько музыкантов. Во время исследований влияния рок-музыки на морских свинок, в течение трех месяцев проводившихся в Университете Теннесси, животным давали слушать то, что обычно звучало на дискотеках; ученые обнаружили разрушение клеток в улитке (часть уха, где звуковые волны преобразуются в нервные импульсы). Однако студенты колледжей, составлявшие существенную часть от общего числа слушателей поп-музыки, в 1968 году не подвергали свои уши такой опасности. Они едва простили Бобу Дилану, что в 1966 году он начал писать в стиле рок, и радовались, когда, начиная с песни «Джон Уэстли Хардинг», Дилан вернулся к акустической гитаре и жанру баллад в стиле фолк, хотя полного возврата к звуку, характерному для фолка, исполняемого Диланом в 1963 году, так и не произошло. В 1968 году «Лайф» определил новую рок-музыку как «первую музыку, появившуюся на свет в эпоху, когда стала возможной мгновенная коммуникация». В 1967 году по всему миру с помощью спутниковой связи был впервые передан «живой» концерт «Битлз». «Лайф» назвал рок-музыку 1968 года «электрическим рогом изобилия». 1968 год был годом создания баллад с текстами высокого уровня и четкой мелодической линией. Активная участница борьбы за мир и исполнительница Джоан Баез, которой к тому времени исполнилось двадцать семь, по-прежне-му выступала перед огромными аудиториями: она пела баллады Дилана, «Роллинг стоунз», «Битлз», поэтичного Леонарда Коэна и своего товарища по борьбе, писавшего в стиле фолк, Фила Окса. Кубинцы подражали стилю ее баллад, и таким образом ее мягко звучащие, лиричные баллады, содержавшие в себе тему протеста, распространились по всему испаноязычному миру. Даже баски начали петь баллады в духе Баез на своем древнем языке, существующем «вне закона». Саймон и Гарфункель, вынужденные бороться за признание аудитории в начале 60-х, поскольку их стиль более напоминал мадригалы эпохи Ренессанса, нежели рок-н-ролл, достигли новых высот популярности, выпустив в апреле 1968 года альбом «Букендз». Этот альбом, включавший в себя такие песни, как «Америка», в которой поется о поисках души страны, некоторые поклонники считают лучшим из всего, что было создано этим дуэтом. Звук баллад, исполнявшихся Кросби, Стиллзом и Нэшем, а также Нейлом Янгом, напоминал о стиле кантри, как и песни группы «Криденс», хотя их инструментальные композиции изобиловали звуками электрических инструментов. Джони Митчелл, двадцатичетырехлетняя уроженка Канады, длинноволосая блондинка с кристально чистым голосом, стала в 1968 году звездой в США благодаря своим балладам. Джерри Джефф Уокер исполнял балладу, где рассказывалось о печальной судьбе уличного музыканта Боджанглса; Пит Тауншенд, гитарист и автор песен, исполнявшихся группой «Зе ху», сожалел о том, что музыка становится слишком серьезной. С тех пор как основной аудиторией поп-музыки стала молодежь, музыка, по его мнению, должна была стать более веселой. «Черт возьми, нынче в музыке нет места для молодежи», — говорил Тауншенд. Границы между музыкальными направлениями стали на удивление зыбки. Дейв Брабек, шестнадцать лет проработавший с джазовым квартетом, распустил свою группу и начал сочинять симфоническую музыку. Три британских музыканта — Эрик Клэптон, Джек Брюс и Джинджер Бейкер — перешли от блюза и джаза к року, назвав себя «Крим». Эта группа вызвала восторг у дирижера Нью-Йоркской филармонии Леонарда Бернстайна, который в пятьдесят лет, завершив концертный сезон 1968 года, оставил свою должность. Особенно он восторгался Джинджером Бейкером, о котором говорил: «Мне кажется, их барабанщик по-настоящему умеет отсчитывать время». Записанные альбомы выходили во все более тщательном оформлении, часто с двойными клапанами обложек. Причудливо скомпонованные фотографии исполнителей, наряженных в странные костюмы, обрамляла крутящаяся, пульсирующая графика. Обложки альбомов фактически оформлялись с расчетом на молодых людей, куривших марихуану или принимающих ЛСД: они, по-видимому, рассматривали конверты часами. Под влиянием наркотиков все казалось вдвойне глубоким, за всякой вещью были различимы скрытые смыслы. Явно прямолинейные фильмы, такие как «Выпускник» 1967 года, где шла речь о молодом человеке, неуверенном в собственном будущем из-за зыбкости ценностей того мира, где он живет, казались наполненными куда более глубоким содержанием. Песни «Битлз» анализировались подобно стихам Теннисона. Кто такая Элеанор Ригби? В фильме итальянского режиссера Мако Феррери «Человек с воздушными шариками», где в главной роли снялся Марчелло Мастроянни, шла речь о разочарованном человеке со связкой воздушных шаров. Герой фильма решил испытать шары на прочность и обнаружил, что каждый из них отличается от остальных. На этом фильм кончался. Вы поняли что-нибудь? Поняли общий смысл? Именно настойчивый поиск скрытых смыслов во всем был причиной неожиданного успеха малобюджетного триллера 1968 года «Ночь живого мертвеца»: его восприняли не как фильм ужасов, где действуют зомби, не как дешевый триллер, какие время от времени выпускались начиная с середины 30-х годов, но как убедительную сатиру на американское общество. Певица Дженис Джоплин, чей голос скрипуче звучал в 1968 году на концертах вместе с калифорнийскими группами «Биг бразер» и «Холдинг компани», говорила, что не считает себя хиппи, поскольку хиппи верят, что можно попытаться изменить мир к лучшему. Напротив, она утверждала, что принадлежит к битникам: «Битники считают, что мир не собирается меняться к лучшему, и говорят: «Ну и черт с ним», — напиваются и веселятся». Хиппи пытались изменить мир к лучшему, однако и они проводили немало времени, напиваясь и веселясь. Марихуану в американских колледжах в 1968 году курили чаще, чем в наши дни табак. Многие полагали тогда (а многие разделяют это мнение и теперь), что правительственное законодательство против наркотиков являлось средством подавления и что истинно демократическое общество легализует употребление наркотиков. Казалось, американцы разделились на два лагеря: одни жили по-новому, другие отчаялись понять новый образ жизни. Секрет неожиданного успеха театрального представления «Волосы», американского рок-мюзикла из жизни племен, заключался в том, что хотя во время действия на сцене практически ничего не происходило, здесь была претензия на то, чтобы предложить зрителям бросить взгляд на жизнь хиппи. При этом поддерживался стереотип, будто хиппи совершенно ничего не делают, и делают это (то есть ничего) с невыразимым энтузиазмом — очевидно, вызванным наркотиками. Газеты и журналы часто публиковали описания жизни кампусов. Почему фото, сделанное на свадьбе Эбби Хоффмана, попало на обложку журнала «Тайм»? Да потому что пресса, а также весь остальной истеблишмент пытались понять «молодое поколение». То был один из «главных сюжетов года», с которым, как и с войной, они отказались бороться. Журналы и газеты регулярно помещали статьи о «новом поколении». В большинстве из них ощущался оттенок разочарования, поскольку журналисты не могли понять, на чьей стороне эти люди. Представители истеблишмента считали, что они придерживаются позиции «против всех и вся». 27 апреля 1968 года в передовице «Пари-матч» говорилось: «Они осуждают и советское, и буржуазное общество: организацию промышленного производства, общественный порядок, стремление достичь материальных благ, ванные комнаты и, в конце концов, работу. Другими словами, они осуждают западное общество». В 1968 году в США вышла книга «Разрыв», в которой дядя и его длинноволосый племянник, курящий марихуану, пытаются понять друг друга. Племянник знакомит дядю с марихуаной, вкус которой неожиданно напоминает дяде «пачку чая». Но, покурив, он говорит: «Это расширило мое сознание. Кроме шуток! Теперь я понял, что имеет в виду Ричи. Я слушал музыку и слышал в ней то, чего никогда не различал прежде». Рональд Рейган дал хиппи следующее определение: «Одевается, как Тарзан, носит волосы, как у Джейн, и пахнет, как Чита». То, что подход Рейгана оказался недостаточно глубок в интеллектуальном отношении, никого не удивило, но большинство представлений о хиппи имело с ними мало общего. Общество не изменилось к лучшему с начала 50-х, когда представление о целом поколении так называемых битников (выражение, придуманное романистом Джеком Керуаком) с помощью телевидения было сведено к персонажу по имени Мейнард Дж. Кребс, который редко мылся и ворчал: «Работа?!» — ужасаясь всякий раз, когда у него появлялась возможность устроиться на службу, приносящую доход. Норман Подгорец написал эссе в «Партизан ревью», посвященное поколению битников; оно было озаглавлено «Богема, которая ничего не знает». Отрицание приверженности материальным ценностям и отвращение к корпоративной культуре расценивалось как нежелание работать. Постоянный упрек в недостатке гигиены прикрывал отрицание иной манеры одеваться, хотя ни битники, ни хиппи не были неряхами. Правда, Марк Радд был известен своей неаккуратностью, но многие другие молодые люди были опрятны и выглядели даже изысканно; они очень интересовались различными средствами для волос, ухаживали за своими вошедшими в моду длинными локонами, наряжались в вышитые брюки клеш. Общественность была буквально помешана на длине волос. В 1968 году существовал плакат, расклеенный на двух тысячах досок объявлений: на нем был изображен восемнадцатилетний юноша с копной волос, а внизу была подпись: «Сделай Америку красивее — подстригись». Джо Намат, игрок «Джетс» — нью-йоркской команды по американскому футболу, — который носил волосы средней длины и иногда усы (его смелость и твердость сыграли большую роль в том, что футбол приобрел статус ведущего национального вида спорта в конце 60-х), часто слышал приветствия от своих поклонников, появляясь на стадионе: «Джо, подстригись!» В марте 1968 года, когда Роберт Кеннеди мучительно решал вопрос о том, баллотироваться ли ему в президенты, он получал письма, где говорилось, что если он хочет стать президентом, то должен подстричься. Тон этих писем был странно враждебным. «Никому не нужен президент-хиппи», — писал автор одного из них. И в итоге Кеннеди подстригся и выставил свою кандидатуру.Эбби Хоффман. «Революционный ал как самоцель», 1968.

"Son, why don’t you bring some of the S'eiu Left home for Cokes and cookies?”
К 1968 году в широких кругах, связанных с коммерцией, возникло мнение, что «разрыв поколений» представляет собой идею, которую можно выгодно использовать. Эй-би-си начала показ сериала «Модная команда» («The Mod Squad»), очевидно, не заботясь о том, что слово «mod» (модная) в Британии уже устарело. Персонажами сериала были трое молодых полицейских. Один из них напоминал молодого Боба Дилана, если его умыть и причесать, а другой — одного из «черных пантер» со сладенькой улыбочкой. Женщина-полицейский выглядела как молодой вариант Мэри из группы фолк-сингеров «Питер, Пол и Мэри». Все трое вели себя вызывающе, поступали жестоко. Штампы контркультуры в подобной трактовке неожиданно оказывались абсолютно невинными. В анонсе, предложенном Эй-би-си, говорилось (как будто люди на самом деле подобным образом беседовали между собой): «Полиция не понимает нынешнее поколение, а оно, в свою очередь, не любит полицию. Решение — найти нескольких бойких молодых битников и дать им поработать в полиции». Далее в анонсе было сказано, что «сегодня на телевидении тон всему задают молодые... И вместе со всем поколением «молодых взрослых» зрителей Эй-би-си одерживает легкую победу». «В 1968 году у всякого есть свое мнение относительно “разрыва поколений”». Эта фраза президента Колумбийского университета Грейсона Кирка, сказанная 12 апреля, когда он произносил речь в университете штата Виргиния, немедленно стала популярной. Андре Мальро, который в юности был известен своим пылким и мятежным характером, но в 1968 году входил в состав консервативного крыла правительства де Голля, отрицал существование разрыва между поколениями и настаивал, что дело заключается в нормальной для молодежи борьбе в процессе взросления. «Глупо было бы верить в такой конфликт, — говорил он. — Основная проблема состоит в том, что наша цивилизация — машинная цивилизация — может научить человека всему, за исключением главного: как быть человеком». Председатель Верховного суда США Эрл Уоррен сказал в 1968 году, что «одна из наиболее насущных потребностей нашего времени» состоит в смягчении напряжения между тем, что он называл «дерзость молодежи», и «спокойным практицизмом» более зрелых людей. Некоторые уверяли, что современная молодежь просто находится в состоянии перехода к постиндустриальному обществу. В дополнение к широко распространенному мнению, что новая молодежь, хиппи, не хочет трудиться, существовало убеждение, что они не должны этого делать. В результате анализа, проведенного Исследовательским советом южной Калифорнии, были получены выводы: к 1985 году большинству американцев достаточно работать лишь шесть месяцев в году, чтобы обеспечить достойный уровень жизни. Ученые предостерегали, что рекреационные возможности будут в вопиющем состоянии и не смогут обеспечить проведение досуга, который у нового поколения будет значительно более продолжительным, чем у нынешнего. Эти выводы были сделаны на основе роста доли валового национального продукта, приходящейся на душу населения. При делении общего показателя валового национального продукта на количество населения страны, включая иждивенцев (то есть при учете того, на какие материальные блага и социальные услуги может рассчитывать каждый), итоговая цифра должна была удвоиться в период с 1968-го по 1985 год. В 60-е многие верили в то, что развитие технологий в Америке приведет к увеличению досуга, и лишь немногие, в их числе и Герберт Маркузе, пытались доказать, что этого не произойдет. Джон Кифнер, молодой журналист из «Нью-Йорк тайме», пользовавшийся уважением среди студентов Колумбийского университета, будучи в Амхерсте, написал в январе 1968 года статью о студентах и марихуане. В ней сообщались шокирующие сведения о продаже в городе большого количества бумаги, для папирос и отсутствии спроса на табак. Статья вводила читателей в круг представлений об использовании наркотиков. Эти студенты купили марихуану не для того, чтобы забыть о своих проблемах, а для того, чтобы повеселиться. «Интервью со студентами показали, что хотя некоторые из употребляющих наркотики испытывают жизненные трудности, для многих других это не так». Статья содержала мнение, что стиль жизни, подразумевающий употребление наркотиков, поддерживается благодаря освещению его в средствах массовой информации. Цитировалось высказывание ректора университета в богатом пригороде Уэстчестера: «Несомненно, это явление нарастало в течение лета. В таких изданиях, как «Эсквайр», «Лук» и «Лайф», появились статьи об Ист-Вилледже, где был описан имидж, которому захотели следовать ребята». В подобных статьях изображались «вечеринки с марихуаной в колледжах». Заметим, что частенько собравшиеся вместе студенты, покуривал марихуану, читали такие тексты. При этом они начинали безудержно хихикать, а потом — хохотать до хрипоты. В Ист-Вилледже общепринятым способом провести дождливый день было напиться и пойти в кино на площади Святого Маркса, где иногда, купив билет за доллар, можно было посмотреть в придачу к художественному фильму старую документальную ленту о вреде марихуаны «Безумие и папиросы». Марихуана стала наркотиком двадцатого века в США До 1937 года она не была запрещена законом. Препарат ЛСД, диэтиламид лизергиновой кислоты, или просто «кислота», был случайно открыт в 30-е годы в шведской лаборатории доктором Альбертом Хоффманом, когда небольшое количество этого вещества попало ему на подушечки пальцев и вызвало «измененное состояние сознания». После войны лаборатория Хоффмана понемногу продавала это вещество в США, где саксофонист Джон Колтрейн, прославившийся своей блистательной и в то же время углубленной манерой исполнения, трубач-джазист Диззи Гиллеспи и пианист Фелоньос Монк экспериментировали с новым наркотиком, хотя и не в таких масштабах, как ЦРУ. Вещество было трудно обнаружить, поскольку оно не имело ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Враг, тайно подвергнутый действию ЛСД, мог выдать свои тайны или потерять уверенность в себе и сдаться. Это породило идею добавлять «кислоту» в прохладительные напитки. Планировалось, в частности, тайком дать «кислоты» лидеру Египта Гамалю Абдель Насеру, а также Фиделю Кастро, чтобы они начали болтать глупости и лишились своих сторонников. Но, узнай Аллен Гинзберг и другие о том, что Фидель тоже употребляет ЛСД, популярность кубинского лидера среди молодежи возросла бы наверное, многократно. Агенты экспериментировали на себе (однажды один из них бросился на улицу и обнаружил, что на самом деле автомобили — это «кровожадные чудища»). В сотрудничестве с армией они также ставили опыты на безымянных жертвах, в том числе на заключенных и проститутках. В нескольких случаях тесты привели к самоубийствам и психозам, а ЦРУ убедилось, что добиться толку на допросе от человека, находящегося под воздействием ЛСД, почти невозможно. Эксперименты с «кислотой» поощрялись Ричардом Хельмсом, который в период с 1967-го по 1973 год занимал пост главы ЦРУ. Тимоти Лири и Ричард Альперт, преподаватели Гарвардского университета, изучали ЛСД, принимая его или давая другим. В начале 60-х их работа пользовалась уважением, пока некие родители не пожаловались, что их ребенок — подававший надежды студент Гарварда — хвастается, будто «нашел Бога и открыл тайну Вселенной». Парочка покинула Гарвард в 1963 году, но продолжила свои эксперименты в Милбруке (штат Нью-Йорк). В 1966 году ЛСД был запрещен законодательным актом конгресса. Лири был арестован, но его слава только укрепилась. Альперт стал последователем индуизма и взял себе имя Баба Рам Дасс. В 1967 году Аллен Гинзберг призвал каждого, кому исполнилось четырнадцать, попробовать ЛСД хотя бы раз. Бестселлер Тома Вулфа, превозносивший ЛСД и способствовавший его популяризации — «Электрик кул-эйд эсид тест», — вышел в 1968 году. Прием этого наркотика вызывал непредсказуемые последствия. Одни испытывали приятные ощущения; у других развивались кошмарные маниакальные депрессии или паранойя (это называлось «плохое путешествие»). Студенты, гордившиеся своей зависимостью от наркотиков, настаивали на том, что «путешествие» следует предпринимать под надзором товарища, который в данный момент не принял наркотик, но пробовал его прежде. Для многих, в том числе и для Эбби Хоффмана, существовало некое тайное братство между тем, кто принял «кислоту», и тем, кто наблюдает за ним. В прессе начали появляться жуткие истории. В январе 1968 года некоторые газеты поместили сообщения о шестерых молодых людях, студентах колледжей, которые полностью и навсегда лишились зрения из-за того, что, находясь под воздействием ЛСД, смотрели на солнце. Норман М. Йодер, уполномоченный Канцелярии по проблемам зрения Отдела здравоохранения штата Пенсильвания, заявил, что сетчатка глаз у юношей подверглась разрушению. То был первый случай полной слепоты, хотя похожая история уже имела место в мае прошлого года в Санта-Барбаре, в Калифорнийском университете: тогда, по сообщениям, четыре студента утратили способность читать из-за того, что смотрели на солнцр после приема ЛСД. Вместе с тем многие истории о вреде, нанесенном употреблением ЛСД, оказались выдумкой. Тест, проведенный войсками химической защиты вооруженных сил, не подтвердил, что ЛСД вызывает повреждение хромосом, хотя об этом повсюду ходили слухи. Глубокое воздействие ЛСД оказал на поп-музыку. Альбом «Битлз» 1967 года «Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band» («Оркестр Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера») отразил в музыке, текстах и дизайне обложки эксперименты участников группы с наркотиками. Это было также справедливо для более ранней песни, «Yellow Submarine», положенной в основу одноименного фильма 1968 года. О первом воображаемом путешествии Джона Л еннона в подводной лодке сообщалось, что оно «произошло» после того, как он съел кусочек сахара с дозой ЛСД. С точки зрения слушателей, в «Сержанте Пеппере» речь шла о наркотиках; он оказался одним из первых «кислотных» альбомов, ознаменовавших наступление эпохи психоделической музыки и психоделического дизайна обложек альбомов. Возможно, из-за того, что прослушивание музыки часто сопровождалось приемом наркотиков, «Сержант Пеппер» был объявлен исполненным глубокого смысла. Спустя годы Эбби Хоффман сказал, что эта запись выражала «наше видение мира». По его словам, то был «Бетховен, зашедший в супермаркет». Однако ультраконсервативное «Общество Джона Берча» заявило, что альбом оказывает на слушателей воздействие, сходное с эффектом «промывания мозгов»; отсюда был сделан вывод о причастности «Битлз» к международному коммунистическому заговору. Би-би-си наложила запрет на трансляцию песни «А Day in the Life» («День из жизни») из-за слов «I’d love to turn you on»21, а губернатор Мэриленда Спиро Эгню провел целую кампанию, дабы запретить песню «With a Little Help from My Friend» («С небольшой помощью моего друга»), поскольку великая четверка пела, что именно так они «достигли высот». «Битлз» не были изобретателями эсид-рока — своего рода гибрида ЛСД и рок-музыки, — но благодаря своему статусу сделали его знаменитым. Группы в Сан-Франциско сочиняли музыку в стиле эсид-рока несколько лет, но к 1968 году немногие из них (например «Джефферсон эйрплейн» и «Грейтфул дэд») приобрели международную популярность, в то время как большая часть («Дейли флэш», «Селестиал хистериа» и др.) были известны лишь в своем городе. Новая музыка, рассчитанная на население студенческих городков, имела отношение не только к политике и наркотикам, но и к сексу. Как и политические демонстрации, рок-концерты часто становились «прелюдией» к внезапным сексуальным контактам. Некоторые певцы были откровеннее других на этот счет. Джим Моррисон, рокер, обладатель бархатистого голоса, солист группы «Дорз», носивший кожаные штаны в обтяжку, называл себя эротическим политиком. В 1969 году на концерте в Майами он призывал слушателей снять одежду, а затем объявил: «Хотите посмотреть на мой член, не так ли? Вы ведь за этим пришли, да?» Дженис Джоплин говорила: «Моя музыка должна заставить вас не бунтовать, а трахаться». В большинстве статей о новом стиле жизни присутствовало впечатление — то более, то менее искреннее, — что молодые люди, придерживающиеся этого нового стиля, много занимаются сексом. Теперь секс именовался «свободной любовью», поскольку казалось, что при использовании противозачаточных таблеток он не имеет никаких последствий. На самом деле это было не совсем так, в чем Марку Радду пришлось убедиться, участь на втором курсе Колумбийского университета: он заболел гонореей, и ему пришлось прибегнуть к помощи пенициллина. Эта болезнь передалась ему от студентки Бернарда, которая получила ее от женатого преподавателя философии. По существу, пенициллин, открытый в 40-е, был первой «таблеткой», необходимой в условиях сексуальной свободы. Второе средство, оральные контрацептивы, было разработано в 1957 году и в 1960-м получило лицензию Управления по продуктам питания и медикаментам. Как обнаружили врачи, работавшие в колледжах, оно быстро обогнало по популярности все остальные методы контроля над рождаемостью, и к 1968 году его применение стало в кампусах обычным делом. Популярный лозунг «Не воюй, а занимайся любовью» показал, что эти два понятия взаимосвязаны. Случалось, что студенты участвовали в антивоенных демонстрациях, а затем, будучи в приподнятом настроении оттого, что стояли в тысячных толпах и пережили удары дубинок и слезоточивый газ, отправлялись заниматься любовью. Так развлекались не только члены Эс-эн-си-си. Эс-ди-эс и другие студенческие организации постоянно устраивали собрания, дабы решить, какие действия предпринять в дальнейшем. Затем, когда задуманное осуществлялось и было уже непонятно, что делать дальше, они действовали наобум. Но в перерывах между собраниями немало времени уделялось сексу. Как сказал один студент из Детройта в интервью журналу «Лайф»: «Мы не только едим и спим вместе, мы вместе протестуем против войны!» Эд Сандерс, солист группы «Фагз», в песнях которой секс занимал важное место, называл середину 60-х «золотым веком траха». В своем бессюжетном «романе о “Йиппи!”» «Надкрылья Господа», сложившемся к 1968-му и опубликованном в 1970 году, он обращался к этой теме. Среди участников движения возникало немало пар, зачастую вскорераспадавшихся. Женитьба Тома Хейдена, Марио Савио, брак Мэри Кинг — вот лишь несколько примеров многочисленных непродолжительных семейных союзов, заключавшихся участниками движения. Отношение к сексу еще более углубляло разрыв между поколениями. Казалось, что два общества с полностью не совпадающими законами сосуществуют одновременно. В то время как Сандерс переживал свои «золотые дни» в Ист-Вилледже, а Радд в Колумбийском университете лечился пенициллином, Джон Дж. Сантакки, член демократической партии, высказал требование (и добился успеха) в адрес руководства метрополитена, чтобы из вагонов были убраны рекламные плакаты фильма «Выпускник», поскольку на них были изображены Энн Банкрофт и Дастин Хоффман в постели. Изменения относительно сексуальной морали касались не только Америки. Молодые женщины из Мексиканского студенческого движения шокировали соотечественников в 1968 году, выйдя на демонстрацию с плакатами: «Девственность — причина рака». В Париже в том же году демонстрации начинались с требований устроить для соучеников общие спальни. Президент де Голль, узнав якобы, что студенты в Нантерре хотят, чтобы у тех, кто учится вместе, было общее жилье, сконфузился, повернулся к секретарю и спросил: «А почему они не желают просто встречаться в кафе?» В США только некоторые учебные заведения, отличавшиеся прогрессивными взглядами, имели общие спальни для студентов. Во многих университетах мужчинам предоставляли больше свободы, нежели женщинам. В «Лиге плюща» для женщин существовали отдельные учебные заведения, и правила в них целиком и полностью отличались от правил тех университетов, где учились мужчины. У юношей, учившихся в Колумбийском университете, безусловно, было значительно больше привилегий, нежели у девушек в Бернарде: женщинам не разрешалось жить где бы то ни было, кроме как в специально отведенных для них комнатах, в течение первых двух лет обучения. Противостояние в масштабах нации, поводом к которому послужили бы проблемы устройства жилья обучающихся вместе студентов, кажется нелепым. Но именно это происходило в 1968 году в течение нескольких недель после того, как журналист «Нью-Йорк тайме» решил опубликовать статью о жизни студентки колледжа — одну из нескольких сотен статей о «новом стиле жизни». Одна второкурсница похвасталась репортеру (взяв с него слово, что он не будет называть ее имени), как она обманывала администрацию Бернарда, чтобы иметь возможность покидать кампус вместе со своим молодым человеком. Хотя журналист сохранил имя девушки в тайне, администрация, решив избавиться от особы, бросившей тень на репутацию университета, ознакомилась с деталями и сумела установить, что виновница — студентка Линда Леклер, а затем потребовала ее исключения. Студенты начали протестовать против такого решения, причем многие утверждали, что оно могло быть принято только по отношению к женщине. Но странным образом борьба Линды Леклер и проблема «жить или не жить» в течение нескольких недель не только не сходила с первых полос «Нью-Йорк тайме», но и освещалась изданиями, имевшими резонанс на уровне всей страны: «Тайм», «Ньюсуик», «Лайф» и другими. День за днем разворачивалась эта драма на страницах «Таймс»: вот совет университета Бернард дал девушке возможность выступить в свою защиту, вот приходят сотни человек послушать ее, вот она говорит о правах личности и вот наконец, «одетая в короткое ярко-оранжевое платье, ослепительно улыбается, читая окончательный вердикт: исключение заменено запретом посещать университетское кафе». В материалах, опубликованных «Таймс», также упоминалось, что многие студенты, которым задавали вопросы об этой истории, «удивленно качали головами». Прессе за пределами университета это событие казалось важным свидетельством изменений, происходящих в обществе. Студентам 1968 года, как и большинству из нас сегодня, трудно было поверить в то, что такой незначительный случай мог попасть в газеты. Два дня спустя «Таймс» продолжила тему, опубликовав статью о родителях Леклер под заголовком «Родители в отчаянии от поведения дочери в Бернарде». В ней приводились слова Пола Леклера из Гудзона (Нью-Гэмпшир): «Нам стыдно смотреть людям в глаза, мы не знаем, что делать... да, личность может поступать, как ей заблагорассудится, но когда ее поведение становится образцом для сотен людей — это неправильно». Президента университета Бернард Марту Петерсон не удовлетворил чересчур мягкий приговор совета, и она попыталась исключить Леклер, вопреки принятому решению. В ответ студенты организовали у ее кабинета сидячую забастовку. Петиция, подписанная восемьсотпятьюдесятью студентами Бернарда, также содержала протест против исключения. В канцелярию хлынул поток писем как в поддержку второкурсницы, так и с нападками на нее. Она объявлялась символом всего, чего угодно, от гражданских свобод до упадка семьи в Америке. Марта Петерсон заявила: «К нашему сожалению, мы также узнали, что общество испытывает буквально ненасытный интерес к теме секса в студенческом городке». Однако то было не простое любопытство. В прессе отразилось всеобщая точка зрения: «новому поколению» присуща «новая мораль». И к худу или к добру, но поведение молодежи свидетельствовало о наличии в обществе совершенно противоположных ценностей и моральных принципов, что принимало подчас весьма своеобразные формы. В одном из своих сочинений Эд Сандерс выражал уверенность: «через сорок лет все признают, что «Йиппи!» и те, кто в 1967—1968 годах участвовал в общей буче борьбы за мир, — важнейшая сила в культуре и политике за последние сто пятьдесят лет существования американской цивилизации». В то время изменчивость считалась основным свойством человеческого общества: иногда это вызывало панику, иногда — радость. Журнал «Лайф» писал: «В далеком будущем некий специалист по сексуальной антропологии, который станет анализировать таблетки, просмотры кинофильмов под открытым небом, работы Гарольда Робинса, небоскребы «Твинз» и другие артефакты американской сексуальной революции, сможет рассмотреть случай Линды Леклер и ее бойфренда Питера Бера как момент изменения морали нашей эры». Итак, вместе с осадой Хью, морскими пехотинцами, окопавшимися в Кхе-Сан, разгоревшейся войной в Биафре, расследованием сената инцидента в Тонкинском заливе, послужившего поводом к началу войны во Вьетнаме в августе 1964 года, выходом Дучке и членов немецкой Эс-дэ-эс на улицы Берлина, отказом чехов и поляков подчиняться Москве, — вместе со всем этим решение студентки Бернарда жить в комнате своего бойфренда, находившейся через дорогу от ее дормитория, попало на первые страницы журналов и газет. Бойфренду Линды Леклер, кажется, не задали ни одного вопроса в ходе полемики. Сама Линда ушла из университета, после чего парочка присоединилась к коммуне. Бер, который, в отличие от нее, закончил обучение и получил диплом, впоследствии стал врачом-массажистом. В Бернарде смягчили правила: теперь, для того чтобы покинуть кампус, требовалось только разрешение родителей. Но осенью 1968 года студентки восстали даже против этого. Существовала одна вещь, которая всегда интересовала Марка Радда, выросшего в обеспеченном пригороде в Нью-Джерси по соседству с бедным Ньюарком. Он часто спрашивал у родителей, почему они не остановили нацистов, когда те впервые пришли к власти. Несомненно, они могли попытаться хоть что-то сделать. Несмотря на свое постоянное ворчание по этому поводу, учась в средней школе, он не проявлял особой активности в вопросах политики. Он жил в благоустроенном Мейплву-де, куда его родители перебрались уже на склоне лет, после того как отец начал преуспевать на рынке недвижимости. Отец его был подполковником резерва, изменившим свою фамилию, напоминавшую еврейскую, на английский лад, чтобы уберечься от антисемитских проявлений в свой адрес на военной службе Формирование у Марка Радда интереса к радикальной политике, как было и со многими людьми его возраста, не обошлось без журнала «Синг аут!», посвященного музыке фолк и песням протеста. Так он заинтересовался музыкой Ледбелли, Вуди Гатри и Пита Сигера. Ему нравилось учиться, причем немало книг он прочел по совету своей подружки — она разбиралась в политике и считалась интеллектуально развитой. Она даже была знакома с пасынком Герберта Маркузе Майклом Ньюманном, который позднее жил в одной комнате с Раддом во время учебы в колледже. Старший брат Ньюманна Томми был участником «группы единомышленников» «Ублюдки» из Ист-Вилледжа. Радд никогда не занимался спортом. Много лет спустя он любил повторять, что его спортом был секс — чтение и занятия сексом с любимой девушкой, которая отправилась учиться в колледж Сары Лоренс. Радд хотел поступить в Чикагский университет, отличавшийся тем, что в нем были отменены спортивные занятия. В конечном итоге он выбрал Колумбийский университет, желая быть поближе к своей возлюбленной. Однако, как это часто бывает, оказавшись в колледже, оба завязали новые отношения. Можно сказать, что, несмотря на консерватизм, присущий всем учебным заведениям, входившим в «Лигу плюща», Колумбийский университет оказался для Радда удачным выбором. Здесь, где возникло само выражение «разрыв между поколениями», Радд не был на хорошем счету у администрации, зато отношения со студентами складывались гораздо лучше. Подобно Радду большинство учащихся Колумбийского университета не выглядели атлетами. Радду рассказали, что университет поставил своеобразный рекорд: двенадцать лет подряд его футбольная команда проигрывала все матчи. В перерывах между матчами команда показывала специальные номера; один из них назывался «Ода диафрагме». Студенческих организаций было мало. Летом 1968 года Радд и его друзья арендовали помещение на 114-й улице на летний период и дали ему название «Сигма Дельта Сигма». В 1965 году, когда Радд стал студентом колледжа, Эс-ди-эс отказалось от бесполезных попыток создать свои организации в городах страны и осознала, что кампусы колледжей являются гораздо более благодатной почвой для привлечения сторонников в ее ряды. Однажды вечером, в начале первого года пребывания Радда в колледже, Дэвид Гилберт постучался в дверь Радда и сказал: «У нас намечается собрание, на котором мы будем кое-что обсуждать. Может быть, хотите прийти?» «Это стало социальным явлением, — вспоминал Радд. — Люди так жили. Субкультура давала возможность славно развлечься. Девочки, наркотики — вот и все. В те дни никто не думал о том, чтобы выйти на Уолл-стрит». Жизнь Радда в Колумбийском университете переменилась. Он стал радикально настроенным сотрудником отделения Эс-ди-эс в своем кампусе, посещал дискуссии и митинги, сам стучался в двери и планировал акции протеста. «Мне нравилось говорить о революции, о том, как изменить мир, улучшить его. На собраниях обсуждались важные вещи, затем мы переходили к действиям. Наверное, за пять лет я посетил больше тысячи митингов. Впечатление было совсем иным, нежели от занятий. Сотрудникам Эс-ди-эс было очень многое известно. Они знали кучу всего о Вьетнаме, о революциях, направленных на свержение колониализма, о националистических течениях». При этом для Радда особенно важным было то, что слово влекло за собой действие. «Я всегда ценил людей, которые могли читать, думать, дискутировать — и действовать. Можно сказать, это мой идеал интеллектуала», — рассказывал Радд в недавние годы. Он стал известен среди радикалов именно своим нетерпением, «вкусом» к действию, а его группу в Колумбийском университете сотрудники Эс-ди-эс прозвали «фракция акции». Побывав на Кубе, Радд привез с собой цитату из Хосе Марти, которую любил повторять Че: «Настало время топить печь, и только свет достоин того, чтобы его видеть». Он вернулся с Кубы в марте, говоря его же словами, «охваченный революционной лихорадкой». Дюйм за дюймом стены его комнаты покрывались плакатами и портретами Че — курящего, улыбающегося, курящего и улыбающегося, размышляющего. В начале весны Радду предстоял визит к зубному врачу. Ожидая боли, он спрашивал себя: а как бы поступил Че? Дела, которыми занималась «фракция акции» в Колумбийском университете, были абсолютно серьезными, хотя подчас они откалывали штуки, больше подходящие «Йиппи!», а не Эс-ди-эс. Может, причиной служило то, что активисты, чей возраст по большей части лишь приближался к двадцати, во многом оставались подростками. Вопреки мнению Радда, Эс-ди-эс проголосовало на собрании за то, чтобы принять участие во встрече с главой избирательной службы Нью-Йорка, чиновником с невероятным именем Полковник Экст, который должен был произнести речь в кампусе. Радд яростно возражал, считая, что для Избирательной службы будет слишком большой честью, если ее представителю станут задавать вопросы. «Какое малодушие», — сокрушался он, решив действовать иначе. В то время в Эс-ди-эс влились новые силы, как нельзя лучше соответствовавшие замыслам «фракции акции» Радда. К быстро растущей организации присоединились «Ублюдки» из Ист-Вилледжа. Второе условие, необходимое для выполнения плана Радда, состояло в том, что должен был отыскаться человек, который приблизился бы к полковнику, оставаясь неузнанным, — к началу весны 1968 года Радда и его товарищей многие хорошо знали. Слепая Фортуна привела к Радду радикала из Беркли. Радд вспомнил, что слышал, как его друг выражал сочувствие товарищу — возмутителю спокойствия, который очень много говорил о революции, о насилии, о значении Беркли как революционного центра для всех нынешних событий. Радд заручился его помощью. Полковник должен был произнести речь в Графском зале, религиозном центре кампуса Колумбийского университета. «Сама его фуражка, казалось, выражала гордость, а под ней сияла красная рожа», — описывал Радд полковника. Внезапно со стороны задних рядов послышались звуки барабанов, какие используют загонщики, и флейт, игравших «Янки Дуди». В то время как слушатели обернулись и увидели «Ублюдков» из Ист-Вилледжа, длинноволосых, одетых как военный оркестр, с барабанами и флейтами (сами они назвали себя «Никербопперы»), никому не известный революционер из Беркли взбежал на сцену и запустил пирожок с кокосовым кремом прямо в красную рожу полковника Экста. Радд удрал вниз по Бродвею вместе с метателем, который так увлекся театральностью момента, что для маскировки повязал платок на лицо. Не придумав ничего лучшего, Радд спрятал его в квартире у своей возлюбленной, в туалете. Грейсон Кирк, 1903 года рождения, президент Колумбийского университета, жил в величественном здании «Лиги плюща» на Морнингсайт-Хайтс, расположенном на возвышенности района в северной части Манхэттена. Можно сказать, Кирк был патрицием и сам себя воспринимал как хранителя традиций. Радц определил его как «либерала из господствующего класса, человека, который хотел быть прогрессивным, однако из-за своих инстинктов всегда тянулся к элите власти. Он критиковал войну во Вьетнаме, но не потому, что считал ее результатом заблуждений или чем-то аморальным, а просто за то, что в ней нельзя было победить». Единственное, чего серьезно опасался Кирк, сидя в своем особняке на Морнингсайт-Хайтс, был расположенный внизу Гарлем, где кипели страсти. Он и вправду очень хотел успокоить «негров», так он и многие другие до сих пор именовали чернокожих. Из окна Кирк мог видеть хаос и зарево пожара. Мартин Лютер Кинг был убит, Гарлем пылал. Кирк являлся главой университета, расположенного на холме прямо над Гарлемом, и для него это было страшнее всего. Марк Радд мог видеть то же самое пламя, но им владели совсем другие чувства. Теперь движение за ненасилие — или, как Стоукли Кармайкл назвал его, «г...ное ненасилие» — пришло к концу, и Радд, стоя на аллее парка Морнингсайт и ощущая запах дыма, вглядывался в наступающую новую эпоху «Власти черных». Вместе с ним находился его друг Дабл-Джей, веривший в мировую революцию, в ходе которой народы, прозябающие в нищете, одолеют империи; то будут великие перемены на всем земном шаре, будет свергнута власть белых и в Америке, захвачены все центры власти; тогда все — и белые, и черные — обретут чувство свободы, никому и никогда прежде неведомое. Дабл-Джей и Радд, оба с длинными растрепанными светлыми волосами, провели ночь, бродя по Гарлему, глядя на пожары и грабежи, на атаки полицейских, на баррикады, спешно сооруженные, чтобы остановить пожарные машины. Наблюдатель, подобно призраку, мог идти сквозь самую гущу вспыхнувших на национальной почве волнений, оставаясь невидимым — просто потому, что не был вовлечен в происходящее. «Я видел, какой гнев несли в себе черные», — впоследствии рассказывал Радд. Он и Дабл-Джей были убеждены, что стали свидетелями начала революции. Через пять дней после убийства Кинга в Колумбийском университете должна была состояться заупокойная служба. За время своей короткой жизни доктор Кинг был объектом слежки; его оскорбляли, позорили и принижали, но после смерти он стал святым, причем среди тех, кто превозносил Кинга, многие препятствовали его делу. Колумбийский университет бездумно вторгся в Гарлем, захватив парки и недорогие участки под строительство для создания более благоприятных условий обитателям своего кампуса, где жизнь была недешева. В 1968 году исследования, проведенные в Гарлеме, показали, что за последние семь лет Колумбийский университет выселил семь с половиной обитателей Гарлема из их домов, причем планировалось выселение еще десяти тысяч. Связь университета с правительством города стала очевидной в 1959 году, когда, вопреки возражениям нескольких лидеров Гарлема, университет получил в аренду более двух акров территории парка Морнингсайтдля строительства спортивного зала. Передача общественной земли в частное пользование являлась беспрецедентным случаем в городской политике; при этом арендная плата составляла всего три тысячи долларов в год. Когда в 1968 году началось строительство и земля была разрыта, шесть студентов и шесть жителей Гарлема устроили сидячую забастовку, пытаясь остановить первые бульдозеры. То, что для сооружения нового гимнастического зала должны были быть снесены жилые здания, порождало особое возмущение. Протест студентов в конце концов успешно завершился тем, что со стороны Гарлема в новом спортзале была сделана маленькая дверь и его жители смогли пользоваться им, пусть и с ограничениями. Но таково было требование студентов. Что касается жителей Гарлема, им спортивный зал не нужен был вовсе. Они нуждались в жилье. Университет также пытался помешать организации профсоюза пуэрто-риканских и чернокожих рабочих. Теперь, когда Мартин Л ютер Кинг был убит в Мемфисе, куда он отправился, чтобы оказать поддержку точно такому же профсоюзу, создания которого Колумбийский университет пытался не допустить, тот же университет собирался петь славу покойному. Студенты — сотрудники Эс-ди-эс организовали митинг. Что-то надо было делать в этой кафкианской ситуации. Некоторые доказывали, что наступил переломный момент: пришло время вмешаться и объявить о смерти идеи ненасилия и приходе эпохи «Власти черных», то есть о начале настоящей революции. Но другие возражали: ведь это означало бы уступить фигуру Мартина Лютера Кинга белому истеблишменту. «Не делайте этого, — требовали некоторые студенты. — Он был одним из нас». В результате, как рассказывал Том Хейден, случилось вот что. «Марк Радд, молодой лидер Эс-ди-эс, просто взобрался на сцену, взял микрофон и обвинил руководство университета в лицемерии: оказывая почет Кингу, они в то же время отказывают в уважении Гарлему». Что касается Радда, то он вовсе не был настолько спокоен, как казалось Хейдену и другим. На самом деле у него дрожали ноги, когда ему удалось встать перед вице-президентом Дэвидом Трумэном. Он произнес в микрофон: «Доктор Трумэн и президент Кирк совершают надругательство над памятью доктора Кинга». Микрофон отключился, но Радд продолжал. Он говорил о том, как университет «крадет землю у Гарлема», восхваляет ненасильственное гражданское неповиновение, которое проповедовал Кинг, но жестоко подавляет подобные действия в собственном кампусе. То было начало самой памятной весны Колумбийского университета. Невозможно не заметить, сколько движений 1968 года приобрели важное значение только потому, что правительства или администрация университетов прибегали к репрессиям, чтобы их остановить. Если бы они, напротив, не отреагировали — скажем, правительство Польши не закрыло бы спектакль и не отдало приказ атаковать протестующих, а немцы не обратили бы внимания на демонстрантов, выступавши* по большей части против американской, а не немецкой политики, — то многое к сегодняшнему дню было бы забыто. Что же до движения за гражданские права, то в 1968 году нужно было лишь найти «плохого шерифа», чтобы акция протеста состоялась. В этом отношении Эс-ди-эс могло рассчитывать на Грейсона Кирка и администрацию Колумбийского университета. В апреле в университете по непонятным причинам были запрещены демонстрации в помещениях, что натолкнуло Радда на мысль привести сто пятьдесят студентов в Юридическую библиотеку с петицией против Ай-ди-эй (Института анализа мер обороны). Студенты требовали ответить им, является ли Колумбийский университет частью этой организации, разрабатывавшей военные стратегии. В свою очередь, университет отказался подтвердить или опровергнуть причастность к Ай-ди-эй. Тогда Эс-ди-эс не только начало во всеуслышание утверждать о существовании этой связи, но и заявило, что Грейсон Кирк и другие попечители университета являются членами правления Ай-ди-эй. Университет поддался в два счета: на шестерых студентов было наложено дисциплинарное взыскание (в том числе и на Радда). Вместо того чтобы сосредоточиться только на вопросах, связанных с гимнастическим залом, участники демонстрации 23 апреля также обратились к проблеме, получившей название «Шестеро ай-ди-эй». Словно для того, чтобы подлить масла в огонь, за день до демонстрации университетское начальство отдало распоряжение о заключении этих шестерых студентов в карцер. Теперь демонстранты не только выражали протест против гимнастического зала и Ай-ди-эй, но и требовали «освободить шестерых ай-ди-эй». По еще одному совпадению случилось так, что именно в этот день Радд опубликовал свое открытое письмо — ответ на речь Кирка о «нигилизме», присущем «все большему числу» молодых, а также о разрыве между поколениями. В этой речи он назвал вьетнамскую войну «предпринятой из лучших побуждений, но, по существу, вылившейся в бесплодные усилия». Это звучало особенно оскорбительно для участников антивоенного движения, рассматривавших «усилия» США как аморальное стремление запугать и подчинить себе нищую и слабую нацию. Уже из заглавия, которое Радд дал своему ответу, можно было сделать вывод о тоне всего письма: оно называлось «Ответ дядюшке Грейсону». Начиналось письмо словами «Дорогой Грейсон». Радд определял по-своему то, что Кирк называл «разрывом между поколениями». «Я понимаю это как реальный конфликт между теми, кто сейчас заправляет делами — я имею в виду и вас, Грейсон Кирк, — и теми, кто испытывает чувство подавленности и омерзения от того общества, которым вы управляете, — то есть нами, молодыми... Вспомним наши бессмысленные занятия, наш разлад с собой, наше нежелание, доходящее до отвращения, быть шестеренками в вашей корпоративной машине: все это — порождение общества, в самой основе своей пораженного болезнью, и реакция на него... Мы возьмем под контроль ваш мир, который, по сути, представляет собой акционерное общество, ваши университеты и попытаемся сформировать мир, где мы, и не только мы — все смогут жить как люди». Он обещал бороться с Кирком за то, что тот поддерживает войну, за Ай-ди-эй, зато, как он поступил с населением Гарлема. Но наиболее запоминающимся в этом письме были последние слова: «Остается сказать только одно. Это первый выстрел, с которого начинается война за освобождение, и может быть, вам это покажется «нигилизмом». Я воспользуюсь словами Ле-руа Джонса, которого, я уверен, вы очень не любите: «Лицом к стене, ублюдок, это ограбление». Да здравствует свобода! Ваш Марк». Тодд Гитлин, член Эс-ди-эс, заметил: «Любопытно, однако, что Радд в этой полемике сохранил манеры цивилизованного человека: он правильно написал с точки зрения грамматики, кому адресовано письмо». Но для Радда, вполне вежливого и не отличавшегося особой грубостью, такая манера выражаться представляла собой нападение на социальный порядок «Лиги плюща» с его внешней корректностью. Он был в высшей степени обеспокоен тем, что дела в Колумбийском университете идут не должным образом, и именно поэтому поступил так, а не иначе. Серым прохладным днем 23 апреля участники акции протеста должны были встретиться у солнечных часов в центре огороженного кампуса Колумбийского университета. Радд не спал всю ночь: он готовился к своему завтрашнему выступлению, изучая речь Марио Савио «о ненавистной машине». В находящейся рядом Юридической библиотеке собрались демонстранты — около ста пятидесяти студентов, придерживавшихся правых взглядов. Они коротко стриглись, и остальные учащиеся называли их «плутами». Один их лозунг гласил: «Радд, назад на Кубу». Другой воодушевлял еще менее: «Порядок есть мир». К солнечным часам пришло не более трехсот человек. Однако по мере того как выступающие сменяли друг друга, толпа росла. Когда подошла очередь Радда говорить — его выступление должно было предварять шествие студентов в библиотеку, и таким образом запрет на проведение демонстраций в помещениях был бы нарушен, — произошло два события: во-первых, вице-президент Трумэн предложил провести митинг; во-вторых, библиотеку закрыли. Внезапно произносить речь в духе Савио стало невозможно. Радд осознал: момент не подходит для демонстрации ораторского искусства. Настало время действия. Но лидеры Эс-ди-эс никогда не действовали. Их делом было организовывать дебаты, на основе которых принималось решение. Итак, Радд спросил у демонстрантов: что делать? Он рассказал им о предложении Трумэна и о том, что библиотеку закрыли. Внезапно кто-то вскарабкался на солнечные часы и закричал: «Мы пришли сюда для того, чтобы разговаривать, или для того, чтобы идти в библиотеку?!» «В библиотеку! В библиотеку!» — ответила толпа и двинулась вперед. Радд, поскольку он был лидером, ринулся в голову колонны, чтобы занять свое место. Он и другие лидеры схватились за руки, в то время как разволновавшаяся толпа толкала их к библиотеке. «Я был там, — рассказывал Радд, — во главе демонстрации, участники которой готовы были ворваться в запертое здание или — еще хуже — бежать сломя голову на толпу правых. Представления о том, что делать, у меня были самые смутные». Он понимал только то, что разрушения спровоцируют полицию и университетское начальство на действия, которые, в свою очередь, обеспечат поддержку их движению. Подобные методы хорошо работали в Чикагском и Висконсинском университетах. Но в течение тех нескольких минут, когда они поднимались по ступенькам лестницы, ведущей к библиотеке, он еще не представлял, что они будут делать. Двери действительно оказались заперты. Радд огляделся в поисках того, на что можно было бы взобраться, и увидел мусорный ящик. Он вскарабкался на него, собираясь давать дальнейшие указания с этого командного пункта. Однако обнаружил, что толпа бежит прочь. Демонстранты орали: «Идем к спортзалу!» Радд стоял на мусорном ящике, созерцая, как демонстранты покидают его, устремившись по аллее в сторону парка Морнингсайт (в двух кварталах от кампуса). Он завопил вслед, надеясь, что его заметят: «Снесем чертову ограду!» — спрыгнул вниз и помчался, желая снова оказаться во главе группы. Когда Радд добежал до ограды, демонстранты уже пытались снести ее, но бесполезно. Один из членов Эс-ди-эс был в наручниках. За неимением более удачных идей, а также потому, что в парке появлялись все новые и новые полицейские, демонстранты вернулись в кампус. Там их встретила еще одна группа. Радд чувствовал себя так, будто его рвут на части. Он оказался полностью несостоятельным как лидер. «Марк, надо действовать более агрессивно», — говорили ему; тут же он слышал: «Марк, надо утихомирить ярость толпы». Радд ощущал, как противоречивые советы захлестывают его со всех сторон и он тонет. Он стоял на постаменте солнечных часов вместе с еще одним, чернокожим, лидером, и они обдумывали дальнейшие действия. Ни тот ни другой не имели четкого представления о том, что предпринять, хотя к этому моменту, по подсчетам Радда, у них было около пятисот студентов, готовых что-то делать. Но что именно? Тем временем другие студенты, стоя спиной к Радду, произносили речи о революции. Радд заговорил об Ай-ди-эй, потом о спортзале. Но что делать? Наконец он произнес: «Мы начнем с того, что возьмем заложника!» Так они и сделали. Говоря о заложнике, Радд имел в виду не человека. Он хотел захватить здание — устроить сидячую забастовку. Сидячие забастовки, как говорил он позднее, были «освященной временем тактикой, которую использовали трудящиеся и борцы за гражданские права». Он услышал голос, провизжавший: «Гамильтон-Холл — в осаду!» Да, подумалось ему, это идея! Он закричал: «Гамильтон-Холл — тут, прямо рядом. Пошли!» И толпа, скандируя: «Ай-ди-эй, уходи!» — двинулась к залу. В Гамильтон-Холле декан Генри Коулмэн — волосы ежиком — подошел к Радду, который уже начал подумывать о настоящем заложнике. Радд крикнул спутникам, что они должны удерживать здание и не выпускать декана, пока их требования не будут удовлетворены. Какие выдвинуть требования, можно было решить потом. Наконец-то они знали, что делать. Толпа скандировала лозунг «Нет уж, дудки, не пойду!», обычно связывавшийся с отказом от призыва. Здание и декан были захвачены. Начиная с этого момента происходящее обрело лидеров. В здании появились плакаты с изображениями Че, Стоукли Кармайкла, Малкольма Икса — и Ленина (что было отчасти анахронизмом). Число чернокожих из Гарлема, прибывавших в здание, все увеличивалось; поговаривали, что у них есть огнестрельное оружие. Позднее Радд признавался, что почувствовал испуг, когда пришло время ложиться спать и все растянулись прямо на полу. «Мы по-прежнему были ребятами из самого настоящего среднего класса, и вдруг из-за той акции протеста, что мы начали сегодняшним утром, оказались, если можно так выразиться, в совершенно другой лиге». Немедленно возникли разногласия в связи с расовыми различиями. Белые студенты хотели, чтобы Гамильтон-Холл остался открытым для занятий, поскольку они не желали отрываться от своей базы — основного контингента студентов. Но чернокожие учащиеся, ощущавшие себя связанными в первую очередь с общиной Гарлема, требовали закрыть здание. После обсуждения мнений каждая группа устроила свое собрание. Белые провели митинг в стиле Эс-ди-эс, в ходе которого состоялись дискуссии о классовой борьбе, империализме во Вьетнаме и положительных сторонах большевистской революции. В это время черные, посовещавшись, решили закрыть помещение и попросили белых покинуть его. «Будет лучше, если вы уйдете». Сонные и печальные, белые студенты собрали одеяла и подушки, которые им принесли подошедшие позже доброжелатели, и направились к центральным дверям Гамильтон-Хол-ла. Радд рассказал, что на глазах у него были слезы, когда он оглянулся и увидел, как его чернокожие товарищи перекрывают вход в здание с помощью наспех построенных баррикад. Опыт Эс-эн-си-си повторился. В 1968 году нельзя было с полным правом произнести: «Белые и черные вместе». Кто-то взломал запертую библиотеку, и, словно в детском сне, протестующие бесшумно вошли внутрь. Они бродили по зданию, заходя в офис Грейсона Кирка, где стояли вазы династии Мин и висели полотна Рембрандта. Некоторые взяли сигары; другие просматривали папки в поисках секретных документов и позже заявили, что наткнулись на информацию относительно договоров на продажу недвижимости и соглашений с департаментом обороны. Рано утром Радд нашел телефон и позвонил своим родителям в Нью-Джерси. — Мы взяли здание, — сказал Радд отцу, узнавшему о его действиях из новостей, переданных по радио и телевидению. — Ну что ж, отдайте его обратно, — ответил отец. Статья на первой полосе выпуска «Нью-Йорк тайме», вышедшего на следующее утро, свидетельствовала о том, что студенческому движению уделяется внимание по крайней мере не меньшее, чем истории Линды Леклер. В ней аккуратно сообщалось о «диких» событиях прошедшего дня; при этом отличие от собственной версии Радда заключалось лишь в том, что, по мнению газеты, он знал, что делал. Выходило так, будто Марк Радд, названный в статье президентом организации Эс-ди-эс Колумбийского университета, планировал провести демонстрантов маршем от солнечных часов в парк, затем обратно к солнечным часам и в подходящий момент призвать их к тому, чтобы взять заложника. Читатели не знали, что лидеры Эс-ди-эс учились дискутировать, а не принимать решения. Из статьи «Таймс» также следовало, будто Радд пригласил нескольких активистов из Гарлема и таким образом вовлек в события КОРЕ и Эс-эн-си-си, поэтому происходящее в Колумбийском университете стало частью кампании протеста в масштабах всей нации. Из Ньюарка приехал Том Хейден. В Ньюарке действовать стало невозможно, и он был готов перебраться в Чикаго, где располагался национальный штаб Эс-ди-эс. После того как Хейден попытался жить на доллар в день, питаясь рисом и бобами, и не смог добиться поддержки, на которую рассчитывал, он был изумлен событиями в Колумбийском университете. «Я никогда ничего подобного не видел. Студенты в конце концов взяли власть в свои руки. Но они по-прежнему оставались студентами. Вежливые, опрятно одетые, они носили с собой тетради и книги, собирались вместе и с увлечением спорили, подвергай сомнению моральную правоту своих поступков; затем, уговорив себя остаться, они размышляли, погибла ли их академическая, а также личная карьера. Им были стыдно сознавать, что они удерживают сотрудника администрации в его офисе, и вместе с тем они желали вступить с ним в плодотворный диалог. И каждую минуту чувствовалось, какие мучения испытывает это поколение жителей кампусов». Том Хейден почувствовал, что не может остаться в стороне. Он предложил свою поддержку, но в манере, принятой в Эс-ди-эс, дал понять, что не должен играть ведущую роль. Протестующие, казалось, были рады принять его помощь, даже если он собирался всего лишь молчать. Поразмыслив, он решил: «Что может быть лучше? Возможно, они думали, что привлечь в свои ряды Тома Хейдена, старейшину (двадцати девяти лет) студенческого движения, означало достичь поворотного момента в истории?» Чем дольше они удерживали здания, тем больше студентов присоединялось к ним. Когда в помещении стало слишком мало места, они двинулись в другие здания. В этом пункте у Радда возникли расхождения с Эс-ди-эс, поскольку группа отказалась присоединиться к студентам и занимать другие постройки. К концу недеЛи, в пятницу, 27 апреля, в руках студентов было пять зданий. «Нью-Йорк тайме» продолжала помещать сообщения о забастовке на первой полосе и описывать ее как соответствующую планам Эс-ди-эс. В то время в здании находился Хейден. Кроме того, приехал Эбби Хоффман. Однако ни один из них не являлся лидером. В дискуссиях участвовали все. В каждом здании были сформированы «забастовочные комитеты». Чернокожие в Гамильтон-Холле, отпустившие своих заложников вскоре после ухода белых, настаивали на своей независимости от тех, кто находился в других постройках. В каждом здании велись свои споры. Студенты размножали материалы прессы день и ночь на старых мимеографических автоматах. На занятых ими зданиях появилась баннеры, объявляющие эти постройки «свободной зоной». Некоторые заимствовали лозунг у Объединения сельскохозяйственных рабочих под руководством Сезара Чавеса «Viva la Huelga!», другие — старый лозунг сидячих забастовок «Мы не сдвинемся с места». В кампусе произошел раскол. Одни носили на рукавах красные повязки, символизировавшие приверженность революции, другие — зеленые, что означало: они поддерживают восстание, но настаивают на принципах ненасилия. «Плуты», стриженые студенты-мужчины, носившие форменные блейзеры и галстуки Колумбийского университета, казались радикалам смешными и скучными «осколками прошлого». Даже когда «плуты» попытались блокировать доставку продовольствия в занятые студентами здания, радикалы смеялись и язвили: «Не видать Колумбии фронтовых побед» — намек на то, что те постоянно проигрывали футбольные матчи. К пятнице, 26 апреля, когда в Колумбийском университете было объявлено, что строительство спортзала приостанавливается, а сам университет закрывается, то был не единственный случай закрытия высшего учебного заведения. По всем Соединенным Штатам, да и во всем мире, студенты срывали по пятницам занятия, чтобы выразить протест против войны во Вьетнаме. При этом бросались в глаза масштабы этой акции, проводимой американскими студентами, которые, начав активную деятельность в апреле, становились все более организованными. К концу года в их среде возникли новые отделения Эс-ди-эс и целая сеть подпольных университетских газет, насчитывавшая около пятисот изданий. Университеты Парижа, Праги и Токио также принимали участие в происходящем. В Италии университетская система вообще функционировала с трудом. В тот день сидячие забастовки, бойкоты и столкновения прошли в университетах Болоньи, Рима и Бари. Центральным вопросом оставалась абсолютная власть старшего профессорского состава, и студенты продолжали, к великому разочарованию политического истеблишмента, отказываться от союза с какими бы то ни было политическими партиями. В Париже триста студентов взяли штурмом дормитории американцев в университете Ситэ, расположенном в южной части города, поскольку им было отказано в совместных спальнях для юношей и девушек. Было замечено с полным основанием, что таким образом повторилась акция радикально настроенных студентов из провинциального университета в Нантере, послужившая примером для столичного студенчества. С другой стороны, в Мадридском университете было объявлено, что 6 мая, через тридцать восемь дней после его закрытия из-за студенческих демонстраций, возобновятся занятия. В Нью-Йорке то был день, отмеченный особенными проявлениями насилия. Одну девушку госпитализировали в результате столкновения между студентами, одни из них поддерживали войну, а другие были ее противниками (это произошло в элитарном учебном заведении — Высшей научной школе Бронкса). Были также госпитализированы некоторые студенты Хантер-колледжа. Но кампусом, привлекавшим внимание всего мира, оставался студенческий городок Колумбийского университета, поскольку пресса подробно освещала все, что там происходило. Теперь полиция несла охрану у его ворот и заняла все здания, за исключением тех, которые были захвачены студентами. Прямо рядом с кампусом, на 116-й улице, в длинных зеленых фургонах отряды полицейских ждали своего часа. Хотя Найфер теперь писал в «Таймс», что движение не имело лидера, что Радд был всего лишь одним из случайных ораторов и в каждом здании студенты самостоятельно решали, что делать дальше, избрав для этого специальный комитет, широкая общественность по-прежнему считала, что Эс-ди-эс организовало акцию, а Радд ее возглавляет. Попечительский совет Колумбийского университета заявил, что кампус вынудило закрыть так называемое меньшинство. Так как студентов-забастовщиков, по приблизительным подсчетам, было около тысячи, а всего в 1968 году в университете училось и проживало около четырех с половиной тысяч человек, с точки зрения математики это действительно было меньшинство. «Нью-Йорк тайме», сотрудники газеты занимали два места в попечительском совете, писала в колонке редактора: «Бунт, сидячая забастовка и демонстрация — на все это в нынешнем году в кампусах, так сказать, существует авангардная мода. Быть вне общества — значит быть в университете: эта тенденция распространилась на Токио, Рим, Каир и Рио-де-Жанейро». Такие вещи хороши для Польши и Испании, где «ощущается недостаток возможностей осуществлять изменения мирным путем демократических преобразований», утверждала «Таймс», но «в США, Великобритании и других демократических странах подобным оправданиям не место». Даже «Таймс» доверяла радиостанции Колумбийского университета Дабл-ю-кей-си-ар, когда необходима была информация о самых «горячих» событиях недели. Радиостанции вела почти непрерывное вещание круглые сутки и находилась в наиболее удобной позиции, позволявшей четко следовать за хаотичным развитием событий. Утром в пятницу руководство университета приказало Дабл-ю-кей-си-ар прекратить вещание, но отступило перед лицом колоссального взрыва протеста среди студентов. Радд и другие лидеры, хотя и говорили с такими журналистами, как Найфер из «Таймс», поддерживали наиболее тесные контакты с университетской газетой «Дейли спектейтор» и Дабл-ю-кей-си-ар. Радд часто предуведомлял руководителя радиостанции кампуса о готовящихся событиях. Именно он посоветовал ему провести репортаж о речи полковника Экста. В субботу около девятьсот тысяч участников антивоенной демонстрации заполнили Шип-Мидоу в Центральном парке. Коретта Скотт-Кинг, молодая вдова Мартина Лютера Кинга, произнесла речь. Она прочла «Десять заповедей Вьетнама» — текст, написанный Кингом, где подвергалась критике предложенная Белым домом версия событий войны. Прочитав последнюю заповедь: «Не убий», — она снискала громовые аплодисменты. Полиция арестовала сто шестьдесят демонстрантов, в том числе тридцать пять человек, пытавшихся пройти маршем из парка к территории Колумбийского университета, чтобы выразить поддержку студентам. Ответную демонстрацию возглавил архиепископ Нью-Йоркский Тиренс Кук (он торжественно вступил в эту должность в присутствии президента Джонсона всего три недели назад). Предполагалось, что в этой акции в поддержку войны будет участвовать шестьдесят тысяч человек. Однако на нее пришло лишь три тысячи. В Чикаго организаторы демонстрации заявили, что в мирном шествии из Гранд-парка, расположенного в деловой части города, приняли участие двенадцать тысяч человек. Однако чикагская полиция, применившая при нападении на демонстрантов слезоточивый газ и дубинки, утверждала, что участников было всего около трехсот. В Сан-Франциско в антивоенной демонстрации участвовалооколо десяти тысяч человек; в их числе, согласно данным организаторов, было несколько сотен военнослужащих в гражданском платье и несколько сотен ветеранов в бумажных шляпах с надписями «Ветераны за мир». В городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк) скончался незаурядный юноша-старшеклассник Рональд У. Брейзи: 19 марта он пришел к собору и поджег свою одежду, пропитанную бензином, в знак протеста против войны. Он оставил записку, в которой говорилось: «Если то, что я отдал свою жизнь, хотя бы на один день приблизит окончание войны, значит, это было сделано не зря». В то время, когда все это происходило, Соединенные Штаты начали массированное вторжение силами воздушно-десант-ной дивизии с использованием вертолетов на долину Эшо, расположенную на территории Южного Вьетнама. Только за одни день американцы потеряли десять воздушных судов. Почти в тот же день, когда началось вторжение, закончилась осада Кхе-Сан. Шесть тысяч американских морских пехотинцев, окопавшихся там и отрезанных от плато начиная с января, были освобождены в ходе операции «Пегас» силами Соединенных Штатов численностью в тридцать пять тысяч человек, а также южновьетнамскими войсками; их поддерживали вертолеты «Айроу эйр кэволри». Корреспонденты, прибывшие с войсками освободителей, описывали пейзаж вокруг Кхе-Сан как «лунный». Земля была изрыта кратерами, возникшими в результате самой интенсивной бомбежки за всю историю войн — Америка сбросила сто десять тысяч тонн бомб. Оставалось неизвестным, что предприняли две дивизии Северного Вьетнама, удерживавшие моряков в Кхе-Сан: либо они покинули его в результате бомбардировок, либо Северный Вьетнам просто не собирался наносить окончательный удар, который мог бы дорого обойтись. В любом случае предполагалось, что они отступили в долину Эшо, откуда могли совершить нападение на Дананг или Хюэ. В дополнение к атаке в долине Эшо планировалась акция по очистке Сайгона и прилегающей к нему территории от вражеских войск под оптимистично звучащим названием «Операция “Полная победа”». Кхе-Сан, где в ходе осады, длившейся одиннадцать недель, погибли двести американских морских пехотинцев и еще семьдесят были убиты в ходе операции по освобождению окруженных сил, предполагалось покинуть к концу апреля. Но оптимизм, давший о себе знать в начале апреля, когда Джонсон объявил, что не собирается бежать, уже к концу месяца сошел на нет. Что произошло в ходе мирных переговоров, когда были прекращены бомбардировки? Северный Вьетнам быстро объявил, что вышлет своих представителей для начала переговоров. Затем США обнародовали, что У. Аверелл Гарри-ман, семидесяти шести лет от роду, работавший еще при Рузвельте, ветеран дипломатии времен «холодной войны», возглавит американскую делегацию в Женеве или Париже. Соединенные Штаты также дали понять, что переговоры можно провести вДели, Рангуне или Вьентьяне. США не хотели, чтобы переговоры проходили в коммунистической столице, поскольку Южный Вьетнам и Южная Корея не имели там дипломатических миссий. 8 апреля Северный Вьетнам предложил столицу Кампучии Пномпень. 10 апреля США отвергли этот вариант, считая его неприемлемым даже для предварительных переговоров, поскольку в этом городе не было американского посольства. Тогда 1 апреля Северный Вьетнам предложил провести переговоры в Варшаве, но США незамедлительно отвергли и этот вариант. По случайному совпадению в тот же день Джонсон подписал Акт о гражданских правах, надеясь успокоить чернокожее население Америки; в тот же день было призвано двадцать четыре с половиной тысячи военнослужащих запаса и армия США во Вьетнаме достигла рекордной численности пол миллиона человек; в тот же день было объявлено, что американцы уничтожили сто двадцать врагов и потеряли четырнадцать своих солдат в сражении близ Сайгона. На следующей неделе Соединенные Штаты назвали десять вариантов места для ведения переговоров, в том числе Швейцарию, Цейлон, Афганистан, Пакистан, Непал, Малайзию и Индию. Но Ханой отверг их и вновь предложил Варшаву. Дипломатические усилия на Морнингсайт-Хайтс закончились неудачей. 29 апреля, в понедельник, почти через неделю после начала акции протеста, Колумбийский университет по-прежнему оставался закрыт, а студенты удерживали здания. Надо заметить, что усилия дипломатов были незначительны, поскольку и члены правления, и большинство на факультете выступили против бунта. Правда, руководство пыталось договориться с теми участниками протеста, которые находились в Гамильтон-Холле, поскольку его удерживали студенты-негры, связанные с Гарлемом, а руководство не хотело будоражить Гарлем. Но чернокожие студенты, верные своему обещанию, данному Радду, отказались вести переговоры без участия других студентов. Вице-президент Дэвид Трумэн пригласил Марка Радда и некоторых студенческих лидеров в свою, обставленную со всеми удобствами, профессорскую квартиру на прекрасной Риверсайд-драйв. Студентов-бунтовщиков усадили за полированный стол из красного дерева; им подали чай, причем сервиз был из серебра — все в лучших традициях Колумбийского университета. К несчастью, именно в этот момент Радду пришло в голову стащить с себя ботинки. Единственное, чем он мог это объяснить, было то, что ногам стало жарко. Но этот оскорбительный жест нашел отражение на страницах «Таймс», где Трумэн описал Радда как «способного, но безжалостного и хладнокровного... сочетание революционера и подростка со вспыльчивым характером». Собеседники так и не нашли оснований для договоренности, которая соответствовала бы интересам обеих сторон. Радд сообщил Трумэну, что студенты взяли власть в университете и требуют доступа к документации университетского казначейства, а также к документам, связанным с финансированием заведения. Каждое «свободное» здание превратилось в самостоятельную коммуну. Молодые люди жили бок о бок, спали прямо на полу, переживали всей душой революционные события, ожидая осады: они созданы для романтики, для исполненной эмоций жизни. Одна пара решила пожениться именно здесь и сейчас, в занятом ими здании. Радиостанция Дабл-ю-кей-си-ар объявила, что в Файеруетер-Холле требуется капеллан для проведения церемонии, и Уильям Старр, протестантский священник, служивший в университете, откликнулся на зов. Свадьбу наверняка с удовольствием описали бы корреспонденты журнала «Лайф». Врачующимся пришлось брать взаймы подвенечные наряды. Жених, Ричард Иган, был в куртке, как у Неру, на шее у него висели «четки любви». Невеста, Андреа Борофф, облачилась в свитер с высоким воротом; в руках она держала букет маргариток. В Файеруетере собралось более пятисот человек, присутствовал и Том Хейден. Процессия подвела парочку к Уильяму Старру, окруженному толпой из сотен забастовщиков; он провозгласил жениха и невесту «детьми новой эпохи». Даже у Хейдена, которому уже довелось изведать тяготы супружеской жизни, были слезы на глазах. Супруги назвали себя «мистер и миссис Файеруетер». Студентам Колумбийского университета казалось, что он стал очагом революции. Учащиеся, а также студенческие лидеры не только из других университетов, но даже из высших школ являлись к ним, чтобы выразить свою поддержку. Все больше обитателей Гарлема, по отдельности и организованными группами, прибывали в кампус и устраивали массовые демонстрации. Стоукли Кармайкл и X. Рэп Браун прибыли в Гамильтон-Холл, переименованный теперь в Университет Малкольма Икса. Молодежь из Гарлема собиралась вокруг кампуса, скандируя: «Власть черным!» Кошмары Грейсона Кирка сбылись. В ночь на вторник 30 апреля сотни полицейских в темноте начали собираться вокруг университета. В половине второго ночи Дабл-ю-кей-си-ар предупредила студентов, что вторжение вот-вот начнется и что они должны оставаться в своих комнатах. Полицейские утверждали, что операция действительно была намечена на это время, но несколько раз откладывалась по «техническим причинам». Как позже выяснилось, блюстители порядка выжидали, когда Гарлем заснет. В 2.30 тысяча полицейских — в шлемах, с фонарями, дубинками и, согласно свидетельствам очевидцев, кастетами — двинулась в кампус, на разгром семи сотен безоружных студентов. «“Лицом к стене, ублюдок”, — вспоминал позже Радд. — Кое-кто из студентов Колумбийского университета не ожидал, что полицейские действительно так говорят». Полиция била и тех, кто сопротивлялся, и тех, кто не оказывал сопротивления. Лишь некоторые полицейские арестовывали студентов, как полагалось по закону, и препровождали их в фургоны. Другие орудовали дубинками. Семьсот двадцать студентов затащили в обитые мягким фургоны, полностью блокировавшие два квартала на Амстердам-авеню. Студентов, занявших здания, били, когда они показывали двумя пальцами знакУ. «Студентов, пытавшихся уладить дело мирным путем, о чем ясно свидетельствовали зеленые повязки у них на рукавах, также били; было избито и несколько сотрудников факультета. В своем отчете полиция выражала сожаление, что им не сообщили, сколько сотрудников факультета поддерживает студентов и сколько студентов вовлечено в акцию протеста. «Плуты», студенты правых взглядов, приветствовавшие полицию, также были избиты. По сообщениям, ранено было сто сорок восемь человек. То был один из редких моментов в истории Америки, когда классовая борьба приняла открытые формы. Полиция, состоявшая из представителей рабочего класса, была возмущена действиями привилегированной молодежи, тем более что она не поддерживала войну, на которой сражались дети из непривилегированных слоев общества. Конфликт все больше приобретал вид классовой борьбы. В устах студентов выражение «твердая шляпа» звучало насмешкой, и полицейские, задетые за живое, атаковали их с ненавистью. Марвин Харрис, профессор антропологии Колумбийского университета, наблюдавший нападение полицейских, писал: «Многих студентов волокли вниз по лестницам. Девушек тащили за волосы; им выкручивали руки; их били кулаками по лицу. Сотрудников факультета били в пах, бросали так, что те ударялись об забор. Студент-диабетик впал в кому. У одного из сотрудников факультета произошел нервный срыв. Многие студенты истекали кровью, они были ранены в голову дубинками, которые полицейские использовали как оружие. Десятки людей, стеная, лежали на траве, и никто не оказывал им помощи». Сто двадцать дел по поводу жестокости нападавших было возбуждено против отдела полиции; то был своеобразный рекорд такого рода за всю историю существования полиции Нью-Йорка. Общественность пребывала в шоке. Поначалу администрация университета имела некоторый перевес с точки зрения паблик рилейшнз, главным образом благодаря тому, как освещались события в «Нью-Йорк тайме». Фотограф застал студентов в офисе Кирка. Студент Дэвид Шапиро — ныне поэт — был заснят за президентским столом в солнечных очках, с украденной сигарой. «Таймс» полностью отказалась от объективности, когда главный заместитель редактора А.М. Розенталь написал передовицу, поданную в виде последних новостей и опубликованную на первой полосе газеты. Она была построена на цитате из Кирка: «Боже мой, как могут люди делать подобные вещи?!» Кирк имел в виду под «такими вещами» не жестокое избиение сотен безоружных людей, но акт вандализма, который Розенталь приписал студентам, а большинство свидетелей — «Таймс» не учла этого, — и в том числе сотрудники факультета, поставившие свои подписи под данными ими показаниями, — полиции. Вопреки утверждениям «новых левых», что подобное освещение событий найдет отклик в других средствах массовой информации, и пресса, и публика были в ужасе от произошедшего и вовсе не предавали студентов анафеме. Журнал «Тайм» писал: «Большая вина лежит на президенте Грейсоне Кирке. Его равнодушная, не разобравшаяся в ситуации администрация не смогла ответить на жалобы по поводу проблем, долгое время тяжким грузом лежавших на обитателях кампуса». Профессора и преподаватели университета сформировали совет, учредивший комиссию по расследованию произошедшего. Ее возглавил профессор Гарварда Арчибальд Кокс. Странно, но все участники событий — студенты, администрация, полиция — повторили все то же самое еще раз. Дискуссия на тему перемен в университете продолжалась. Но администрация, спровоцировавшая первый инцидент тем, что выбрала для наказания Радда и еще пятерых студентов, решила в конце мая временно исключить опять-таки Радда и еще четверых. Подобное временное исключение в 1968 году имело особенно серьезные последствия, поскольку означало прекращение действия отсрочки от призыва и часто становилось приговором к отправке на войну во Вьетнам. Как отреагировали студенты? Они устроили демонстрацию. Что делали во время демонстрации Радд и остальные четверо? Они захватили Га-мильтон-Холл. А затем силами тысячи полицейских вновь было произведено нападение, и в результате сражения пострадало шестьдесят восемь человек, в том числе семнадцать полисменов. Радд вернулся в кампус — его отстранили от учебы и выпустили под залог в две с половиной тысячи долларов — и призвал продолжать акции протеста в течение весны и лета. Журнал «Тайм» поинтересовался у родителей Радда (они проживали в пригородном Мейплвуде и получали целый поток писем антисемитского содержания, где то и дело встречались слова «проклятый еврей»), что они думают по поводу всего случившегося с их сыном. Отец отметил, что его собственная юность прошла в борьбе за кусок хлеба и «мы рады, что у Марка есть время на то, чтобы заниматься политикой». Мать говорила: «Мой сын — революционер». В августе, когда Кирк, почти ко всеобщему облегчению, подал в отставку, попечительский совет в течение четырех часов спорил о том, принимать ее или нет, так как она будет расценена как уступка мятежным студентам. В конце концов они приняли отставку, даже несмотря на то что было очевидно, что президент ушел под давлением студентов. «Сам по себе этот вопрос не вопрос», — сказал Радд. Проблема заключалась не в том, как поступили с жителями Гарлема, и не в том, что администрация выражала поддержку военной машине во Вьетнаме. Дело было в необходимости изменений в американских университетах. Даже комиссия Кокса подвергла критике авторитарное управление в Колумбийском университете, где некоторые правила оставались неизмененными с восемнадцатого века. Коль скоро студенты смогли выступить, это означало, что они могут поставить перед собой цель разорвать связь между корпорациями и университетами, изъяв академию из сферы бизнеса по производству оружия, а Америку — из сферы военного бизнеса. Том Хейден писал в «Рэмпартс»: «Цель, сформулированная в лозунге, написанном на стене университета, состоит в том, чтобы «создать две, три и множество Колумбий»; это означает: пусть забастовка распространится так, что Америка должна будет либо измениться, либо послать войска, чтобы захватить американские кампусы». Цель казалась вполне реальной.Глава 12 «МЕСЬЕ, МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ВЫ ПРОДАЖНЫЙ НЕГОДЯЙ»
Человек не бывает глупым или умным: он либо свободен, либо нет. Надпись на стене медицинского факультета. Париж, май 1968 г. Быть свободным в 1968 году означает не быть в стороне. Париж, май 1968 г.
Некоторые французские студенты, узнав, что студенты в других странах ниспровергают и крушат все подряд, решили заняться тем же.Когда в промозглый Париж пришла весна, президент Франции, семидесятивосьмилетний генерал, — человек из девятнадцатого века, обладавший почти абсолютной властью и управлявший страной в соответствии с конституцией, написанной им самим десятью годами ранее, — обещал сохранить стабильность и выполнял свое обещание. Этот некоронованный король, лелеявший монархические мечты, время от времени приглашал в свой дворец для консультаций Анри, графа Парижского, претендента на французский престол, выступая в роли хозяина перед королем без королевства. Не считаясь с оппозицией, де Голль с фатальным постоянством действовал так, как будто он был вне политики с обычным для нее поиском союзников. В 1966 году, водворившись в королевских «саль до фет» («парадных апартаментах») Елисейского дворца, на вопрос о здоровье он ответил: «Оно в полном порядке. Но не волнуйтесь: когда-нибудь я умру». 15 марта 1968 года, когда ФРГ, Италия, Испания, США и многие другие страны были охвачены беспорядками, журналист газеты «Монд» Пьер Виансон-Понте написал ставшую впоследствии знаменитой статью, в которой утверждал, что «Франция изнывает от скуки». Приблизительно в то же время де Голль невозмутимо заявил: «Во Франции все в порядке, тогда как в Германии — политические неурядицы, в Бельгии — проблемы с языком, а в Англии — финансовый и экономический кризис». Он постоянно подчеркивал, что французы должны быть ему благодарны за то унылое благополучие, которое он им обеспечил. В то время как де Голль раздражал весь мир, опрос, проведенный в начале марта консервативной французской газетой «Фигаро», показал, что 61% французов поддержали внешнеполитический курс президента и лишь 13% высказались против. Однако в дальнейшем недовольство политикой де Голля во Франции должно было нарастать. Так считал респектабельный журналист Франсуа Фонтивиль-Алькийе, который в марте 1968 года был привлечен к суду на основании закона восьмидесятилетней давности, запрещавшего любую критику президента. Прокуроры огласили двенадцать цитат из его последней книги «Вновь потерянный авторитет», подпадавшей под обвинение в «посягательстве на честь» главы государства. Закон, принятый 29 июля 1881 года, предусматривал тюремное заключение сроком до трех лет или штраф от ста до трехсот тысяч франков (от двадцати до шестидесяти тысяч долларов по курсу 1968 года) за «нападки» в форме «речей, реплик или угроз, произнесенных в общественных местах или написанных и прозвучавших в прессе». Вместе с этим эпизодом общее количество случаев применения упомянутого закона с начала президентства де Голля достигло трехсот. Так, некий гражданин был присужден к штрафу в пятьсот франков за возглас «Долой!», брошенный вслед проезжавшему мимо автомобилю президента. Когда французы говорили, что одобряют внешнеполитический курс де Голля, кроме них, почти никто не разделял такой оценки. Крайний национализм президента, казалось, таил в себе угрозу для большинства международных организаций 1967 год был особенно трудным, или, лучше сказать, это был год, когда де Голль создал максимум затруднений. Он вывел Францию из состава НАТО — организации, в которой она когда-то играла главную роль, — и поставил под вопрос существование ЕЭС, вторично заблокировав вхождение в его состав Великобритании. Его знаменитое заявление после Шестидневной войны, в котором он назвал евреев «высокомерным» народом, возмутило не только представителей еврейских диаспор во Франции и США, но и всю общественность. Даже канадцев де Голль восстановил против себя выражением поддержки сепаратистам Квебека во время выступления с балкона ратуши в Монреале, когда находился в Канаде с официальным визитом. «Всякому ясно, что в лице де Голля США имеют дело с малоприятным отставником, чьи лучшие годы остались далеко позади», — заявил в Далласе Гордон Мак-Лендон, и его слова были озвучены восемью радиостанциями. В США повсеместно раздавались призывы бойкотировать товары французского производства. Когда при опросе общественного мнения граждан США предложили назвать страны, вызывающие их симпатию, Франция попала почти в самый конец списка (ниже оказались только Египет, СССР, Северный Вьетнам, Куба и Китай). В ходе опроса, в котором англичан попросили выбрать главного преступника двадцатого века, на первом месте оказался Гитлер, а на втором — Шарль де Голль, оставив позади даже Сталина (четвертое место занял британский премьер-министр Гарольд Вильсон). Министр иностранных дел ФРГ Вилли Брандт, человек с чувством юмора, в начале февраля сказал, что власть для де Голля — «навязчивая идея» (правда, вскоре ему пришлось извиняться за эти слова). Далеко не весь поток критики шел из-за рубежа, несмотря на жесткую охранительную политику де Голля. Французы нового поколения с нетерпением ожидали своей очереди. К этому поколению принадлежал пятидесятидвухлетний социалист Франсуа Миттеран, который все еще оставался на втором плане, позади шестидесятиоднолетнего Пьера Мендес-Франса, левого экс-премьера, вызвавшего крайнее раздражение правых своим решением о выводе французских войск из Индокитая. Появились и новые лица. В то время как в США «новые левые» зачитывались переводами сочинений Камю, Фэнона и Дебре, во Франции вышла в свет книга для респектабельных граждан. Это был «Американский вызов» Жана Жака Серван- Шребера, издателя умеренно-левоцентристского еженедельного информационного журнала «Экспресс». Книга, в 1967 году ставшая бестселлером во Франции, была переведена на английский язык и в 1968 году стала бестселлером и в США. Сер-ван-Шребер размышлял о времени после ухода де Голля, а также о собственных амбициях и своем месте в новом мире. Единственная избирательная кампания, в которой он участвовал (выборы в Национальное собрание 1962 года), закончилась для него поражением. Впрочем, если произведения могут быть вехами политической карьеры, то эта карьера была на редкость успешной. Во Франции за первые три месяца книга побила все послевоенные рекорды продаж. Главная мысль в произведении Серван-Шребера заключалась в следующем: в течение ближайших тридцати лет США достигнут такого могущества, что Европа станет едва ли не американской колонией. Европейское экономическое сообщество, несмотря на то что с 1 июля 1968 года отменялись таможенные барьеры между странами — членами ЕЭС, не могло достаточно быстро развиваться и, следовательно, в перспективе было обречено. Основной вывод книги, которую в 1968 году часто цитировали дипломаты и предприниматели, гласил: либо Европа станет такой, как США, либо будет ими «проглочена». Американские компании с их четырнадцатью миллиардами долларов, инвестированными в европейскую экономику, будут играть доминирующую роль. Автор предрекал, что в ближайшие тридцать лет США и Европа шагнут в так называемое постиндустриальное общество. И добавлял: «Мы должны запомнить этот термин, ибо он определяет наше будущее». Среди других сбывшихся прогнозов оказались и такие: «Время и пространство более не будут помехой для передачи информации»; «Разрыв между высокими и низкими заработками в постиндустриальном обществе будет гораздо больше, чем теперь». В то же время он поддержал широко распространенное в 1968 году мнение, будто к концу столетия американцы смогут прямо-таки купаться в огромном количестве свободного времени. Через тридцать лет, предсказывал Серван-Шребер, «Америка станет постиндустриальным обществом с доходом в семь тысяч пятьсот долларов на душу населения. Рабочая неделя будет состоять всего лишь из четырех дней по семь часов. Год будет включать в себя тридцать девять рабочих недель и тринадцать недель отпуска». Серван-Шребер цитировал прогноз правительственного эксперта: «К 1980 году компьютеры станут небольшими по размерам, мощными и недорогими. Пользование компьютером сделается доступным каждому, кому это необходимо, кто этого желает или обладает соответствующими навыками. В большинстве случаев пользователь будет располагать небольшой персональной консолью, подключенной к обширной центральной компьютерной сети, где огромная электронная память будет хранить информацию по всем отраслям знания». Эта книга была своего рода предупреждением: «Сегодня Америка находится все еще на одном уровне с Европой, но готова к рывку в ближайшие пятнадцать лет. Пока она также является частью индустриального общества. Однако в 1980 году США вступят в другой мир, и если мы их не догоним, американцы получат монопольное право на высокие технологии, научные достижения и политическое господство». Серван-Шребер предвидел (хотя и несколько поспешил со своим прогнозом) опасность такой ситуации, когда США станут единственной сверхдержавой. «Если Европа, подобно Советскому Союзу, будет вынуждена сойти с дистанции, Соединенные Штаты останутся одни в своем мире будущего. Такой сценарий неприемлем для Европы, опасен для США и будет иметь катастрофические последствия для всего мира... Нация, обладающая монополией на политическое господство, будет рассматривать империализм как своего рода миссию, а свой успех расценит как аргумент в пользу того, что остальной мир должен последовать ее примеру». Серван-Шребер считал, что времени крайне мало, а на пути модернизации Франции и Европы лежит главное препятствие — престарелый генерал из девятнадцатого века. «Де Голль из другой эпохи, он представитель другого поколения», — заявил сорокачетырехлетний издатель, летчик-истребитель, сражавшийся за свободу Франции в годы Второй мировой войны. «Он далек от рационализма, тогда как наше время требует именно трезвого расчета». Даже излюбленный генералом образ героя Второй мировой войны более не выглядел убедительным. «Я не люблю героев. Дети, которые боготворят Бэтмена, становясь взрослыми, отдают героям свои голоса. Я полагаю, что после де Голля европейцев будет тошнить от героев», — писал Серван-Шребер». Серван-Ш ребер был представителем среднего поколения французов, уставших от старика де Голля и вместе с тем настороженно относившихся к новой молодежной культуре. «Я хочу, чтобы мои сыновья, возмужав, стали гражданами великой страны. Я не хочу, чтобы они были людьми второго сорта. Парень двадцати пяти лет, которому нечем гордиться, совершает разные глупости, как то: становится хиппи, едет в Боливию воевать с повстанцами или вешает дома на стену портрет Че Гевары». Изнывавшая от скуки и косности Франция носила в себе два конфликта: один — между поколением людей, переживших войну, и их детьми; второй — между генералом де Голлем и большинством французов. Существовавшая уже десять лет Пятая республика де Голля и оппозиционные настроения, готовые захлестнуть общество, в котором «ничего не происходило», были порождены алжирской проблемой. Французская колония Алжир, в годы войны ставшая пристанищем для организации «Свободная Франция» де Голля и Временного правительства Франции в изгнании, стала требовать независимости сразу после окончания военных действий. Эта борьба Алжира питала творчество Франца Фэнона и во многом стимулировала антиимпериалистическое движение шестидесятых годов. Пьеру Мендес-Франсу, сумевшему предоставить независимость Индокитаю и Тунису, не хватило политической воли, чтобы «отпустить» Алжир. Хотя борьба с колонизаторами шла почти непрерывно с самого начала французского присутствия, то есть с 1848 года, в стране проживало около миллиона французов; многие жили здесь из поколения в поколение, так что французы считали Алжир своим. Французская армия, сначала разгромленная вермахтом, а потом потерпевшая поражение от вьетнамцев, считала Алжир своей последней позицией, поэтому ни о каких соглашениях не могло быть и речи. К этому моменту Франция как будто бы уже рассталась с де Голлем. После Второй мировой войны он видел свою миссию в спасении Франции от «левой угрозы». Преследуя эту цель, он культивировал миф о доблестной Франции, героически боровшейся с нацистским оккупационным режимом. В действительности французское движение Сопротивления было в основном коммунистическим, и, помня об этом, многие французы отдавали свои голоса коммунистам. Де Голль предложил французам альтернативу и до конца своих дней настаивал на том, что он являлся единственной альтернативой коммунизму во Франции. В 1946 году французы воспользовались подходящим случаем и лишили его поста главы правительства. Хотя он неоднократно бросал вызов кабинетам социалистов, находясь в непримиримой оппозиции, в 1955 году, в шестидесятипятилетнем возрасте, де Голль официально ушел из политики, завершив свою беспрецедентную карьеру. Однако к 1958 году и во Франции, и в Алжире возникло столько разных заговоров и «контрзаговоров», что перед Францией встала реальная опасность свержения правительства социалистов в результате переворота, организованного правой военщиной. Войска в Алжире под командованием генерала Рауля Салана никогда не подчинились бы тому правительству, которое решилось оставить Алжир, социалистам же военные не верили. Насколько де Голль был в стороне от этих интриг, остается тайной. Некоторые лица из числа его соратников были, разумеется, в них вовлечены, однако сам де Голль сумел сохранить дистанцию. В качестве лидера одной из французских политических организаций в годы Второй мировой войны он поднаторел в этом виде международной дипломатии. Теперь отставной генерал просто дал понять: если Франция нуждается в нем, он смог бы быть ей полезен. В отношении де Голля было столько подозрений, что в Законодательном собрании у него открыто спросили, не идут ли его намерения вразрез с демократическими принципами И услышали в ответ: «Вы полагаете, что в шестьдесят семь лет я гожусь на то, чтобы начать карьеру диктатора?» Даже когда правительство стало более сговорчивым и пошло навстречу генералу, было трудно убедить Национальное собрание, влиятельную нижнюю палату парламента, поддержать наметившуюся политическую сделку. Председатель Национального собрания, социалист Андре ле Троке, отверг условия де Голля — роспуск парламента и принятие новой конституции, — в свою очередь, потребовав, чтобы генерал предстал перед депутатами. Де Голль отказался, заявив: «Мне не остается ничего другого, кроме как предоставить вам решить этот вопрос с помощью десантников, а самому вернуться домой, чтобы оставаться там наедине с моей скорбью». После этого он уехал к себе в Коломбе-ле-дез-Эглиз. Однако было ясно, что лишь правительство во главе с де Голлем сможет предотвратить попытку военного переворота. В итоге депутаты согласились со всеми его условиями, включая принятие новой конституции. Франция обратилась к нему с целью положить конец алжирскому кризису, а вовсе не для того, чтобы реформировать французскую политическую систему. Мало кто из современных монархов (и никто из лидеров демократических стран) обладает такой абсолютной властью, какой де Голль в своей Конституции наделил президента Пятой республики — президента, которым в обозримом будущем должен был стать он сам. Президент может преодолеть депутатское вето, назначив референдум или распустив парламент. Президент обладает правом законодательной инициативы и решает, какие законопроекты будут обсуждаться в парламенте и в какой редакции. Он может блокировать предложения о снижении налогов или увеличении расходов. Если по истечении десятинедельного срока депутаты не утвердили проект бюджета, президент имеет право легализовать его своим указом. 4 сентября 1958 года генерал официально ввел в действие новую Конституцию, стоя перед огромной, высотой в двенадцать футов, римской цифрой V, обозначавшей для вновь провозглашенной Пятой республики символом победы. Де Голль никогда не упускал возможности использовать свой любимый миф, будто он один, без посторонней помощи, спас Францию от фашизма. Впрочем, для молодого поколения литера V была символом мира, означавшим ядерное разоружение. Де Голль, мечтавший о французской водородной бомбе, не знал и не хотел знать ни о молодежи, настроенной против гонки ядер-ных вооружений, ни о молодых людях, выступавших против его конституции и выходивших на улицы Парижа с плакатами, на которых было написано слово «фашизм». Полиция разгоняла молодежь, сумевшую отбить несколько таких нападений благодаря сооружению баррикад. Одна из причин, почему де Голль смог вступить в должность на собственных условиях, заключалась в том, что он шел навстречу незавидной ситуации. Эта ситуация была даже хуже той, в которой оказался в 1968 году Линдон Джонсон. Франция переживала трудные времена, ведя непопулярную колониальную войну. Пытки и другие зверства, практиковавшиеся в борьбе с жестоким и непримиримым Движением за независимость Алжира, дискредитировали Францию, стремившуюся смыть пятно позора германской оккупации. В 1968 году Линдон Джонсон знал, что, если он решит прекратить войну во Вьетнаме, сторонники продолжения войны и сами военные примут его решение. Для де Голля же прекращение войны в Алжире означало вероятность массовых волнений. Впрочем, продолжение войны сулило аналогичные последствия. Во Франции нарастало антивоенное движение, собиравшее внушительные манифестации, встречавшие жестокий отпор со стороны полиции. Широкие слои французского общества, включая некоторых ветеранов, выступали против войны. Серван-Шребер был откровенным противником войны в Алжире. Отслужив там, он написал книгу «Лейтенант в Алжире», за которую его безуспешно пытались предать военному суду. Алену Гейсмару, французскому еврею, было девятнадцать лет, когда де Голль пришел к власти. Его отец погиб в борьбе с нацистами, а дед был отправлен в концентрационный лагерь. Самые первые годы своей жизни Ален провел во Франции, где его прятали. Этот жизненный опыт сформировал его как личность. «Во время войны в Алжире я обнаружил в нашей армии кое-что из практики нацистов, — говорил он позже. — Масштаб был не тот, о геноциде речи не шло, однако имели место пытки и существовали «фильтрационные» лагеря. В 1945 году нам говорили, что с этим покончено навсегда, но в 1956 году я понял, что это не так». Война в Алжире способствовала радикализации французской молодежи. В 1960 году, когда антивоенное движение во Франции достигло своего апогея, в студенческих организациях взяли верх левые радикалы, тогда как в течение многих лет ими руководили правые. Гейсмар принял активное участие в антивоенном движении и был одним из организаторов демонстрации в Париже в октябре 1961 года. Полиция открыла огонь по алжирским демонстрантам. «Я видел, как они расстреливали алжирцев», — вспоминал Гейсмар. После той расправы трупы находили в Сене, однако до сих пор неизвестно, сколько тогда погибло людей. Во Франции этот инцидент открыто не обсуждался вплоть до 90-х годов. В 1962 году де Голль наконец-то сумел прекратить войну в Алжире22. Алжир стал независимым, и Франция вступила в один из редких для нее периодов мира и стабильности в двадцатом столетии. Французские 60-х начались с акции популярной радиостанции «Европа-1», которая анонсировала открытый для всех желающих концерт в Париже, на площади Нации. Неожиданно для всех на площадь пришли тысячи молодых людей. Записи и живая музыка, в основном американская и британская, звучали непрерывно почти всю ночь напролет. Французы привыкли к танцевальным вечерам в День взятия Бастилии, когда люди танцевали под «На мостах Парижа» или «Жизнь в розовом свете», исполнявшихся на аккордеоне, но открытый для всех желающих рок-концерт, продолжавшийся всю ночь на свежем воздухе, — это было что-то новое. В шестидесятых годах Франция переживала мощный экономический подъем. Между 1963 и 1969 годами реальная заработная плата выросла на 3,6% — рост, обеспечивший превращение Франции в общество потребления. Как-то вдруг у французов появились личные автомобили. В квартирах устанавливались туалетные комнаты, хотя к 1968 году лишь половина парижских домов была ими оборудована. Франсуа Миттеран говорил об обществе потребления, «которое пожирает само себя». Французы приобретали телевизоры и телефоны, хотя служба, подключавшая телефонную связь, работала медленно и Франция все еще отставала от многих европейских стран по количеству телевизоров. На государственном телевидении не было ни одного интересного канала, хотя оно, помимо всего прочего, обладало и таким преимуществом, как полное отсутствие коммерческого начала. Впрочем, в скором времени французы ощутили на себе могущество телевидения. Самая первая телестудия с черно-белым изображением начала свои трансляции в 1957 году. Борьбу за гражданские права, события американской войны во Вьетнаме и демонстрации, направленные против этой войны, можно было наблюдать по телевизору во многих французских гостиных, тогда как французскую войну в Индокитае никто по телевизору не показывал. Де Голль довольно эффективно использовал этот новый инструмент, всецело находившийся в распоряжении президента, не только для обеспечения контроля за освещением проводимой им политики, но и для саморекламы. «У де Голля роман с телевидением, — говорил Серван-Шребер. —- Он оценил возможности средств массовой информации лучше, чем кто-либо другой». Владельцы печатных СМИ были в ярости, когда де Голль пообещал допустить на телевидение частных предпринимателей; многие расценили это как попытку отвлечь внимание публики от прессы, которая могла позволить себе критику президента, и, напротив, привлечь внимание к телевидению, находившемуся под контролем государства. В 1965 году во Франции прошли первые президентские выборы с прямым голосованием — президент, как когда-то, выбирался простым большинством голосов. Эти выборы также стали первой телевизионной избирательной кампанией. Вместе с тем во Франции это были первые выборы, находившиеся под контролем наблюдателей. Чтобы избежать даже намека на какую-либо предвзятость, в течение последних двух недель избирательной кампании де Голль ежедневно предоставлял каждому из кандидатов по два часа эфирного времени на государственных телеканалах. Эффект, произведенный появлением на телеэкранах Франсуа Миттерана и Жана Леканэ, был ошеломляющим. Большинство французов никогда прежде не видели кандидатов на пост президента, за исключением самого де Голля, который постоянно мелькал на телеэкране. Тот факт, что Миттеран и Леканэ вообще попали на телевидение, ставил их вровень с де Голлем. Было невозможно не отметить, насколько молодыми и энергичными казались оба по сравнению с генералом. Де Голль победил на выборах, но только после второго тура, когда в поединке с Миттераном ему удалось получить необходимое простое большинство. Вопреки тому, что он о себе думал, де Голль вовсе не был «неприкасаемым монархом». В середине 60-х во Франции начался рост цен, и правительство опасалось влияния инфляции на состояние экономики страны. На росте цен сказалось, в частности, резкое увеличение численности населения за счет иммигрантов из Северной Африки, в основном христиан и евреев (всего около миллиона человек). В результате резко возрос уровень безработицы. В 1967 году правительство приняло ряд мер, направленных на решение экономических проблем. Однако рабочим казалось, что эти меры направлены против них. Реальная заработная плата снижалась, а отчисления в фонд социального страхования росли: ставки платежей увеличились вследствие расширения круга клиентов системы страхования за счет сельскохозяйственных рабочих. Дождливым днем 1 Мая, после пятнадцатилетнего забвения, традиционно радикальная Коммунистическая партия, организовав первомайскую демонстрацию на площади Бастилии, когда рабочие, подняв руки, сжатые в кулак, пели «Интернационал», вновь напомнила о себе. В соответствии с новыми стандартами жизни все больше французов стремились получить высшее образование, однако и они не были счастливы в своих переполненных аудиториях. В 1966 году студенты университета в Страсбурге выпустили прокламацию «О жалкой жизни студентов», где, в частности, говорилось: «Студент представляет собой самое презренное существо во Франции, за исключением священника и полицейского... Когда-то университеты пользовались уважением: студент упорно верил в то, что ему повезло, коль скоро он здесь учится. Но он пришел слишком поздно... «Механически» изготовленный специалист — такова в наше время цель «системы образования». Современная экономика требует массового производства студентов, которые остаются необразованными и, как следствие, неспособны размышлять». В 1958 году в университетах Франции обучалось сто семьдесят пять тысяч студентов, а к 1968 году их было уже пятьсот тридцать тысяч — вдвое больше, чем в Великобритании. Однако во Франции вручалось вдвое меньше дипломов, чем в британских университетах, потому что три четверти французских студентов бросали учебу, не закончив курса. Вот почему де Голль поначалу недооценил студенческое движение; он полагал, что вовлеченная в него молодежь просто не желает сдавать экзамены. Университеты были переполнены (только в парижской системе высшего образования насчитывалось сто шестьдесят тысяч студентов), поэтому, как только студенчество начинало митинговать, к колоннам молодежи присоединялось множество сочувствующих. Не следует забывать и об учащихся университетских колледжей и лицеев, у которых были те же проблемы, что и у студентов высших учебных заведений. В большинстве университетов, особенно в Нантере, помещения кампусов были малопригодны для проживания и обучения. Кроме того, французский университет — даже в большей степени, чем американская высшая школа, — представлял собой абсолютно авторитарную систему. В то время как будущее Франции, будущее Европы, новые отрасли научного знания и новые технологии вызывали оживленные дебаты (что объясняет успех у публики таких книг, как «Американский вызов»), студенты не имели возможности обсуждать ни одну из этих проблем. Диалога между преподавателями и студентами не существовало — ни в аудиториях, ни вне их. Решения принимались к исполнению без какого бы то ни было обсуждения. В мае на стене Сорбонны появилась надпись: «Профессора, вы так же устарели, как ваша культура». Смеяться над возрастом французской культуры стало новым способом «борьбы с предрассудками». Однако учителя и профессора тоже были лишены свободы слова. Ален Гейсмар, ставший профессором физики и директором Национального союза преподавателей высшей школы, впоследствии вспоминал: «Представители молодого поколения чувствовали, что не хотят жить так, как жили прежние поколения. Я ставил в вину поколению Освобождения упущенную возможность модернизации общества. Они всего лишь хотели вернуть назад все то, что было прежде. Де Голль возглавил движение Сопротивления, освободил Францию, остановил войну в Алжире, и он же ничего не понял в настроениях молодежи. Он был великим человеком, который слишком долго жил». Химики знают, что некоторые очень устойчивые элементы в сочетании с другими, казалось бы, инертными,элементами, могут внезапно произвести взрыв. В недрах этого скучного, пресыщенного, самодовольного общества скрывались едва заметные элементы — радикально настроенная молодежь и безнадежно устаревший в прямом и переносном смысле слова лидер нации, переполненные университеты, озлобленные рабочие, потребительские настроения, охватившие одних и вызывавшие отвращение у других, конфликт поколений и даже, может быть, сама скука, — их соединение не могло не произвести взрыв. Это началось с «полового вопроса» в конце января, когда Франция все еще томилась от скуки. Студенты университета в Нантере (это заведение представляло собой комплекс на редкость безобразных бетонных сооружений, построенных четырьмя годами ранее; одиннадцать тысяч студентов сгрудились в нем на окраине Парижа) подняли проблему студенческих общежитий для лиц обоего пола. Правительство не отреагировало на их требования. Когда Франсуа Мисоф, министр по делам молодежи, приехал в Нантер, невысокий рыжий студент попросил у него прикурить. Это был Даниэль Кон-Бенди, один из студенческих лидеров. Затянувшись табачным дымом, он сказал: «Господин министр, я прочел вашу “белую книгу”, посвященную проблемам молодежи. На трехстах страницах нет ни слова о “половом вопросе”». Министр ответил, что приехал с целью продвижения спортивных программ; по его мнению, они должны гораздо больше интересовать учащихся. К удивлению министра, его слова не вразумили рыжего студента, который вместо ответа повторил свой вопрос относительно «половой проблемы». «Неудивительно, что студента с такой физиономией, как у вас, волнует эта проблема. На вашем месте я бы утопился». — «Вот ответ, достойный гитлеровского министра по делам молодежи». Один этот разговор сделал Кон-Бенди настолько известным, что едва ли не каждый парижский студент знал его просто как Дени. Краткий диалог между студентом и министром стал формулой, которой предстояло повторяться снова и снова во всевозрастающем масштабе до тех пор, пока вся Франция не перестала работать, а Дени прославился на весь мир как Красный Дени. Он родился в 1945 году в только что освобожденной Франции в семье немецких евреев, скрывавшихся во время войны. Его отец покинул родину после прихода Гитлера к власти, поскольку он был не только евреем, но и адвокатом, получившим широкую известность в качестве защитника коммунистов. После войны он вернулся во Франкфурт к своей адвокатской практике. Пример спасения и возвращения еврея в Германию был из числа удивительных и редких случаев. Дени на какое-то время остался во Франции вместе с матерью-учительницей. Однако им было не особенно уютно в стране с недавним коллаборационистским прошлым, помнившей депортации евреев. В течение ряда лет они переезжали из страны в страну. Дени стал убежденным коммунистом. Он вспоминал, что впервые почувствовал себя евреем в 1953 году, когда в США были казнены Юлиус и Этель Розенберг, обвиненные в шпионаже в пользу СССР. В Германии Дени и его брат наугад определяли возраст прохожих и строили предположения о том, чем занимались эти люди во время войны. Дени был потрясен, когда во время свидания с умиравшим отцом в одном роскошном санатории он услышал громкое щелканье каблуков — так обслуживающий персонал, в полном соответствии со старой немецкой традицией, выражал готовность угодить своим клиентам. В 1964 году Дени приехал в США, эту чудовищную страну, убившую Розенбергов. В Нью-Йорке он побывал на поминальной службе по двум активистам Южной конференции христианского руководства, погибшим в штате Миссисипи (Эндрю Гудман и Майкл Швернер были родом из Нью-Йорка). «Общая атмосфера произвела на меня потрясающее впечатление, — вспоминал Кон-Бенди. — Эти двое белых парней еврейского происхождения, которые поехали в Миссисипи. Какой ужас! Это несколько отличалось от того, к чему я готовился». В марте 1968 года, когда Франция все еще пребывала в спячке, ситуация в Нантере стала накаляться. По версии министерства внутренних дел, небольшие группы экстремистов проводили агитацию в студенческой среде с целью повторить выступления радикально настроенных студентов в Берлине, Риме и Беркли. Аналогичную оценку ситуации неоднократно давал министр образования Ален Пейрефит. И в этом была некая доля истины. Так, карликовая троцкистская партия под названием «Революционная коммунистическая молодежь» вдруг стала очень влиятельной, а ее двадцатисемилетний лидер Ален Кри-вэн не только сотрудничал с Руди Дучке в Берлине, но и принимал самое активное участие (при посредничестве троцкистской Американской социалистической рабочей партии) в волнениях, охвативших американские студенческие городки. Примечательно, что движение, которому предстояло стать самым массовым, было менее всего идеологизированным. Оно получило название «Движение 22 марта». Его лидером стал Кон-Бенди. Это движение не имело четко сформулированной политической программы. Как и в других странах, люди, появившиеся во Франции в 1968 году, не были едины во взглядах, поскольку принадлежали к правым и левым политическим организациям; однако все они стремились жить по демократическим принципам, чуждым авторитарного начала. Они протестовали против «холодной войны», вынуждавшей каждого выбирать между двумя враждебными сторонами, а также выступали против де Голля, который постоянно повторял: «Оставайтесь со мной, иначе к власти придут коммунисты». Эти люди были солидарны с требованиями, прозвучавшими в Декларации Порт-Гурона: они хотели альтернативы «холодной войне» и предоставления им права свободного выбора. «Освобождение упустило редкий шанс, и в скором времени «холодная война» все заморозила, — вспоминал Гейсмар. — Вы должны были встать на ту или другую сторону. Год 1968-й явил попытку водворить мир между этими сторонами, поэтому коммунисты враждебно отнеслись к массовым выступлениям 1968 года». В середине 60-х станция парижского метро в Нантере еще называлась «Нентер а ла фоли» («Поместье Нантер»); это напоминало о том, что некогда Нантер являлся загородной усадьбой одного из парижских аристократов. Со временем он превратился в предместье с вымощенными булыжником улицами, где располагались комфортабельные дома представителей парижского среднего класса. Впоследствии здесь было построено несколько заводов, а между ними — так, что их почти невозможно было отличить друг от друга, — возвели университетские корпуса, окруженные похожими на бараки домами, в которых ютились иммигранты из Северной Африки и Португалии. Идеально чистые помещения студенческих общежитий своими большими стеклянными окнами смотрели на трущобы, как в Колумбийском университете. В то время как студенты Сорбонны жили и учились в самом сердце великолепного города, среди его средневековых памятников, кафе и ресторанов, у студентов Нантера не было возможности посидеть в кафе, и вообще им некуда было пойти. Единственным их «жизненным пространством» являлась комната в общежитии, где они не имели права менять мебель, готовить пищу или говорить о политике. Кроме того, в общежитие не пускали посторонних. Лицйм женского пола дозволялось заходить в комнаты, предназначенные для мужчин, только с разрешения родителей или в том случае, если им уже исполнился двадцать один год. Мужчинам заходить в женские комнаты не разрешалось ни при каких условиях. Впрочем, обычно девушки оказывались в мужских комнатах в нарушение всех правил. Нантер считался одним из самых прогрессивных университетов, где студентов будто бы всячески поощряли за разного рода эксперименты. Однако в действительности авторитарная университетская система свела здесь на нет всякие преобразования точно так же, как это делалось в любом другом вузе. Единственное отличие заключалось в том, что в Нантере завышенные ожидания обусловили появление массы крайне разочарованных и озлобленных студентов. Предпринятая в 1967 году попытка реформирования университета внесла в ряды студенчества еще большее разочарование, что привело — отчасти под влиянием политической агитации — к созданию группы «анграже», то есть «бешеных» (само название появилось в эпоху революции). «Бешеных» было не более двадцати пяти человек, однако они срывали лекции, выкрикивая имя Че Гевары, и были способны на любые проявления насилия, какие только приходили им в голову. Как и Том Хейден, они считали, что проблемы высшей школы можно решить вовсе не реформированием системы образования, а лишь в результате полного обновления общества. Они отнюдь не пользовались широкой поддержкой в студенческой среде. Каким образом двадцать пять смутьянов в течение марта превратились в группировку из тысячи человек, как эта тысяча за несколько недель разрослась до пятидесяти тысяч, а к концу мая — до десяти миллионов, парализовав всю страну, — об этом следовало бы спросить правительство, поскольку все упомянутые события явились следствием принятых им «активных мер». Если бы правительство с самого начала проигнорировало «бешеных», Франция, возможно, никогда бы не узнала, что такое 1968 год. Оглядываясь назад, Кон-Бенди только качал головой. «Если бы правительство не было уверено в том, что должно подавить наше движение, — утверждал он, — мы бы никогда не увидели столь масштабной борьбы за свободу. Состоялось бы несколько демонстраций, и на этом все и закончилось бы». 26 января 1968 года полиция нагрянула в студенческий городок для разгона митинга, на котором собралось не менее сорока «бешеных». Студенты и преподаватели были крайне раздражены самим фактом присутствия полиции на территории университета. Поскольку начало года во всем мире ознаменовалось акциями протеста, «бешеные», наблюдая этот взрыв недовольства, поняли, что им стоит только организовать демонстрацию — и власти вместе с полицией сделают все остальное. До наступления марта они делали это регулярно. Декан Нантера усилил напряженность, отказавшись выделять дополнительную площадь в случае увеличения числа проживающих в общежитии. Он еще больше распалил студентов своим отказом ходатайствовать за четырех учащихся, арестованных в ходе демонстрации против войны во Вьетнаме на площади перед парижской Оперой. 22 марта около пятисот «бешеных», в стихийном порыве обратившись к тактике американских студентов, захватили восьмой этаж одного из университетских корпусов, предназначенный для отдыха преподавателей и закрытый для студентов, и удерживали его в течение всей ночи в знак свободы самовыражения. Так родилось «Движение 22 марта». 17 апреля Лоран Шварц, физик с мировым именем, приехал в Нантер, чтобы от лица правительства разъяснить программу университетской реформы 1967 года. Студенты не дали ему говорить, крича, что он контрреволюционер и поэтому они лишают его слова. Внезапно Кон-Бенди — обходительный и веселый, с улыбкой на лице, каким его изображали на революционных плакатах, — взял микрофон. «Дайте ему сказать, — произнес Кон-Бенди. — И если мы поймем, что он продажный негодяй, мы скажем ему: “Месье Лоран Шварц, мы считаем, что вы продажный негодяй”». Это была характерная для Кон-Бенди сцена, сыгранная с изяществом и абсолютно естественно в самый подходящий момент. 2 мая, ставшее тем решающим днем, который значительно ускорил развитие событий, выглядит как образчик чистейшего фарса. Руководство Парижского университета совершило ту же ошибку, что и администрация Колумбийского: оно полагало, что сможет ослабить студенческое движение, подвергнув дисциплинарному взысканию его лидера. Кон-Бенди должен был ехать в Париж и предстать там перед дисциплинарной комиссией. Такой поворот событий возмутил студентов в Нантере; в знак протеста они решили сорвать занятия с помощью громкоговорителей. Их-то у студентов и не было. Декан Нан-тера, Пьер Грапен, все более терявший контроль над ситуацией, отказался выдать им университетские репродукторы. Тогда студенты, считавшие себя в соответствии с популярным в то время учением Дебре «революционерами прямого действия», просто явились в деканат и забрали нужное оборудование. Декан, опасаясь возможного «прямого действия» в отношении собственной персоны, запер студентов в помещении деканата, закрыв дверь на ключ. Однако его «триумф» был недолгим: студенты открыли окна и выбрались наружу вместе с репродукторами. Беспокойство де Голля в связи с обеспечением законности и правопорядка на парижских улицах все возрастало: в Париже вот-вот должны были начаться мирные переговоры между сторонами, вовлеченными в конфликт во Вьетнаме. В столицу прибыли республиканские отряды безопасности — особые жандармские части, предназначенные для борьбы с уличными беспорядками. По просьбе Грапена министр образования закрыл университет в Нантере; эта чрезвычайная мера переместила акцию протеста из глухого предместья в самое сердце Парижа. Как раз в это время в городе было полно корреспондентов со всего света, приехавших для освещения хода мирных переговоров. Дипломаты, договорившись о месте проведения переговоров и составе делегаций, 14 мая углубились в прения о том, сколько дверей должно быть в главном зале заседаний (представители Северного Вьетнама настаивали на двух) и каким будет стол переговоров — квадратным, прямоугольным, круглым или ромбовидным (каждый вариант требовалось обсудить на специальном заседании). Между тем сам факт, что переговоры начались, вызвал заметный рост котировок на финансовом рынке, в особенности на Нью-Йоркской фондовой бирже. Толпа митингующих двинулась из Нантера в Париж, к Сорбонне. Кон-Бенди обзавелся мегафоном. Но ректор университета, проигнорировав мнение шефа полиции, приказал жандармам вступить на территорию Сорбонны и произвести аресты студентов. Полицейское вторжение было беспрецедентным. Столь же беспрецедентной оказалась и реакция администрации на студенческие бесчинства: власти закрыли Сорбонну впервые за ее семисотлетнюю историю. Шестьсот студентов были арестованы, включая Кон-Бенди и Жака Соважо, возглавлявшего Национальный студенческий союз. В ответ Ален Гейсмар призвал преподавателей принять участие в назначенной на понедельник всеобщей акции протеста. Тогда взбешенный де Голль заявил, что во главе движения стоят нерадивые студенты, которые добиваются закрытия университетов из-за того, что сами не смогли сдать экзамены. «Они одни пошли за Кон-Бенди. Эти плохие студенты терроризируют всех остальных: один процент «бешеных» приходится на девяносто девять процентов их жертв, которые ждут помощи от правительства». Итак, оформился негласный триумвират: Кон-Бенди, Соважо и Гейсмар. Эта троица казалась нерушимой. Впрочем, впоследствии они утверждали, что у них не было ни плана, ни общей идеологии. «У нас не было ничего общего, — говорил Кон-Бенди. — Они имели больше общего друг с другом. Я не имел ничего общего с ними, да и пути у нас были разные. Я боролся за свободу, а они продолжали традиции социалистов». Руководство Французской компартии (ФКП) с самого начала выступило против «бешеных». «Необходимо разоблачить этих лжереволюционеров», — писал Жорж Марше, лидер коммунистов. Однако Жан Поль Сартр, самый известный французский коммунист, встал на сторону студентов, и в критический момент прозвучало его взвешенное и авторитетное суждение. Власти помышляли о его аресте, но де Голль отверг эту идею, заявив: «Вольтера арестовать мы не сможем». Кон-Бенди, в противоположность своим коллегам по триумвирату, не был обременен сколько-нибудь вразумительной идеологией, и потому, наверное, стал самым популярным. Феномен его популярности был основан наличном факторе. Небольшого роста, коренастый, умевший широко улыбаться рыжеволосый человек с нечесаными вихрами, торчавшими в разные стороны, он вел себя свободно и непринужденно. Это был весельчак, обладавший отличным чувством юмора; впрочем, когда он говорил, его юмор приобретал оттенки иронии и даже сарказма, а голос по мере нараставшего воодушевления становился все более звонким. Испытывая склонность к высокопарной риторике, он вместе с тем казался естественным, искренним и пылким. Правительство обратило особое внимание на факт немецкого происхождения Кон-Бенди. К тому времени Германия была известна в Европе студенческим радикализмом. Кон-Бенди, как и другие французские радикалы, имел контакты с немцами. В феврале он участвовал в организованном ими митинге против войны во Вьетнаме и даже встречался с Руди Дучке. В мае, когда он получил широкую известность в качестве Красного Дени, это прозвище ассоциировалось не только с цветом его волос, но и с Дучке, который был известен как Красный Руди. Однако Дени не сравнивал себя с Руди, и «Движение 22 марта» не имело ничего общего с немецким Социалистическим союзом немецких студентов (Эс-дэ-эс), представлявшим собой прекрасно организованное национальное движение со своей идеологией. Напротив, «Движение 22 марта» не имело ни программы, ни организации. В 1968 году никто не хотел быть признанным лидером. Правда, Кон-Бенди отметил одну существенную деталь. По его словам, «Эс-дэ-эс практиковал антиавторитаристскую риторику. Однако наделе лидером был Дучке. Я же был лишь чем-то вроде лидера. Вернее, я постепенно им становился, поскольку что-то говорил в нужное время и в нужном месте». Он ничем не отличался от других лидеров 1968 года, таких как Марк Радд, который заявил: «Я был лидером, потому что зажигал сердца». Кон-Бенди поддерживал связь с национальными движениями и студенческими вожаками, но эти контакты, как правило, зарождались не на митингах и не в результате обмена идеями. Большинство этих лидеров никогда не встречались. «Мы «встречались» при помощи телевидения, — вспоминал Кон-Бенди. — Мы были первым телевизионным поколением. Мы не поддерживали личных контактов, ограничиваясь лишь представлением, возникавшим в результате лицезрения друг друга на телеэкранах». К концу мая де Голль был убежден в существовании международного заговора против Франции; ходили слухи о финансировании из-за рубежа. Подозрение пало на ЦРУ и Израиль. Де Голль заявил: «Невероятно, чтобы все эти движения могли начаться в одно и то же время в разных странах без общего руководства». Однако никакого «общего руководства» не существовало ни в самой Франции, ни за рубежом. В частности) по поводу майских событий Кон-Бенди вспоминал: «Все произошло так стремительно. У меня не было времени на подготовку. Ситуация вынуждала принимать решения». Все то, что Красный Дени и тысячи других делали на улицах Парижа, являлось стихийной реакцией на развитие событий. Гейсмар, Кон-Бенди, Кривэн — все лидеры, равно как и рядовые участники, действовали именно таким образом. Никаких планов у них не было. Ход событий приводил на память течение ситуационистов начала 60-х, которое возникло как поэтическое направление, а впоследствии стало политическим движением. Его участники называли себя ситуационистами, утверждая, что от человека требуется всего-навсего «создать ситуацию», а затем следовать за ней, реагируя на обусловленные ею события. Так теория ситуационистов стала реальностью. Позже Кон-Бенди признал: «Я был удивлен размахом студенческого движения. Для меня это было полным потрясением. Все менялось каждый день. Менялись мы. Только что я был лидером небольшого университета, а спустя три недели прославился на весь мир как Красный Дени». С каждым днем движение разрасталось, причем события развивались по одной и той же схеме. Всякий раз, когда правительство принимало карательные меры (арест студентов или закрытие учебных заведений), рос список студенческих требований и увеличивалось число недовольных студентов. Всякий раз, когда студенты выходили на демонстрацию, к ним присоединялось еще больше сочувствующих; для разгона демонстрации привлекалось все больше полицейских, репрессии вызывали еще большее возмущение, и демонстрантов становилось все больше и больше. Никто не мог себе представить, чем это закончится. Кое-кто из числа наиболее фанатичных радикалов, таких как Гейсмар, были убеждены в том, что это началась революция, которая приведет к обновлению Франции и всего европейского сообщества посредством полной ликвидации отживших свое структур. Кон-Бенди со своей шикарной улыбкой и легкомысленным нравом вообще не думал о будущем. «Каждый спрашивал меня: “Чем это кончится?” — вспоминал Кон-Бенди. — И мне приходилось отвечать: “Не знаю”». В понедельник, 6 мая, тысяча студентов явились, чтобы посмотреть, как Кон-Бенди предстанет перед дисциплинарной комиссией в Сорбонне. Почти столько же было жандармов из республиканских отрядов безопасности, экипированных по-боевому: в темных касках, в темных очках, в длинных черных куртках, с большими щитами в руках. Когда они шли в атаку, размахивая своими дубинками, представлялось, будто надвигается жуткая орда инопланетян. Под их наблюдением Кон-Бенди в сопровождении нескольких друзей шел сквозь толпу демонстрантов, расступавшихся, как казалось, под воздействием улыбки Дени. Он размахивал руками и непринужденно болтал, оставаясь все тем же веселым радикалом. Правительство, повторяя прежние ошибки, в тот день запретило любые демонстрации, что, разумеется, повлекло за собой массу последствий. Студенты пронеслись через Латинский квартал, затем направились вдоль Сены и обратно. Несколько часов спустя они явились к Сорбонне, где их встретили жандармы. Увидев перед собой довольно крупный отряд, студенты отступили и направились по средневековой улице Сен-Жак, как вдруг на них напали вооруженные дубинками жандармы. Демонстранты отступили. Между студентами и жандармами открылось безлюдное пространство во всю ширину улицы, где остались лежать десятка два искалеченных демонстрантов, корчившихся на булыжной мостовой. Казалось, никто толком не знал, что делать дальше. Но эта растерянность продолжалась недолго. Внезапно охваченные яростью демонстранты построились в линию и атаковали полицию. Одни студенты стали выламывать булыжники, другие по цепочке передавали их в первые шеренги, где остальные, окутанные облаком слезоточивого газа, швыряли камни в жандармов. Затем они отступили, переворачивая машины и возводя баррикады. Неуязвимая жандармерия, которую власти использовали для наведения порядка на улицах, снова и снова переходила в наступление, но всякий раз была вынуждена отступать. Некоторым из этих упорных и дисциплинированных солдат правительственных войск, вероятно, пришлось отступать впервые за многие годы. Франсуа Черутти, «злостный уклонист» времен алжирской войны, а впоследствии владелец популярного книжного магазина, торговавшего «революционной» литературой, — магазина, в который частенько захаживали Кон-Бенди и другие радикалы, — вспоминал: «Меня совершенно потряс 1968 год. У меня было некое представление о революционном процессе, но оно полностью расходилось с тем, что я наблюдал. Я видел студентов, возводивших баррикады, но это были люди, которые ничего не знали о революции. Они являлись питомцами высшей школы и стояли в стороне от политики. У них не было ни организации, ни программы». В противостояние втянулись тысячи демонстрантов, и к концу дня, по официальным данным, среди пострадавших числились шестьсот студентов и триста сорок пять полицейских. На следующей неделе выступлений стало еще больше, причем их участники выступали как под красными флагами (коммунисты), так и под черными знаменами (анархисты). Было построено шестьдесят баррикад. Люди, жившие по соседству и наблюдавшие из окон, как молодежь мужественно отбивала натиск целой армии полицейских, появлялись на баррикадах, принося с собой еду, одеяла и деньги. Префект полиции Морис Гримо начал терять контроль над своими подчиненными. Когда полгода назад Гримо был назначен на этот пост, общественность надеялась, что он постарается ограничить полицейский произвол. Гримо никогда не добивался этого назначения. Будучи в течение четырех лет директором национальной службы безопасности, Гримо полагал, что на ниве охраны правопорядка он за время своей карьеры сделал все, что хотел. Гримо был управленцем, а не полицейским. Он видел, что его подчиненные прямо-таки шокированы неистовой мощью и упорством этих людей. Как позднее вспоминал Гримо, «возникавшие столкновения продолжались до глубокой ночи и были особенно кровопролитными — не только из-за числа демонстрантов, но и из-за того ожесточения, которое явилось полной неожиданностью и сильно удивило полицейское руководство». Полиция считала, что демонстрации 1968 года выросли непосредственно из движения, направленного против войны во Вьетнаме, — движения, с которым полиция боролась в течение ряда лет. Но это было не так. Мало того что действия полицейских оказались неэффективными, они еще должны были подставлять свои головы под град булыжников. С каждым днем полицейские все более ожесточались и свирепели. «Монд» напечатала свидетельство одного из демонстрантов о событиях 12 мая в Латинском квартале: «Они поставили нас спиной к стене, приказав убрать руки за голову. Затем они стали нас избивать. Один за другим мы теряли сознание. Тем не менее они продолжали ожесточенно работать дубинками. Наконец они прекратили избиение и заставили нас подняться. Многие из нас были залиты кровью». Чем бесчеловечнее действовала полиция, тем больше людей вливалось в ряды демонстрантов. Правда, в противоположность ситуации начала 60-х, когда проходили демонстрации против войны в Алжире, правительство не решилось применить огнестрельное оружие против «детей среднего класса», поэтому каким-то чудом все эти ночи неистовых боев обошлись без смертей. Кон-Бенди был удивлен действиями студентов не менее, чем полиция. Впрочем, он не мог их контролировать. «Яростный бунт стал французской традицией, — говорил он позднее. — Мы пытались избежать эскалации насилия. Я полагал, что в перспективе насилие должно было губительно сказаться на самом движении. Погружаясь в насилие, идея обесценивается. Так бывает всегда. Так произошло и с “Черными пантерами”». Эта оценка прозвучала из уст Кон-Бенди годы спустя, когда он анализировал события прошлого, хотя и в 1968-м он был откровенным противником насилия. На допросе в полиции он признался, что принимал участие в создании и распространении инструкции по изготовлению «коктейля Молотова», пояснив, что они относились к этому рискованному предприятию как к шутке, и это похоже на правду. Таков был юмор 1968 года. Французское телевидение, являвшееся рупором правительства, акцентировало внимание на волне насилия. Однако таким же образом поступало и зарубежное телевидение. Какая сцена могла быть более завлекательной, чем схватка вооруженных дубинками жандармов с подростками, метавшими в них камни! Радио и пресса тоже поддались этому соблазну. Так, корреспондент радиостанции «Европа-1», ведя репортаж с улиц Парижа, в крайнем возбуждении сообщал: «Это совершенно потрясающе, то, что здесь происходит, прямо в центре Сен-Жермен! Трижды атаковали демонстранты, и трижды жандармы отступали, а теперь — честное слово, это просто потрясающе! — жандармы атакуют!» Это было своеобразное тонизирующее средство для отчаянно скучавшего населения. Сохранившиеся фотографии и кадры кинохроники, запечатлевшие реалии того времени, в основной своей массе демонстрируют сцены насилия. Вместе с тем в глазах рядовых участников событий насилие вообще не играло никакой роли и впоследствии они чаще всего вспоминали вовсе не о нем. Здесь на первый план вышло то самое развлечение, до которого французы всегда были особенно охочи, а именно разговор. Элеонора Бахтадзе, в 1968 году студентка университета в Нантере, позднее вспоминала: «Париж тогда представлял собой удивительное зрелище. Все без исключения обменивались мнениями. Если спросить любого парижанина, что ему лучше всего запомнилось из событий весны 1968 года, он ответит: люди общались друг с другом. Они общались на баррикадах, общались в метро; когда публика заполняла театр «Одеон», он становился ареной бесконечной вакханалии словопрений. Кто угодно мог встать и начать спор по поводу истинных причин революции, сильных сторон учения Бакунина или отношения Че Гевары к анархизму. Другие детально опровергали выдвинутый оратором тезис. Студенты на улицах вдруг обнаруживали, что они впервые в жизни доверительно общаются со своими преподавателями и профессорами. Рабочие и студенты общались друг с другом. Впервые все члены этого косного и чопорного общества девятнадцатого века общались между собой. «Поговори со своим соседом», — гласили надписи на стенах. Рэдит Гейсмар, жена Алена Гейсмара, вспоминала: «Реальным ощущением шестьдесят восьмого года было потрясающее чувство освобождения, свободы и людей, которые общались друг с другом, — общались на улицах, в университетах, в театрах. Это было нечто гораздо большее, нежели метание камней. Вся система государственного порядка, авторитета и традиции была сметена. В известной степени современное свободное общество родилось в шестьдесят восьмом». В угаре свободного самовыражения все новые и новые афоризмы возникали, записывались и расклеивались на стенах и дверях по всему городу. Вот лишь несколько примеров, отобранных среди сотен других: Менты и реальность. Стены — это уши, твои уши — это стены. Изобретение рождается из фантазии. Я не люблю писать на стенах. Агрессор не тот, кто бунтует, а тот, кто соглашается. Мы хотим музыки — дикой и эфемерной. Я провозглашаю венное государство счастья. Баррикада запирает улицу, но открывает путь. Политика делается на улице. Сорбонна станет Сталинградом Сорбонны. Слезы филистимлян — это нектар богов. Ни робот, ни раб. Изнасилуй свою alma mater! Воображение берет власть. Чем больше я занимаюсь любовью, тем больше хочу сделать революцию. Чем больше я делаю революцию, тем больше хочу заняться любовью. Мао сказал: «Секс — это хорошо, но не слишком часто». Я—марксист из фракции Грушо. Иногда попадались, хотя и нечасто, свидетельства существования других движений, такие как «Черная власть привлекает внимание белых» и «Да здравствуют студенты Варшавы!». Фраза, начертанная на стене у Сензье, вероятно, выражала ощущение многих в ту весну: «У меня есть что сказать, но я не знаю толком, что именно». Те, у кого имелись еще какие-то мысли, слишком масштабные, чтобы их можно было изложить на стене (хотя кое-кто писал на стенах целые тексты), могли (при условии наличия мимеографа) напечатать «трактат» объемом в одну страницу и потом распространить тираж на очередной демонстрации. Некогда символ радикализма, мимеограф с громоздкими трафаретами исполнил лебединую песню в 1968 году; в скором времени он был вытеснен аппаратами для фотокопирования. Революционное движение имело также свои СМИ: большую газету в несколько страниц «Аксьон» («Действие») и другую, поменьше — «Анраже» («Бешеный»), которая пострадала за свой специальный выпуск от 1 июня (он был посвящен голлиз-му), став «украшением» полов в туалетах. Для Франции того времени это было обычным делом: например, голлистский символ, крест Лоррена, «красовался» в уборных, трехцветный французский флаг использовался в качестве туалетной бумаги. В скором времени в распоряжении демонстрантов оказалась масса разнообразной печатной продукции, которую они могли читать (или почитывать). Школа изящных искусств и Школа декоративных искусств при Сорбонне организовали «народную мастерскую», в мае и июне она производила в день более трехсот пятидесяти разных глянцевых плакатов с простыми, но выразительными рисунками и краткими лозунгами в том же духе, что и надписи на стенах. Эти плакаты остаются одним из наиболее впечатляющих проявлений искусства политического рисунка за всю его историю. Так, рука с дубинкой сопровождает известное высказывание Людовика XIV, которое часто использовалось для характеристики власти де Голля: «Государство — это я». Тень де Голля затыкает рот молодому человеку, а рядом — сопроводительная надпись: «Будь молодым и заткнись». Полиция сдирала плакаты со стен. Вскоре их стали сдирать коллекционеры, а в продаже появились пиратские издания. Это обстоятельство раздражало студентов, рисовавших плакаты. «Революцией не торгуют», — заявил один из них, Жан Клод Левек. Мастерская отвергла контракт на семьдесят тысяч долларов, предложенный двумя крупнейшими европейскими издателями. Осенью Музей современного искусства и Еврейский музей в Нью-Йорке провели выставки, посвященные продукции мастерской. Выставка в Еврейском музее называлась «Лицом к лицу со стеной» — еще один случай применения популярной цитаты из «Лорда Джона». Они не только говорили, но и пели. Студенты пели «Интернационал», являвшийся гимном мирового коммунистического движения, Советского Союза*, Коммунистической партии и, следовательно, олицетворявший многое из того, что они отрицали. Это выглядело бы странно, если бы речь шла о студентах Польши или Чехословакии, но для французов эта песня, написанная в 1871 году в дни Коммуны — восстания французских рабочих против авторитаризма, — была всего лишь символом борьбы с режимом личной власти. Правые, в пику демонстрантам, пели национальный французский гимн — «Марсельезу». Ситуация, когда два этих гимна, лучшие из всех когда-либо написанных, неизменно приводили в состояние экстаза огромные толпы, распевавшие их на широких бульварах Парижа, и вынуждали каждую из враждебных сторон консолидироваться в процессе исполнения «своего» гимна, была просто идеальной для телевизионных репортажей. Кон-Бенди, Соважо и Гейсмар были приглашены для проведения теледебатов с тремя журналистами на государственном телевидении. В обращении, которое предшествовало теледебатам, премьер-министр Жорж Помпиду — старый голлист, поднаторевший в политической борьбе и считавший (как Губерт Хамфри), что «все это» в скором времени может перейти под его контроль, — предупредил телезрителей о том, что они увидят трех «ужасных революционеров». Журналисты были напряжены, «страшные» революционеры, напротив, вели себя непринужденно и много шутили. Кон-Бенди улыбался. «Мы положили их на обе лопатки, — вспоминал Кон-Бен-ди. — Я тогда только начал осознавать свою особую связь со СМИ. Я — продукт СМИ. После той истории они должны были бегать за мной. Довольно долго я был любимчиком СМИ». Несмотря на то что государственное телевидение старалось пригладить все происходящее на телеэкране, грубые промахи бросались в глаза, тогда как на радио и более серьезные ошибки не дали бы такого эффекта. Раздражение журналистов от того, что их шоу провалилось, нарастало, и вскоре они взяли реванш в духе времени: 16 мая телерепортеры, кинооператоры и водители вышли на улицы. В этот момент произошло нечто такое, о чем участники других национальных студенческих движений, зачастую терпевших поражение из-за того, что их никто не поддержал, могли только мечтать. 13 мая, в годовщину возвращения де Голля к власти, все крупнейшие профсоюзы страны призвали к проведению всеобщей забастовки. Франция прекратила работу. Автопарк остался без топлива, и парижане могли совершенно свободно гулять по опустевшим улицам, разговаривая, споря и в целом прекрасно проводя время, которое они запомнят навсегда. Студенческие волнения имели место и в Морнингсайт-Хайтс (Колумбийский университет), и в Варшавском университете, равно как и в Риме, Берлине, Национальном университете Мехико, Беркли, но лишь во Франции студенты и рабочие выступили единым фронтом. На самом деле произошло нечто иное. Хотя некоторые молодые рабочие, не согласные с политикой профсоюзов, сочув-# ствовали студентам, сами профсоюзы, в особенности находившиеся под контролем коммунистов, были настроены враждебно. По-видимому, студенты спровоцировали сильно запоздавший социальный взрыв, ибо рабочих голлистский режим к тому времени тоже стал все больше раздражать. Пролетарии не хотели революции, и им были чужды те цели, которые преследовали студенты, за исключением одной — свержения де Голля. Рабочие добивались лучших условий труда, более высоких зарплат и увеличения продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. «Рабочие и студенты никогда не выступали заодно, — утверждал впоследствии Кон-Бенди. — Это были два независимых друг от друга движения. Рабочие требовали проведения радикальной реформы в промышленности — существенного повышения зарплат и так далее. Студенты же стремились к коренным переменам в жизни общества». Де Голль, столкнувшись с кризисом, который приобрел национальный масштаб, уехал в Румынию с четырехдневным визитом. Казалось странным, что в то время как Париж парализовали студенческие выступления, де Голль собрался в Румынию. Кристиан Фуше, министр внутренних дел, задал ему вопрос на эту тему, и де Голль ответил, что румыны не поймут, если он отменит визит. На это Фуше почтительно возразил, что в таком случае французы не поймут, почему он его не отменил. Утром следующего дня, когда министры собрались его провожать — события во Франции уже не сходили с первых полос большинства крупнейших газет мира, — де Голль заявил: «Этот визит крайне важен как в контексте внешней политики Франции, так и в плане ослабления мировой напряженности. Что же касается студенческих волнений, мы не намерены придавать им большее значение, нежели то, которого они заслуживают». Де Голль попытался переключиться на ту сферу деятельности, в которой он чувствовал себя вполне уверенно. Студенческая проблема представляла собой нечто выходившее за пределы его понимания. С другой стороны, Румыния демонстрировала все большую независимость от советского блока, и де Голль, мечтавший возглавить «третью силу» между двумя сверхдержавами — как он любил говорить, «Европу, простирающуюся от Атлантики до Урала», — был крайне заинтересован в Румынии. Даже в условиях национального кризиса внешняя политика сохраняла приоритет перед внутренней. Во время отсутствия де Голля его полномочия осуществлял Помпиду. Премьер-министр, весьма высоко ставивший свои дипломатические способности, разработал проект соглашения, в котором были удовлетворены почти все студенческие требования. Помпиду освободил арестованных студентов, снова открыл Сорбонну и отправил полицейских в казармы. Эти меры позволили студентам легко «отвоевать» Сорбонну, как и в случае с «захватом» театра «Одеон», с помощью нескончаемого потока красноречия. Однако в то время как студенты вели свои блестящие дебаты, десять миллионов рабочих бастовали; продуктовые магазины опустели, движение прекратилось, и повсюду стали расти груды мусора. И Помпиду, и де Голль понимали, что проблемы студентов и рабочих носили принципиально разный характер. Если «студенческий вопрос» представлял собой в их глазах абсолютно непостижимое явление, то с «рабочим вопросом» они были хорошо знакомы. Голлисты полностью отказались от своей прежней экономической политики, выразив готовность пойти на уступки рабочим: на 10% повысить зарплату, поднять уровень минимальной заработной платы, сократить количество рабочих часов и увеличить пенсии. Министр финансов Мишель Дебре, «архитектор» экономической политики, даже не был поставлен в известность о намеченных уступках и, как только узнал об этом, подал в отставку. Однако бастующие сразу же отвергли любые уступки. Де Голль сократил свой румынский визит и вернулся во Францию, механически твердя: «На реформу я согласен. На chienlit — нет». Chienlit — непереводимое французское слово, означающее последствия испражнения в постели, то есть очень неприятное положение. В результате из мастерской Школы изящных искусств вышли плакаты с силуэтом де Голля и подписью «La chienlit, c’est lui», то есть «Chienlit — это он»*. Правительство приняло решение выслать Кон-Бенди, нем-' ца по происхождению. Префект полиции Гримо был не в восторге от этого шага, поскольку понимал, что Кон-Бенди сделался конструктивной фигурой в студенческом движении. Все это продолжалось уже достаточно долго, правительство могло уже наконец осознать, что его провокации лишь усиливают движение протеста. Однако правительство по-прежнему этого не замечало. Другой проблемой являлось то, что сам факт депортации еврея обратно в Германию вызывал неприятные воспоминания. В период нацистской оккупации семьдесят шесть тысяч евреев были выданы французской полицией немцам для отправки в лагеря смерти. Франция 60-х не могла примириться с Францией 40-х, будучи не в силах разрешить противоречие между фактами позорного сотрудничества с оккупантами и мифом де Голля о героическом Сопротивлении. Май 1968 года был наполнен нацистскими иллюзиями, в большинстве случаев некорректными. Так, республиканские отряды безопасности получили прозвище «отряды СС». Один из плакатов, выпущенных Школой изящных искусств, изображал де Голля, снимавшего маску, из-под которой выглядывало лицо Адольфа Гитлера; на другом плакате был представлен крест Лоррена, превращенный в свастику. Когда стало известно о высылке Кон-Бенди, студенческое движение немедленно выдвинуло лозунг «Мы все — немецкие евреи», причем этот лозунг был подхвачен даже студентами-мусульманами. Фраза появилась на плакатах во время демонстрации протеста против высылки Кон-Бенди; в этой демонстрации приняли участие десятки тысяч людей. В длинном послужном списке де Голля было немало сложных ситуаций, в которых он проявлял присущий ему дар принимать верное решение и находить правильные слова. Но на этот раз он хранил молчание. Он надежно укрылся от внимания общественности в своем загородном доме, где написал такие строки: «Если французы не видят, в чем состоят их собственные интересы, тем хуже для них. Французы устали от сильного государства. В сущности, дело вот в чем: по своему характеру французы остаются большими любителями фракционной борьбы, споров и безделья. Я пытался помочь им избавиться от всего этого... Раз у меня ничего не вышло, значит, больше мне делать нечего. Именно в этом заключается суть дела». Наконец 24 мая «великий Шарль» заговорил. Он выглядел усталым, постаревшим и говорил невнятно; де Голль предложил провести референдум по вопросу о доверии президенту. Никто не хотел референдума, в котором видели незаконную уловку старого хитреца генерала. Пока он выступал, беспорядки в Париже возобновились, а в некоторых других крупных городах Франции начались массовые выступления. В Париже студенты из Латинского квартала перешли на другой берег Сены и попытались поджечь здание фондовой биржи. Удивительно, но за все эти недели уличных столкновений во Франции погибли только три человека. Из них двое умерли в одну и ту же ночь: один из сотен раненых в Париже и комиссар полиции в Лионе. Наконец, некий демонстрант, преследуемый полицией, бросился в Сену и утонул. Было ясно, что референдум вряд ли удастся провести, а если даже удастся, то рассчитывать на победу не приходится. Снова де Голль как будто бы исчез. Каким бы неправдоподобным это ни казалось, митингующие стали ощущать себя победителями. Их конечной целью было свержение правительства. Теперь достижение этой цели представлялось абсолютно реальным. Миттеран и Мендес-Франс готовы были войти в переходный кабинет. Впрочем, скоро выяснилось, что де Голль вылетел в ФРГ для встречи с командованием дислоцированного там французского военного контингента. С какой целью он пошел на этот шаг, неизвестно, однако многие опасались, что де Голль решился на ввод войск. По возвращении во Францию он снова был прежним де Голлем — высокомерным и самоуверенным. Референдум был отменен, Национальное собрание распущено; были назначены досрочные выборы в парламент. Нация, как утверждал де Голль, стояла на пороге сползания к тоталитарному коммунистическому режиму, тогда как он (де Голль) представлял собой единственную альтернативу такому сценарию и являл готовность в очередной раз спасти Францию. Голлисты организовали демонстрацию на Елисейских Полях в поддержку президента. Общественность позитивно откликнулась на решение о проведении досрочных парламентских выборов, сочтя, что де Голль таким образом снова спасает Францию от катастрофы. По некоторым оценкам, около миллиона граждан приняли участие в шествии, направленном в поддержку де Голля и его призыва прекратить хаос. Манифестанты пели национальный гимн, а в перерывах между пением скандировали лозунги, среди которых был итакой: «Отправьте Кон-Бенди в Дахау!» Кон-Бенди слышал это и раньше. Когда его арестовали, один из полицейских ткнул в него пальцем и сказал: «Готовься, малыш, платить по счетам. Жаль, что ты не сдох в Аушвице вместе со своими родителями: это избавило бы нас от необходимости делать с тобой то, что мы сегодня сделаем».Комментарий Алена Пей рефита, министра образования Франции, событий 4 мая 1968 г.

«Мы все — евреи и немцы». Даниэль Кон-Бенди и его знаменитая улыбка Студенческий плакат. Париж, 1968.
Родители Кон-Бенди не были в Аушвице, но факт его еврейского происхождения никогда не забывался до конца. Только среди своих товарищей по борьбе он никогда не ощущал, что в этом заключается некая проблема. Безусловно, Гейсмар, Кривэн и многие другие были евреями. Во Франции крайне левые политические организации обычно имели в своем составе немало евреев. В одном французском анекдоте того времени на вопрос: «Если бы маоисты захотели вступить в переговоры с троцкистами, на каком языке они должны были бы говорить?» — следовал ответ: «На идише». Наконец правительство выступило с пакетом законопроектов, которые удовлетворили все требования рабочих, включая повышение зарплаты в два приема на 35%. Профсоюзы и сами рабочие с энтузиазмом одобрили этот шаг. Лишь очень немногие из числа молодых рабочих решили хорошенько подумать, прежде чем отказаться от поддержки студентов. Однако вслед за тем де Голль стал принимать какие-то странные и неожиданные решения: в частности, он освободил из заключения четырнадцать членов так называемой «Тайной военной организации» (ОАС), представлявшей собой группу фанатиков, пытавшихся воспрепятствовать предоставлению независимости Алжиру, практикуя массовые убийства алжирцев, а также французских офицеров и должностных лиц. Некоторые из этих людей, включая Рауля Салана и Антуана Аргу (оба офицеры французской армии), были участниками многочисленных заговоров, организованных с целью убийства де Голля в 1961—1964 годах. Почему их освободили? Заключил ли де Голль в Германии некое подобие сделки с военными, чтобы добиться их под держки? Ответы на эти вопросы так и не удалось получить; тем не менее в дни забытой десятой годовщины Пятой республики решение де Голля напомнило французской общественности о тех тайных сделках с Саланом и другими офицерами в Алжире, которые способствовали его возвращению во власть в 1958 году. Тем не менее оказалось, что многие французы гораздо больше боялись левой альтернативы. На выборах в Национальное собрание, проходивших 23 июня, голлисты получили 43% голосов избирателей; второй тур голосования, состоявшийся через неделю, принес им абсолютное большинство мест в парламенте. Это превзошло самые смелые ожидания голлис-тов. Левые потеряли половину своих мест в парламенте, а студенты вместе с «новыми левыми», как и раньше, остались без представительства. Демонстрации в Беркли, направленные в поддержку французских студентов и против режима де Голля, вылились в противоборство с полицией, продолжавшееся в течение двух ночей; в конечном счете в городе были введены чрезвычайное положение и комендантский час. Аннет Джакометти, вдова скульптора Альберто, объявила об отказе от планов проведения осенью в парижской «Оранжерее» широкой ретроспективы работ своего мужа. Она заявила, что протестует «против полицейских репрессий применительно к рабочим и студентам, а также против депортации иностранных граждан, в числе которых есть и деятели искусства». Несколько художников, обратившись к министру культуры Франции, также отказались от проведения своих выставок в Париже. Ален Кривэн вспоминал: «Де Голль был самым ловким политиком из всех, кого видела Франция. Де Голль понимал коммунистов. Он понимал Сталина. Миттеран был маленьким де Голлем. Помпиду, Жискар д’Эстен, Миттеран, Ширак — все они маленькие де Голли, все пытаются ему подражать. В 1968-м он знал, что коммунисты согласятся на досрочные выборы. На референдум — нет. Референдум был мелкой тактической ошибкой. Никто его не хотел. Но как только он предложил выборы, игра была выиграна. Он никогда не понимал студентов, но это уже было не важно. Он спас «правое дело» в 1945 году, и он снова сумел это сделать в шестьдесят восьмом». Де Голль продемонстрировал всем, какой он выдающийся политик. Однако вернуть свой прежний авторитет он никогда бы уже не смог; ему оставалось просто уйти. Впоследствии де Голль признал: «Все происходило помимо меня. У меня больше не было никакой власти над моим правительством». Его роль непослушного ребенка в мировой политике была совершенно дискредитирована внутриполитическим кризисом во Франции. Притязания де Голля на право определяющего голоса при решении самых разных международных проблем — от войны во Вьетнаме до независимости Квебека и ситуации на Ближнем Востоке, — притязания, и без того чересчур амбициозные, при новых обстоятельствах выглядели и вовсе неуместными. Как выразился международный обозреватель «Монд» Андре Фонтен, генерал «более не мог себе позволить давать рекомендации всем и каждому». Де Голль, никогда не умевший побороть в себе злопамятность, обрушил свое мщение как на печать, осмелившуюся критиковать его политический курс, так и на государственное телевидение, работники которого приняли участие в забастовке. Заручившись значительной поддержкой в парламенте, он принял решение допустить частных предпринимателей на один из двух государственных каналов. 1 октября, накануне вечерних новостей, телезрители услышали о сыре с чесноком, о не поддающемся растягиванию свитере и о преимуществах молочного порошка. Для начала коммерсанты получили всего лишь две минуты эфирного времени в день, однако постепенно этот лимит должны были расширить. Кроме того, в «Новостях» цензура обычно вырезала более трети всего материала. К концу лета де Голль нашел способ нейтрализовать вероятные выступления левых. Еще в 1185 году булыжники, вывороченные из мостовых Латинского квартала, оказались эффективным оружием в руках противников королевской власти. В следующий раз булыжники пошли в ход в 1830 году, потом — во время революции 1848 года, а затем — в 1871 году, когда их использовали коммунары, впервые исполнившие «Интернационал». Студенты, метавшие эти камни в 1968 году, хорошо знали их историю. На одном из плакатов Школы изящных искусств 1968 года изображен булыжник; подпись гласила: «Те, кому еще нет двадцати одного, вот ваш избирательный бюллетень!» Однако этому был положен конец. В августе де Голль распорядился заасфальтировать мостовые Латинского квартала. 17 июня Сорбонну покинули последние студенты из числа тех, кто удерживал ее более месяца. Книгоиздатели стали предлагать им сотрудничество. Не менее тридцати пяти изданий, посвященных студенческому движению, увидели свет к тому моменту, как последний бунтарь покинул стены Сорбонны. Характерно, что первой книгой в этой серии стал альбом фотографий, посвященных уличным боям. Кон-Бенди оказался прав: когда царит насилие, идея обесценивается. Тем не менее было издано множество других книг, включая те, что были написаны о Кон-Бенди или им самим. Свою книгу «Гошизм — левое движение» (с подзаголовком «Лекарство от старческого недуга под названием «коммунизм») он начинает с оправданий: «Эта книга была написана за пять недель. Такая поспешность не могла не отразиться на ней, однако издатель был вынужден выпустить книгу в свет до того, как рынок окажется перенасыщен». Далее Кон-Бенди пишет с обычной для него едкой иронией: «В рыночной экономике капиталисты охотно приближают собственную погибель (разумеется, не в физическом смысле, а в классовом) путем распространения революционных идей, которые могут принести им краткосрочную прибыль. За это они нам щедро платят (пятьдесят тысяч марок оказались на счету Дени Кон-Бенди еще до того, как он написал хотя бы одну строчку), причем даже в том случае, если знают, что эти деньги пойдут на изготовление «коктейля Молотова», поскольку они уверены, что революция невозможна. Нашим читателям предстоит оставить их в дураках!» Революция возможна, но во Франции в 1968 году она не произошла. Классики марксизма утверждали, что революционеры должны содействовать постепенному формированию экономических предпосылок и совершенствовать свою идеологию. Ни того ни другого в тот год не наблюдалось. Был обыкновенный взрыв возмущения, направленный против той удушливой атмосферы застоя, в которой существовало французское общество. Результатом этого взрыва явились реформы, а не революция. Революции хотели одни лишь студенты. Они не смогли заразить этой идеей ни рабочих, ни широкую общественность, она (если перефразировать высказывание Камю, относящееся к началу 50-х) так сильно желала стабильности, что была готова мириться с несправедливостью. Университеты стали немногим более демократичными; студенты и преподаватели отныне могли общаться друг с другом. Общество вырвалось из реалий девятнадцатого века, попав во вторую половину двадцатого века. Однако в Европе в это время возобладал материализм и крайне мало внимания уделялось тем идеям, в которые свято верили юные студенты. Кон-Бенди полагал, что сможет приехать во Францию через несколько недель, однако прошло десять лет, прежде чем ему было разрешено вернуться. «Это меня спасло, — так отозвался Кон-Бенди о своем изгнании. — Когда становишься столь знаменитым за такой короткий срок, трудно найти себя. В Германии я должен был заняться работой над собой». В сентябре в рамках проведения книжной ярмарки во Франкфурте в городском соборе в честь Леопольда Сенгора, президента Сенегала, исполнялся квартет Моцарта. Тысячи людей, собравшихся у стен храма, в то время как полиция пыталась разогнать их с помощью водометов, скандировали: «Freidenspreis macht Senghor weiss!» («Премия мира обеляет Сенгора!») Студенты выступали против присуждения премии мира политическому лидеру, чей режим практиковал крайне жестокие репрессии по отношению к студенчеству. Полетели бутылки и камни, полиция стала сдерживать натиск толпы; внезапно невысокий рыжеволосый человек, оказавшийся Красным Дени, прорвался сквозь металлические заграждения и, получив от полицейских несколько ударов резиновой дубинкой, был арестован. Когда настало время предстать перед судом, Кон-Бенди узнал: по случайному стечению обстоятельств судебное заседание должно было состояться на той же неделе, что и судебный процесс в Варшаве над лидерами польского студенческого движения Яцеком Куронем и Каролем Модзалевским. Подобные вещи по-прежнему вызывали в Париже огромный интерес; особенно высокую активность развили Ален Кривэн и члены «Революционной коммунистической молодежи», которые во время манифестаций скандировали: «Свободу Куроню и Мод-залевскому!» Возврат в те дни, когда полиция вторгалась на территорию университетских городков, во Франции был уже немыслим, и троцкисты пустили в обращение такую шутку: «Какая полиция является самой образованной в мире?» Ответ: «Польская, потому что она постоянно наведывается в университет». Во Франкфурте Кон-Бенди предстал перед судебной коллегией в зале суда, битком набитом его юными сторонниками. Судья спросил, как его зовут, и Кон-Бенди осознал, что теперь у него есть и подходящий случай, и аудитория. Он громко и четко ответил: «Куронь и Модзалевский». «Что? — не понял судья. — Кто?» — спросил он, глядя на Кон-Бенди так, словно пытался выяснить, не сумасшедший ли перед ним. «Что? — заволновалась молодежь в зале. — Кто? Что он сказал?» И тут Кон-Бенди понял: никто в зале суда, включая судью, не знал, кто такие Куронь и Модзалевский. Ему пришлось объяснить, что эти люди — польские диссиденты, после чего он рассказал об открытом письме и студенческом движении, а также о том, что суд над ними состоится на этой неделе. Когда всем все стало ясно, момент был упущен. По словам Эбби Хоффмана, ничто так не убивает драматический эффект, как доскональное объяснение.
Студенческий плакат. Париж, 1968.
Глава 13 МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ЖИТЬ
Весна будет чудесной; когда рапсы расцветут, истина победит.Когда короткие холодные сырые дни сменились более длинными и теплыми, а солнце стало рассеивать мрак, старая Прага и ее молодежь заразились духом оптимизма, какой трудно было найти в ту весну где-либо еще. Переговоры в Париже показывали, что конца войне во Вьетнаме не видно. Из-за войны в Биаф-ре умирали от голода дети. Как казалось, не было надежды на мир на Ближнем Востоке. Студенческое движение в Польше, во Франции и в Германии было раздавлено — и только в Праге сохранялся оптимизм или по крайней мере решимость. Открывались новые клубы, заполненные длинноволосыми молодыми людьми, женщинами в мини-юбках, бархатных сапожках и ажурных колготках. В клубах стояли проигрыватели-автоматы, из которых раздавалась американская музыка. Тысячи людей в Праге, особенно молодых, вышли на улицы 15 февраля, чтобы отпраздновать победу чехословацких хоккеистов над не знавшей поражений советской командой со счетом 5:4 на зимних Олимпийских играх в Гренобле (Франция), — и, казалось, так и остались на улице. Игру обсуждали несколько недель. Было распространено мнение, что если бы у власти оставался Новотный, чехословацкой команде не позволили бы победить. Никто не мог толком объяснить, как именно Новотный мог бы сделать это. Просто думали, что при Новотном вообще ничего невозможно, а без него казалось возможным все. И в то время как из соседней Польши приходили удручающие новости, чехословацкая пресса защищала студенческое движение столь прямо и откровенно, что приводила в возбуждение и даже шокировала свою аудиторию. Средства массовой информации — печать, радио, телевидение — до сих пор почти полностью контролировались правительством, но, к совершенному удивлению читателей, слушателей и зрителей, правительство использовало прессу для пропаганды идеи демократии — коммунистической демократии, как это всегда осторожно подчеркивалось. Независимый и мысливший в реформаторском духе Союз писателей, в свое время рассматривавшийся как кучка диссидентов, получил разрешение издавать собственный печатный орган — «Лите-рарни листы», то есть «Литературный журнал», хотя ему пришлось бороться за выделение достаточного количества бумаги для еженедельника. Теперь такое случалось часто. Высшие руководители что-то разрешали, а нижестоящие бюрократы продолжали чинить препятствия. Но чем больше проходило времени и чем больше Дубчек проводил чистку в среде «старой гвардии», тем реже происходили подобные инциденты. Официальные лица нанесли визит новому лидеру и сочли, что убогое гостиничное помещение, где пребывал Дубчек, не подходит для его резиденции. Они показали ему несколько домов, но он сказал, что помещения «слишком велики для нужд его семьи и не соответствуют его вкусам». В конце концов он поселился в четырехкомнатном доме в пригороде Праги. Для человека коммунистической закалки, воспитанного на туманной риторике, которую можно было интерпретировать как угодно, Дубчек оказался пугающе прям и прост в своих заявлениях. Люди находили его не только понятным, но и привлекательным. Он говорил: «Демократия — это не только право и возможность заявить о своей точке зрения, но и средство, благодаря которому мнения оказывают воздействие на жизнь. Если люди испытывают подлинное чувство со-ответственнос-ти, со-участия, они по-настояшему участвуют в принятии решений и разрешении важных проблем». Люди поймали его на слове. Встречи превращались в продолжительные дискуссии. Съезд сельскохозяйственных кооперативов, обычно являвший собой скучное и заорганизованное мероприятие, вылился в острый разговор с фермерами, высказывавшими теперь свои претензии к правительству, требуя большей демократии в коллективных хозяйствах и лоббируя интересы села, — в частности, выделение средств, сравнимых с теми, которые тратились на промышленность. Шестьдесят шесть окружных партийных собраний по всей стране, состоявшихся в марте, были также прямыми и откровенными. Сотни молодых людей устраивали форменный допрос чиновникам и топали ногами и рычали, когда ответы их не устраивали. Многие внутри и за пределами страны, например Брежнев, раздумывали, пойдет ли Дубчек дальше, чем ему самому того хотелось бы, и не теряет ли он теперь контроль над ситуацией. «Свобода, — писал журнал «Пари-матч», — слишком крепкий напиток, чтобы давать его в чистом виде, когда целое поколение жило при «сухом законе»23. Дубчек принадлежит к советской элите — так или иначе, он коммунист. Может ли случиться, что его сметут те силы, которые он высвободил? И что он попытается положить этому предел, хотя и слишком поздно?» Дубчек, чья популярность в Чехословакии росла, думал, что глубоко понимает Советский Союз. Но он мог лишь догадываться о тайных действиях правительства Брежнева. Он никогда не был близок с Брежневым и не поддерживал с ним дружеских отношений. Дубчек писал в мемуарах: «Думая о Брежневе, всегда вспоминаешь странный русский обычай, когда лобызаются мужчины». Чехословацкий народ хотел получить как можно больше и как можно быстрее, так что повернуть назад было уже нельзя. Но Дубчек знал о своей ответственности за происходящее. Он жаловался коллегам, что народ добивается своего слишком активно. «Почему они так поступают со мной? — не раз говорил он секретарю ЦК КПЧ Зденеку Млынаржу. — Они боялись делать так при Новотном. Разве они не понимают, какой вред наносят мне?» Правительство постоянно предупреждало народ: реформы не должны проводиться слишком быстро. Ошибкой Дубчека, как он позднее признавал сам, было непонимание того, что времени у него мало. Постепенность действий, полагал Дубчек, должна помочь приобрести поддержку союзника — СССР. Дубчек был осторожен, почти в каждой речи, которую он произносил, снова и снова декларировал лояльность Чехословакии по отношению к Советскому Союзу, сугубо отрицательное отношение к пронацистски настроенным западным немцам, а также восхищение и дружеские чувства к ГДР. Говоря по правде, эти чувства не были взаимными — руководитель Восточной Германии Вальтер Ульбрихт являлся одним из самых жестких критиков Дубчека. Нелегко было идти дальше по пути реформ, пока президентом страны оставался Новотный. Однако серия возмутительных коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны Новотный и его сын, сделали возможным его отстранение со второй должности всего несколько месяцев спустя после отставки с поста Первого секретаря ЦК КПЧ. В последний момент он попытался приобрести сторонников, неожиданно превратившись в «своего парня» — стал появляться с кружкой пива в барах, где проводили время рабочие. Но Новотный был слишком одиозной фигурой. 22 марта ему не осталось ничего иного, как уйти с поста президента. Дубчек не был свободен в выборе преемника Новотного, поскольку требовалось, чтобы новый президент не только сработался бы с руководителем партии, но и устраивал (или по крайней мере не раздражал) Брежнева. Различные группы писали послания, предлагая тех или иных кандидатов. Это была единственная открытая дискуссия по вопросу о выборе главы правительства в истории советского блока. Студенты симпатизировали сорокасемилетнему Честмиру Цисаржу, стороннику реформ, пользовавшемуся известной популярностью благодаря телевидению. Его либеральные идеи неприязненно воспринимались при режиме Новотного. Он был как раз таким кандидатом, который не унял бы страхов Москвы. Интеллигенция и некоторые студенты благоволили пятидесятисемилетнему Йозефу Смрковскому, чья популярность выросла из-за критики, которой подвергало его правительство ГДР. В конце концов Дубчек выбрал наименее популярного из трех главных кандидатов, семидесятидвухлетнего отставного генерала Люд вика Свободу, героя Второй мировой войны, сражавшегося вместе с советскими войсками. Его соперники получили важные, хотя и несколько более скромные, посты. Студенты в новой Чехословакии выразили свое недовольство, устроив демонстрацию в поддержку Цисаржа. Демонстрацию, которая сама по себе была неслыханной, несколько часов не трогали, и в полночь студенты отправились к штаб-квартире ЦК КПЧ, требуя, чтобы Дубчек говорил с ними. Это происходило в марте, в соседней Польше в это время студентов сбивали с ног дубинками за требования свободы слова. Дубчек был дома, когда ему сообщили о студенческой демонстрации. Он отреагировал так, словно это было обычным для коммунистической народной республики: отправился в штаб-квартиру ЦК КПЧ для разговора со студентами. Он попытался объяснить им свой выбор, сказав, что другие кандидаты нужны для других постов в правительстве, и выразив уверенность, что Цисарж будет играть важную роль в Центральном Комитете. Один студент спросил Дубчека: «Где гарантия, что прежние времена не вернутся?» Дубчек отвечал: «Гарантия — вы сами. Вы, молодые». Возможна ли была коммунистическая демократия в странах советского блока? Некоторые смели на это надеяться. Но студенты поймали Дубчека на слове, когда тот сказал, что они — гаранты, поэтому, когда Свобода вступал в должность президента, в знак протеста, а заодно, видимо, желая показать, что чехословацкие студенты вполне могут устроить сидячую забастовку, они провели таковую, и она длилась несколько часов. Когда весна со всеми ее надеждами пришла в Прагу, не все были счастливы. В апреле последовала серия самоубийств среди политиков, начиная с вице-президента Верховного суда Йозефа Брестанского, который был найден повесившимся на дереве в лесу в окрестностях столицы. Он работал над большим и важным планом, направленным на устранение судебных ошибок, имевших место в 50-х годах. По распространенной версии судья испугался, что вскроется его роль в вынесении приговора нескольким невиновным. Подобные разоблачения делались постоянно, и ведущую роль в этом играло телевидение. Жертвы репрессий давали интервью на телевидении. Еще более шокировало то, что интервью на телевидении давали и некоторые лица, виновные в этих преступлениях, и зрители по всей стране видели их смущение, когда те давали уклончивые ответы. Съемочные группы ездили по Чехословакии и запечатлевали на пленку мнение простого народа. Результатом стали национальные дебаты о несправедливостях двух прошедших десятилетий коммунистического правления. Массовые собрания и публичные встречи, начавшиеся зимой, весной стали проходить чаще, и многие из них демонстрировали по телевидению. Показывали, как студенты и рабочие с вызовом задают правительственным чиновникам трудные, а то и недружелюбные вопросы. Большинство чиновников в стране были серыми, никому не известными бюрократами, и те, кто хорошо умел выступать перед телекамерами и прекрасно говорил в микрофон, вроде Йозефа Смрковского, стали теперь национальными медиазвездами. Возможно, Дубчек рассчитывал удовлетворить общество, дав ему лишь глоток демократии. Однако это было не то, на что все надеялись. Чем больше люди получали, тем большего хотели. Все чаще звучали требования создания оппозиционных политических партий. Особенно активно пропагандировал эту идею журнал «Литерарни листы». Драматург Вацлав Гавел и философ Иван Свитак написали статью, в которой заявляли, что никаких реформ нет, а есть лишь полумеры, «проскочившие» в результате борьбы в верхах. По мнению Свитака, необходимо искоренить весь партийный аппарат. «Мы должны уничтожить его, или он уничтожит нас». Пресса, печать и радио были в авангарде политических реформ. Их сотрудники знали, что, хотя государственные цензоры больше не осуществляют цензуру, они тем не менее сохраняют свои посты. Пресса хотела добиться принятия закона, запрещающего цензуру. Как сказал один редактор на радио, «свобода прессы у нас существуете разрешения партии, и эта демократия может быть отменена в любой момент». Дубчек предостерегал от эксцессов. Хотя он не говорил об этом прямо, но наверняка понимал, что Брежнев не потерпит отказа Коммунистической партии от монополии на власть. В апреле Дубчек выпустил программу действий Коммунистической партии Чехословакии, где говорилось о «новой модели социалистической демократии». Наконец официальная позиция режима Дубчека была определена: декларировалось равенство чехов и словаков, целью правительства объявлялся социализм, указывалось, что личные мнения граждан не могут служить поводом для преследований. Это, по сути, являлось осуждением злоупотреблений прошлого и монополии Коммунистической партии на власть. Статьи в московской «Правде» ясно давали понять, что советскому руководству не нравится происходящее. «Правда» писала о «буржуазных элементах», подрывающих социализм, а летом — об антисоветской пропаганде на чешском телевидении. Проблемой стало стремление расследовать преступления прошлого, следы которых вели в Москву. Одной из таких тайн была история с Яном Масариком. Он был министром иностранных дел Чехословакии и сыном основателя чехословацкого государства. Через два дня после коммунистического переворота 1948 года он выпрыгнул из окна (или был выброшен) и разбился насмерть. Этот случай не расследовался в течение двадцати лет, но чехи хотели наконец узнать, что же произошло. 2 апреля студенческий еженедельник напечатал статью Ивана Свитака, требовавшего заново заняться этим делом. Он указывал на очевидную причастность к нему майора Франца Шрамма, отвечавшего за связь между чехословацкими и советскими спецслужбами. И чехословацкая, и зарубежная пресса обсуждали гипотезу об убийстве Масарика по прямому указанию Сталина. Расследование репрессий 50-х годов также затрагивало Советы. Однако прошло то время, когда в Советском Союзе были готовы заниматься разбором преступлений Сталина, поскольку два главных советских руководителя, Брежнев и премьер-министр Алексей Косыгин, были далеко не последними людьми при сталинском режиме. 1 Мая в большинстве коммунистических стран было поводом для большого военного парада, во время которого демонстрировалось дорогостоящее вооружение и произносились длинные речи, но в Праге никогда не исчезало дыхание древнего праздника весны. Тремя годами ранее Аллен Гинзберг был избран «королем мая» в Праге, а затем вскоре выслан. В этом же году в майский праздник люди вышли на улицы с транспарантами и флагами в руках. Кто-то нес американский флаг, а кто-то — израильский. То, что было запрещено год назад, теперь стало модно. На транспарантах было начертано: «Меньше монументов, больше мыслей», «Заниматься любовью, а не воевать», «Демократия любой ценой», «Разрешить отъезд в Израиль», «Я хотел бы увеличить численность населения, но у меня нет квартиры». Официальные гости на трибунах чувствовали себя неуютно. Болгарский посол пришел в ярость, когда увидел, что на транспаранте Македония, на которую претендовала Болгария, обозначена как принадлежащая Югославии. Толпа окружила Дубчека. Сотни людей хотели пожать руку своему высокому улыбчивому лидеру. Полиция вмешалась, чтобы вызволить его, и затем, вспомнив, как полицейские силы были использованы год назад, пражские партийные функционеры подошли к микрофону, извинились и объяснили, что Первого секретаря обступило слишком много граждан. Полиция не чинила насилий, и люди, кажется, проявили понимание. Но представители стран советского блока были шокированы происшедшим. Ночью демонстранты маршем прошли к польскому посольству, желая выразить протест против жестокого обращения с польскими студентами и антисемитской кампании, в ходе которой евреев продолжали выдворять с их родины — Польши. Через двое суток последовали еще более активные протесты в адрес Польши. Затем Дубчек внезапно выехал в Москву. Отсутствие объяснений этому породило серьезную тревогу в Чехословакии. Чехов не успокоило коммюнике Дубчека, который сообщал, что «у хороших друзей не принято прятаться за дипломатический этикет» и что Советы не скрывают своих сомнений в том, что «процесс демократизации в Чехословакии не является атакой на социализм». Видимо, Дубчек хотел сказать: у Советской власти есть определенные основания так думать. «Коммунистическая партия Чехословакии не раз предостерегала от подобных “крайностей”», — добавил он. Это заявление не успокоило граждан Чехословакии, а его поездка не придала должной уверенности советской стороне. Нелегко было привлечь к себе внимание в мире 9 мая 1968 года. Колумбийский университет и Сорбонна были закрыты. Студенты на улицах Парижа строили баррикады. Бобби Кеннеди выиграл предварительные выборы в Индиане и обеспечил себе место среди претендентов на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах. В Париже начались мирные переговоры. Покупатели сметали с полок нужные и ненужные товары. Наряду со всем этим распространился слух о том, что советские войска концентрируются в Восточной Германии и Польше, нацеливаясь на границы Чехословакии. Журналисты, которые пытались проникнуть в приграничные районы для выяснения ситуации, задерживались польскими дорожными патрулями. За день до этого руководители социалистических стран Живков (Болгария), Ульбрихт (ГДР), Кадар (Венгрия) и Гомулка (Польша) встретились в Москве и выпустили совместное коммюнике о положении в Чехословакии, которое было весьма запутанным и уклончивым даже по коммунистическим меркам, поэтому трудно было выявить, какую мысль оно выражало. Надо ли было понимать дело так, что лидеры стран советского блока решили начать вторжение? На следующий день чешское агентство новостей сообщило: речь идет о плановых учениях армий стран Варшавского Договора, о которых извещалось заранее. Нив самой Чехословакии, ни за ее пределами никто до конца не поверил этому объяснению, но по крайней мере кризис, как казалось, был преодолен — пока. С приходом новой свободы в Чехословакии произошел всплеск в развитии культуры. Длинноволосая молодежь в голубых джинсах продавала программки выступлений джазовых и рок-групп и театральных постановок. В Праге, которая всегда была театральным городом, весной 1968 года работало двадцать два театра. Тэд Шульц с энтузиазмом писал в «Нью-Йорк тайме», что «Прага, в сущности, является городом, западным по духу, начиная со стиля и характера культурной жизни и кончая недавним увлечением свитерами с высоким воротом». Он отмечал, что не только артисты и интеллектуалы, но и чиновники из министерств и даже таксисты одевались в такие свитера самой различной расцветки.Чешский студенческий лозунг, 1968

Майская демонстрация 1968 г. в Праге.
Действительно, Прага, являвшая собой сплав славянской и немецкой культуры, всегда больше походила на города Западной, а не Центральной Европы. Это — город Кафки и Рильке, где немецкий был вторым языком. Это оставалось одним из главных отличий Праги от словацкой столицы Братиславы, которая представляла собой типичный центральноевропейский город, где не говорили по-немецки. Ведущим джазовым клубом в Праге в ту весну была «Редута», расположенная вблизи от сквера Венцеслава. «Редута» была небольшим помещением, рассчитанным на сто человек, но куда приходило гораздо больше народу. Накануне эры Дубчека этот клуб приобрел известность благодаря первой чешской рок-груп-пе «Аккорд-клуб». Гавел, не раз посещавший его, писал: «Я не понимал этой музыки по-настоящему, но не требовалось особых умственных усилий, чтобы понимать: они играют и поют совершенно иначе, чем при исполнении «Крыстынки» или «Прага — золотой корабль» — официальных хитов того времени». Шульц, побывавший здесь весной 1968 года, передавал, что музыканты играют вариации в духе Дэйва Брубека «с налетом босановы». Среди театральных постановок того времени оказалась пьеса «Кто боится Франца Кафки?», впервые сыгранная в 1963 году, когда сочинения Кафки, прежде запрещенные как буржуазные, разрешили вновь. Название ее должно было вызвать в памяти пьесу Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?». Другим спектаклем была постановка долгое время запрещенного произведения Франтишека Лангера «Конный патруль» о борьбе чешских контрреволюционеров с большевиками в 1918 году. Еще одна постановка этой весны — «Последняя остановка» Иржи Секстра и И ржи Сухы, считавшихся лучшими драматургами ренессанса 1968 года. В этой пьесе говорилось о страхе, способном погубить реформы Дубчека и вернуть Чехословакию в состояние, в котором она пребывала до января 1968-го. Большое воодушевление вызвал международный кинофестиваль на курорте Карловы-Вары, поскольку Каннский кинофестиваль был закрыт его устроителями Жаном Люком Годаром, Франсуа Трюффо, Клодом Лелушем, Луи Маллем и Романом Полански в знак симпатии к студентам и забастовщикам. Надеялись, что некоторые из фильмов Каннского фестиваля, включая «Я люблю тебя, я люблю тебя» Алена Рене, будут показаны в Карловых Варах. Когда в Каннах попытались показать «Я люблю тебя, я люблю тебя», вопреки воле Алена Рене, артист Жан Пьер Лё силой держал занавес закрытым, чтобы помешать демонстрации фильма. Лё играл главную роль в «Китаянке», фильме Годара о «новых левых». На фестивале в Карловых Варах были показаны также три чешские картины, которые не демонстрировались в Каннах, в том числе «Поезда, которых так ждут» Иржи Мензеля. Эта картина получила «Оскара» в 1968 году как лучший иностранный фильм. Вацлава Гавела не было среди литераторов в Праге, потому что весной он находился в Нью-Йорке. Он стал одним из пятисот тысяч чехословацких граждан, выехавших за границу в 1968 году, поскольку впервые за много лет путешествия стали доступны каждому. Гавел, которому был тогда тридцать один год, шесть недель Пражской весны провел на организованном Джозефом Паппом Шекспировском фестивале в Ист-Вилледже, где был представлен на суд зрителей «Меморандум» — абсурдистская комедия о новом языке чиновников. Она сразу же снискала Гавелу признание в западном театральном мирё. «Тонкий замысел», «побуждает к размышлениям» — таковы были оценки в рецензии Клайва Барнса в «Нью-Йорк тайме». Пьеса была выдвинута на премию «Оби». Возможно, у Гавела сложилось такое яркое впечатление от демократии в Америке, какое она произвела лишь на Токвиля24. Гавел часто посещал Филмор-Ист и другие учебные заведения Ист-Вилледжа и разговаривал с бунтовавшими студентами Колумбийского университета. Он вернулся в Чехословакию, везя с собой плакаты психоделических рок-групп. С 30 июня по 10 июля был проведен референдум с целью выяснить, хочет ли народ продолжать придерживаться коммунистического порядка или желает вернуться к капитализму. Население Чехословакии ответило однозначно — 89% предпочли коммунизм. Только 5% высказались за капитализм. На вопрос о том, удовлетворительна ли деятельность нынешнего правительства, треть голосовавших, 33%, ответили положительно и 54% были удовлетворены правительством частично. Лишь 7% были настроены отрицательно. Дубчек, проводивший рискованную линию в отношении Москвы, руководил счастливой, полной веры в коммунизм страной. Но Советы не были счастливы и к июлю имели три варианта решения сложившейся ситуации. Первый состоял в том, чтобы каким-либо образом заставить Дубчека проводить в жизнь советскую программу. По второму варианту те чехословацкие лидеры, которые сохраняли лояльность по отношению к Москве, должны снова взять верх в стране (число таковых руководство СССР, по-видимому, преувеличивало), иначе (по третьему варианту) Советы осуществят вторжение. Ввод войск был наименее привлекательным из этих трех вариантов. Потребовалось двенадцать лет немалых дипломатических усилий, чтобы Запад отрешился от враждебности, вызванной вторжением в 1956 году в Венгрию. Интервенцию в Чехословакию было бы куда труднее оправдать, поскольку Дубчек делал все возможное для демонстрации своей лояльности по отношению к Советскому Союзу. Кроме того, оба народа связывала длительная дружба, уходившая истоками в 30-е годы, тогда как Венгрия была союзницей нацистов и врагом СССР. Советские войска освободили Чехословакию, и чехи оказались единственным народом, который по своей воле проголосовал за коммунизм и приветствовал союз с СССР. Как показал июльский референдум, Чехословакия сохраняла преданность коммунизму. И теперь, в тот самый момент, когда претерпевающая трудности экономика нуждалась в этом больше всего, отношения с Западом начали теплеть. Это называлось разрядкой. Администрация Джонсона очень много сделала для улучшения отношений с СССР. После долгих переговоров был подписан договор о нераспространении ядерного оружия. В конце июля, после десяти лет переговоров в условиях то возгоравшейся, то угасавшей «холодной войны», было достигнуто соглашение между «Пан-Американ» и Аэрофлотом об установлении прямого воздушного сообщения между СССР и США. Это было хорошим заделом для более важных начинаний в будущем. Тем не менее в одном вопросе СССР был полон решимости не рисковать — он не мог позволить Чехословакии выйти из-под своего влияния, поскольку, по мнению его руководства, тогда за ней последуют Румыния и Югославия, а затем в Польше возьмут верх студенты. А как поведут себя через двенадцать лет после усмирения венгры? По иронии судьбы все устные и письменные заявления Дубчека не давали никаких оснований заподозрить его в том, что он когда-либо помышлял о выходе из советского блока. Он прекрасно понимал: это черта, которую не следует переступать. Но Советы не доверяли ему, поскольку он вел страну не по тому пути, какой был им угоден. Второй вариант, внутренний переворот, судя по всему, имел мало шансов на успех. Советы попытались реализовать первый вариант, попробовав переубедить товарища Дубчека в последний момент перед вводом войск. Большие разногласия по вопросу о том, что нужно делать, были налицо. Косыгин, кажется, оказался единственным противником интервенции. А две крупнейшие коммунистические партии, французская и итальянская, направили в Москву своих лидеров, чтобы они убедили СССР не начинать вторжение. Тем не менее Советы стали готовить вариант ввода войск таким образом, чтобы в случае принятия соответствующего решения можно было начать его немедленно. Мощные силы стран Варшавского Договора, в большинстве своем советские, усиленные танковыми Дивизиями, окружали Чехословакию, двигаясь из Восточной Германии через Польшу и Украину и делая дугу через Венгрию. Сотни тысяч солдат стояли здесь, готовые выполнить приказ. Единственным участком границы, на котором отсутствовали танки, являлся отрезок границы с Австрией. Кампания в средствах массовой информации по поводу ужасных преступлений против социализма, имевших место в Чехословакии, была призвана подготовить советский народ к мысли о вторжении. Лидеры ГДР и Польши были и так уже к этому готовы. В июле советские представители встретились с венгерским руководителем Кадаром, чтобы оказать на него давление. После встречи 3 июля Кадар и Брежнев выступили с жестким заявлением о «защите социализма». Затем, чтобы последний раз попытаться переубедить Дубчека, его пригласили в Москву для дискуссии по программе КПЧ. Дубчек рассматривал это как неприемлемое и незаконное вмешательство во внутренние дела его страны. Он поставил вопрос на заседании Президиума ЦК КПЧ, большинство членов которого проголосовало за отклонение приглашения в Москву. К сожалению, нет сведений о реакции Брежнева на вежливое сообщение из Праги о том, что глава Коммунистической партии Чехословакии впервые не подчинился приказу из Москвы приехать на встречу. Дубчек был совершенно уверен, что сумеет договориться с советской стороной. Ему и в голову не приходила возможность оккупации. СССР и Чехословакия были друзьями. Это выглядело бы столь же невероятным, как если бы США вторглись в Канаду. Он считал, что сможет успокоить советское руководство. Разговаривая с Брежневым и другими советскими лидерами, Дубчек знал, каких слов надо избегать. Он не говорил «реформа», «реформист» и в особенности «ревизия». Эти термины могли привести в ярость правоверных марксистов-ленинцев. В июне тысячи советских военнослужащих были допущены в Чехословакию для «штабных маневров». Их проведение являлось обычным делом, чего, однако, нельзя сказать о численности войск — десятки тысяч солдат и тысячи машин, включая танки. Маневры предполагалось завершить 30 июня, и по мере того как проходили июльские дни, а войска по-прежнему оставались в стране, росло возмущение народа. Объясняя ставшую очевиднойзадержку, советская сторона выдвинула ряд смехотворных оправданий: необходим ремонт, дополнительные силы технических служб начинают прибывать, возникли трудности с запчастями, войска нуждаются в отдыхе, им мешают транспортные препятствия, мосты и дороги, по которым они двигаются, не в порядке и требуют ремонта. По стране распространились слухи, что советские войска, слишком задержавшиеся в Чехословакии, привезли с собой печатные станки и оборудование для глушения радиопередач, а также досье на чехословацких лидеров и списки лиц, подлежащих аресту. Чехословацкое правительство потребовало вывода советских войск. Руководство же СССР потребовало, чтобы все члены Президиума ЦК КПЧ прибыли в Москву на встречу с Политбюро ЦК КПСС в полном составе. Из Праги ответили, что считают мысль о встрече «хорошей идеей», и пригласили советское Политбюро в Чехословакию. Политбюро ЦК КПСС в полном составе никогда не выезжало за пределы Советского Союза. Дубчек знал, что ведет опасную игру. Но он отвечал перед своим народом, который, несомненно, не пошел бы на капитуляцию. Теперь, много лет спустя, одним из решающих факторов, удерживавших СССР от вторжения, представляется редкое единство народа Чехословакии, продемонстрированное в июле того года. Ведь это и чехи, и словаки, а среди чехов — жители Богемии и Моравии. Но тогда, в июле 1968 года, это был единый народ Чехословакии. Даже в условиях, когда войска стояли на границах страны и в ее пределах, а советская пресса ежедневно чернила граждан Чехословакии, их голоса сливались воедино. И Дубчек старался быть одним из этих голосов. Примерно в три часа утра 31 июля машинист и небольшая группа железнодорожных рабочих узнали в человеке, вышедшем на прогулку, Первого секретаря ЦК КПЧ товарища Дуб-чека. Он пригласил их в ресторан, который был открыт в это время. «Он провел с нами час и объяснил нам ситуацию», — рассказывал потом один из рабочих словацким журналистам. Когда рабочие спросили его, почему Дубчек гуляет в столь поздний час, он ответил, что последние несколько недель спит только между тремя и семью часами утра. Чешское телевидение взяло интервью у советских туристов, задав им вопрос, наблюдают ли они контрреволюционную активность и угрожает ли им что-либо. Все интервьюируемые хвалили страну, ее народ и приветствовали советско-чехословац-кую дружбу. Через четыре дня состоялась встреча членов двух президиумов в Чьерне-над-Тисой, неподалеку от границы с Венгрией и Украиной. 2 августа, когда встреча завершилась, Дубчек выступил с телеобращением, в котором заверил народ Чехословакии, что суверенитету нации ничто не угрожает. Он также заявил, что добрые отношения с Советским Союзом весьма важны для обеспечения этого суверенитета, и предостерег от враждебных высказываний в адрес СССР или социализма. Это означало, что вторжения не последует, если в Чехословакии воздержатся от провокаций по отношению к Советскому Союзу. На следующий день последние советские части покинули Чехословакию. Дубчек был человеком, опасавшимся говорить прямо. И все же он одержал победу в противостоянии. Иногда выжить — это величайшая победа. Новая Чехословакия сделала это, перейдя через Пражскую весну в Пражское лето. По всему миру писали статьи о том, что Советы отступили. Молодые люди из Восточной и Западной Европы и Северной Америки стекались в Прагу посмотреть, что это за новый вид демократии. Темные средневековые стены города были покрыты надписями на нескольких языках. В Праге имелось всего семь тысяч гостиничных номеров, и зачастую не было возможности разместиться в городе, хотя иногда помогали взятки. Трудно было занять столик в каком-либо из пражских ресторанов, и такси без пассажиров являли собой редкое зрелище. В августе «Нью-Йорк тайме» писала: «Для тех, кому нет тридцати, Прага кажется настоящим местом, где можно провести это лето».Часть III ОЛИМПИЙСКОЕ ЛЕТО
Тоску по отдыху и миру как таковую следует отбросить — она сочетается с принятием несправедливости. Те, кто плачет о счастливых временах, на которые они наталкиваются в истории, знают, чего они хотят: не облегчения, но того, чтобы несчастные замолкли.Алъбер Камю. «Бунтующий человек», 1951
Глава 14 МЕСТА, ГДЕ НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ
В колониях можно наблюдать голую правду, но граждане метрополии предпочитают, когда она одета.Казалось, что лето 1968 года ознаменовалось всеобщим ухудшением. Учебный год в Колумбийском университете окончился катастрофой: во время церемонии выдачи дипломов люди сотнями вставали и уходили прочь — даже несмотря на то что президент Кирк не присутствовал там, дабы не спровоцировать своим появлением демонстрации. Университеты во Франции, Италии, Германии и Испании испытывали большие затруднения в работе. В июне жесткая конфронтация между студентами и полицией разгорелась в Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе, Монтевидео, Эквадоре, Чили. 6 августа студенческая демонстрация в Рио была прервана, когда появились полторы тысячи пехотинцев и полицейские, использовавшие тринадцать легких танков, сорок бронемашин и восемь автомобилей с установленными на них пулеметами. Часто демонстрации возникали по несерьезным поводам: в Уругвае и Эквадоре, например, они начались из-за высокой стоимости проезда до учебных заведений. 1968 год был неспокойным даже в относительно благополучной Англии: он также закончился тем, что студенты занимали университетские здания. Началось это в мае в колледже искусства и дизайна Хорни. Здание колледжа, выстроенное в викторианском стиле, находилось в богатом районе на севере Лондона. Студенты проводили там собрание, посвященное таким вопросам, как занятость ректора в течение полной рабочей недели и программа занятий спортом, и неожиданно закончили тем, что захватили здание и выдвинули требования относительно коренных изменений в художественном образовании. Их требования подхватили школы искусств всей страны; в движение оказалось вовлечено тридцать три колледжа. Учашиеся Бирмингемского колледжа искусств отказались сдавать итоговый экзамен. К концу июня студенты продолжали удерживать Хорни-колледж. Мирные переговоры в Париже застыли на мертвой точке, и вероятность позитивного развития событий была столь незначительна, что в первый день лета «Нью-Йорк тайме» почти не оставила надежды американцам. Аккуратно сформулированная фраза на первой полосе гласила: «Клиффорд видит не много пользы в переговорах по вьетнамской проблеме». 23 июня вьетнамская война побила рекорд, поставленный американской революцией, и стала самой длительной войной за всю историю Америки: она продолжалась 2376 дней с того момента, как в 1961 году были отправлены первые войска в поддержку Южного Вьетнама. 27 июня силы Вьетконга, напав на дислоцированные неподалеку американские и южновьетнамские войска, случайно или намеренно открыли огонь по соседней рыбацкой деревне Сонтра, стоящей на берегу Южно-Китайского моря. Восемьдесят восемь мирных жителей было убито, больше сотни ранено. В тот же день в Соединенных Штатах Дэвид Деллинджер, глава Национального комитета по мобилизации за окончание войны во Вьетнаме, сообщил, что сотня организаций осуществляет совместную работу по подготовке ряда демонстраций, призывающих к окончанию войны, причем все они должны были пройти в Чикаго, где тем летом был намечен национальный съезд демократов. Тем временем 8 августа американские военные силы, проводя ночное патрулирование в дельте Меконга и пытаясь обстрелять вьетконговцев из огнеметов, убили семьдесят два мирных жителя из деревни Кайранг, дружественной американцам. Прошло несколько десятилетий, в течение которых население Испании пассивно подчинялось жестокости франкистов. И вот новое поколение испанцев начало вступать в конфронтацию с режимом, основанным на насилии, с помощью насилия же. В 1952 году пять молодых басков, неудовлетворенных пассивностью поколения их родителей, создали организацию, позднее получившую название «Эускади та аскатасуна» (ЭТА), что на их древнем языке означало «Баскская земля и свобода». До 1968 года действия этой организации заключались прежде всего в поддержке существования баскского языка, пользоваться которым запретил Франко. Члены ЭТА начали сжигать испанские флаги и портить испанские памятники. В 1968 году баскские лингвисты создали единый язык вместо существовавших восьми диалектов. Образчик лингвистических трудностей, имевших важное значение в 1968 году: первоначально в названии ЭТА использовалось слово «Аберри» вместо «Эускади», так что акроним выглядел как АТА, но после шести лет нелегальной деятельности под этим названием члены организации обнаружили, что на некоторых диалектах слово «ата» означает «утка», поэтому его поменяли на ЭТА. Единый язык 1968 года расчистил путь для возрождения баскского языка. Однако в 1968 году ЭТА начала применять насильственные методы. 7 июня солдаты Национальной гвардии остановили машину, в которой сидели два вооруженных сотрудника ЭТА. Они открыли огонь и убили охрану. Затем одного из убийц ЭТА, Тхаби Этхебаррьета, выследил и убил испанец. 2 августа, в отместку за смерть Этхебаррьета капитан полиции был застрелен участниками ЭТА перед своим домом, причем его жена слышала все, стоя за дверью. В ответ на это нападение испанцы фактически объявили баскам войну. Территория басков была взята в осаду, и это состояние сохранялось до конца года: тысячи людей были арестованы, подверглись избиениям, а некоторых приговорили к многолетнему тюремному заключению, невзирая на гневный протест со стороны Европы. Хуже того: сформировался стереотип действий, которому следовали ЭТА и испанцы — насилие влекло за собой насилие, — существующий и по сей день. На острове Гаити в Карибском море шел одиннадцатый год правления Франсуа Дювалье, доктора, жившего в маленькой стране, друга чернокожих бедняков, ставшего виновником массовых убийств. В середине года на пресс-конференции он объяснял американским журналистам: «Я надеюсь, что развитие демократии, которое вы наблюдаете на Гаити, станет примером для людей всего мира, в особенности Соединенных Штатов, в отношении гражданских и политических прав негров». Однако негры, да и все остальные жители, были полностью лишены каких бы то ни было прав в период правления доктора Дювалье. Будучи одной из самых жестоких и отвратительных диктатур во всем мире, правительство Дювалье вынудило бежать из страны столько представителей среднего и высшего классов, что в Канаде оказалось больше гаитянских докторов, нежели на самом Гаити. 20 мая 1968 года была совершена восьмая попытка свержения доктора Дювалье. Она началась с того, что бомбардировщик «В-25», пролетая над столицей Порт-о-Пренс, сбросил бомбу, пробившую очередную дыру в разбитой дороге. После этого из самолета вывалились листовки; они не разлетелись, поскольку участники акции не развязали пачку. Затем еще одна бомба была сброшена над сверкающим белизной Национальным дворцом, но не взорвалась. После того как Порт-о-Пренс, по общему мнению, выдержал нападение, началось вторжение в город Кап Гаить-ен, расположенный на севере страны. Чессна высадился там со своими товарищами, и они открыли огонь из ручных пулеметов по вышке, где не было людей. Участники интервенции быстро были перебиты или взяты в плен войсками гаитянской армии. 7 августа десять диверсантов, оставшихся в живых, были приговорены к смертной казни. Уолтер Лейкьюа — историк, автор нескольких книг о Ближнем Востоке — написал в мае статью, где доказывал, что этот регион потенциально является более опасным, нежели Вьетнам. В том же году Никсон высказывал сходную мысль в своих выступлениях в ходе предвыборной кампании. Тревогу у мирового сообщества в связи с Ближним Востоком вызывал тот факт, что обе стороны пользовались поддержкой сверхдержав и существовал очевидный риск перерастания регионального конфликта в глобальный. Израильтяне и арабы стали участниками гонки вооружений: арабы покупали советское оружие, а израильтяне — американское, причем Израиль, чьи союзники снабжали его не столь быстро, как СССР — арабов, также создал свою собственную индустрию вооружения. «Постепенно, — писал Лейкьюа, — мир смирился с тем фактом, что в недалеком будущем ожидается четвертая арабо-израильская война». В июле опрос общественного мнения показал: 62% американцев ожидают следующей арабо-израильской войны в течение ближайших пяти лет. Египетское правительство настаивало на том, чтобы к полному поражению, которое оно понесло в Шестидневной войне, относились как к «неудаче». План Израиля предложить земли, захваченные им во время войны, в обмен на мир не сработал. Земля действительно была нужна, но мир — нет. Президент Египта Гамаль Абдель Насер отказался даже вступить с Израилем в переговоры. Мохаммед Хейкаль, официальный представитель Египта, настаивал на неизбежности еще одной войны, возможно потому, что египетские студенты были в ярости от итогов последней войны. Во всем мире эпоха формирования студенческих движений вызвала волну антивоенного протеста, но студенты Каира негодовали, что их соотечественники сражались в этой войне недостаточно хорошо. Поскольку Саудовская Аравия была религиозным государством, король Фейсал призвал к «священной войне», а Сирия, считавшаяся социалистическим государством, предпочла призыв к «народной войне». Палестинские организации учиняли небольшие, но кровавые рейды, и израильтяне отвечали массированными обстрелами и частыми вторжениями на территорию Иордании. Все арабы были единодушны в отказе вести переговоры с Израилем, поскольку это обеспечило бы израильтянам-зах-ватчикам своего рода международное признание. Однако, согласно Лейкьюа, некоторые начали думать, что совершили ошибку, так как «в ходе переговоров сионисты, очевидно, предложили бы значительно меньше того, что они получили в конечном счете». Опрос, проведенный во Франции, показал: 49% французов считали, что Израиль должен сохранить за собой все территории, приобретенные в результате войны 1967 года, или хотя бы часть их. Лишь 19% утверждали, что все их надо возвратить. Опрос на ту же тему, проведенный в Великобритании, выявил: 66% процентов участников думали, что Израиль должен сохранить хотя бы что-то из новых земель, и только 13% — что он должен отдать их все. Эти территории и были причиной того, почему наблюдатели предсказывали столь долгий срок до начала войны — пять лет. Если в 1967 году арабы потерпели поражение, в следующий раз исход мог быть еще хуже, поскольку теперь израильтяне контролировали возвышенности на Суэце и Голанские высоты. Многие уже предрекали свержение Насера. Однако эта ситуация исподволь породила сдвиг на Ближнем Востоке, незаметный в то время. В арабском мире новая политика называлась «ни мира ни войны». Ее цель состояла в том, чтобы измотать и сломить израильтян. Если большие армии более не имеют возможности удовлетворительно вести войну, то удачной альтернативой станут малые террористические операции, которые, как подразумевалось, будут осуществлять палестинцы. Сама идея палестинских организаций родилась в Египте, а Насер финансировал их создание в 50-е. Нападения обходились не слишком дорого и приветствовались арабской общественностью. Сирия также начала оказывать этому «начинанию» финансовую поддержку в 60-е. Теперь сотни партизан проходили подготовку в Иордании и Сирии. Это очень усилило позиции палестинских лидеров и облегчило превращение «арабского населения оккупированного берега реки Иордан» в «палестинский народ». Арабские страны, в особенности Сирия, боролись за право контролировать эти партизанские организации, но к лету 1968 года «Аль-Фатах» утвердила себя как самостоятельная сила на территории Иордании, не контролируемая королем Хусейном. Группа прошла весьма долгий путь развития от своей первой операции — неудачной попытки взорвать водяной насос, — имевшей место всего четыре года назад. Незадолго до войны 1967 года Израиль отказался признать какие бы то ни было из своих действий «репрессиями» или «возмездием» — государственная цензура даже вырезала эти слова из депеш, посылаемых корреспондентами, — но к 1968 году, когда израильтяне стали наносить удары по территориям Иордании и Ливана, чтобы добраться до палестинских гериль-еро, эти понятия вновь стали общеупотребительными. К лету, когда израильское правительство потратило на концепцию мира в обмен на землю целый год усилий, сами израильтяне сдались (даже если их правительство и не сделало этого) и начали расселяться в Иерусалиме и на Голанских высотах. Это был Израиль хоть и с увеличившейся территорией, но не тот, о котором они мечтали. Аммон Рубинштейн писал в тель-авивском еженедельнике «Хаарец»: «С другой стороны, израильтяне будут вынуждены овладеть искусством жить в состоянии неопределенности, в условиях отсутствия мира». В тропическом, богатом нефтью районе реки Нигер не только не было мира, но и велась открытая война, и в этих условиях люди жили в состоянии еще большей «неопределенности». По приблизительным подсчетам, в боях погибло уже пятьдесят тысяч человек. В мае, когда войска Нигерии взяли и разрушили некогда процветавший город Порт-Харкорт, установили морскую блокаду и окружили Биафру войсками численностью восемьдесят пять человек, мятежные жители Биаф-ры потеряли всякую связь с внешним миром. Сообщали, что нигерийские силы перебили несколько сотен раненых солдат Биафры, находившихся в двух госпиталях. Маленькое независимое государство, не желавшее быть частью Нигерии, с армией в двадцать пять тысяч человек сражалось со ста тысячами нигерийских солдат. У нее не было тяжелого вооружения, снаряжения не хватало, даже не каждый солдат имел оружие Нигерийские военно-воздушные силы, у которых были советские самолеты и египетские летчики, бомбили и разносили в щепки города и деревни. Жители Биафры говорили, что нигерийцы, которых они обычно именовали «хауза» (по названию господствующего племени), задумали осуществить геноцид: во время нападений с воздуха их целью становились прежде всего школы, больницы и церкви. Но в конце концов, после года продолжающихся боев, внимание мировой общественности привлекла нехватка не оружия, а пищи.Жан Поль Сартр. Предисловие к роману Франца Фэнона «Отребья Земли», 1961

Солдаты Биафры, 1968 г.
Изображения детей, от которых остались одни скелеты, глядящих печальными, неестественно большими глазами, — детей, которые, казалось, не проживут и недели, — начали появляться в газетах и журналах всего мира. Эти фотографии помещали в рубриках новостей и объявлениях: то были отчаянные мольбы о помощи. Однако большинство попыток помочь оканчивались ничем. У Биафры был тайный и опасный аэродром — узкая, очищенная от леса полоса, освещенная керосиновыми лампами, принимавшая немногие доставлявшие помощь самолеты. Те, кто пытался найти его, сначала должны были пролететь через зону противовоздушной обороны Нигерии, где ведение огня корректировалось с помощью радаров. Запад узнал новое слово «квашиоркор» — болезнь вследствие белкового голодания и причина смерти тысяч детей. Госпиталь королевы Елизаветы в Умуайе сумел излечить восемнадцать больных за весь 1963 год. В том же госпитале, когда его посетили журналисты в августе 1968 года, находилось тысяча восемьсот больных этим недугом. Было подсчитано, что каждую неделю от полутора до сорока тысяч биафранцев умирало от города. Даже те, кому удалось попасть в лагеря беженцев, часто голодали. Пища, имевшаяся там, была недоступна из-за дороговизны. Цыпленок, стоивший в 1967 году семьдесят центов, в 1968 году подорожал до пяти с половиной долларов. Для восполнения недостатка белков людям советовали есть крыс, собак, ящериц и белых муравьев. Больницы, не имевшие ни пищи, ни лекарств, ни докторов, были заполнены детьми. Маленькие тела, исхудавшие до костей, лежали на соломенных матах; когда дети умирали, их заворачивали в эти маты и клали в яму. Каждую ночь яму засыпали и, готовясь к следующему дню, выкапывали новую. Правительство Нигерии не позволяло никому, в том числе и Красному Кресту, организовывать рейсы с целью оказания помощи десятимиллионному населению Биафры, одна десятая часть которого жила в лагерях беженцев. Оно утверждало, что такие полеты создадут трудности военно-воздушным силам Нигерии при выполнении их собственных задач. Единственная пища, доставлявшаяся бесстрашными пилотами в ходе немногих рейсов, приобреталась на средства международных благотворительных организаций. В большинстве своем мировая общественность относилась к этой войне довольно безразлично, не поддерживая претензии Биафры на национальную независимость, однако настаивая на том, чтобы Нигерия позволила совершать рейсы самолетам с гуманитарной помощью. Но 31 июля французское правительство, вопреки предсказаниям, что дни, когда де Голль проявлял инициативу в международной политике, прошли, отмежевалось от своих союзников (и отступило от своего внешнеполитического курса), заявив о поддержке претензий Биафры на национальную независимость. Помимо Франции только Замбия, Берег Слоновой Кости, Танзания и Габон официально признали Биафру. 2 августа эта война стала темой, актуальной для внешней политики США, когда сенатор Юджин Маккарти подверг критике президента Джонсона за то, что тот почти не оказывал помощи Биафре, и потребовал, чтобы президент обратился в ООН и настоял на организации воздушной переброски в Биафру пищи и медикаментов. Американцы ответили созданием многочисленных групп помощи. Комитет помощи Нигерии/Биафре, в который вошли бывшие волонтеры «Корпуса мира», начал искать пути доставки в Биафру гуманитарной помощи. Двадцать одна ведущая еврейская организация, Католическая служба помощи и Американский комитет за сохранение существования Биафры пытались помочь. Красный Крест арендовал самолет «DC-б» для ночных полетов у шведской чартерной компании, но 10 августа, после десяти рейсов, полеты были прекращены: мешал огонь нигерийской противовоздушной обороны. Затем 13 августа Карл Густав фон Розен, шведский граф и легендарный пилот, приземлился на четырехмоторном «DC-7» на маленькой грязной взлетно-посадочной полосе в Биафре. Самолет с десятью тоннами продуктов и лекарств на борту достиг Биафры по новому маршруту, находившемуся вне зоны действия корректировавшихся радарами нигерийских зенитных орудий. Фон Розен впервые прославился, оказавшись в сходной роли в 1935 году, когда бросил вызов силам итальянской авиации и сумел доставить по воздуху первую помощь Красного Креста в блокированную Эфиопию. В 1939 году, будучи волонтером финских ВВС, в ходе советско-финляндской войны он совершил немало бомбовых налетов на Россию. А во время Второй мировой войны он в качестве курьера еженедельно совершал перелеты между Стокгольмом и Берлином. Благополучно приземлившись в Биафре, фон Розен отправился затем на Сан-Томе, маленький португальский островок у побережья Нигерии, где громоздились склады продуктов, медикаментов и снаряжения, приготовленных для жителей Биафры. Там он проинструктировал летчиков относительно воздушного коридора в Биафру, обнаруженного им. Он пролетел по нему дважды, чтобы удостовериться в безопасности. В первый раз это было при дневном свете, хотя такие полеты были делом неслыханным из-за возможности перехвата силами нигерийских ВВС. Но фон Розен пояснил, что ему нужно было осмотреть местность, прежде чем отправляться в ночной полет. Он сказал, что его не интересует, что будут доставлять в Биафру пилоты, пищу или оружие. «Жителям Биафры нужно и то и другое, если они хотя выжить». Высокий скандинавский летчик с голубыми глазами и седой головой назвал происходившее в Биафре «преступлением против человечности... Если нигерийцы будут продолжать стрелять в самолеты с гуманитарной помощью, то путь должен быть защищен «зонтиком» из истребителей. Тем временем мы намерены продолжать полеты, и другие авиакомпании присоединятся к нам». Корреспонденты, которым удалось попасть в Биафру, сообщали о том, что боевой дух местных жителей чрезвычайно высок; репортеры часто слышали от них: «Помогите нам победить». Нигерийцы предприняли серию еще более опустошительных обстрелов тяжелыми снарядами, но биафранцы продолжали удерживать свою территорию, используя во время обучения вместо оружия палки и сражаясь в условиях, когда против них использовался весь ассортимент оружия, представленный на европейском рынке. Но к августу территория, удерживаемая биафранцами, сократилась до трети от той, которая принадлежала им год назад, когда народ объявил о своей независимости. Одиннадцать тысяч тонн продуктов было готово для отправки из нескольких пунктов, а сотни детей умирали ежедневно голодной смертью. Одумегву Оюкву, тридцатичетырехлетний глава государства, бывший полковник нигерийской армии, получивший образование в Англии, сказал: «Я прошу мир только об одном: пусть на нас смотрят как на людей, а не как на негров, которые сталкиваются между собой лбами. Когда три русских писателя попадут в заключение, весь мир негодует, но когда во время резни погибают тысячи негров...» Правительство США заявило репортерам: помогать Биафре бесполезно, поскольку нет никаких гарантий, что страны «третьего мира» не сочтут это за вмешательство в африканскую гражданскую войну. Было непонятно, учитывалось ли при этом впечатление, которое произвело на мир уже свершившееся вмешательство в гражданскую войну в Азии. Однако факт оставался фактом: в Африке нарастало возмущение по поводу помощи, которую Запад оказывал Биафре. Неудивительно, что особенно это было характерно для Нигерии. Один нигерийский офицер сказал работнику швейцарской службы помощи: «Нам не нужен ваш крем и белый хлеб. Здешним людям нужна рыба и гарри. И мы можем дать им это. Так почему бы вам не поискать голодающих белых, чтобы накормить их?»Глава 15 СИЛА СКУЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Да, Никсон по-прежнему был душой телевидения. Он все так же «болел» идеей массовой коммуникации: он думал, что может использовать телевидение для того, чтобы обшаться с массами.1968 год был годом, когда в Америке должны были состояться очередные президентские выборы, а в такие моменты в стране разворачивается борьба, напоминающая сражения на фронте, причем столь жестокие, что другие демократии взирают на это зрелище в смущении, но не в силах оторваться. Однако помимо политических игр, разнузданных амбиций и неумеренного лживого позерства, существуют избиратели, которым позволено надеяться один раз в четыре года. В 1968 году надежда скончалась в последние дни весны на кухонном полу в Калифорнии. После убийства Роберта Кеннеди романист Джон Апдайк сказал, что, кажется, Бог лишил Америку своего благоволения. Весь мир наблюдал за тем, как в 1968 году Бобби медленно, но неуклонно завоевывал позиции. Рост был заметен с каждым новым интервью, с каждым выступлением. Его решимость и энергия были редки даже для американской политики. Толпы с плакатами «Бобби, поцелуй меня» провожали его, и он срывал с себя одежду и ботинки, словно был рок-звездой. Он научился так хорошо держаться на телевидении, что Эбби Хоффман не без зависти назвал его «голливудским Бобби». Хоффман сказал с разочарованием: «Джин* был не слишком интересен. За него можно было порадоваться про себя, как радуются за Метса. Легко догадаться, что ему никогда не победить. Но Бобби... Каждый вечер мы включали телевизор и видели там молодого рыцаря с длинными волосами, протягивающего нам руку... Когда длинноволосые молодые люди рассказывали что Бобби подстригся, чувствовалось, что «Йиппи!» по-настояще-му обеспокоены». Том Хейден, не склонный восхищаться кандидатами из политического истеблишмента, писал: «И все же в тот год, когда царила неразбериха, я понял, что единственным заслуживающим внимания политиком в Америке был младший брат Джона Ф. Кеннеди». Евтушенко описал глаза Кеннеди как «два сгустка воли и тревоги». Когда Кеннеди встретился с русским поэтом, Евтушенко предложил тост и хотел разбить рюмки. Кеннеди захотел сменить их на более дешевые. Но дешевые стаканы были из толстого стекла и при ударе об пол не разбились, что русский поэт воспринял как дурное, пугающее предзнаменование. Все видели в Роберте нечто фатальное, что, по выражению Лоуэлла, было «вплетено» в его нервы. Видел это и он сам. Узнав об убийстве брата, Бобби сказал, что его ожидает та же судьба. Вдова его брата, Джеки, говорила историку Артуру Шлезингеру на званом обеде: «Знаете, я думаю, что с Бобби случится то же, что с Джеком». За две недели до гибели он беседовал с французским писателем Роменом Гари и сказал: «Я знаю, что на меня рано или поздно будет покушение. Не столько по политическим причинам, сколько из-за морального разложения, из-за соперничества». Во-первых, существовал чисто политический вопрос: мог ли он победить? Часто говорили: его убьют, если покажется, что он может одержать победу. 4 июня он выиграл предварительные выборы в Калифорнии, победив Маккарти при соотношении 45%:42%; Хамфри набрал лишь 12% голосов. В тот момент Бобби окончательно обогнал Маккарти, бывшего бесспорным лидером предвыборной гонки. Ему оставалось лишь переиграть Губерта Хамфри на съезде в Чикаго. «Теперь нам предстоит Чикаго, и давайте победим там», — сказал Бобби. Через несколько минут он был убит выстрелом в голову. Бобби был вынужден пройти через кухню, поскольку поклонники преградили дорогу, которую он выбрал до этого. И там, на кухне, на этом случайном пути, его ждал человек с пистолетом в руках. Его убил некто по имени Серхан Серхан — странное имя, звучащее бессмысленно для уха американцев. Кто был Серхан Серхан? Посыпались неудовлетворительные ответы. Иорданец, араб с оккупированного берега Иордана, палестинец, но не «боевик». В его преступлении нельзя было различить ни «арабского следа», ни какого бы то ни было иного. Человек из числа «перемещенных лиц», по-видимому, с неустойчивой психикой. Мы знаем, кто совершил убийство, но никогда не узнаем причин. Кому суждено было теперь, когда Кеннеди не стало, возглавить предвыборную гонку, и был ли он обречен на смерть? «Это не Бог, а смерть» — такие слова были в стихотворении Ферлингетти, посвященном Кеннеди и прочитанном в день похорон. Каждый из кандидатов, демократов и республиканцев (правда, к Маккарти это не относилось в полной мере: казалось, он выбыл из состязания), знал, что следующим может стать он. Норман Мейлер, описавший съезды обеих партий, заметил: все кандидаты начинали волноваться, когда вокруг них собиралась толпа. Увы, лишь после того, как наиболее вероятная жертва уже погибла, федеральное правительство решило принять более серьезные меры для защиты оставшихся семерых кандидатов. Роберта Кеннеди не удалось бы убить, если бы его охраняла служба безопасности. Ее сотрудники покинули кухню до того, как он вошел. Сто пятьдесят агентов было приставлено к оставшимся кандидатам. Для Губерта Хамфри и Джорджа Уоллеса это не было чем-то новым, поскольку они уже располагали мощной охраной, но для Юджина Маккарти, у которого раньше не было даже телохранителя, это стало большой переменой. Со смертью политика и при оставшихся в живых семи кандидатах политические собрания (конвенции) опустели подобно спортивным мероприятиям, когда перед соревнованиями из списка участников вычеркивают атлета-звезду. Республиканцы и демократы отличаются друг от друга, и поэтому на собраниях республиканцев пустота была под контролем, в то время как на собраниях демократов царили пустота и хаос. Национальные политические конвенции были изобретены для руководителей местных политических организаций всей страны, чтобы те могли встречаться и выбирать своего кандидата в президенты. Первым президентом, избранным конвенцией, стал Эндрю Джексон, когда его выбирали на второй срок25. Первоначально кандидат избирался несколькими близко знающими его товарищами по партии в частном кругу. Эта система не только противоречила демократическим принципам, но и, по мере того как страна росла, стала громоздкой, поскольку все американские политические партии уже имели свои союзы, складывавшиеся вокруг местных руководителей — государственных, городских, людей вроде Ричарда Дж. Дейли, мэра Чикаго. Чем больше становилась страна, тем больше появлялось партийных руководителей. Конвенции всегда напоминали театральное зрелище дурного тона, полное грандиозных фальшивых трюков. В 1948 году, когда они впервые были показаны по телевидению, эти передачи сразу оказались в числе худших. В тот год демократы выпустили стаю непослушных голубей, пытавшихся усесться всюду, в том числе на голову председателя Сэма Рейберна, пытавшегося стуком молотка призвать участников собрания к порядку. Он хлопнул себя по голове и прогнал голубя, но назойливая птица уселась перед ним на подиум. Перед взводом фотографов со вспышками и телекамерами он схватил птицу и отшвырнул ее прочь. В 1952 году при проведении летней конвенции были использованы кондиционеры. Исчезли скучные костюмы, а также аплодирующие зрители; кроме того, уменьшилась секретность. Кондиционеры также открыли новые возможности для проведения подобных мероприятий. В Майами невозможно было провести августовскую конвенцию до появления кондиционеров. В 1960 году благодаря Джону Кеннеди конвенции стали более интересными: он изобрел тактику, при которой освещалась деятельность каждой делегации и шла борьба за голос каждого делегата. Четыре года он присутствовал на съездах, появляясь еще до встречи участников и затем размещая шпионов в каждой делегации, чтобы обнаружить изменения: таким образом выявлялись сомневающиеся делегаты. Тот же способ применил в 1964 году Барри Голдуотер, и постепенно он стал общепринятым: это вносило элемент интриги. В 1968 году драма завершилась: партии поняли, что, если мероприятие будут показывать по телевизору, партийные боссы должны определить кандидатуру заранее, а затем разыграть постановку перед камерами наподобие шоу «Мисс Америка» или «Оскар». И никаких надоедливых голубей и прочих сюрпризов! Но в 1968 году будущее партии в течение недели определялось перед телекамерами, снимавшими «вживую». Для телевидения это был главный сюжет — важнее, чем войны, голод или интервенция. Большинство организаций, связанных с теле- и радиовещанием, направляли своих представителей в города, где проходила конвенция. Именно в это время появлялись новые талантливые ведущие. Хантли, Бринкли и Кронкайт снискали себе славу звезд и выработали свой имидж в ходе конвенций. Когда Си-би-эс срочно отправила Дэниела Шорра, присутствовавшего на Чикагской конвенции, вести репортажи о вторжении советских танков в Чехословакию, он сожалел, что его отстранили от важного сюжета. Вплоть до 1968 года отличия между республиканцами и демократами больше касались стиля поведения, нежели идеологии. Демократы поддерживали войну во Вьетнаме, и все же наиболее выдающиеся кандидаты — противники войны были демократами. У республиканцев были свои кандидаты, придерживавшиеся антивоенных настроений, такие как сенатор от штата Нью-Йорк Джейкоб Джевитс, ознаменовавший свое вступление в кампанию 1968 года призывом закончить войну, и мэр Нью-Йорка Джон Линдсей, всем известная кандидатура в номинанты на пост президента от республиканской партии, также громогласно высказывавшийся против войны. Самым популярным кандидатом-республиканцем был губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер, который не был противником войны в строгом смысле слова: он поддерживал войну «в защиту права на самоопределение» народа Южного Вьетнама. Но в 1968 году он начал высказываться на иной лад, называя действия военных «преступлением, за которое надо держать ответ», и призвал к одностороннему выводу войск из Южного Вьетнама. Его социальная позиция отличалась либеральностью, и он пользовался поддержкой среди чернокожих избирателей. Будучи губернатором, он вынудил законодательные органы штата Нью-Йорк легализовать аборты (до этого закон восьмидесятипятилетней давности дозволял аборт только в том случае, если он был необходим для спасения жизни матери). Он призвал республиканскую партию стать «голосом бедных и угнетенных». Он даже хвалил Юджина Маккарти за то, что тот привлек в политику молодых, и обещал понизить возраст, при котором человек имел право голосовать, до восемнадцати лет. Этому кандидату было присуще огромное обаяние. Его очень любила пресса, и он блестяще держался перед камерами. Почти невозможно было отделаться от ощущения, что он обращается к каждому, когда звучал его низкий голос: «Привет», — и никого не отталкивал тот факт, что он, очевидно, был «богат, как Рокфеллер». В августе он отправился на конвенцию республиканцев, причем опросы показывали, что он фаворит предвыборной гонки и без труда может переиграть Губерта Хамфри и Юджина Маккарти. Из тех же опросов явствовало, что его соперник Ричард Никсон не может одолеть ни того ни другого. К Рокфеллеру относились с большой приязнью даже демократы. Что касается республиканцев, то единственной проблемой в отношениях с ними были разногласия с крайне правыми. Тем горше было для него сознание того, что в 1964 году ему не удалось помочь «мученику» из их среды, придерживавшемуся консервативных взглядов, — Барри Голдуотеру. Однако перед ним стояла серьезная проблема. Номинанты выбирались на конвенциях делегатами, а большинство делегатов поддерживали Ричарда Никсона, которого, казалось, никто не любил. Как такое могло быть? Поворотные моменты в истории иногда бывают забыты. В какие-то минуты кажется, что они не имеют особого значения. 22 марта Рокфеллер объявил, что снимает свою кандидатуру. Это заявление повергло в шок и озадачило политический мир. Большинство приняло это за тактический прием: быть может, Рокфеллер решил подтвердить свою популярность, вызвав лавину письменных обращений в свою поддержку. Передовица в «Нью-Йорк тайме» открыто призвала его пересмотреть свое решение. В статье говорилось: «Отказ Рокфеллера от участия в предвыборной гонке означает номинирование Ричарда М. Никсона за отсутствием соперников». В передовице также было сказано: «Его решение означает, что умеренные республиканцы лишаются лидера, отныне они бессильны». Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что оба утверждения оказались верными. Хотя выяснилось, что это действительно был неудачный план и Рокфеллер все же продолжил участвовать в предвыборной гонке —■ на самом деле он никогда не покидал ее, — этот жест дал возможность Никсону (пользовавшемуся куда большей популярностью у республиканской партии, нежели у народа) остаться неоспоримым лидером у делегатов. Чтобы возобновить свое участие в предвыборной кампании, Рокфеллер потратил десять миллионов долларов — случай беспрецедентный, — но Мейлер саркастически заметил, что Рокфеллер бы поступил умнее, если бы подкупил четыреста делегатов, дав каждому по двадцать пять тысяч долларов. Неверный ход, сделанный им в кампании 1968 года, когда у него были все шансы решить дело в свою пользу, означал закат его карьеры. В свою очередь, это предвещало, что либерально настроенное крыло республиканской партии скоро осиротеет. За исключением одного отчаянного момента, когда сам Рокфеллер выступил как вице-президент при неизбранном президенте Джеральде Форде после того, как Никсон позорно отказался участвовать в предвыборной гонке, республиканская партия более никогда не пыталась выдвинуть политика из числа умеренно настроенных членов на пост президента или вице-президента. В 1968 году республиканская партия стала гораздо более идеологизированной: она превратилась в консервативную партию, а ее перспективные умеренно настроенные деятели оказались на втором плане. Единственным из возможных теперь кандидатов-республи-канцевбыл Рональд Рейган, новый губернатор Калифорнии (шел второй год его работы в этой должности). Он показал себя вполне определенным образом, поощряя жестокость полиции, бесчинствовавшей в кампусах штата Калифорния, а также сокращая финансирование образования, здравоохранения и других социальных программ. Это произвело впечатление на часть консерваторов. Но Рейган казался настолько невозможной кандидатурой для избрания, вызывал такое количество шуток, что по сравнению с ним Никсон, также воспринимавшийся как комическая фигура, выглядел серьезным соперником. Никсон по крайней мере казался остроумным, даже если ум служил ему для того, чтобы постоянно и безо всяких переходов менять свои позиции. Впоследствии, когда Рейган был уже президентом, явную путаницу в его мыслях часто списывали на возраст. Но даже в 1968 году, в возрасте всего пятидесяти семи лет, Рейган часто выглядел потерянным. 21 мая он выступал в программе Эн-би-си «Встреча с прессой», и его попросили объяснить, в чем заключаются его расхождения с Барри Голдуотером. «Есть множество моментов, я уже пытался вспомнить их, — ответил он. — Откровенно говоря, меня подводит память. Совсем недавно я узнал, что он сделал заявление. Я запросил текст и был не согласен именно с этим заявлением». К июню петиция, имевшая целью проведение референдума и голосования по вопросу, достаточно ли компетентен Рейган, собрала пятьдесят тысяч подписей. Опросы, проведенные в Калифорнии, показали, что только 30% населения полагало, что он «хорошо работает». Комики всегда любили шутить над Никсоном, но и Рейган все чаще и чаще становился мишенью для их острот. Комик Дик Грегори, участвовавший в предвыборной гонке в качестве кандидата от своей собственной партии и демонстрировавший список кандидатов, где было указано его имя, говорил: «Рейган — это «ниггер», если прочитать наоборот. Вообразите, у нас в Калифорнии кандидат в президенты — «ниггер» наоборот!» И еще был Эйзенхауэр, привидение, пришедшее из 50-х, который последовательно и настойчиво утверждал, что стратегия США во Вьетнаме работает и следует продолжать действовать в том же духе для защиты мира от коммунистического господства. Типичное для Эйзенхауэра «прелестное» противоречие: будучи президентом, он громогласно заявлял, что народы требуют мира, но в 60-е, когда в конце концовони действительно стали требовать его, он обвинил антивоенное движение в «мятежных настроениях» и в том, что они «оказывают помощь врагу и создают для него комфортные условия». Подобно де Голлю, он часто ссылался на свой опыт времен Второй мировой войны. Да, допускал он, кажется, мы проигрываем войну во Вьетнаме, но и после битвы за Бельгию он читал газеты и чувствовал нечто подобное. Когда Эйзенхауэр перенес очередной сердечный приступ, на первых полосах газет и журналов появилось его изображение: он лежал в постели в больнице «Уолтер Рид», облаченный в пижаму и халат с надписью «Скорейшего выздоровления». Он предостерегал насчет коммунистов и, прямо с постели, в прямом эфире дал средствам теле- и радиовещания интервью, в котором выразил поддержку находившемуся в Майами Никсону, своему бывшему вице-президенту. Все это выглядело так, как будто 50-е продолжаются. Десять лет спустя у Эйзенхауэра случился шестой сердечный приступ, который он опять-таки пережил На конвенциях избрание делегатов происходило с помощью серии баллотировок: голоса делегатов подсчитывались по штатам. Эти баллотировки велись по ночам, вопреки потребностям телевидения, которое предпочло бы использовать прайм-тайм, пока не выяснялось, кто из кандидатов набрал абсолютное большинство голосов. Обычно чем больше проходило баллотировок, тем слабее становилась поддержка, оказываемая лидеру предвыборной гонки. Рокфеллер воображал, что делегаты «повернутся к нему лицом» после нескольких раундов. Рейган фантазировал, что Рокфеллер и Никсон окажутся в тупике в итоге нескольких баллотировок и наконец делегаты в поисках выхода обратятся к нему. Линдсей, хотя никто не верил в это, лелеял похожие фантазии на свой счет. Первую баллотировку выиграл Никсон. Единственная драма заключалась в борьбе Никсона с самим собой. В 1948 году, когда его политическая карьера только начиналась, он атаковал бывшего чиновника госдепартамента Элджера Хисса. Это вновь всплыло в 1952 году, когда имя Никсона оказалось замешано в скандале, разразившемся на фондовой бирже. А в 1962 году, потерпев поражение на выборах губернатора Калифорнии (это было всего через два года после того, как он проиграл Кеннеди президентскую гонку), Никсон сказал политике «прощай». Теперь он вернулся. «Величайшее возвращение со времен воскресения Лазаря», — писал Джеймс Рестон в «Нью-Йорк тайме». Затем случилось нечто непонятное: во время своей речи при номинировании его кандидатом Никсон заговорил, как Мартин Лютер Кинг (Мейлер первым заметил это). То было не просто одно из его знаменитых перевоплощений, не просто эксцентрика. Никсон, который также перенял приветственный жест, принятый в Эс-ди-эс (поднятые два пальца, символизировавшие знак мира), не ставил себе никаких пределов относительно того, что он может усваивать и использовать. Мартин Лютер Кинг после смерти перестал быть мятежным агитатором и занял свое место в самом сердце американского истеблишмента. Его организация проводила пикет за стенами зала, где шла конвенция. В шести милях оттуда, в Майами, разразились первые расовые беспорядки. Губернатор Флориды говорил о необходимости ответных действий с применением силы, и чернокожие погибали под выстрелами. Ричард Никсон произносил речь. «Я вижу день» — он повторил это девять раз, безошибочно воспроизведя знакомую интонацию*. «Я мечтаю...» Затем, продолжая свое выступление и, очевидно, захваченный собственным — или чьим-то — риторическим порывом, он возгласил: «Итак, к вершине, откуда мы сможем увидеть Америку во славе нового дня...» Конвенция республиканцев в Майами, состоявшаяся во вторую неделю августа 1968 года, была скучной, что, согласно опросам, оттолкнуло от нее молодежь и чернокожих и никого не воодушевило. Единственная возможность придать драматичность происходящему — сожаление организаций чернокожих об исключении черных из делегаций Флориды, Луизианы, Миссисипи и Теннесси — не была использована, поскольку это событие предпочли не предавать огласке. «Все говорили в один голос, что это была самая скучная конвенция из всех, которые когда-либо проводились», — писал Норман Мейлер. Один телекритик сказал, что происходящее освещалось в эфире столь долго и все это было настолько неинтересно, что выглядело как «необыкновенно жестокое наказание» Однако скука сыграла на руку республиканцам: из-за нее люди не обратили внимания на уличные беспорядки и даже не заметили их. Опрос, проведенный в 1968 году в общественных школах Флориды, где согласно принципам сегрегации учились только белые, показал, что 59% студентов были обрадованы известием об убийстве Мартина Лютера Кинга или отнеслись к нему индифферентно. В то время как Никсон одержал победу в Майами, на улице Ральф Эбернати, глава «Конференции руководства христианских общин Юга», ранее руководимой покойным Мартином Лютером Кингом, возглавлял ежедневные демонстрации чернокожих, а по ту сторону залива, в черном гетто под названием Либерти-сити (город Свободы), возникло противостояние полицейских и чернокожих, сопровождавшееся насильственными действиями: сражающиеся переворачивали машины и вели огонь. Были вызваны войска Национальной гвардии. В то время как Никсон определял, кто станет при нем вице-президентом, трое чернокожих были убиты в ходе беспорядков в Либерти-сити. Оставался только вопрос относительно вице-президента, и логика требовала, чтобы этот пост занял либерал, способный привлечь сторонников Рокфеллера, будь то сам Рокфеллер или мэр Нью-Йорка Джон Линдсей, отчаянно боровшийся за то, чтобы номинировали именно его, или сенатор от штата Иллинойс Чарлз Пёрси. При этом кандидатура Рокфеллера вряд ли могла быть принята, поскольку в 1960 году он отказался быть товарищем Никсона по предвыборной гонке. В конце концов Никсон удивил всех — и это еще мягко сказано, — выбрав губернатора штата Мэриленд Спиро Т. Эгню. Он сказал, что этот шаг продиктован желанием усилить единство партии, но сама партия не могла скрыть своего разочарования. Было проигнорировано мнение всего ее умеренного крыла. Список кандидатов от республиканцев чрезвычайно пришелся по душе южанам-белым, раздраженным борьбой за гражданские права, длившейся годами, и некоторым избира-телям-северянам, сторонникам «закона и порядка», которых приводили в ярость волнения и «беспорядок» последних двух лет, но более никому. Большую часть страны республиканцы оставили демократам. Демократ-ренегат из Алабамы Джордж Уоллес, давний сторонник сегрегации, проходивший по собственному избирательному списку, мог не только перетянуть на свою сторону демократов, но также лишить республиканцев значительного числа избирателей, приведя им пример южных штатов и всю стратегию, разворачивавшуюся на Юге. Никсона хотели вынудить выбрать кого-то другого, и это не произошло лишь благодаря тому, что мэр Линдсей, ведущий кандидат от либералов на этот пост, оказал Никсону услугу, поддержав предложенную им кандидатуру Эгню. В свое оправдание Никсон сказал, что Эгню — «один из самых недооцененных политиков Америки». На следующий день Национальная ассоциация защитников цветного населения (НААСП) — одна из наиболее умеренных группировок чернокожих — осудила избирательный список, назвав тех, кто в нем фигурировал, «сторонниками противодействия белых». Было ли это плохой новостью для Никсона? Да и было ли это новостью? Ричард Никсон, как заметили некоторые, сформировал республиканскую партию заново. Теперь оставался Чикаго — и тамошний съезд обещал не быть скучным.Норман Мейлер «Майами и осада Чикаго», 1968
Глава 16 ФАНТОМ, РАЗВЕЯННЫЙ РАБОТНИКАМИ СКОТНОГО ДВОРА
Джин Дженет, у которого имелся значительный опыт работы в полиции, говорил, что никогда не видел такого выражения на лицах, которые вообше-то должны были быть человеческими. И что это был за призрак, с воем пронесшийся от Чикаго до Берлина, от Мехико до Парижа? «Мы взаправду-правду-правду — как дубинка!» Своим тупым звериным сознанием они ощущали, что реальность ускользает от них.Уильям Бэрроуз. «Приход Пурпурного — Того, Кто Лучше». «Эсквайр», ноябрь 1968
Ничего нереального в том, что произошло в Чикаго, нет. Напротив, все это весьма реально. Мэр, управляющий городом, — реальное лицо. Он — старая кляча. Западный истеблишмент следовало бы выпороть за то, что он придал его образу романтический ореол. Вид у него такой, будто он кричит «ура» не переставая. Он — кляча. Сосед-хулиган. Чтобы понять, что он такое, его надо видеть.Стаде Теркель. Из интервью «Нью-Йорк тайме», август 1968
Люди, прибывшие в Чикаго, должны начать готовиться к тому, что в течение пяти дней будут обмениваться энергией.Все предвещало дурной исход Национального демократического съезда в Чикаго в конце августа: центр, где проходили конвенции, сгорел; кандидат, вызывавший наибольшие надежды, был убит, оставив большинство избирателей с ощущением пустоты в душе — пустоты, которая заполнилась гневом; мэр города снискал дурную славу. Полиция Чикаго была склонна применять насилие. Стаде Теркель недаром сказал о чикагском Маккормик-центре: «Это настоящая чикагская история». Центр был построен несколькими годами ранее, причем строительство обошлось в три с половиной миллиона долларов, и получил название по имени известного издателя газеты «Чикаго трибюн», придерживавшегося правых взглядов (наряду с мэром Дейли, он был одним из сторонников проекта). Экологи боролись с этим проектом, считая, что он нанесет ущерб озеру, а большинство чикагцев находило здание ужасно уродливым. Затем таинственным — или, как некоторые полагали, чудесным образом — в 1967 году он сгорел. Демократы лишились места для проведения собраний, а горожане гадали, на что же в итоге было потрачено три с половиной миллиона долларов. Мэр Ричард Дейли, при переизбрании в 1967 году столкнувшийся с тем, что грозило перерасти в серьезное противостояние (оно было вызвано скандалом в связи с Маккормик-центром), не собирался позволить огню или скандалу лишить город возможности проведения главной конвенции. Неподалеку от старой «Объединенной бойни», поставлявшей мясо для всей Америки, пока в 1957 году ее не закрыли, находился «Амфитеатр». Он стоял на расстоянии нескольких миль от делового центра города и после закрытия бойни стал малопопулярной частью Чикаго: там проходили такие мероприятия, как соревнования по борьбе или имевшие место время от времени автомобильные или лодочные шоу. После того как Дейли окружил «Амфитеатр» колючей проволокой и разместил вокруг него вооруженную охрану, Чикагский съезд мог пройти там. Делегаты, как это и планировалось, могли остановиться в отеле «Конрад Хилтон», находившемся примерно в шести милях от «Амфитеатра», в приятном уголке города — Грант-парке. Почти целый год Том Хейден, Ренни Дейвис и другие лидеры «новых левых» планировали привезти людей в Чикаго для проведения акции протеста. В марте они тайно встретились в палаточном городке, расположенном в лесу за Чикаго, недалеко от границы штата Висконсин. На митинге, устроенном Хейденом, собралось около двухсот активистов: среди них были Дейвис, Дэвид Деллинджер и преподобный Дэниел Берриган, католический священник из Корнелла. К несчастью, «тайное собрание» попало на страницы центральных газет. Дейвис и другие говорили о том, что надо «применить репрессии по отношению к городу», но мэр Ричард Дж. Дейли проигнорировал эти заявления, сочтя их пустым хвастовством. Теперь демонстранты собирались прийти в Чикаго: Хейден, Дейвис и Эс-ди-эс; Эбби Хоффман, Джерри Рубин и «Йиппи!», Дэвид Деллинджер и МОУБ поклялись привести сотни тысяч участников протеста против войны. Должны были обеспечить присутствие своих сторонников и «Черные пантеры». Деллинджер родился в 1915 году, и прекращение Первой мировой войны было одним из самых ранних его воспоминаний. За уклонение от призыва во время Второй мировой войны он был заключен в тюрьму; за плечами у него был почти тридцать лет опыта протеста против разных войн. То был один из старейших лидеров антивоенного движения в Чикаго. В Чикаго собирались ехать все, и, возможно, то была одна из причин, почему мэр Дейли устроил целое шоу с небывалыми появлениями жестокости во время подавления апрельских беспорядков после убийства Кинга. В 1968 году трудно было держаться наравне со всеми, не отставая. Первоначально участники движения собирались в Чикаго для выражения протеста по поводу «коронации»26 избранного президента Линдона Джонсона. Маккарти и все делегаты, являвшиеся его сторонниками, предполагали выразить свой протест непосредственно во время конвенции, а демонстранты должны были находиться снаружи, перед телекамерами, и напоминать Америке о существовании немалого числа тех, кто не оказывает поддержку Джонсону и его войне. Но так как Джонсон отказался участвовать в предвыборной гонке, они решили прибыть в Чикаго, чтобы выразить свою поддержку Маккарти и антивоенной программе. Затем в гонку вступил Кеннеди, и когда в какой-то момент стало казаться, что он сможет победить, некоторые, и в том числе Хейден, задумались, стоит ли вообще устраивать в Чикаго акцию протеста. Но в то время как и Кеннеди, и Маккарти вели борьбу в ходе предварительных выборов, Губерт Хамфри — в отличие от обоих не имея армий восторженных почитателей, но пользуясь помощью умелых организаторов, профессионалов в своем деле — собирал голоса делегатов в ходе кокусов27 и собраний в тех штатах, где предварительные выборы не проводились. Со смертью Кеннеди планы приобрели более мрачный и, можно сказать, фатальный характер. Надо было отправляться в Чикаго, чтобы остановить Хамфри и не дать ему склонить конвенцию на свою сторону, чтобы удостовериться, что платформа демократов имеет антивоенный характер, или потому... что делать было больше нечего.Эбби Хоффман. «Революционный ад как самоцель». 1968

«Революцию не бросить за решетку. Остановите процесс! Освободите членов организации!»Плакат, выражающий протест против попыток федеральной прокуратуры возбудить судебное преследование против организаторов демонстраций во время Чикагской конвенции.
Даже учитывая определенные нормы, существовавшие для политических собраний национального масштаба, средства массовой информации были полны ожиданий относительно Чикаго. Туда планировали отправиться не только толпы теле-и прочих журналистов, но и писатели. Драматург Артур Миллер был делегатом от штата Коннектикут и сторонником Маккарти. Журнал «Эсквайр» заказал статьи Уильяму Бэрроузу, Норману Мейлеру и Джину Дженету. Также там были и Терри Саутерн, написавший сценарий по классическому произведению, направленному против ядерной войны, — «Доктор Стрейнджлав», и Роберт Лоуэлл. И конечно, там был Аллен Гинзберг, полупоэт-полуактивист, то и дело пытавшийся передать ощущение внутреннего покоя и духовности, повторяя долгое, глубокое «Ом...». Любой другой на месте мэра Дейли, несомненно, понял бы, что давление выбьет пробку из бутылки, и приготовился к демонстрации, которая, как полагали некоторые, могла насчитывать миллион участников. Она не обязательно должна была сопровождаться проявлениями насилия, но, учитывая, какие события происходили в течение года, отсутствие насилия предположить можно было с трудом. Возможно, следовало в небольших количествах применить слезоточивый газ, а что касается нескольких разбитых голов, то скрыть их от телевидения, пока все информационные каналы будут заняты борьбой, разворачивающейся в рамках конвенции: это зрелище должно было стать более напряженным и эмоциональным, чем уличные беспорядки. Но Дейли, невысокий мордастый агрессивный человек, являлся политическим «боссом» старой школы. Чикаго он воспринимал как свои владения и, подобно многим американцам, происходившим из рабочего класса, ненавидел хиппи. Первой — и непреодолимой — проблемой стал наложенный им запрет на проведение демонстрации. Ее участники хотели пройти маршем из Грант-парка к «Амфитеатру» — это казалось логичным, поскольку именно этой дорогой должны были ехать депутаты из отеля на конвенцию. Дейли не разрешил демонстрации, и вообще он не мог позволить шествие из любого места в центре города к «Амфитеатру». Для того чтобы добраться из центра в «Амфитеатр», нужно было пройти через квартал, состоявший из нарядных кирпичных домов, окруженных маленькими двориками, — Бриджпорт, который являлся любимым уголком Дейли. Он прожил там всю свою жизнь. Многие из его соседей были городскими рабочими, получившими хорошие должности: они составляли базу, на которой он строил свою политику. Никто никогда не смог бы подсчитать, сколько таких должностей раздал Дейли, покровительствуя своим соседям. Вся чикагская политика основывалась на торфоразработках. Невозможно было вообразить ни обстоятельств, ни дел, ни договоренностей, которые заставили бы Дейли разрешить компании хиппи маршировать через его квартал. Предположение о том, что катастрофа, случившаяся в Чикаго в августе, оказалась спланирована и все происходило согласно приказам мэра, заслуживает некоторого доверия, учитывая, что судьба антивоенного марша, состоявшегося в апреле, была почти идентичной. И в тот раз никакая лесть и никакие мольбы не помогли участникам марша получить разрешение городского управления на акцию. И в тот раз точно так же полиция внезапно, без предупреждения, напала, вооруженная дубинками, и безжалостно избила демонстрантов. Более всего Дейли и полиция боялись не демонстрантов. Их тревожила возможность очередных беспорядков на расовой почве, которые уже происходили несколько раз. Отношения между общиной чернокожих и правительством города сложились враждебные; к тому же было лето — самое время для расовых беспорядков, и погода стояла жаркая и влажная. Расовые беспорядки разразились даже в Майами (до тех пор в тамошнем гетто не происходило волнений). Полиция Чикаго находилась в состоянии боевой готовности и нервничала. На первых порах, казалось, запрет на проведение демонстрации подействовал. В Чикаго приехало значительно меньшее число хиппи, «йиппи» и активистов, чем ожидалось, — всего несколько тысяч. Для МОУБ то был наихудший из всех возможных поворотов событий, какие когда-либо имели место. Джин Маккарти посоветовал своим сторонникам не приезжать. Чернокожие лидеры, в том числе Дик Грегори, который поехал сам, и Джесси Джексон, посоветовали чернокожим оставаться в стороне. Согласно свидетельским показаниям, данным им по делу о «Заговоре восьми» на следующий год, Джексон, уже познакомившийся с чикагской полицией, говорил Ренни Дейвису: «Возможно, черным не следует участвовать... Если будут бить черных, никто не обратит на это внимания. Это останется историческим фактом, и все. Но если будут бить белых, это попадет в газеты». Эбби Хоффман и «Йиппи!» прибыли, имея свой план, который они назвали «Фестиваль жизни» — по контрасту с конвенцией в «Амфитеатре», которую они называли «Фестивалем смерти». На раздаваемых флайерах в числе событий недельного «Фестиваля жизни» были следующие: 20—24 августа (утро). Тренировки по «змеиному танцу», карате, самообороне без применения насилия; 25 августа (вечер). Музыкальный фестиваль (место проведения -Линкольн-парк); 26 августа (утро). Семинар по проблемам наркотиков, подземных коммуникаций, свободной жизни, партизанской войны, самозащиты, уклонения от призыва, коммун и т.д.; 26 августа (вечер). Вечеринка на берегу озера (Линкольн-парк): выступления фолксингеров, барбекю, купание, любовь; 27 (на рассвете). Поэзия, мантры, религиозная церемония; 28 августа (утро). Олимпийские игры «Йиппи!», избрание «Мисс “Йиппи!”», «Поймай кандидата», «Привяжи кандидату хвост», «Надень галошу на Поупа» и другие нормальные здоровые игры. Многое из того, что предлагалось в этом списке, представляло собой классические розыгрыши Хоффмана, однако не все. Планировался настоящий музыкальный фестиваль с приглашением таких звезд, как Арло Гетри и Джуди Коллинз. «Йиппи» работали над этим проектом несколько месяцев, однако пригласить известных артистов было нельзя до получения разрешения, которое городское правительство отказывалось дать. В результате встречи Эбби Хоффмана и заместителя мэра Дэвида Сталя, как и следовало ожидать, последние шансы на успех были потеряны. Хоффман зажег самокрутку, и Таль попросил его, чтобы тот не курил марихуану в его офисе. «Я не курю марихуану, — ответил Хоффман с честным видом. — Это миф». Сталь написал докладную записку, где говорилось, что «йиппи» — это революционеры, явившиеся в Чикаго, чтобы начать «революцию наподобие недавних инцидентов в Беркли и Париже». На повестке дня у «Йиппи!» стоял марш из Грант-парка к зданию конвенции, намеченный МОУБ на 28 августа, во второй половине дня. То было единственное событие, для которого назначили точное время — шестнадцать часов. Но в целом программа неизбежно вызвала бы конфликт с чикагской полицией, поскольку предполагалось, что все будут спать в Линкольн-парке, — с точки зрения городских властей, это было исключено. Линкольн-парк раскинулся на территории города; на его покатых холмах и тенистых лужайках бойскаутам и другим молодежным организациям часто разрешали устраивать ночевки. Парк имел в длину несколько миль, и добраться через него от Грант-парка до отеля «Конрад Хилтон» (или, как имел обыкновение называть его Эбби Хоффман, отеля «Конрад Гитлер») можно было очень быстро. Еще до начала конференции полиция расставила таблички с надписями: «Парк закрывается в 23 часа». Когда все городские улицы опустели, демонстранты обратились в федеральный суд, дабы получить разрешение пользоваться парком. Судья Уильям Линч, юрист, в прошлом сотрудничавший с Дейли и занявший свою нынешнюю должность благодаря мэру, отклонил их просьбу. События, в которых инициативу на себя взяли «йиппи», были из тех, что привлекают внимание телевидения. «Змеиный танец» представлял собой технику, использовавшуюся в боевых искусствах. Члены японского студенческого движения «Зенга-курен» существенно усовершенствовали ее и применяли, когда нужно было прорываться сквозь ряды полицейских. «Йиппи» в головных повязках, с бусами на шее постоянно практиковались в танце при нападениях полиции и неизменно терпели неудачу. Но с точки зрения телевидения это была экзотика, и несколько команд телевизионщиков засняли упражнения в боевых искусствах, проходившие в парке. Отснятое противоречило сообщениям о том, что хиппи тренируются, готовясь к боям с полицией Чикаго. Одной съемочной группе даже удалось заснять Эбби Хоффмана, участвовавшего в тренировке; он назвал себя «актером, выступающим на телевидении». Другое мероприятие, которое они намерены были осуществить, заключалось в номинировании кандидата в президенты от «Йиппи!» — мистера Пигаса. Им оказался поросенок на поводке. «Концепция поросенка в качестве нашего лидера была более правдива, чем сама реальность», — писал Хоффман в эссе «Как устроить настоящий беспорядок». В то время слово «свинья» повсеместно использовалось как ругательство в адрес полицейских, но Хоффман настаивал, что в Чикаго «свиньи» «с их большими пивными животами, тройными подбородками, красными лицами и маленькими косыми глазами» действительно выглядят как свиньи. Им присуща особого рода глупость — заразная. Он подчеркивал сходство и Губерта Хамфри, и Дейли со свиньями, и чем больше он давал пояснения, тем больше казалось, что все начинают походить на свиней. Однако существовала некоторая проблема: свиней было две. Эбби Хоффман достал одну, Джерри Рубин — другую, и возник спор: которую из двух номинировать? Каждый действовал на свой лад: Рубин выбрал очень уродливую свинью, а Хоффман — симпатичную. Спор между ними по поводу свиных выборов едва не перерос в драку. Рубин обвинил Хоффмана в том, что тот пытается превратить движение «Йиппи!» в культ своей персоны. Хоффман ответил, что Рубин всегда хочет показать кулак, в то время как он сам «сжимает кулак, но при этом улыбается». Спор длился до тех пор, пока не было решено, что официальным кандидатом от Молодежной международной партии станет уродливая свинья Рубина. Хоффман, у которого еще не прошла злость от спора, остался в Гражданском центре Чикаго, когда Рубин объявлял: «Мы гордимся тем, что выдвигаем в качестве кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов свинью». Затем полиция арестовала Рубина, Хоффмана, свинью и певца Фила Окса за «распущенное поведение», но очень скоро освободила. На следующий день в Линкольн-пар-ке выпустили другую свинью, по некоторым предположениям, то была миссис Пигас, жена кандидата. Пока полиция преследовала животное, «йиппи» кричали: «Свинья! Свинья!» Юмор ситуации заключался в том, что непонятно было, кого они имеют в виду: объект преследования или преследователей. Когда полиция наконец поймала свинью, кто-то крикнул: «Осторожнее! Как вы обращаетесь с будущей первой леди!» Одни полицейские засмеялись, другие рассвирепели. Они бросили свинку в глубину фургона для задержанных и с угрозой в голосе спросили, не хочет ли кто-нибудь отправиться вместе со свиньей. Несколько «йиппи» с радостью попрыгали в фургон. Полицейские закрыли дверь и уехали. Некоторые журналисты попались на эту удочку и начали задавать «йиппи» вопросы. Те ответили, что их не остановить, поскольку в их распоряжении имеется целая свиноферма прямо рядом с Чикаго. Журналист пожелал узнать, что они чувствуют, лишившись своей свиньи, и один из «йиппи» потребовал, чтобы секретная служба обеспечила защиту и их кандидату, и первой леди. Радиожурналист с величайшей серьезностью спросил: что же символизирует свинья? Посыпались ответы: «Еду! Ветчину! Парки принадлежат свиньям». «Йиппи» быстро обнаружили, что вокруг собралось столько представителей средств массовой информации и они столь «голодны», что любой розыгрыш заслужит их внимание. Так, широко известна стала их угроза пустить ЛСД в городскую систему водоснабжения и отправить целый город в наркотическое «путешествие». Среди других угроз было обещание раскрасить машины в цвета такси, чтобы похищать делегатов и увозить в Висконсин; нарядиться вьетконговцами и пройти через город, рассыпая по пути рис; обстрелять «Амфитеатр» из минометов с расстояния нескольких миль; устроить купание нагишом в озере Мичиган с участием десяти тысяч человек. Казалось, городское правительство понимало невыполнимость этих угроз, однако следило за «йиппи», как если бы все это могло произойти на самом деле. К несчастью, не сохранилось свидетельств о том, как отреагировала полиция на обещание Хоффмана снять с Хамфри штаны. Каждая угроза «йиппи», какой бы причудливой она ни была, сообщалась прессе полицией. «Сан-таймс» и «Дейли ньюс» разговаривали с лидерами «новых левых» и знали, что эти угрозы были только розыгрышами, но газета «Три-бюн», в течение нескольких лет до этого раскрывавшая коммунистические заговоры, давала сообщения о каждом плане, сопровождая их устрашающими заголовками, которые только пугали полицию. «Йиппи» ликовали, видя, какое внимание оказывает им пресса благодаря предостережениям полиции. На самом деле из нескольких тысяч демонстрантов, собравшихся в городе (за пределами города находилось менее двух тысяч), большинство не были членами «Йиппи!» или других движений, так что само присутствие «йиппи» было чем-то вроде мифа. Однако этого нельзя было сказать о силах, обеспечивающих исполнение репрессивных мер. Двадцать тысяч чикагских полисменов получили подкрепление в виде пяти тысяч солдат и шести тысяч национальных гвардейцев. Военные были примерно того же возраста, что и демонстранты, и среди них присутствовали чернокожие, поэтому демонстранты ожидали от них большей симпатии в свой адрес, нежели от полицейских. Действительно, сорок три солдата были преданы военному суду за отказ отправиться в Чикаго для подавления беспорядков. Вообще присутствие военных успокаивало, в отличие от чикагской полиции, которая с самого начала готовилась к войне. Если бы не ответ полиции на действия демонстрантов, это мероприятие запомнилось бы как неудачное или не запомнилось вообще. Обозреватель «Чикаго сан-таймс» Майк Ройко писал: «Никогда прежде столь многие не были так сильно напуганы столь немногими»*. Конвенция еще не началась, а в разговорах и репортажах речь уже шла о столкновениях, насилии, раскрытии планов. Этот язык использовался и в связи с самой конвенцией, где силы Хамфри встречались с Маккарти и делегатами — сторонниками мира, и по отношению к тысячам демонстрантов и полицейских, находившихся в центре Чикаго на расстоянии нескольких миль от места проведения конвенции. Во вторник, 20 августа, в двадцать три часа, советские танки пересекли границу Чехословакии. К утру следующего дня вторжение осуществилось. По телевидению показывали советские танки в чешских городах. В Чикаго советское вторжение немедленно стало использоваться как метафора. Эбби Хоффман устроил пресс-конфе-ренцию, на которой назвал Чикаго «Чехаго» и охарактеризовал как полицейское государство. Город действительно выглядел именно так: повсюду полиция, «Амфитеатр», ожидающий делегатов, окружен колючей проволокой. Хоффман пригласил прессу заснять проводившиеся в тот день «чехословацкие демонстрации». Джон Конноли из Техаса заявил, что вторжение Советов показало: партия должна поддержать войну во Вьетнаме. Но сенатор Ральф Ярборо, тоже техасец, возразил мандатной комиссии, что политическая сила не должна быть использована недолжным образом, дабы нанести удар по «идеализму молодых» наподобие того, как Советы применили военную силу. Демонстранты использовали применительно к Чикаго выражение «Пражский закат». Они узнали, что люди в Чехословакии, выражая свой протест, подходят к русским солдатам и спрашивают: «Для чего вы здесь?» Участники акции протеста стали задавать тот же вопрос чикагским полицейским. Невероятно, но те отвечали точно так же, как и русские: «Это моя работа». «Новые левые» не могли думать ни о чем, кроме борьбы в Чикаго. Некоторые доказывали, что русские нарочно подгадали время ввода войск в Чехословакию, чтобы сорвать кампанию Маккарти, поскольку Советы боятся подлинно прогрессивных преобразований в США. Несколько решений Москвы были даже подвергнуты более тщательному анализу. При этом никаких фактов, свидетельствующих о попытках или желании саботировать кампанию Маккарти, не было обнаружено, однако вторжение оценивалось антивоенным движением отрицательно; в то же время оно похоронило идею де Голля насчет «Европы до Урала». Действия Советов послужили укреплению точки зрения времен «холодной войны» на стремление коммунистической гегемонии к мировому господству, что на самом деле было аргументом в оправдание вьетнамской войны. Это не удержало Дэвида Деллинджера и группу активистов антивоенного движения от пикетирования польского туристического офиса (то была единственная организация в Чикаго, имеющая отношение к странам Варшавского Договора, которую им удалось найти). Но Маккарти только повредил себе, попытавшись преуменьшить значение кризиса: как всегда, его подвело недостаточно тонкое политическое чутье. Он настаивал на том, что советское вторжение в Чехословакию — это событие не слишком большой важности, и это только усилило подозрение, что сенатор — странный человек. Вечером в субботу оказалось, что часть демонстрантов отказывается покидать Линкольн-парк. Они скандировали: «Революцию — немедленно!», «Парк принадлежит народу!». Полиция собрала свои силы, и в тот момент, когда, казалось, они вот-вот бросятся в атаку, Аллен Гинзберг таинственным образом возник перед демонстрантами и повел их из парка. Его голос громко гудел на одной ноте: «Омммм...» В воскресенье началась конвенция, и в город прибыл Губерт Хамфри. В пользу Хамфри говорило участие в решении социальных проблем, но он был связан с политикой Джонсона во Вьетнаме и отказался отмежеваться от нее. Даже если не принимать в расчет вьетнамскую проблему, Хамфри, будучи пятидесяти семи лет от роду, неизбежно должен был стать жертвой разрыва между поколениями. Он очень напоминал персонаж мультфильма: у него был вибрирующий, резкий голос, он держался с присущей жителям Среднего Запада самоуверенностью и отличался косностью; хорошее настроение сочеталось у него с равнодушием. Со всей серьезностью он употреблял выражение «хорошее горе», и на лице его неизменно была такая улыбка, словно он только что кого-то укусил. Вот как биограф Хамфри Карл Солберг описывал прибытие этого политика по прозвищу Счастливый Воитель в Чикаго: «У двери лифта перед выходом на улицу он поцеловал жену, сделал несколько па тустепа и ущипнул за руку своего товарища, доктора Бермана. «Итак, в бой! Надоело ждать», — сказал он». Этот человек явно не был ни кандидатом, способным привлечь симпатии сторонников Маккарти и Роберта Кеннеди, ни тем, кто смог бы успокоить молодых демонстрантов, прибывших в Чикаго. Счастливый воитель нахмурился — и не в последний раз, — когда его самолет совершил посадку в Чикаго. Дейли послал встречать его оркестр волынщиков. Ничто не звучит так одиноко, как волынки в отсутствие толпы. Тех, кто явился приветствовать Хамфри, было немного, и, что было гораздо обиднее, сам мэр отсутствовал. Маккарти, напротив, встречала возбужденная толпа — «пять тысяч сторонников», по словам Хамфри, ворчавшего насчет «контраста». Еще большее разочарование вызвало то, что Дейли воздержался от выражения своей поддержки Хамфри. Дейли счел маловероятным, что Хамфри окажется способен привлечь на свою сторону всех избирателей, которые поддержали Роберта Кеннеди в Калифорнии. Дейли и некоторые партийные руководители в последнюю минуту пытались подыскать другого кандидата, особенно надеясь на последнего из братьев Кеннеди, Эдварда, сенатора от штата Массачусетс. Хамфри испытывал при мысли, что выбор падет на Кеннеди, такой же страх, как и Никсон. Вечером в субботу полицейские начали насильно очищать Линкольн-парк в двадцать один час. Эбби Хоффман подошел к ним и притворно-ворчливым тоном произнес: «Вы что, не можете подождать два часа? Где, черт возьми, закон и порядок в этом городе?» Полиция действительно прекратила свои действия до наступления указанного на плакатах времени — 23 часов. Памятуя о выступлениях парижских студентов в мае, «йиппи» построили баррикаду из урн для мусора и столиков для пикника. Полиция приготовилась к нападению демонстрантов и приказала им и представителям прессы покинуть парк. Выстроившись в линию, полицейские выглядели готовыми к атаке, поэтому телевизионщики зажгли осветительные приборы. Теперь хрупкая баррикада отбрасывала глубокие черные тени и казалась более мощной. Репортеры надели шлемы. Видны были флаги — вьетконговский, красный революционный и черный анархистский. Показались полицейские. «Йиппи», хотя и явно напуганные, не уходили. Внезапно раздался странный гудящий звук, и вновь показался Аллен Гинзберг, шедший во главе группы, певшей «Омммм...». Но звук «Ом», который должен был умиротворить обе стороны, на этот раз не помог спасти положение. Полицейские начали теснить толпу, люди закричали: «Свиньи!», «Хрю-хрю!» Полицейские замахали дубинками. Тут они услышали: «Бей, бей, бей ублюдков!» (Слово «ублюдок» в тот год звучало повсеместно.) Удары дубинок обрушивались на всех оказавшихся поблизости. Выгнав толпу из парка, полицейские продолжали бить демонстрантов на улицах. Они валили наземь свидетелей и тоже били. Они били журналистов и разбивали камеры. Полицейские прочесали несколько кварталов близ парка, избивая дубинками всех, кто попадался им на пути. После этого ночного сражения полицейские отправились на автостоянку Линкольн-парка и прокололи шины всех автомобилей, имевших наклейки избирательной кампании Маккарти. Издатель журнала «Плейбой» Хью Хефнер, выйдя из своего чикагского особняка, получил удар дубинкой. Он был в такой ярости, что профинансировал публикацию книги «Закон и беспорядок» о насильственных действиях полиции во время конвенции. Впоследствии полиция заявляла, что действия ее сотрудников были спровоцированы оскорблениями, которые выкрикивали в их адрес (хотя очевидно, что чикагскую полицию не ошеломить ругательствами). Полицейские также утверждали, что в тот момент, когда их ослепили лампы телевизионщиков, демонстранты начали бросать в них различные предметы. Однако большинство свидетелей не из числа полицейских не подтвердило этого. Двадцати журналистам в ту ночь потребовалась медицинская помощь. Когда Дейли спросили об этом, он ответил, что полиция была не в состоянии отличить репортеров от демонстрантов. Но Дейли часто выступал со словесными нападками на прессу, и теперь подчиняющиеся ему силы полиции очевидно и внятно сделали то же самое физически. Местных чикагских журналистов городские власти все больше игнорировали. Репортеров избили, их камеры были разбиты, но эти важные детали были удалены из статей, так же как и факт, что полиция крушила именно машины сторонников Маккарти. В ответ группа чикагских журналистов начала выпускать свое собственное обозрение «Чикаго джорнализм ре-выо», которое впоследствии превратилось в замечательное критическое обозрение новостей в средствах массовой информации. Первый его выпуск был посвящен критическому анализу освещения Чикагской конвенции. Сведения о конвенции должны были делить первые полосы газет с репортажами о вторжении в Чехословакию, и вдобавок баталии в ходе съезда вынуждены были соперничать с уличными боями. Каждую ночь из последовавших четырех в продолжение всей конвенции полиция очищала Линкольн-парк и продолжала неистовствовать, учиняя избиения в соседних кварталах. Демонстранты начали понимать, что они делают нечто по-настоящему опасное, что чикагская полиция будет методично творить жестокости, и никто не знает, как далеко это зайдет. Странным образом они проводили бок о бок в парке прекрасные летние дни. Небо очистилось, и температура воздуха была около двадцати пяти градусов. Иногда полицейские приносили шезлонги и складывали свои голубые шлемы, предназначенные для защиты во время беспорядков, на траву. Они читали памфлеты о свободной любви, наркотиках и антивоенном движении с удовольствием или смущением. Иногда они даже и фал и в софтбол, а «йиппи» — в догонялки. Но, уходя, полицейские зловеще произносили: «Ну, парень, увидимся вечером».
Демонстранты в Грант-парке, Чикаго, во время августовской конвенции демократов 1968 г.
Во вторник Маккарти заявил, что проиграет. Странно было это слышать в то время, когда голоса сторонников Кеннеди по-прежнему находились «в игре», а его собственные сторонники — молодые, преданные ему участники кампании — продолжали трудиться изо всех сил в своем штабе в Хилтоне. Он просто не мог проиграть до среды. Хотел ли Маккарти дать понять, как он далек от победы, поскольку события в Калифорнии показали, что бывает с кандидатами — сторонниками мира, если становится ясно, что они могут выиграть? Тому, кто пытался следить за кампанией сенатора Маккарти, было не избежать загадок. В среду центр Чикаго заполонили демонстранты. Тут были хиппи, «йиппи», МОУБ и целый многонациональный караван сторонников движения «Бедные люди». (Их акция должна была состояться еще весной; идею разработал Мартин Лютер Кинг незадолго до смерти, но с его гибелью план «осиротел».) Дэвид Деллинджер просил демонстрантов не применять насилие, а сам обратился к городскому правительству с просьбой разрешить марш к «Амфитеатру». Власти не поняли, почему он затрагивает этот уже решенный вопрос. Но демонстранты заполнили Грант-парк напротив «Хилтона» и готовились выступить. Было бессмысленно предлагать им что бы то ни было, кроме одного — вести их к «Амфитеатру». Они слушали передачу о происходящем на конвенции по маленьким радиоприемникам, когда комитет по выработке партийной платформы объявил о поддержке демократами войны; это означало, что демократическая партия не собирается участвовать в кампании, имеющей цель противодействовать продолжению войны. После всего, что случилось в тот год — «Тет Оффенсив», отказа Джонсона баллотироваться, кампании Маккарти, смерти Мартина Лютера Кинга, кампании Бобби Кеннеди и его гибели и, наконец, четырех месяцев бесплодных переговоров в Париже, — после всего этого обе партии должны были высказаться в поддержку войны. Джонсон объявил о намерении отправиться в Чикаго и выступить перед участниками конвенции с утверждением, что теперь они приняли его точку зрения на войну. Дейли даже договорился о том, что в помещении «Объединения мясников» возле «Амфитеатра» будет отпразднован шестидесятилетний юбилей президента. Ранее, полагая, что конвенция перерастет в его чествование, Джонсон настоял, чтобы она была проведена на той неделе, на которую приходился его день рождения. Некоторые осведомленные лица по-прежнему подозревали, что он хочет ворваться в город и на праздновании юбилея объявить о выдвижении своей кандидатуры. Что касается Хамфри, то можно было считать, что он отступит и Джонсон легко наберет голоса для победы в первой баллотировке. Но лидеры партии посоветовали Джонсону отказаться от этого плана, поскольку военный пункт программы был непопулярен среди делегатов: его могли бы освистать и участники конвенции, не говоря уж о демонстрантах на улицах. Эбби Хоффман и «йиппи» уже объявили о том, что собираются по-своему отметить юбилей Джонсона. Тед Кеннеди отказался участвовать в гонке, и в результате Дейли поддержал Хамфри: благодаря мэру за Хамфри проголосовала делегация Иллинойса. Хамфри вновь выглядел счастливым, как никто на конвенции. «Я готов запрыгать от радости!» — сказал он, когда голоса делегатов Пенсильвании окончательно решили его победу в первой баллотировке. Хамфри, сказавший во время своего выступления в программе «Встреча с прессой» в день вылета в Чикаго: «В основном я согласен с политикой, проводимой президентом», — должен был стать номинантом. Итак, демократическая партия собиралась предложить стране продолжение президентского курса Джонсона. Возможно, дурным предзнаменованием был тот факт, что ночью в среду Аллен Гинзберг — после пения «Ом», декламациимистических отрывков из Блейка (затем он вставал, чтобы выполнить индуистский обряд во время восхода солнца на берегу озера Мичиган) — почти лишился голоса Он не мог не только петь «Ом», но даже говорить. В Грант-парке, выходящем на «Хилтон», лидеры изо всех сил боролись за то, чтобы удержать контроль над демонстрантами. Полицию же не сдерживал никто. Впоследствии она заявила, что демонстранты наполняли воздушные шары мочой, а пакеты — экскрементами, чтобы бросать их в полицейских. Некоторые демонстранты отрицали это, но было очевидно: после того как полицейские избивали их в течение четырех ночей, они устали и потеряли терпение. Ренни Дейвис пытался успокоить одну из групп демонстрантов, но полиция, по собственному признанию Дейвиса, начала избивать его дубинками и он получил такой удар в голову, что нуждался в госпитализации. Полицейские стали избивать всех и каждого, а демонстранты начали отвечать им, и завязалась ожесточенная битва: противники схватились врукопашную. Персонал городских больниц предупредил демонстрантов о том, чтобы те не пытались отправлять туда своих раненых товарищей, поскольку полицейские поджидали поблизости и заталкивали их в фургоны. Грант-парк наполнился слезоточивым газом и ранеными. Перед «Хилтоном» началась сидячая акция протеста, распространившаяся и на парк. Лампы дневного света, использовавшиеся телевизионщиками, почти не светили. Полиция утверждала, что в ее сотрудников бросали различные предметы, но это не подтвердилось ни в одной из многочисленных записей, где были засняты события того вечера. А показывали они полицейских и солдат Национальной гвардии, которые набрасывались на толпу, избивая людей дубинками и ружейными прикладами. Били детей и пожилых людей, которые стояли за оцеплением и смотрели на происходящее, били даже тех, кто падал и лежал на земле. Женщин тащили по улице. Толпу так придавили к окнам ресторана, находящегося в здании отеля — согласно «Нью-Йорк тайме», то были женщины средних лет и дети, — что стекла лопнули и толпа ввалилась внутрь. Полиция преследовала людей, проникая в ресторан через окна и избивая всех, кто попадался ей под руку, даже в вестибюле отеля. «Демонстранты, журналисты, помощники Маккарти, доктора — все, шатаясь, двинулись в вестибюль отеля «Хилтон», и из ран на лицах и головах у них текла кровь», — сообщал Мейлер. Полиция перед зданием отеля яростно набрасывалась на всякого встречного, и телекамеры, установленные на козырьке над входом в гостиницу, засняли все это. В итоге была сделана семнадцатиминутная запись того, как полицейские наносили увечья. Она была готова к отправке с помощью спутника «Телстар», дабы ее увидел мир. Полиция разбивала камеры, по-видимому не понимая, что другие камеры зафиксируют и этот натиск — или не заботясь об этом. Также полицейские двинулись за пределы обзора камер, преследуя толпу на центральных улицах Чикаго и избивая дубинками всех, кто попадался им на пути. То был один из моментов 1968 года, когда проявились «магические» свойства телевидения. Ныне они воспринимаются как нечто вполне обыкновенное, но тогда были настолько новы и поразительны, что навсегда остались в памяти тех, у кого в то время был телевизор. Редактура, производство, анализ, а также упаковка пленки, предназначенной для показа в «Новостях» вечером следующего дня, — то, что обычно делало телевидение и к чему привыкли люди, — более не отнимало времени: телесеть вела непосредственную передачу новостей. Деллинджер требовал от демонстрантов не отвечать на действия полиции, сказав, что «весь мир сможет увидеть», кто совершает насилие. Одновременно с насильственными действиями полицейских камеры также снимали толпу, которая скандировала — абсолютно справедливо — слова: «Весь мир смотрит! Весь мир смотрит!» Заседание съезда в «Амфитеатре» было приостановлено, чтобы депутаты смогли узнать о происходящем. Когда для голосования были вызваны представители штата Висконсин, глава делегации Дональд Петерсон сказал, что тысячи молодых людей подвергаются избиению на улицах и что конвенция должна сделать перерыв в своей работе и вновь собраться в другом городе. Затем поднялся священник, дабы призвать участников к молитве, и Аллену Гинзбергу, находившему в зале, где проходила конвенция, это показалось благословением расправы и системы, виновной в них. Он вскочил на ноги и, несмотря на то что горло его устало и никто не слышал от него в тот день ничего, кроме скрежещущего шепота, взорвался столь громогласным «Ом», продолжавшимся пять минут, что священника как ветром сдуло. По словам Гинзберга, он сделал это, чтобы изгнать прочь лицемерие. Дейли в этот момент находился в зале, где происходила конвенция. Он свирепо взирал на происходящее, и вид у него был такой, словно он был готов вызвать свою полицию и разобраться с этими делегатами. Тогда Эйбрахам Рибикофф, сенатор и бывший губернатор Коннектикута, вышел на подиум, чтобы назвать имя Джорджа Макговерна, выдвинутого в последнюю минуту альтернативного кандидата — сторонника мира. «Если Джордж Макговерн станет президентом Соединенных Штатов, мы больше не увидим применения этой гестаповской тактики на улицах Чикаго». Казалось, вся конвенция замерла на секунду, но то была наиболее памятная секунда за все время проведения съезда. Телекамеры отыскали и нашли босса Ричарда Дейли, казалось, не имеющего шеи, с мясистым лицом. Дейли, возможно забывший о камерах, прокричал через весь зал в адрес Риби-коффа что-то, чего не уловили микрофоны. Миллионы зрителей напряглись, пытаясь прочитать по губам его слова. По-видимому, сказанное включало в себя уничижительное наименование евреев; в отрицательном контексте упоминались также сексуальные отношения. Согласно мнению большинства тех, кто видел эту запись, он сказал: «Так тебя, еврей, сукин сын». Многие полагали, что он прибавил: «Ты, проклятый ублюдок! Убирайся!» В 1968 году даже Эйб Рибикофф был «ублюдком». Дейли, однако, настаивал на том, что ничего такого не говорил. Джордж Данн, президент Счетной комиссии Кука, пояснил, что в тот момент кричали все чикагцы, окружавшие Дейли, а кричали они слово «Faker»28, имея в виду, что Рибикофф — мошенник. И не их вина, что это слово прозвучало как другое, также начинающееся на F. Насилие продолжалось до пятницы, когда полицейские отправились в штаб Маккарти на пятнадцатом этаже «Хилтона» и выволокли участников его избирательной кампании из постелей, чтобы избить. Сенатор Маккарти использовал свой личный самолет для обеспечения безопасности своих помощников и вывез их из Чикаго. Чикагские события наряду с «Тет Оффенсив» были одними из самых плодотворных для наступающей эры телевидения, и звездой здесь стал отнюдь не Губерт Хамфри. Главную роль сыграл семнадцатиминутный фильм, снятый перед «Хилтоном». «Чикаго сан-таймс», «Нью-Йорк тайме» и большинство других печатных изданий писали об историческом значении телерепортажей. То была мечта «Йиппи!», или лично Эбби Хоффмана. Впоследствии он объяснил Комиссии Уокера, образованной по приказу правительства и получившей задание расследовать факты насилия в Чикаго: «Мы хотели ...ать их имидж на телевидении. Все было сделано для того, чтобы разрушить этот имидж демократического общества, развивающегося мирным путем, упорядоченного, в котором все определяется деловыми интересами». Хоффман и многие из журналистов, которые вели репортажи о событиях, верили, что десятки миллионов зрителей, увидев, как чикагская полиция вышла из-под контроля и избивает детей, изменят страну, а настроения молодежи станут более радикальными. Возможно, так и случилось. Меньшая часть населения радовалась и говорила: «Вот как надо обращаться с этими хиппи». Согласно Майку Ройко, популярность Дейли в Чикаго возросла. В 1976 году, на следующий день после смерти Дейли, Ройко написал об антисемитской ругани мэра в адрес Рибикоффа: «Десятки миллионов телезрителей были шокированы. Но большинство населения Чикаго это не оскорбило. Это было вполне «в стиле» Чикаго...» Дейли яростно настаивал на том, что полиция прекрасно сделала свое дело, а виной всему — репортаж, где факты были «искажены и извращены». Однако на дворе были другие времена: люди смотрели неотре-дактированную запись, и многие были напуганы тем, что увидели. Характерно, что Хамфри объявил, будто не видел фильма. «Я был занят, поскольку принимал гостей», — сказал он. Однако своего часа ждали события, которые можно было назвать «иронией судьбы». Если события в Чикаго неизбежно должны были вызвать разочарование в политическом истеблишменте и уменьшение количества голосов в пользу демократов, никто не мог ожидать большего от этой ситуации, чем Ричард Никсон, кандидат в президенты от республиканской партии. Когда Хамфри это понял, он разозлился на телеканалы, которые показывали насилие, творимое на улицах, вместо того чтобы освещать саму конвенцию. «Я собираюсь когда-нибудь стать президентом, — сказал Хамфри (здесь уже звучала неуверенность в том, что этот день когда-нибудь наступит), — и тогда приведу Эф-си-си в порядок. Мы собираемся расследовать все это». Кого вы поддерживали во время событий в Чикаго? Они породили еще один раскол из тех, что были столь характерны для 1968 года. Либо вы были на стороне Дейли и полиции, подвергнутых суровой критике даже со стороны «Уокер ри-порт», либо на стороне демонстрантов, хиппи, «йиппи», участников антивоенных движений и помощников Маккарти. Хамфри, покидая конвенцию в качестве нового кандидата от демократической партии, сказал: «Волнения, пожары, резня, хулиганство, торговля наркотиками и неуважение к закону — все это предвестники анархии». Что бы это ни означало, ясно было, что он сторонник Дейли и полиции, сторонник «закона и порядка» (таково было новое кодовое наименование того, что другие называли «противостоянием белых»). Хамфри наделялся получить голоса сторонников Джорджа Уоллеса и Ричарда Никсона. У левых, полагал он, не будет иного выбора, кроме как принять его кандидатуру. Уоллес уже сказал, что «Чикагская полиция, возможно, была слишком сдержанна». Перед тем как покинуть Чикаго, Хамфри дал интервью корреспонденту Си-би-эс Рождеру Мадду и отказался от прежнего своего утверждения о том, что был слишком занят, принимая гостей, сказав: «Ей-богу, любой, кто увидит что-нибудь подобное, ощутит боль в сердце, как и я. Но я думаю, что проклятия следует посылать в адрес того, кто их заслуживает. Я считаю, мы должны перестать думать, что мэр Дейли сделал что-то не так. Он поступил верно... Я знаю, что вызвало демонстрации. Они планировались заранее конкретными людьми, жителями нашей станы, которые считают, что единственное, что они должны делать, — это бунтовать, и так они и поступают. Они не хотят трудиться на благо мира. Я не желаю тратить на них время. Непристойная брань, богохульство, сквернословие, звучавшие ночь за ночью перед отелями, были оскорблением для каждой женщины, матери, дочери — в конечном итоге для всякого человеческого существа. Этот язык не потерпит никто... И вы еще удивляетесь, что полиция начала действовать?» То, что Хамфри был настолько шокирован непристойной лексикой, было удивительно для человека, который непосредственно перед этим работал несколько лет с Линдоном Джонсоном. Но Джонсон не выражался подобным образом при женщинах, что соответствовало традиционным представлениям о хороших манерах. Возможно, Хамфри был бы шокирован, узнав, что психиатр, преподававший в Колумбийском университете во время весенних волнений, писал, что женщины в Бернарде были склонны «проклинать копов» даже более, чем мужчины в Колумбийском университете. «Они понимали, что ругань — это оружие, одно из немногих, доступных им». Уильям Зинссер написал об этом в журнале «Лайф»: «Феминизм обрел свое высшее и последнее орудие — слово из четырех букв», — но затем он ссылался в своей статье на «девушек из Бернарда» и «юношей из Колумбийского университета». Большинство из тех, кого пропасть между поколениями, отделяла от Хамфри, очевидно, не ужасались, как он, из-за того, что «дурные слова» произносятся перед лицом прекрасного пола. Почему Хамфри не потряс антисемитизм Дейли, не говоря уже о слове, которое обозначает интимные отношения с чьей-либо матерью? В любом случае после своего «ей-богу» он потерял большинство сторонников. К 1968 году очень немногие использовали выражение «ей-богу». На следствии Эбби Хоффман выразил согласие с мэром Дейли, что протестующих привело в Чикаго именно желание появиться перед телекамерами. В сентябре Хоффман хвастался: «Благодаря нашим действиям в Чикаго Ричарда Никсона выберут президентом». Многие были склонны согласиться с такой оценкой. Однако, по традиции, в кампании по-прежнему должны были участвовать два кандидата. Странно, но в первый раз за весь 1968 год вопрос о войне во Вьетнаме не был решающим. Чудесным образом во время избиений дубинками в Чикаго никто не погиб, хотя один из убегавших был застрелен. Полиция заявила, что он был вооружен. Это была наиболее тяжелая неделя войны во Вьетнаме: погибло триста американцев, тысяча была ранена и, по приблизительным подсчетам, было убито четыре с половиной тысячи вражеских солдат.Глава 17 СКОРБЬ ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ
Я думаю, что в течение долгого времени наш ненасильственный подход и моральное превосходство чехословацкого народа над агрессором имели и все еще имеют моральное значение. Оглядываясь назад, можно сказать, что мирный подход внес свой вклад в развал «агрессивного» блока... Я уверен: моральные соображения наличествуют в политике не только потому, что малые страны должны поступать в соответствии с моралью, поскольку не в состоянии дать отпор более сильным державам. Без морали невозможно говорить о международном праве. Пренебрежение моральными принципами в сфере политики возвращает нас к господству закона джунглей.Во вторник, 20 августа, Антон Тацкий, секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Словакии и близкий друг Александра Дубчека, вернулся в Братиславу из поездки в отдаленный уголок Словакии. Он видел вдали яркие огни, а когда подъехал ближе, понял, что это фары танков и военных грузовиков, которыми управляли солдаты в иностранной форме. Тацкий решил, что идут съемки фильма, и отправился спать. 20 августа было туманным летним днем. Жена Дубчека, Анна, встала еще ночью из-за болей, вызванных проблемами с мочевым пузырем. Утром во вторник Дубчек повез ее в больницу и объяснил, что во второй половине дня у него встреча с членами президиума, на которой он должен председательствовать, а потому не сможет приехать к ней до утра в среду. Это было заседание президиума перед XIV съездом партии, который должен был состояться тремя неделями позже, и Дубчек и его коллеги хотели использовать оный для официального закрепления достижений Пражской весны. На выходных, когда участники акции протеста уже начали располагаться в Линкольн-парке, а чикагская полиция еще не-сделала первый решительный шаг, судьба Пражской зари, как ее называли в Чикаго, была уже решена Брежневым и Косыгиным в Москве. Советы считали, что Президиум ЦК КПЧ, лишь завидев движущиеся танки, свергнет Дубчека и его команду. Согласно некоторым сценариям, Дубчек и другие ключевые фигуры должны быть отданы под суд и казнены. Главный печатный орган ГДР, газета «Нойес Дойчланд», считая, что советский план сработает, вечером, когда состоялся ввод войск, напечатала сюжет о начале восстания в Чехословакии и создании нового революционного правительства, которое обратилось с просьбой о военной помощи. Но новое правительство сформировано не было, и некому было просить Советский Союз начать вторжение. Заседание Президиума ЦК КПЧ, как и предполагалось, затянулось до вечера. Прямо тут же и поужинали. Двое членов президиума разочаровали остальных, предложив проект, сводивший на нет достигнутое за последние месяцы. Но особой поддержки они не добились. В одиннадцать тридцать премьер-министр Олдр-жих Черник позвонил министру обороны и после этого сообщил: «Армии пяти стран пересекли границу республики и занимают нашу территорию». Дубчек, словно оставшись наедине со своей семьей, тихо сказал: «Это трагедия. Я не ожидал, что это произойдет. Я себе и представить не мог, что они предпримут против нас такое». По его щекам потекли слезы. «Я всю свою жизнь посвятил сотрудничеству с Советским Союзом, а они так поступили со мной. Это моя личная трагедия». По другой версии, он сказал: «После всего, что было, они так поступили сомной\» Кажется, впервые в жизни он усомнился в отцовских представлениях о том, что Советский Союз — это и есть великое будущее. Первоначальной реакцией многих руководителей Чехословакии, включая Дубчека, было желание подать в отставку, но вскоре Дубчек и другие поняли, что смогут гораздо больше затруднить положение Советов, если откажутся уйти в отставку и будут настаивать на том, что только они являются законным правительством Чехословакии. Пройдет всего один день, и московские лидеры начнут понимать, какую страшную ошибку совершили.Александр Дубчек, август 1990

Плакаты в Праге
Тремя днями раньше состоялась секретная встреча Дубчека с венгерским руководителем Яношем Кадаром. Люди поколения Дубчека в Праге были невысокого мнения об Ульбрихте и Гомулке. Зденек Млынарж, один из секретарей ЦК КПЧ, называл их «враждебно настроенными, самодовольными и дряхлыми стариками». Болгарский лидер Тодор Живков был ближе Дубчеку по возрасту, но считался скучным и, видимо, тупым человеком. Кадар же, напротив, пользовался уважением как интеллигент и сходный по взглядам с Дубче-ком коммунист, желавший успеха чехословацким реформам по тем же причинам, по которым Гомулка им противостоял. Кадар предполагал распространение реформ и на его страну. Но он понял, что начнется разлад с остальными венгерскими руководителями и что в этом случае Венгрия рискует вступить в разногласия с Москвой. Венгрия, пережившая вторжение двенадцатью годами раньше, не собиралась бунтовать вновь. Кадар, по-видимому, знал о том, что решение о вводе войск уже принято или вот-вот будет принято, когда собирался ехать на встречу с Дубчеком, чтобы предупредить его и убедить отказаться от занимаемой им ныне позиции. Кадар даже предостерегал Дубчека, что советские руководители не таковы, как тот их себе представляет, и что Дубчек не понимает, с кем имеет дело. Было уже, видимо, слишком поздно, Дубчек, во всяком случае, не понял осторожных, но очень серьезных предупреждений Кадара. В начале июля, после встречи в Чьерне, кризис, как казалось, разрешился. Советский Союз был определенно против вторжения в Чехословакию, и до сих пор до конца не ясно, что же повлияло на его позицию. В 1989 году Васил Биляк, один из просоветски настроенных чехословацких руководителей, поведал в своих воспоминаниях, что 3 августа, через два дня после встречи в Чьерне, он и восемнадцать других чехословацких руководителей просоветского толка направили Брежневу письмо. Эти девятнадцать тайно отрекались от Дубчека и просили о советской военной помощи для совершения государственного переворота. Они хотели, чтобы соответствующее решение было принято до 19 августа, поскольку 20 августа Президиум ЦК предполагал провести последнее заседание перед назначенным на 23 августа съездом Коммунистической партии Словакии, который, по утверждению просоветских заговорщиков, принял бы «контрреволюционный» характер. В конечном счете, по их утверждению, просоветские элементы, желавшие свергнуть правительство, обратились с просьбой к Советам начать ввод войск. Но эта группировка была невелика, и конспираторы не имели достаточной под держки для осуществления своего плана. Когда войска прибыли, просоветски настроенные заговорщики не смогли установить контроль ни над одним из объектов, включая телевизионную станцию, которую они собирались захватить. Кроме того, свою роль в принятии решения об оккупации, возможно, сыграли нелепые сообщения КГБ о контрреволюционных заговорах в Чехословакии. Советские информаторы в Вашингтоне, вопреки предположениям некоторых лиц в Москве, сообщали о непричастности к событиям в Праге ЦРУ, для которого, в сущности, события Пражской весны стали полной неожиданностью. Но эти сообщения были проигнорированы председателем КГБ Юрием Андроповым, заметившим: «Мы не можем показывать такое нашему руководству». 20 августа в 11.30 вечера по центральноевропейскому времени воздух летней ночи внезапно наполнился шумом, земля задрожала, и вторжение под кодовым наименованием «Операция “Дунай”» началось. Это не были съемки фильма. В ту ночь четыре с половиной тысячи танков и сто шестьдесят пять тысяч солдат армий стран Варшавского Договора пересекли чехословацкую границу в двадцати пунктах. Они двигались из Восточной Германии в западном направлении, в южном — из Польши, в западном — из Советского Союза, в северном — из Венгрии и напали на беззащитный народ Чехословакии. Во вторжении приняли участие пять стран, включая Венгрию и Болгарию, приславших чисто символические силы. ГДР и Польша направили по дивизии; СССР отправил тринадцать дивизий. В течение семи часов двести пятьдесят самолетов высадили целую воздушно-десантную дивизию, включая бронемашины, топливо и боеприпасы. Это была самая крупная из всех воздушно-десантных операций, проведенных Советским Союзом за его границами. В военном отношении это было грандиозно, если не считать отсутствия вооруженного сопротивления. Дубчек и другие руководители ожидали в здании Центрального Комитета КПЧ. Дубчек в основном звонил по телефону, продолжая надеяться, что какой-либо из звонков поможет ему прояснить случившееся недоразумение. В четыре часа утра к зданию ЦК КПЧ подошла танковая колонна, во главе которой ехал черный лимузин. Ее встретила разъяренная толпа, и танковая колонна открыла огонь из пулеметов. Один молодой человек был убит, в то время как Дубчек и другие руководители, охваченные гневом, но не в силах что-либо сделать, наблюдали за происходящим из окон. Хотя Чехословакия, как считалось, обладала наиболее обученной и оснащенной армией из всех стран Варшавского Договора, в соответствии с приказом Дубчека она не стала сопротивляться. Дубчек и его правительство кратко обсудили вопрос и приняли решение не давать вооруженного отпора. Чехословацкая армия, как и все остальные армии стран Варшавского Договора, не имела независимой цепочки командования и без указки из Москвы действовала неэффективно. Все безоговорочно соглашались с невозможностью вооруженного сопротивления, причем не только потому, что оно повлекло бы за собой слишком большие жертвы, но и потому, что это подкрепило бы претензии Советов на то, что они подавляют контрреволюцию, как в Венгрии в 1956 году. Пусть лучше мир увидит, как жестокие иноземные интервенты сокрушают мирную Чехословакию. Насколько известно, ни один пограничный пост не открыл огня, а по дороге никто не попытался задержать колонны бронетехники. Не предпринималось и попыток остановить войска и технику, высадившиеся в чехословацких аэропортах. Однако в конце первого дня двадцать три жителя Чехословакии было убито. Парашютисты окружили здание Центрального Комитета КПЧ, все телефоны перестали работать. Еще не было девяти часов утра, когда парашютисты ворвались в кабинет Дубчека. Они заблокировали окна и двери, и когда Дубчек снял трубку, чтобы позвонить, забыв, что аппарат не работает, один из солдат пригрозил ему автоматом и оборвал шнур. Вместе с Дубчеком находилось шесть чехословацких руководителей, когда в кабинет вошел полковник КГБ — очень маленького роста, в мундире со знаками отличия, — сопровождаемый несколькими офицерами КГБ и переводчиком. После того как был составлен список присутствовавших членов правительства, полковник объявил, что все они взяты «под его защиту». Их усадили за длинный стол, а за спиной каждого встал вооруженный солдат. Затем Дубчека увели. Проходя мимо своего заведующего канцелярией, он шепнул ему, чтобы тот сохранил портфель, где были документы, которые Дубчек надеялся скрыть от советской стороны. Неделей позже, возвратившись в Прагу и найдя свой портфель пустым, он наконец понял, что его заведующий канцелярией был советским агентом. Солдаты стран Варшавского Договора имели приказ не поддаваться на провокации и открывать огонь лишь в том случае, если по ним начнут стрелять. Однако военные, участвовавшие во вторжении, не всегда отличались должной дисциплиной, требовавшейся в таком тонком деле, как оккупация территории страны-союзника. По большей части эти до зубов вооруженные войска сталкивались с безоружными тинейджерами. Поначалу молодые люди пытались помешать продвижению танковых колонн, преграждая им путь. Как настоящие студенты 68-го года, они возводили баррикады из машин, автобусов и всего, что попадалось под руку. Но они быстро поняли, что советские танки не остановятся — ни перед ними, ни перед чем бы то ни было. Эти танки могли двигаться, сметая людей, машины, стены. Но один танк остановился. Безногий ветеран Второй мировой войны остановил танк в Праге, преложив танкистам проехать по нему. В среду утром, в тот самый день, когда много часов спустя полиция в Чикаго, демонстрируя во всей «красе» свою жестокость, будет заснята на пленку, разгневанные молодые люди высыпали на улицы Праги, готовые сопротивляться. Резонно полагая, что радиоцентр, Дом Пражского радио, станет одной из главных целей войск вторжения, многие направились к зданию. Они вставали перед танками и перегораживали улицу своими телами. Танкисты стопорили машины, не зная, что делать, и смотрели на возведенные молодыми чехами баррикады из машин и перевернутых автобусов. Пражское радио сообщало об этих актах сопротивления. Через репродукторы оно давало те же инструкции, какие получили войска вторжения, — не применять оружия, не поддаваться на провокации. Чехи начали разговаривать с танкистами, спрашивали их, зачем они здесь и почему не уходят. Молодые танкисты, разгорячившись, вопреки приказу, открыли огонь по толпе поверх голов, а затем и прямо по людям. Вместо того чтобы спасаться бегством, чехи принялись бросать в танки бутылки с зажигательной смесью; люди, стоявшие вокруг, были убиты или ранены. Некоторые танки загорелись, распространяя черный дым, кое-кто из танкистов получил ранения, а иные даже были убиты. Однако когда тяжелый танк Т-55 занял позицию для ведения огня, Пражское радио сообщило: «Печальные братья, если вы услышите национальный гимн, то знайте: все кончено». Первые звуки национального гимна были заглушены огнем танковой пушки, и Пражское радио замолчало. В Братиславе девушки задирали свои мини-юбки, и когда молодые солдаты из советских танковых экипажей останавливали машины, чтобы полюбоваться, появлялись местные парни. Они разбивали камнями фары и даже смогли поджечь баки у некоторых машин. Танковая колонна из Венгрии с шумом прогрохотала и проскрежетала по мосту через Дунай, в то время как студенты университета бросали кирпичи и осыпали войска непристойной бранью. Советский солдат залег за башней танка и стрелял по толпе, убив пятнадцатилетнего учащегося. Это привело в ярость других студентов, но советские солдаты усилили ответный огонь и застрелили еще четверых студентов, в то время как о броню монотонно стучал град камней и кирпичей. По всей стране студенты бросали в танки бутылки с зажигательной смесью. Если они не знали, как их делать, то бросали горящие тряпки. Молодые люди закутывались в чешский флаг и бросались на танки, чтобы заткнуть стволы орудий. Вскоре войска взяли под контроль страну, но вызывающие надписи вроде «Иван, убирайся домой!» продолжали появляться на стенах. Знаки, указывавшие направление, по всей стране были повернуты на север и заменены на «Москва — 2000 км».
21 августа 1968 г., рядом с пражской радиостанцией
Стены были покрыты плакатами, осуждавшими вторжение, и надписями, гласившими: «Социализму — да; оккупации — нет!», «Прибыл русский национальный государственный цирк, выступают дрессированные гориллы», «Здесь не Вьетнам!», «Ленин, проснись! Брежнев сошел с ума!» На некоторых плакатах буквы ССС в аббревиатуре СССР были изображены в виде молний, как на эмблеме эсэсовцев. Разъяренные граждане Чехословакии выходили навстречу интервентам и пытались убедить сидевших на танках солдат, что они поступают неправильно и что им следовало бы уйти, — затея столь же бесполезная, как и попытки привлечь на свою сторону молодых национальных гвардейцев со стороны демонстрантов в Чикаго, кричавших: «Присоединяйтесь к нам!» Чехи, используя начальные знания русского языка, который учили в школе, спрашивали солдат в танках, зачем они пришли в чужую страну. Обычные малообразованные восемнадцатилетние сельские парни безучастно смотрели на жителей чешской столицы и твердили, что выполняют приказ. Танки, окруженные пражанами, были обычным зрелищем. То же можно сказать и об иностранцах в Праге, которая вплоть до этой летней ночи была «местом, где можно жить». В течение нескольких дней они покинули ее без инцидентов. Чехословацкое телевидение, прежде чем его отключили, умудрилось выпустить в эфир документальный фильм о вторжении в страну. Особенно шокирующей оказалась сцена, показавшая молодых людей, которые сидели перед советским танком, а тот угрожающе поворачивал башню. Руководство Би-би-си договорилось с «Юропиэн бродкаст юнион», трансляционной сетью западных радиостанций, о создании своей станции в Вене, на Дунае, прямо напротив Братиславы, чтобы иметь возможность сообщать всю информацию, которую удастся уловить через реку. По иронии судьбы чехословацкая сторона была готова к этому, поскольку здесь находился радио-центр коммунистического блока для трансляции на Запад. В прошлом он использовался в основном для спортивных радиопередач. Чехам удалось переправить почти сорокапятиминутный фильм о сопротивлении, а также обращение к Генеральному секретарю ООН У Тану. Хватило нескольких кадров для полного опровержения заявления Советов о том, будто их войска радостно встретили в Чехословакии. Фрагменты фильма были показаны в вечерних теленовостях в США, странах Западной Европы и по всему миру. В Америке все это, в свою очередь, привело к эксперименту Вечерние теленовости теперь длились полчаса. Несколько минут уделялось рекламе, а остальное время посвящалось репортажам о съезде в Чикаго, которые велись как в помещениях, так и на улице, вторжению в Чехословакию, дебатам в ООН по этому вопросу, худшей за прошедшее лето неделе вьетнамской войны и некоторым другим сюжетам. С осени 1963 года, когда программы радионовостей увеличились с пятнадцати минут до получаса, больше места уделяя вопросу о правах человека, Уолтер Кронкайт стал подталкивать Си-би-эс к тому, чтобы эти программы длились час. После того как сюжет о вторжении в Чехословакию 21 августа перебил репортажи о съезде и беспорядках в Чикаго, телекритик «Нью-Йорк тайме» Джек Гулд поблагодарил общественное телевидение за гибкость, позволившую увеличить время новостей в такой исключительный день, наполненный сенсационными событиями. Это контрастировало с радионовостями, которые длились лишь по полчаса и не могли должным образом осветить события. В конце концов Уолтер Кронкайт добился чего хотел, и вечером 22 августа Си-би-эс увеличила его программу до часа. Гулд приветствовал эксперимент и с особой похвалой отзывался о том, что было выделено время для репортажа, тайно вывезенного из Чехословакии. Но сотрудники телевидения доказывали, что большинство зрителей не захотят сидеть у экрана целый час и смотреть новости и, что важнее, филиалы, опираясь на тот же аргумент, приводившийся против увеличения длительности программы теленовостей до получаса несколько лет назад, не захотят терять полчаса ценного эфирного времени, которое смогли бы гораздо более выгодно использовать, употребив под рекламу. Эксперимент удался. Кронкайт выиграл сражение, но проиграл войну. В сентябре, однако, Си-би-эс начала выпускать часовой тележурнал новостей дважды в месяц — «60 минут». Популярный чешский певец Карел Чернох записал новую песню: «Я надеюсь, что все это только дурной сон». Но для Москвы это тоже был дурной сон. Кадры хроники были сразу же показаны телевизионными станциями всего мира, попали на первые полосы газет и обложки журналов, и вместо кадров с приветствиями в адрес освободителей все видели молодых безоружных чехов, размахивавших «проклятыми» чешскими флагами и вызывающе становившихся перед тяжелыми советскими танками. Телезрители наблюдали противостояние длинноволосых бородатых пражских студентов и коренастых светловолосых запуганных русских крестьянских парней. Когда в Москве отдельные политики возражали против вторжения, по-видимому, они опасались именно таких результатов. Официальные заявления СССР и его союзников, что они пришли на помощь Чехословакии, оказались откровенной ложью. Дубчек выступил по радио, заявив, что в страну вторглись без ведома президента, председателя Национального собрания и его самого. Советская сторона быстро убедилась в том, что народ Чехословакии верит своему правительству и тому, что говорят его лидеры, особенно Дубчек, Черник и Смрковский. Советам было бесполезно спорить с ними. Советский план А провалился, и то, что президиум не стал свергать Дубчека, ни для кого не явилось неожиданностью. Просоветские элементы не смогли взять ситуацию под контроль даже после прихода войск, и это стало большим сюрпризом. То, что безоружное население не захотело подчиниться вооруженным до зубов армиям пяти стран Варшавского Договора, приводило их в ярость. То, что это было записано на пленку и распространено благодаря средствам массовой информации по всему миру, нанесло Советам огромный урон. СССР вынужден был разыграть последнюю карту. Речь шла о Людвике Свободе, офицере, которому было уже за семьдесят, к неудовольствию молодежи, занявшем пост президента. Секретарь ЦК КПЧ Зденек Млынарж говорил о Свободе, что он «не только не был сторонником политических реформ, он вообще не был политиком. Он был солдатом. По иронии судьбы во время Второй мировой войны Свобода возглавил в СССР чехословацкие силы, сражавшиеся бок о бок с Советской армией. Было ясно: начиная с того времени он придерживался мнения, что Чехословакия должна безоговорочно поддерживать Советский Союз». Но когда члены просоветской группировки нанесли визит президенту в пражском замке Градчаны, где его держали под стражей советские солдаты, и попросили подписать документ, одобряющий советское присутствие, семидесятидвухлетний офицер крикнул: «Вон!» Казалось, все шло вразрез с советскими планами. Обычно вторгающаяся армия или группа заговорщиков первым делом захватывает радио и телевизионные станции. Однако в планы Советов это не входило, поскольку они думали, что уже будут контролировать всю страну к тому моменту, когда войска вступят в Прагу. Когда наконец они прервали работу Пражского радио, подпольные радиостанции начали передавать новости о советских репрессиях и чехословацком сопротивлении. Эти передачи разоблачали советскую пропаганду. Так, когда советская сторона сообщила о нарушении Словакией своих обязательств, подпольные радиостанции заявили, что это ложь. Они также передавали сведения о советских передвижениях, о том, кого пытались арестовать и кого уже арестовали. Пока чешское радио продолжало вещание, сохранялось ощущение, что Советы не полностью контролируют страну. Лозунгом подпольного радио были слова: «Мы с вами. Будьте с нами». Ян Заруба, чиновник министерства внутренних дел Чехословакии, предпочел покончить с собой, но не раскрыть местоположение радиопередатчиков. Попытки советской стороны разыскать их окончились провалом. Она создала свою радиостанцию, но не нашла людей, которые хорошо говорили бы по-чешски и по-словацки. Ее люди пытались разбрасывать листовки, но тексты, распространяемые в Чехии, оказались написаны по-словацки. Прорывавшийся сквозь помехи голос драматурга Вацлава Гавела, выступившего по радио, казался чем-то удивительным. Гавел говорил: «Я надеюсь, что я один из немногих граждан Чехословакии, кто до сих пор пользуется не контролируемым властями радиопередатчиком. Поэтому я от имени чешских и словацких писателей обращаюсь к вам с настоятельной просьбой о поддержке». Он просил западных писателей выступить с осуждением советской интервенции. Руководители Югославии и Румынии открыто выразили неодобрение ввода войск в Чехословакию. Улицы Белграда и Бухареста заполнили протестующие. Чаушеску назвал вторжение «большой ошибкой». Польский же лидер Гомулка, в свою очередь, объявил Чехословакию контрреволюционным государством, поставившим себя вне рамок Варшавского блока и вынашивавшим губительные планы в отношении Польши. И разумеется, всего через несколько дней Польша и ГДР «открыли», что за «контрреволюционным» заговором в Чехословакии стояли «сионисты». Итальянские и французские коммунисты осудили советскую акцию —- также как и Коммунистическая партия Японии. В Токио, где университет был закрыт уже третий месяц, студенты даже поначалу устраивали демонстрации перед советским посольством. Фидель Кастро одобрил вторжение, сказав, что это дело неприятное, но необходимое. За пределами Восточной Европы только коммунистические партии Кубы, Северного Вьетнама и Северной Кореи одобрили интервенцию. Из восьмидесяти восьми коммунистических партий мира лишь десять поддержали вторжение. Марксистский философ Герберт Маркузе назвал вторжение в Чехословакию «самым трагическим событием послевоенной эпохи». В ГДР многие молодые люди распространяли листовки с осуждением случившегося. Сотни рабочих в Восточной Германии отказывались подписывать заявления в поддержку интервенции. Многие польские диссиденты из числа остававшихся на свободе составляли письма протеста против ввода войск. Ежи Анджеевский, ведущий польский романист, написал послание Союзу писателей Чехословакии, в котором осуждал участие Польши во вторжении и заявлял, что «польские коллеги с вами, хотя и лишены свободы слова в своей стране». «Я понимаю, — продолжал он, — что мой голос, выражающий протест, не заглушит и не может заглушить то недоверие, которая вызвала Польша у всего прогрессивного человечества». Хуже всего было то, что появились сообщения о перестрелках между советскими и болгарскими, а также советскими и венгерскими союзниками. Даже в СССР семеро протестующих сели на Красной площади с плакатом «Руки прочь от ЧССР!». В состав группы входили Павел Литвинов, внук покойного министра иностранных дел, жена поэта Юлия Даниэля и широко известная поэтесса Наталия Горбаневская. Они были немедленно арестованы, некоторых из них избили. Горбаневская писала: «Но мои друзья и я были счастливы, что смогли — пусть на короткий миг — остановить поток разнузданной лжи и прервать трусливое молчание и при этом показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, совершенным от имени советского народа». На следующий день после вторжения поэт Евгений Евтушенко отправил телеграмму Председателю Совета Министров СССР Косыгину и Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу, которую также распространил в западной печати: «Я не могу уснуть. Я не знаю, как жить дальше. Я знаю только одно: у меня есть моральная обязанность излить чувства, переполняющие меня. Я глубоко убежден, что наши действия в Чехословакии являются трагической ошибкой и страшным ударом по советско-чехословацкой дружбе и мировому коммунистическому движению. Это снижает наш престиж в мире — и в наших собственных глазах. Это препятствие для всех прогрессивных сил, для мира во всем мире и мечты людей о грядущем братстве. И также это личная трагедия, поскольку у меня много друзей в Чехословакии и я не знаю, как смогу смотреть им в глаза — если мне будет суждено встретиться с ними вновь. И мне кажется, что это самый большой подарок для всех реакционных сил мира, и мы не можем предвидеть последствий этой акции. Я люблю свою страну и свой народ; я скромный наследник традиций русской литературы, таких писателей, как Пушкин, Толстой, Достоевский и Солженицын. Эти традиции научили меня, что иногда молчание позорно. Пожалуйста, примите к сведению мое мнение об этой акции — мнение честного сына своей страны и поэта, некогда написавшего песню “Хотят ли русские войны?”» Де Голль и премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон были первыми из многочисленных лидеров стран мира, осудившими вторжение, — один из немногих случаев за долгие годы, когда оба деятеля пришли к полному согласию. Де Голль сравнил советскую интервенцию в Чехословакию с высадкой американского десанта на территорию Доминиканской Республики в апреле 1965 года. Генерал еще раз попытался отстоять свою политику, отличную от политики двух сверхдержав. Эта идея не нашла поддержки, поскольку в результате советского вторжения европейцы почувствовали, что Москва представляет собой куда более реальную угрозу, чем Вашингтон. Но 24 августа уде Голля был хороший день — он объявил, что Франция провела испытание атомной бомбы в Тихом океане. Де Голль объявил это испытание «блистательным научным, техническим и промышленным успехом, достигнутым ради независимости и безопасности Франции лучшими из ее сынов». Сенаторы Юджин Маккарти и Джордж Макговерн, как и де Голль, чья политическая репутация была подорвана советским вторжением в Чехословакию, также сравнили его с агрессией США против Доминиканской Республики и Вьетнама. Советская интервенция создала трудности и для Ричарда Никсона, который всего за несколько недель до этого, впервые за много лет смягчив свою антикоммунистическую позицию, сказал, что Советы не представляют более угрозы и теперь настало время для переговоров. Проблема для многих западных политиков состояла в том, что вторжение произошло в тот момент, когда они не ожидали от Советского Союза чего-либо подобного. Странно, но едва ли не в самую мягкую форму был облечен протест, последовавший со стороны Вашингтона. Советский посол в США, А.Ф. Добрынин, встретился с президентом Джонсоном вскоре после начала вторжения. Джонсон созвал внеочередное заседание Национального совета безопасности, заэто Юджин Маккарти, пытаясь принизить значение случившегося, подверг его критике. В Чикаго, как кажется, последний маленький шанс на включение в программу партии пункта о проведении мирной политики был погублен вторжением в Чехословакию. «Холодная война» возвращалась. Но Джонсон, очевидно, не хотел принимать каких-либо иных мер, за исключением сурового осуждения интервенции в ООН. Он сказал, что в деле советско-амери-канских переговоров достигнут слишком большой прогресс, чтобы можно было им теперь пренебречь. В тот момент, когда танки пересекали границу, государственный секретарь Дин Раск произносил речь на заседании комитета по выработке платформы демократической партии о прогрессе на переговорах с СССР. ООН осудила советскую акцию, но СССР воспользовался правом вето, чтобы не допустить соответствующего решения. Москва сосредоточила особое внимание на президенте Чехословакии, поведение которой совершенно неожиданно доставило ей столько проблем. В случае непризнания Свободой смены руководства, осуществленного советской стороной, оказывалось невозможным объявить о законном характере вторжения. Но Свобода, который всегда демонстрировал полную лояльность по отношению к Советскому Союзу, до сих пор не желал признать свершившееся. Ему угрожали, и он в ответ пригрозил самоубийством, что для Советов означало бы крах. Политика кнута потерпела провал, оставалось прибегнуть к прянику, пообещав оказать Чехословакии беспрецедентную помощь со стороны СССР. Это никак не повлияло на позицию семидесятидвухлетнего Свободы, равно как и обещание предоставить ему самому высокий пост и право назначения на другие крупные должности. Все попытки советской стороны воздействовать на старого генерала оказались неудачными. Единственно приемлемым в этих условиях шагом для Москвы было выпустить из бараков КГБ на Украине Дубчека, Черника, Свободу, Смрковского и других законно назначенных чехословацких руководителей и привезти их в Москву для урегулирования вопроса с помощью переговоров. Когда советская сторона выработает соглашение с этими руководителями, какими бы, по мнению Свободы, ни были его условия, его можно будет рассматривать как легитимное решение проблемы. Свобода считал, что, если удастся начать переговоры, он сможет разрешить проблему. «И когда наконец советские солдаты уйдут отсюда, — сказал он хладнокровно, — вы увидите, что люди будут бросать им цветы, как это было в сорок пятом году».
Чехословацкий студенческий плакат после вторжения, отражающий контраст в восприятии советских войск в 1945 и 1968 гг.
Свобода не был сторонником Пражской весны и на самом деле поддерживал репрессии, которые продолжались несколько лет после вторжения, но в тот критический момент помешал Советам перепахать всю страну танками. Свобода отказался признать ввод войск законным. Но он также был обеспокоен решимостью народа Чехословакии и считал, что эта самоотверженность может принести вред. Неизвестная женщина каким-то образом дозвонилась до него и стала убеждать генерала застрелиться в знак протеста. Он объяснил ей, что это не лучший выход и что на нем лежит ответственность за преодоление кризиса. Женщина настаивала: «Ах, господин президент, как было бы прекрасно, если бы вы застрелились!» Когда арестованные руководители прибыли в Москву, их вид говорил о тех испытаниях, через которые им пришлось пройти. Они были бледны и выглядели больными. Дубчек казался совершенно измотанным, на лбу его была рана — он говорил, что получил ее, когда заснул в ванне. В течение переговоров в Москве Дубчеку, который стал заикаться, пришлось лечить расшатанные нервы. В пьесе Вацлава Гавела «Меморандум», написанной более чем за год до вторжения, есть сцена, в которой люди понимают, что план Крауса о введении искусственного языка — полная катастрофа. Они вышвыривают Крауса, затем зовут обратно и впервые называют его Джо, словно старые друзья. Именно это произошло между Брежневым и Дубчеком. Брежнев стал обращаться к Дубчеку «наш Саша» и фамильярно говорить ему «ты», чем поразил Дубчека, тем более что они никогда не были близко знакомы прежде. Дубчек продолжал обращаться к Брежневу официально, на вы. В течение четырех дней чехословацкие руководители встречались с советскими — иногда с Брежневым, иногда с некоторыми членами Политбюро, а иногда и со всем его составом. По одну сторону стола сидели чехи и словаки, а по другую — советские лидеры. Это не была дискуссия по всей форме. Ее участники спорили и с теми, кто сидел по другую сторону стола, и друг с другом. Свобода очень хотел прийти к согласию, считая, что чем дольше такового не будет, тем более непоправимым окажется вред, нанесенный отношениям между двумя странами. Он также опасался, что напряжение для советских войск станет слишком сильным и дисциплина может рухнуть. По состоянию на 2 сентября было убито уже семьдесят два гражданина Чехословакии и семьсот ранено. Все чаще и чаще причиной смертей и травм становилось пьянство среди советских военнослужащих, иногда — стрельба для забавы или просто автокатастрофы. Лесорубы боялись выходить на работу из-за шатавшихся по лесам пьяных солдат. В то время как проходила встреча в Москве, на улице Яна Оплетала в Праге, названной так в честь казненного нацистами студента, учащийся Мирослав Баранек был застрелен в упор пьяными советскими солдатами. Раздраженный Свобода яростно давил на свое правительство, чтобы оно пошло хоть на какое-то соглашение. Свобода обрушивался на Дубчека: «Вы ничего не можете сделать, но болтаете и болтаете все больше. Вам недостаточно того, что вы своей болтовней спровоцировали оккупацию вашей страны? Делайте выводы из уроков прошлого и действуйте, помня о них!» Но Дубчек, в отличие от Свободы, не спешил. Он казался более неуверенным и осторожным, и, как всегда, трудно было понять его позицию. По словам Млынаржа, большинство чехословацких руководителей, в отличие от Дубчека, чувствовали, что у них уже нет больше времени для проволочек или какой-либо свободы действий, «поскольку советское Политбюро действовало подобно банде гангстеров». Раздраженный Кадар предупреждал Дубчека во время последней встречи: «Разве вы не понимаете, с какими людьми вы имеете дело?» Даже когда советские представители начинали оказывать давление со своей стороны стола, чехословацкая сторона продолжала демонстрировать широкий спектр мнений, отражавший природу дубчековского режима. Свобода задавал тон, он постоянно добивался принятия решения. Франтишек Кригел, шестидесятилетний доктор, избранный в президиум Центрального Комитета КПЧ как один из либералов в правительстве, чей состав имел компромиссный характер, был более изменчив. Он происходил из еврейской семьи из Галиции, области на юге Польши. Кригел был арестован и попал в заключение вместе с Дубчеком, и когда их привезли в Москву на переговоры, недовольный Брежнев спросил: «Что здесь делает этот еврей из Галиции?» Советские представители выгнали Кригела из-за стола переговоров, и чехословацкие лидеры смогли вернуть его, лишь отказавшись вести переговоры. Кригел всегда был одним из наиболее радикально настроенных деятелей режима и видел в качестве альтернативы отношениям с Советским Союзом диалоге Китаем. Теперь же, во время переговоров, советская сторона пыталась воздействовать на Кригела, страдавшего диабетом, не давая ему инсулин. Кригел обратился к Свободе: «Что они могут сделать со мной? Они или отправят меня в Сибирь, или застрелят». Это был один из тех редких моментов, когда Свободе пришлось замолчать. Кригел оказался единственным членом делегации, который не подписал никаких соглашений, сказав: «Нет! Убейте меня, если хотите». Советская сторона позволяла себе неоднократные антисемитские выпады не только против Кригела, но и против заместителя премьер-министра Ота Шика и Первого секретаря Пражского горкома партии Богумила Шимона. В действительности Шимон не был евреем, но для славянского уха его фамилия звучала как еврейская. Когда Брежнев открыл встречу, Дубчек выглядел таким подавленным, с таким трудом сохранял спокойствие, что вместо него от чехословацкой стороны выступил Черник. Он говорил очень прямо и откровенно, не спекулировал стандартными рассуждениями о советско-чехословацкой дружбе, но защищал «Пражскую весну» и действия Коммунистической партии Чехословакии, заявив, что военное вмешательство со стороны СССР не принесет пользы делу социализма. Несколько раз Брежнев прерывал его и возражал. Когда Черник закончил, Дубчек попросил слова. Это противоречило процедурным правилам, но он настаивал — сначала на плохом, а через несколько минут и вполне приличном русском. Млынарж описывал его речь как «трогательную и страстную защиту» реформ в Чехословакии и осуждение интервенции. Его речь представляла собой импровизацию, импровизацией был и ответ Брежнева. Он заявил, что Пражская весна нанесла Москве ущерб, и изложил свою точку зрения на суверенитет и советский блок. Брежнев обратился к Дубчеку: «Вначале я пытался помочь вам в борьбе с Новотным». По-видимому, его глубоко задевало то, что Дубчек никогда не разговаривал с ним доверительно. «Я верил в вас и защищал вас от других, — сказал Брежнев Дубчеку. — Я говорил им, что наш Саша, несмотря ни на что, наш добрый товарищ, а вы подвели нас». Величайший грех Дубчека, как ясно дал понять ему Брежнев, состоял в том, что он не консультировался с Москвой — отказывался посылать свои речи в Москву на одобрение, не советовался по кадровым вопросам. «Здесь [в Москве] даже я сам даю свои речи всем членам Политбюро, чтобы они мне посоветовали, как их улучшить. Разве я не прав, товарищи?» — обратился Брежнев ко всем членам Политбюро, и они с готовностью закивали. Но у Дубчека были и другие грехи: «Выпячивание антисоциалистических тенденций, разрешение прессе писать все, что ей захочется, постоянное давление со стороны контрреволюционных организаций...» И наконец, как всегда это случалось, когда происходило совещание с советскими чиновниками любого уровня, Брежнев напомнил о понесенных Советским Союзом «жертвах во время Второй мировой войны». Ни одна из сторон не забывала, что при освобождении Чехословакии погибло сто сорок пять тысяч советских людей. Дубчек не боялся обнаружить свое несогласие с Брежневым. Наконец лицо Брежнева покраснело, и он закричал, что бесполезно вести переговоры с такими людьми. Он медленно расхаживал по комнате, а за ним покорно, медленным церемониальным шагом, следовали все члены Политбюро. Это была угроза. Дубчеку сказали, что он предстанет перед трибуналом. Пока советское руководство считало, что сможет заменить Дубчека и его коллег правительством из числа чехословацких коллаборационистов, угроза расправы была вполне реальной, но когда Свобода отказался уступить и события стали приобретать все менее благоприятный для советской стороны оборот, с арестованными чехословацкими руководителями начали обращаться учтивее. В соглашении нуждались обе стороны: без него действия СССР не были бы легитимными, но и деятели Пражской весны не смогли бы оказывать влияние на будущее своей страны и их жизни находились бы под угрозой. Взрыв негодования со стороны Брежнева напомнил им о том, какая судьба ожидает их страну в том случае, если не будет достигнуто соглашение. Наконец стороны составили обоюдоприемлемый документ. В нем почти не была отражена точка зрения Праги. Не признавались законность и ценность всего сделанного правительством Дубчека. Чехословацкие представители и впрямь оказались очень слабы. В действительности советская сторона могла быть достаточно безжалостной для управления без всякой законности, если это требовалось. Когда документ был почти готов для подписания, Дубчек впал в глубокое уныние, его била дрожь, и опасались, что он не сможет принять участие в заключительной церемонии. Ему вновь назначили уколы. Дубчек неожиданно напугал всех участников переговоров отказом от каких-либо уколов, «или, — заявил он, — я ничего не буду подписывать. Они могут делать что хотят. Я не буду подписывать». После продлившихся целую ночь переговоров он наконец согласился на укол. Наконец Московский протокол, который вынудили признать взятых за горло пленных чехословацких лидеров, в то время как их страну оккупировали танки, был готов для официального подписания. Неожиданно массивные двустворчатые двери открылись, и каждый член Политбюро по очереди поднимался, изображал на лице улыбку, разводил руки и шел через комнату, чтобы обнять измученных и побежденных чехословацких пленников. Делегация прибыла в аэропорт, чтобы возвратиться в Прагу, и неожиданно обнаружила отсутствие Кригела. Одни считали, что будет лучше, если его не окажется в составе возвращающейся делегации, но другие, в том числе Свобода и Дубчек, настаивали, чтобы советские власти вернули его. После двухчасовых переговоров советские представители привезли его в аэропорт. Делегация вернулась в Прагу, имея на руках документ, по сути, лишенный конкретного содержания. Советская сторона соглашалась обеспечить КПЧ «понимание и поддержку с целью совершенствования методов общественного руководства». Войска отводились с территории Чехословакии в течение срока, зависевшего от степени «нормализации». Народ Чехословакии постигал двусмысленный советский язык. «Нормализация» была новым словом, но граждане знали, что оно означает — возвращение к прежней диктатуре. Требования советской стороны были вполне определенно изложены в Московском протоколе, а удовлетворение желаний чехословацкой стороны, таких как отвод войск, являлось делом будущего и зависело от капризов Москвы. Но сейчас, неделю спустя после вторжения, полмиллиона иностранных солдат и шесть тысяч танков продолжали оккупировать страну. 27 августа Дубчек (заметно было, что он с трудом держится на ногах) произнес речь перед народом, упрашивая выказать ему свое доверие и уверяя, что имели место только «временные меры». Он мог произносить лишь расплывчатые фразы. Но Дубчек и некоторые другие лидеры считали возможным в будущем проведение реформ. Поначалу правительство во главе с вернувшимся к власти Дубчеком проявляло независимость. Национальное собрание даже приняло резолюцию, объявлявшую советскую оккупацию незаконной и нарушающей Устав Организации Объединенных Наций. Руководители могли увольнять просоветски настроенных чиновников из своих рядов. В сентябре в стране были приняты усиленные меры для обуздания свободной прессы, хотя по советским стандартам она продолжала вести себя на удивление бунтарски и независимо. Дубчека преследовала навязчивая идея — уступить Советам в настоящий момент, чтобы в будущем настоять на своем. В октябре на встрече руководителей пяти стран, участвовавших в интервенции, Брежнев назвал операцию «Дунай» крупным успехом, но все, что произошло после нее, по его словам, стало провалом. Гомулка высказался еще более резко, заявив, что Чехословакия до сих пор представляет собой очаг угрозы контрреволюции. Считая целесообразным проявлять осторожность по отношению к контрреволюционерам в своей стране, он был мало склонен к терпимости, когда дело касалось Чехословакии, где студенты до сих пор сражались с полицией. Тысячи людей покидали страну. Многие из тех, кто уехал, решили не возвращаться. Черник поощрял иммиграцию. Вскоре границы были перекрыты, и он объявил, что не может гарантировать даже собственную безопасность, не говоря уже о других. Через месяц после вторжения пятьдесят тысяч из четырнадцати миллионов граждан Чехословакии покинули страну. Примерно десять тысяч из них попросили политического убежища в других государствах. Некоторые из граждан Чехословакии в период интервенции оказались за пределами страны во время первых в жизни заграничных отпусков. Многим пришлось ждать более двадцати лет, прежде чем они смогли вернуться. Союз писателей Чехословакии, одна из тех организаций, активно подталкивавших Дубчека к проведению реформ, когда он пришел к власти, теперь убеждал своих членов не эмигрировать, а если они оказались за рубежом, возвратиться до того, как будут перекрыты границы. Павел Кохут, драматург и романист, курсировал между Прагой и Франкфуртом, где был напечатан его новый роман, разыскивал чешских писателей и убеждал их вернуться, чтобы превратить Союз писателей в центр диссидентского движения. Кохут контактировал с некоторыми членами Союза писателей на Франкфуртской книжной ярмарке, подвергнутой критике Даниэлем Кон-Бенди. На книжной ярмарке в 1968 году присутствовало гораздо больше чешских писателей, чем обычно. И на кинофестивале в Лин-кольн-центре было множество чехословацких режиссеров. Поддержка чешской культуры превратилась в акт политического протеста, и многие артисты до сих пор — никто не знал, как долго это еще продлится, — имели возможность выезжать за рубеж. Молодежь вступала в партию, как никогда, активно, стремясь взять верх и направлять партийную деятельность. В месяц, прошедший после вторжения, в партию вступило 7199 человек. Согласно официальным данным, 63,8% из них, то есть две трети, были моложе тридцати лет. Представлялось несомненным, что это окажет влияние на партию, состоявшую преимущественно из людей среднего и старшего возраста. Советские войска не показывались, но они были здесь. В конце сентября студенты устроили демонстрацию, и советской стороне стоило лишь пригрозить, что если чехословацкая полиция не разгонит демонстрантов, то в действие вступят советские войска. Полиция остановила студентов. Молодежь также создавала по всей стране клубы Дубчека. В большинство из них входило несколько сотен человек, которые собирались для обсуждения речей Дубчека. Осенью 1968 года Дубчек отправил письмо чехословацкой олимпийской сборной в Мехико. Он писал, что, если команда выступила не так успешно, как надеялась, то «не стоит вешать нос: что не удалось сегодня, может получиться завтра».Глава 18 СТРАШНАЯ, ВЫМУЧЕННАЯ УЛЫБКА
Женщинами не рождаются, но скорее становятся. Ни биологические, ни физиологические, ни экономические причины не являются определяющими в формировании той фигуры, которую представляет собой женщина в обществе; это создание порождает цивилизация в целом.Симона де Бовуар. «Другой пол», 1949
Я думаю, что в этом заключается неизвестная до сих пор главная причина проблем, с которыми уже давно сталкиваются женщины в Америке: в отсутствии образа женщины в частной жизни — частного образа, «прайвит имидж». Образы, сложившиеся в общественной жизни, «паблик имиджиз», которые не поддаются разумному объяснению и имеют весьма мало отношения к самим женщинам, оказывают интенсивное воздействие на то, как складывается жизнь женщин. Эти образы не должны иметь такую власть, если только женщины не страдают от кризиса идентичности.Бетти Фридан. «Тайна женщины», 1963
Запомните, мистер Смит: как и все остальные, кто был угнетен и ныне взбунтовался, мы боремся за свободу — и пускаем в ход все необходимые средства.Никто не ожидал, что шоу «Мисс Америка» пройдет без проблем. В конце концов, на дворе стоял 1968 год. После показа по телевидению беспорядков в Чикаго зрители имели возможность передохнуть от шока, вызванного подчинением Чехословакии Советским Союзом, и в промежутках между репортажами, где показывали горящие деревни на берегах Меконга, могли поглядеть на Берта Паркса. С видом знаменитости он взбегал на сцену; на нем был белый фрак и белый галстук. По его знаку на сцену выпархивали юные, белокожие, по преимуществу светловолосые, прошедшие тщательный отбор девушки — последние девственницы из кампусов при американских колледжах. Корона, за которую они состязались, символизировала идеал американской женственности. Для выполнения соответствующих требований девушки должны были давать ясные ответы на вопросы, а также быть хорошо сложенными и продемонстрировать это в купальном костюме (но так, чтобы их формы не выглядели вызывающе). И все это время надо было улыбаться столь широко, что улыбка становилась прямоугольной — плотоядная улыбка, напоминающая выражение лица Губерта Хамфри. Шоу вызывало вопросы уже из-за участия в нем представительниц только одной расы. Всегда ли идеальному образу американки соответствует женщина с белой кожей? Или быть чернокожей, краснокожей или желтокожей означает «не дотягивать» до идеала? Однако нападение на этот раз не приняло вооруженных форм. В лучших традициях театра «Йиппи!» 7 сентября группа женщин численностью в сто человек (возможно, их было больше) встретилась на прогулочной дорожке у пляжа за пределами того места, где проводилось шоу, и увенчала короной овцу. Когда пресса обрушилась на них — как правило, избрание Мисс Америки сопровождается немалым числом скандальных историй, — протестующие настояли на том, что будут говорить только с журналистами-женщинами, которые в 1968 году были редкостью. Добившись внимания средств массовой информации, группа, объявившая себя Радикальной партией женщин Нью-Йорка, начала бросать разные предметы в мусорный контейнер с надписью «Мусорный ящик свободы» (выражение, пришедшее из языка антивоенных движений). В «мусорный ящик свободы» полетели пояса, бюстгальтеры, накладные ресницы, щипцы для завивки и другие продукты «индустрии красоты». Около двадцати участниц Радикальной партии сумели проникнуть в зал, где шло состязание, и остановить его на двадцать минут: они издавали пронзительные вопли, подобно арабским женщинам из фильма «Битва за Алжир», кричали: «Свободу женщинам!» — и подняли транспарант с надписью «Освобождение женщин». Через много лет после этого инцидента, ознаменовавшего наступление нового периода, радикальных феминисток окрестили сжигательницами бюстгальтеров, хотя на самом деле они никогда этого не делали. Настоящие сжигательницы бюстгальтеров говорили, что протестуют против «деградировавшей, тупоумной девушки-простушки» — образа Мисс Америки. Радикальная партия женщин Нью-Йорка, чьим первым выступлением стала именно эта акция, имела большой опыт работы в организациях «новых левых», и многие ее члены имели значительный опыт в проведении демонстраций. Однако они впервые выступили в качестве самостоятельных устроителей акций протеста. Робин Морган, возглавившая их, говорила: «Также мы все чувствовали, что выросли; кроме того, мы делали это для себя, а не для наших мужчин...» В 1968 году проходили и другие марши, которые организовывали и в которых участвовали женщины. В январе пять тысяч женщин приняли участие в марше протеста в Вашингтоне. Демонстрация была устроена Бригадой Дженнет Рэнкин, названной в честь первой женщины-конгрессмена, оставшейся пламенной активисткой в возрасте восьмидесяти семи лет. Пять тысяч демонстранток переоделись в траурные черные платья, что должно было выглядеть эффектно при показе по телевидению и могло заинтересовать телевизионщиков, но акция весьма скупо освещалась в прессе. Заместитель главного редактора «Нью-Йорк тайме» Клифтон Дэниел объяснил в интервью, данном телевидению, что недостаточное внимание прессы объяснялось маловероятностью насилия. Те, кто участвовал в движении за гражданские права, усвоили: присутствие женщин снижает вероятность насилия, а это приводит к ослаблению внимания прессы. Решение беседовать с одними лишь репортерами-женщи-нами, принятое на шоу «Мисс Америка», Морган считала величайшим успехом всей акции. Сама эта идея, как и многие другие, была позаимствована у Эс-эн-си-си. Радикальная партия женщин Нью-Йорка добилась большего успеха, придерживаясь подобного требования, возможно потому, что ее движение прежде не освещалось прессой, и предпринятый ею шаг стал сенсацией. Через несколько лет это вошло в практику феминистских движений, и печатные издания и телекомпании автоматически посылали женщин-корреспондентов на акции, которые устраивали феминистки. Но в то время, когда интерес к феминистским сюжетам только начинал расти и журналистки боролись за то, чтобы публиковать свои заметки не только на страницах, посвященных моде, культуре и кулинарии, это привело к важным изменениям в отделах новостей различных изданий. Однако Морган была довольна не всем. Вышло так, что нападки участниц демонстрации оказались адресованы кон-курсанткам, а не конкурсу Впоследствии она сочла ошибкой и крики протестующих: «Мисс Америка, прочь!» — и скандирование переделанных стишков: «Гоп-ца-ца, / Поедим ее мясца...» Получилось, что конкурсантки оказались в роли жертв. 7 сентября 1968 года часто называют датой возникновения современного феминизма. Феминистки проводили свои кампании уже много лет, но, подобно «новым левым», до того как в начале 60-х о них написал Том Хейден, лишь немногие обращали на них внимание, пока женщины не попали на телеэкраны. Для миллионов американцев движение за освобождение женщин началось в Атлантик-Сити 7 сентября, когда произошла история с овцой и мусорным контейнером. Неподалеку другая группа протестующих проводила избрание Мисс Америки среди чернокожих, чтобы выразить недовольство расистской сущностью этого конкурса. Однако к тому моменту движения среди чернокожего населения были уже не новы. Конкурс «Мисс Америка» утратил уважение аудитории. К концу 60-х он лишился своей славы. Многие считали его расистским и глупым; он постепенно утрачивал свое обаяние, как и сам Атлантик-Сити. Шана Алекзандер писала в журнале «Лайф»: «Талант, который у восемнадцатилетних девушек встречается реже, чем красота, состоит в умении сохранять улыбку при большом напряжении. Одна девушка, проделывавшая упражнения на трапеции, сохраняла безумную улыбку, повиснув вниз головой. Балерина улыбалась, изображая «умирающего лебедя» (что-то вроде смерти от холода в морозильной камере на птицеферме). Третья девушка обладала талантом синхронно выдувать пузыри из жевательной резинки и отплясывать чарльстон. Через правильные, ритмичные интервалы ее улыбку стирали обширные влажные розовые всплески. При показе по телевидению конкурса «Мисс Америка» видишь столько всего неправильного, скучного и глупого, что приходится сдерживать желание расположить бранные эпитеты по порядку в соответствии с их важностью: «скучный», «претенциозный», «расистский», «эксплуататорский», «печальный»...» Морган, дочь актрисы, которая возглавляла Радикальную партию женщин Нью-Йорка, превратилась в политическую активистку. Для нее и всех членов ее группы Атлантик-Сити являл собой первый акт радикального феминизма. Их взгляды со всей очевидностью вели происхождение от воззрений «новых левых». Относительно выбора целей Морган сказала: «Где еще можно найти столь совершенное сочетание «ценностей», характерных для Америки, — расизма, материализма, капитализма? Причем все они оформляются в одном идеальном символе — женщине». Что касается конкурса «Мисс Америка-1968», на котором, конечно, должна была победить Мисс Иллинойс, Морган сказала, что «на ее улыбающемся лице до сих пор видны кровавые пятна от поцелуя мэра Дейли». Вершиной мероприятия оказалось то, что победительница отправилась в поездку, в ходе которой она должна была посетить американские войска во Вьетнаме. Однако не все симпатизировали протестующим. Мужчины кричали и оскорбляли демонстранток, советовали им самим броситься в «мусорный ящик свободы» и подавали странные советы: «Ступайте домой и постирайте свои лифчики!» — они вновь «купились» на представление о том, что нонконформисты должны быть грязнулями. Одна из бывших участниц конкурса «Мисс Америка», разъяренная, быстро явилась со своим только что написанным лозунгом: «У Мисс Америки есть только один недостаток: она красива». Бывшая участница конкурса, Терри Миузин, никого не удивила, приколов значок «Никсона в президенты». До 7 сентября феминисток обычно представляли как женщин в длинных юбках и капорах, боровшихся с 1848-го по 1920 год за право голосовать. В 1920 году, когда была принята 19-я поправка к Конституции, феминизм, согласно широко распространенному мнению, исполнил свое предназначение, достиг цели и перестал существовать. В 1956 году в специальном выпуске журнала «Лайф» для женщин Корнелия Отис Скиннер писала о феминизме: «Мы выиграли наше дело, но, Бога ради, хватит доказывать это снова и снова». Эта мысль укоренилась столь глубоко, что в 1968 году пресса и общественность характеризовали современное феминистское движение как «вторую волну». Одним из первых сюрпризов «второй волны» стал тот факт, что «Тайна женщины» — книга провинциалки Бетти Фридан, матери троих детей, психолога по образованию, — оказалась одной из наиболее читаемых в 60-х годах. Фридан окончила колледж Смита в 1942 году, и в начале 60-х руководство колледжа обратилось к ней с просьбой составить обзор деятельности ее бывших соучеников. На ее вопросы ответили двести женщин. 89% стали домохозяйками, причем большинство из них утверждали, что не использовали полученное образование в должной мере, и это единственное, о чем они сожалеют. Фридан отвергла распространенное представление о том, что образованные женщины несчастливы, поскольку образование делает их «неугомонными». Вместо этого она предположила, что они попадают в ловушку, связанную с рядом предубеждений, которые она назвала «тайной женщины»: мужчины и женщины чрезвычайно не похожи друг на друга, стремиться к карьерному росту свойственно мужчине, а счастье настоящих женщин в том, чтобы главенствующую роль играл муж и его карьера, а также в воспитании детей. Женщина, не желающая этого, испытывала разлад с собой, шла против природы, была неженственна, поэтому ей следовало подавлять в себе подобные неестественные побуждения. В биографическом очерке, посвященном Фридан, журнал «Лайф» назвал ее «недомохо-зяйка Бетти». Ее стали приглашать на телевизионные ток-шоу. Телевидение, похоже, было очаровано явным противоречием: мать троих детей, живущая «нормальной жизнью», развенчивала эту норму! В то время как средства массовой информации имели о ней положительное мнение, общественность пригорода, где она жила, не одобряла Фридан и подвергла остракизму ее семью. Однако женщины всей страны были под сильным впечатлением. Они читали и обсуждали книгу и создавали группы, приглашавшие Фридан выступить. Фридан пришла к пониманию того, что по всей стране не только возникли подобные группы, но и активизировались феминистки, такие как Кэтрин Ист в Вашингтоне, боровшиеся за законные права женщин. В 1966-м, за два года до телевизионного дебюта радикального феминизма, политическая сметка Ист в соединении со всенародной известностью Фридан вызвали к жизни Национальную организацию женщин — NOW (National Organization for Women). Одно из первых сражений разгорелось из-за стюардесс. Они должны были обладать привлекательной внешностью; поводом к увольнению стюардессы мог послужить лишний вес, а также достижение тридцатидвухлетнего возраста. Возрастное ограничение не вызывало вопросов у большинства женщин, поскольку многие представительницы прекрасного пола считали, что женщина к тридцати двум годам должна выйти замуж и заняться воспитанием детей. По правде говоря, думали, что тридцать два — даже поздновато. От стюардесс ожидали, что, выйдя замуж, они бросят работу, однако многие не афишировали свой брак и продолжали работать, пока им не приходилось увольняться по возрасту, несмотря на то что он отнюдь не был преклонным. Поколение женщин, появившееся на свет в 40-х, начало заключать браки в более юном возрасте, нежели какая-либо другая генерация двадцатого века, — возможно, из-за отсутствия войны. Женщины вступали в брак двадцати лет. Многие браки заключались в колледже, а после его окончания никому тем более не хотелось терять время. Те, кто не поступал в колледж, могли выходить замуж после окончания средней школы. В то время, если женщина была очень хорошенькой и хотела до замужества сделать какую-никакую карьеру, она могла проработать стюардессой в течение нескольких лет. Стюардесс учили делать прически и макияж, от них требовали носить пояса, подчеркивающие талию. Даже проводились «проверки на ощупь», чтобы удостовериться, что девушки выполняют эти условия. Группа стюардесс, возглавляемая Дасти Роудз и Нэнси Коллинз, организовала профсоюз и боролась почти десять лет, пытаясь заставить авиакомпании отменить ограничения, связанные с возрастом и семейным положением. Новые правила и контракты вступили в силу только в 1968 году, лишь за три дня до того, как телезрители увидели феминисток из Атлантик-Сити. Медленно происходило и изменение положения женщин на рынке труда. В 1968 году, когда Мюриель Зиберт стала первой женщиной, купившей место на Нью-Йоркской фондовой бирже, она по-прежнему вынуждена была убеждать клиентов, что совет, касающийся рынка, данный женщиной, может оказаться столь же ценным, как и совет мужчины, хотя к этому времени в США большинство акционеров составляли женщины, а не мужчины. Однако когда год закончился, она заявила, что он был «невероятным». До покупки места ее прибыль составляла около полумиллиона долларов; приобретя же его в 1968 году, она стала получать более миллиона, специализируясь на рынке продаж акций авиационной и воздухоплавательной промышленности» Среди ее клиентов было несколько крупных банков Нью-Йорка и все двадцать пять крупнейших фондов. В тот год женщина впервые завоевала право стать судьей в штате Миссисипи. Впервые две женщины получили свидетельства о том, что они являются профессиональными жокеями (правда, одна из них, Кети Кеснер, после этого сломала ногу и в течение сезона не показывалась). Северовьетнамский Национально-освободительный фронт преподал Западу урок, отправив женщину, Нгуен Тхи Бин, в качестве руководителя делегации на мирные переговоры в Париже, а старший лейтенант Джейн А. Ломбарди, медсестра, стала первой женщиной, награжденной орденом за участие в битве. Однако изменения протекали слишком медленно и часто совершались слишком поздно; из-за этого феминистская организация и получила название «NOW» (Эн-оу-дабл-ю) — «Сейчас». Уже к 1960 году 40% американок старше шестнадцати лет работали. Представление о том, что женщины — это только домохозяйки, становилось более мифом, нежели реальностью. Правдой было то, что большинство трудящихся женщин не имели хорошей работы и не получали достойной оплаты. В 1965 году, когда федеральное правительство объявило незаконной дискриминацию при приеме на работу по расовому, религиозному и национальному признакам, несмотря на интенсивное лоббирование, пол остался не учтен. Эн-оу-дабл-ю приложила максимальные усилия, чтобы изменить существующий порядок публикации объявлений в соответствии с гендерным признаком. Теперь закон не разрешал газетам печатать по отдельности объявления для белых и «цветных». Однако повсеместной практикой оставался отбор женщин на низкооплачиваемые должности с помощью публикации объявлений в рубриках «Требуются мужчины» и «Требуются женщины». Эн-оу-дабл-ю вела отчаянную борьбу, используя такие способы, как проникновение на слушания, проводимые Комиссией по обеспечению равных прав при найме, с огромными транспарантами, на которых красовались лозунги вроде «Цыпленка — в каждую кастрюлю, шлюху — в каждый дом». Ведущие газеты Нью-Йорка прекратили публикацию раздельных списков в 1967 году. Но многие газеты страны продолжали подобную практику, пока Верховный суд США не вынес обвинительный приговор относительно подобного случая в 1973 году при разборе дела против «Питсбург пресс».Робин Морган. «Запомните, мистер Смит» (Из статьи в журнале «Вин», ноябрь 1968)

Выступление за легализацию абортов
В 1968 году Эн-оу-дабл-ю предприняла действия по ряду вопросов, включая решающую битву в Нью-Йорке за изменение федерального законодательства относительно легализации абортов. В то же время ее участницы хотели, чтобы конгресс внес в Конституцию поправку, гарантирующую женщинам равные права с мужчинами, — ERA (Equal Rights Amendment» — «Поправка о равноправии») выносилась на обсуждение каждого конгресса начиная с 1923 года и неизменно отвергалась. Феминистское движение имело общие корни сдвижением за гражданские права. Законы об особом статусе женщин, неоднократно получавшие поддержку в суде, часто именовались «законами Джейн Кроу». Многие феминистки воспринимали Эн-оу-дабл-ю как женский вариант Эн-эй-эй-си-пи; другие настаивали, что эти движения отличались большим радикализмом и были чем-то вроде женских КОРЕ или Эс-эн-си-си. Бетти Фридан называла женщин, способствовавших господству сильного пола, «тетя Том». «Существует просто потрясающее сходство, — настаивала Флоренс Хендерсон, юрист из Нью-Йорка, получившая известность в основном благодаря тому, что она вела защиту лидера Эс-эн-си-си X. Рэпа Брауна. — В суде вы чаще сталкиваетесь с покровительственным отношением к чернокожим и к женщинам, нежели к белым мужчинам: «Ваша честь, я знаю этого парня с тех времен, как он был мальчиком, его мать была прислугой в моей семье...», «Ваша честь, она ведь просто женщина, у нее трое маленьких детей...» И я думаю, что общество, где заправляют белые мужчины, часто относится к обоим сходным образом: «Если мы захотим дать вам власть — это нормально. Но не надо вести себя так, будто вы имеете на нее право». Это выглядит слишком по-мужски, слишком... по-белому». Вторая волна феминизма сошла бы на нет гораздо скорее, если бы в конце 50-х — начале 60-х наиболее одаренные, смелые и идеалистически настроенные женщины не присоединились к движению за гражданские права. Позже, в 60-е, «новые левые» сосредоточились на проблеме окончания войны, в то время как белые женщины — участницы движения за гражданские права считали неуместным поднимать вопросы прав женщин перед лицом гораздо более серьезной дискриминации в отношении черных. В конце концов, женщин не убивали и не подвергали линчеванию. Среди белых женщин, которые по религиозным убеждениям отправились на Юг и рисковали жизнью вместе с другими работниками Эс-эн-си-си, были Мэри Кинг и Сандра Кейзон (впоследствии она вышла замуж за Тома Хейдена, а затем развелась с ним и взяла имя Кейзи Хейден). Некоторые из сотрудниц Эс-эн-си-си более старшего возраста (в их числе нельзя не вспомнить Эллу Бейкер) имели огромное влияние на более молодых женщин. Бейкер, чье вдохновляющее воздействие на Мэри Кинг и других было весьма важным, начинала свою работу в «Конференции руководства христианских общин Юга» в качестве советника Мартина Лютера Кинга, а в 1960 году перешла в Эс-эн-си-си. Об Эс-си-эл-си она сказала следующее: «Со мной было трудно. Меня не просто было сбить с панталыку. Ведь я могла возражать по многим поводам — и не только могла, но и делала это. И это обескураживало тех, кто никогда ни с чем подобным не сталкивался. Странная штука случается с теми мужчинам, которые думают, что они «важные шишки»: если они не видели женщину, которая может сказать «нет», притом безо всякой неуверенности в голосе, то иногда просто не знают, что делать. Особенно если вы умеете говорить громко и у вас голос вроде моего. Иногда меня можно услышать за милю, если надо». Действительно, у Мартина Лютера Кинга были проблемы в семейной жизни, абсолютно не связанных с его женолюбием. Коретта горько сожалела о том, что ее не допускают к участию в движении. «Я бы хотела быть больше чем участницей», — сказала она в интервью. В мечтах ей рисовалось значительная роль в движении, а Кинг отказывал ей в этом. Подобная ситуация была источником постоянного раздражения в их семейной жизни и, согласно некоторым свидетельствам, часто приводила к тому, что он не приходил домой. Дороти Коттон, работавшая бок о бок с Мартином Лютером Кингом в Эс-си-эл-си, рассказывала: «Мартин... был законченным шовинистом в вопросах пола. Он полагал, что жена должна оставаться дома и нянчить младенцев, пока он будет там, на улицах. Ему надо было многое узнавать, он должен был «расти» и делать для этого очень многое. Меня всегда просили делать записи. Меня также просили приготовить кофе для доктора Кинга. И это я тоже делала». С ее точки зрения, то был симптом времени. «Проповедники были исключительно лицами мужского пола, выросшими в мире, где разделение полов играло огромную роль... Я любила доктора Кинга, но знаю, что эта черта была присуща и ему». Лишь после смерти Кинга Коретта Скотт Кинг смогла выступить в качестве участницы борьбы за гражданские права и сыграть в этом движении свою роль. Руководство всеми движениями за гражданские права — до того как начали действовать Эн-оу-дабл-ю и другие феминистские организации — осуществляли мужчины. Сотрудницы Эс-ди-эс толковали между собой о том, до чего запугали их Том Хейден и другие лидеры-мужчины. Как было написано в одной брошюре Эс-ди-эс, «система подобна женщине. Надо трахнуть ее, чтобы она изменилась». В недавнем интервью Хейден сказал, что часть проблем возникла оттого, что «женское движение еще бездействовало, когда Эс-ди-эс начало свою работу». Но он во многом приписывал возникновение проблемы «невежеству» — своему собственному, а также присущему другим лидерам. Сьюзен Голдберг, лидер Движения за свободу слова, позднее ставшая первой женой Марио Савио, рассказывала: «Я была членом исполнительного комитета и комиссии по выработке регламента в Эф-эс-эм29. Я вносила предложение, и никакой реакции не следовало. Через полчаса Марио или Джек Вейнберг предлагали то же самое, и это вызывало живейший отклик: «Интересная мысль». Я думала, что, возможно, мне не удалось сформулировать это достаточно хорошо, и считала так много лет. Но потом, на праздновании двадцатипятилетнего юбилея Эф-эс-эм, я наткнулась на Джеки Гольдберг, и она сказала: «Нет, ты говорила прекрасно. То был классический случай. Я не раз использовала его в своем уличном театре: “На Сьюзен не обращают внимания”». Беттина Аптекер, еще одна из лидеров Движения за свободу слова, сказала: «Женщины выполняли ббльшую часть канцелярской работы, добывали деньги, обеспечивали питание. Ничто из этого не воспринималось как отдельная работа, и я никогда не поднимала вопроса об этом разделении труда, и даже не считала, что здесь есть какая-то проблема!» Возможно, наиболее равным было разделениетруда в Эс-эн-си-си. Работа в этой организации была физически тяжелой и всегда опасной, и хотя временами приводились доказательства того, что все лидеры, сумевшие привлечь внимание средств массовой информации, были мужчинами, работа и опасность делились поровну. К 1968 году проблема, стоявшая перед Эс-эн-си-си, заключалась не в том, чтобы спровоцировать проявления насилия в свой адрес и соответственно выз- вать внимание средств массовой информации, но в том, как пережить насилие. В какой-то момент сотрудники Эс-эн-си-си осознали (как это произошло позднее с Бригадой Дженет Ранкин), что присутствие женщин смягчает проявления насилия, и в результате присутствие большого числа женщин стало желательным. Хотя их постоянно пугали, били, арестовывали, устрашали, в них стреляли и на них с рычанием бросались собаки — женщины могли убедиться, что они подвергались меньшей опасности, нежели мужчины, причем белые женщины рисковали меньше чернокожих. Наибольшей опасности всегда подвергались чернокожие мужчины. В октябре 1964 года в штате Миссисипи среди сотрудников движения за гражданские права пятнадцать человек были убиты, четверо ранено, тридцать семь церквей было разбомблено или сожжено и арестовано более тысячи человек. По крайней мере в одном этом аспекте Эс-эн-си-си был менее экстремистским в вопросах пола, нежели антивоенное движение. Дэвид Деллинджер был потрясен, когда, организуя марши мира в 1967 и 1968 годах, обнаружил, что педиатр Бенджамен Спок, ставший активистом антивоенного движения, и даже Забастовочное движение женщин — борцов за мир (одно из ранних антивоенных движений) настаивали на том, чтобы женщины и дети не участвовали в демонстрациях из-за возможной угрозы применения насилия. Среди книг, которыми увлекались сотрудники Эс-эн-си-си, помимо сочинений Франца Фэнона и Камю, была одна книга — растрепавшаяся, с загнутыми уголками страниц, лишившаяся обложки. То был «Второй пол» — обвинительный приговор браку и критический анализ роли женщин в обществе, проделанный Симоной де Бовуар. Среди участников движения постепенно распространялись феминистские идеалы. Как указывала Беттина Аптекер, до знакомства с книгами де Бовуар, Фридан и некоторых других авторов, женщина не находила слов, чтобы высказать вслух свое смутное ощущение несправедливости. В 1964 году Мэри Кинг и Кейзи Хейден написали совместную записку сотрудникам Эс-эн-си-си, посвященную статусу женщин в движении. В Эс-эн-си-си было принято пускать в ход идею таким образом, а затем устраивать собрание и обсуждать ее. Записка представляла собой список собраний, от участия в которых были отстранены женщины, и проектов, при назначении на руководящие роли в которых женщин, очевидно имеющих высокую квалификацию, так сказать, проглядели: «Несомненно, список этот покажется кому-то странным, кому-то — маловажным, а большинству — смешным. Его можно продолжать до тех пор, пока в движении принимают участие женщины. Однако большинство женщин не говорят об инцидентах такого рода, поскольку сама эта тема не подлежит обсуждению...» Записка была анонимной, так как авторы боялись показаться смешными. Боб Мозес и некоторые другие выразили свое восхищение. Джулиан Бонд криво улыбнулся, «однако бросил взгляд в сторону». Но большинство подвергло список осмеянию. Мэри Кинг говорила, что те, кто догадался о ее авторстве, подняли ее на смех. Позже, в одну из лунных ночей, Кинг, Хейден и еще несколько человек сидели вместе со Стоукли Кармайклом. Заядлый комик смешил слушателей, произнося монолог и высмеивая всех и вся. Затем он обратился к собранию, состоявшемуся в тот день, а потом — к записке. Изображая Мэри Кинг, он произнес: «Какую позицию занимают женщины в Эс-эн-си-си?» Сделав паузу, будто в ожидании ответа, он сказал: «А вот какую: лежат ничком». Мэри Кинг и другие согнулись от хохота. С того момента в течение десятилетий эти слова Кармайкла часто цитировались в подтверждение мысли о превосходстве сильного пола в радикальных движениях за гражданские права. Но женщины, услышав их впервые, настаивали, что Кармайкл сказал это нарочно и его слова были восприняты как шутка. В 1965 году они написали другую записку: «Представляется, что можно провести немало параллелей между отношением к неграм и отношением к женщинам в нашем обществе в целом. Но женщины — это в особенности касается тех, с которыми мы говорили, тех, кто участвует в работе движения, — кажутся пойманными в косную систему здравого смысла. Ее воздействие, иногда неуловимое, вынуждает их работать близ тех иерархических властных структур (или за их пределами), откуда их могут выгнать. В ситуациях, связанных с личной жизнью, женщины оказываются в той же позиции, и предполагается, что они будут подчиняться. Это косная система, и хуже всего, что она использует и эксплуатирует женшин». Эта вторая записка, под которой они поставили свои подписи, стала документом, оказавшим существенное влияние на феминистское движение. Однако из сорока чернокожих женщин — активисток борьбы за гражданские права, их товарищей и коллег, — которым записка была послана, не откликнулась ни одна. Члены Эн-оу-дабл-ю, основавшие эту организацию — такие как Фридан; Ист; доктор Кэтрин Кларенбах, педагог из штата Висконсин; Эйлин Хернандес — известный юрист, Кэролайн Дейвис — глава Объединения автомобильных рабочих Детройта, — сделали успешную карьеру. Среди тысячи двухсот сотрудников этой организации в 1968 году было немало юристов, социологов и педагогов. Участвовали в движении и мужчины — около ста (в основном — юристы). Организация надеялась оказать влияние на женщин, не сделавших карьеры — домохозяек и низкооплачиваемых работниц, — однако новая волна, как и антивоенное движение, начала распространяться и среди высокообразованной элиты, отказавшейся от традиционных для общества предрассудков. В 1968 году феминисток по-прежнему воспринимали негативно — как «женщин с проблемами», «у которых что-то не так». Считалось, что феминистки — «сжигательницы лифчиков» — ожесточились против красивых женщин, поскольку сами не могут похвастаться привлекательностью. Однако с этим стереотипом никак не вязалась глава нью-йоркского отделения Эн-оу-дабл-ю, двадцатидевятилетняя незамужняя Ти-Грейс Эткинсон из Луизианы, обладавшая, как говорилось в прессе, не только «привлекательностью», но и, по словам «Нью-Йорктайме», «мягкой сексуальностью». В 1968 году новейшие попытки реформировать институт брака воспринимались основной массой населения как чересчур радикальные. Если женщина, выходя замуж, не брала имени мужа, это по-прежнему считалось проявлением радикального феминизма. Подобно Симоне де Бовуар, французской феминистке, пользовавшейся грандиозной популярностью, которая жила с Сартром, но не была связана с ним узами брака, многие из феминисток 60-х относились к институту брака в лучшем случае с недоверием. Эткинсон говорила: «Институт брака оказывает то же воздействие, что и институт рабства. Он выделяет людей в сходную категорию, рассеивает их, не дает им воспринимать себя как единый класс. Массы рабов также не осознают, в каком положении находятся. Сказать, что женщине дают настоящее счастье дом и дети, столь же неверно, как утверждать, что черные были «счастливы», заботясь о своих хозяевах. Ее бытие определяется ее ролью хранительницы. Роль ее мужа — это роль продуктивная. Мы считаем, что в обществе все его члены должны играть продуктивную роль». Ее собственные взгляды на брак сформировались рано, она вышла замуж в семнадцать лет. Она развелась, получила степень искусствоведа в Пенсильванском университете, стала директором Института современного искусства Филадельфии и защитила диссертацию в Колумбийском университете. Эткинсон говорила, что книга де Бовуар «Второй пол» «изменила ее жизнь». Она написала ей письмо; та посоветовала Эткинсон войти в одну из американских феминистских групп. Так Эткинсон нашла формировавшуюся тогда Эн-оу-дабл-ю. Во Франции, на родине де Бовуар, датой рождения феминистского движения также считается 1968 год. Тем не менее «Второй пол» де Бовуар впервые был издан во Франции в 1949 году и к 1968 году оказал большое влияние на существенную часть целого поколения женщин, дочери которых читали его в то время. В 1968 году активистки создавали группы, оказывавшие давление на правительство с целью легализации абортов и расширения доступа к противозачаточным средствам, которые можно было приобрести только по рецептам. Доктора отказывали женщинам в получении таких рецептов на основании ряда причин, в том числе и произвольно вынося вердикт, что они чересчур молоды. В Германии первые следы феминистского движения также восходят к 1968 году — к Франкфуртской конференции немецкого Эс-дэ-эс, где Хельке Зандер декларировала равенство полов и потребовала при дальнейшем планировании учитывать интересы женщин. Когда конференция отказалась провести полномасштабную дискуссию по предложению Зандер, женщины в ярости начали швырять в мужчин помидорами. Но на самом деле женские группировки были основаны в нескольких городах еще до этого инцидента (первая была создана в Берлине в январе 1968 года). Де Бовуар, чьи длительные и глубокие отношения с Сартром были широко известны, говорила, что людей должна соединять любовь, а не санкция закона. Эткинсон и многие другие американские феминистки в 1968 году считали, что для того, чтобы женщины и мужчины имели одинаковый статус, детей надо воспитывать сообща. Популярным решением вопроса стали коммуны, которые возникали по всей территории США. У некоторых специалистов по проблемам развития детей, изучавших систему кибуцев, существующую в Израиле, сложилось неблагоприятное впечатление. Доктор Сельма Фрейберг из Детской психиатрической больницы при Мичиганском университете сказала в интервью «Нью-Йорктаймс» в 1968 году, что дети, которых она наблюдала, воспитанные в кибуцах, напоминают, как она выразилась, «коробку пресного печенья» — они холодны и недружелюбны. Однако женщины в коммунах начали сожалеть о существовании окостеневшей системы, основанной на разграничении полов, и о том, что женщины вынуждены убирать, пока мужчины размышляют. Американские феминистки 1968 года разделялись на две группы — «политиканов» и «радикалов». «Политиканши» были опытными активистками, многие имели значительный опыт работы в движениях по защите гражданских прав и в среде «новых левых». К этому течению принадлежала Эн-оу-дабл-ю. «Радикалы» включали в себя такие группы, как Радикальная партия женщин Нью-Йорка и близкая ей Чикагская группа. «Радикалки» Нью-Йорка несли ответственность не только за действия во время конкурса «Мисс Америка», но и за более серьезные акции — например «Повышение сознательности». В 1968 году, когда Радикальная партия выступила с подобной концепцией, направленной на привлечение новых сотрудниц в ряды феминистского движения, «политиканши», и в том числе Эн-оу-дабл-ю, сочли эту идею непродуктивной, поскольку она настроит против них мужчин. В ходе подобных мероприятий женщины рассказывали, что они делают, дабы доставить мужчинам удовольствие: совершают глупые поступки, выражают притворное согласие и носят обувь, одежду и белье, которые настолько неудобны, что причиняют боль. Женщины в ходе сессий «Повышение сознательности» приходили к осознанию того, насколько они искажают собственную личность из страха, что мужчины сочтут их подлинную суть непривлекательной. При этом протест против шоу «Мисс Америка» родился не в рамках течения «Повышение сознательности». Франц Фэнон в книге «Отребья Земли» писал о «колонизованном сознании» у жителей колоний: они согласились с тем, что занимают на родине то место, которое занимают, однако их собственная покорность воспринимается ими как нечто естественное. Радикальная партия женщин Нью-Йорка полагала, что мужчины сделали нечто подобное с женщинами. Заставить их задуматься над этим означало превратить феминизм в массовое движение: тогда «Повышение сознательности», казавшееся всего-навсего способом самоисцеления, привлекло бы тысячи женщин в ряды преданных делу феминизма. Они оказались правы, и в течение нескольких лет большинство феминисток приняли «Повышение сознательности» как способ повсеместного привлечения женщин в свои ряды. Примером стал разговор, где женщины публично описывали кошмары незаконных абортов, что внесло большой вклад в изменения законов об искусственном прерывании беременности. В 1968 году, когда было положено начало акциям «Повышения сознательности», у людей был высок уровень сознательности в отношении расовых вопросов (что было порождено борьбой за гражданские права, продолжавшейся более десяти лет), однако они чрезвычайно мало задумывались о гендерных проблемах. В «Душе во льду» Элдридж Кливер подробно описал удовольствие, полученное им от того, что он назвал «актом восстания», — имелось в виду изнасилование белой женщины: «Я был в восторге от того, что оказывал неповиновение закону белого человека, попирал этот закон и систему ценностей и совершал надругательство над его женщиной». В духе того времени в этих словах увидели исповедание расовой ненависти, от которой затем автору суждено было отречься, однако очень мало было сказано об отношении к белой женщине с точки зрения представителя сильного пола: она была просто приложением к «закону». Чарлейн Хантер, товарищ Рассела Сейджа, написавшего о книге Кливера д ля «Нью-Йорк тайме», подчеркнул способность автора выразить горечь, которую испытывает «в этой стране чернокожий», но не сказал ничего о его отношении к женщинам. К 1968 году представления о превосходстве сильного пола, которые шокировали бы современного человека, были чрезвычайно распространены даже в молодежной среде «новых левых». В фильме 1968 года «Барбарелла» с Джейн Фонда в главной роли изображались амазонки в вызывающе коротких одеждах, подчинявшиеся через секс. В «Планете обезьян» женщины не разговаривают и лишены характеров; на них надето весьма немного. Исключение составляют женщины-обезья-ны — возможно, потому, что полуодетые обезьяны никого не интересуют. На следующий год вышел фильм Роберта Олтма-на «МЭИ!» (он был чрезвычайно популярен среди студентов колледжей, поскольку считался антивоенным) с Элиотом Гоулдом и Дональдом Сазерлендом в главных ролях: они играли военных врачей, пьющих мартини и презирающих всякую женщину, которая не спешит лечь с ними в постель. Рок-культура оказалась еще более агрессивной в отношении слабого пола. В книге Эда Сандерса (было объявлено, что это роман) «Над крыльями Господа» женщины, чьих лиц мы не видим и чьи имена остаются нам неизвестны, появляются лишь для того, чтобы предложить для секса то или иное отверстие своего тела мужским персонажам, носяшим такие имена, как Эбби Хоффман и Джерри Рубин. К концу года тенденции, характерные для женской моды, показали, что времена вновь «меняются». В марте в Нью-Йорке возникло движение «Долой дриндл!», против «тех глупых, напоминающих воздушные шары юбок и дриндлз, платьев со старомодной линией талии... Широкие уродливые кушаки посередине платья и пальто делают женщин похожими на бегущих в панике мастодонтов — так было сказано в петиции, под которой стояло шестьдесят шесть подписей, причем среди подписавшихся было 17 мужчин. Движение возглавляла Дона Фоулер Камински, двадцативосьмилетняя выпускница Беркли, приходившая в магазины выразить протест против новой моды, обратившейся от мини-юбок к макси. Участники движения угрожали пикетировать магазины, вооружившись пла-. катами с надписью «Макси — это чудовищно». Ранней весной авторы, писавшие в «Таймс» о моде, предсказывали, что в летний сезон моднее всего будет нагота: прозрачные блузки, под которыми не будет белья, голые животы, глубокие декольте и открытые «прямо до копчика», как указывал «Тайм», спины. Руди Гернрайх, появившаяся в 1964 году на пляже в купальнике топлес, который называли «варварским» в Советском Союзе и запретили даже на юге Франции, теперь предсказывала, что «вид с голой грудью» получит полное признание в ближайшие пять лет. Дизайнер из Чикаго Уолтер Холмс выступил с предложением одеть в мини-юбки монашек, а рясы также сделать короткими и снабдить их отстежными капюшонами, позволяющими показать ворот с глубоким вырезом, хотя мода никогда не рассчитывала на монашек. Однако в конце года, к ужасу многих мужчин, в моду вошел женский брючный костюм. Женщины хотели, чтобы их воспринимали всерьез, хотели конкурировать с мужчинами, а если ты в мини-юбке, то это нелегко. Кое-кто заметил: в обществе с женщинами происходит нечто новое и волнующее, даже если это трудно перевести на язык моды. Иногда казалось, что и несправедливость, и веселье вот-вот закончатся, что 60-е близятся к концу. Уильям Зиннсер писал в журнале «Лайф»: «Городской брючный костюм — это для высокой моды все равно что Ричард Никсон. Он вам не по душе, и вы прогоните его. Вы его не любите, и вы прогоните его второй раз. И все равно он вернется — пусть и слегка изменившимся, — чтобы вновь просить о поддержке. Брючный костюм, как и Никсон, понимает: «Теперь или никогда», — и, боюсь, это «теперь» настало».Глава 19 ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ АЦТЕКИ
История любого народа символична. Это означает, что история, все ее события и их протагонисты указывают на другую, скрытую историю, они суть видимое воплощение тайной реальностиГуставо Диас Ордас был чрезвычайно некрасив. Мексиканцы разделились на два лагеря с точки зрения отношения к своему президенту: одним казалось, что он напоминает летучую мышь, другим — что он больше похож на обезьяну. Его низкий лоб, маленький курносый нос, длинные зубы и очки с толстыми стеклами, увеличивавшие глаза до необычных размеров, — все это давало пищу для подобных рассуждений. «Лагерь обезьяны» дал ему прозвище Эль Чанго (мексиканское название обезьяны), хотя размашистые жесты делали движения его рук похожими на хлопанье крыльев летучей мыши. Ордас был одарен хорошим чувством юмора. Известен был его ответ на обвинение в «двуличии»: «Смешно! Если бы у меня было еще одно лицо, вы думаете, я стал бы им пользоваться?» Кроме того, хотя он и не был слишком искусен в мастерстве оратора, его голос, когда он говорил, звучал сильно и гулко. Это было единственным его достоинством. Однако хороший голос весьма важен для президента Мексики. Мексиканский поэт Октавио Пас писал: «Привыкшие произносить лишь монологи, отравленные величественной риторикой, окутывающей их точно облаком, наши президенты и лидеры считают почти невозможным веру в то, что существуют надежды и мнения, отличающиеся от их собственных». В 1968 году президент Мексики был обеспокоен. Некоторые причины для беспокойства существовали только в его сознании, другие — на самом деле. Весь год почти каждое культурное и спортивное мероприятие срывалось. Зимние Игры в Гренобле (Франция) прошли хорошо, хотя, пожалуй, слишком большое внимание было уделено соревнованию русских и че-Октавио Пас. «Постскриптум*, 1970
EXIGIMOS!DESUNDE DE RESPONSABIUDADES
 «Давайте спросим, кто несет ответственность». Плакат мексиканских студентов 1968 г., изображающий президента Диаса Ордаса в виде обезьяны.
хов. Однако Игры состоялись. Апрельская церемония вручения академических премий была отложена на два дня в связи с трауром после гибели Мартина Лютера Кинга, а затем омрачена политическими событиями. Боб Хоуп, не слишком любимый левыми за девичьи шоу, устраиваемые для войск во Вьетнаме, напугал зрителей шутками насчет отсрочки. Два фильма об отношениях между расами, хотя и на примитивные сюжеты, где дидактика граничила с глупостью — «В сердце ночи» и «Отгадайте, кто придет обедать», — получили награды. Характерная позитивная деталь времени: чешский режиссер Иржи Менжел получил «Оскара» за лучшую картину на иностранном языке (фильм «Подходят поезда»), и ему дали возможность приехать на церемонию награждения. То было в полной мере политическое событие.
Еще хуже, чем политизация, были постоянные срывы. Протестующие закрыли Венецианский бьеннале и кинофестиваль в Каннах, устроили беспорядки на книжной ярмарке во Франкфурте и вдобавок сорвали церемонию «Мисс Америка». Даже победитель дерби в Кентукки был дисквалифицирован за употребление наркотических средств. И конечно, то был год проведения Чикагской конвенции. Ничего подобного не должно было произойти в Мексике.
Диас Ордас, президент Мексики, назначенный руководителем ИРП (Учредительной революционной партии), был наследником революции и хранителем существующего противоречия в названии правящей партии (заметим, сформулированного с осторожностью). В 1910 году Мексика представляла собой лабиринт, где царили политический хаос и социальная несправедливость. Столетия неразумного колониального правления, сменившегося продажной диктатурой и иностранными оккупационными режимами, в итоге вылились в тридцатилетнее правление одного человека. То был знакомый образец. После хаоса, длившегося много лет, диктатор Порфирио Диас предложил стабильность. Однако к 1910 году ему исполнилось восемьдесят лет, и он не предпринял ничего, чтобы обеспечить себе преемника или создать какие бы то ни было институты, которые продолжат его дело. Политических партий не существовало; никакой идеологии Диас не предлагал. Мексика была раздроблена: существовали различные культуры, этнические группы и общественные классы, причем у каждого были свои нужды и требования, и различия между ними доходили до глубокого драматизма. Когда в стране произошел взрыв, названный Мексиканской революцией, то началась бесконечная цепь в высшей степени разрушительных гражданский войн, причем большая часть из них имела местные корни. В них участвовало множество лидеров и множество армий. Однако с тем же самым столкнулся в Мексике Эрнан Кортес в начале шестнадцатого века. Управление в ацтекских племенах осуществлялось коалицией лидеров из различных групп. Кортес сокрушил ацтеков, разделив коалицию и обеспечив лояльность некоторых лидеров. Вот как велась политическая игра в Мексике.
Франсиско Мадейро, предприниматель с Севера, возглавлял одну из фракций. Он привлекал мексиканцев — представителей высшего, среднего и рабочего классов — умеренной политической программой. На Севере тон задавали крепкие парни, разъезжавшие на лошадях, — партизаны, бандиты, участвовавшие в деле революции, иногда в качестве наемников. Наиболее выдающимся из них был Панчо Вилья. Вилья был единственным из революционно настроенных лидеров, которому удалось снискать благожелательные отзывы американской прессы. Даже Мадейро подвергался резкой критике за свое предложение снизить налог на мексиканскую нефть, контролировавшуюся и вывозившуюся в США американскими нефтяными компаниями. Но Панчо Вилье «антиамериканизм», в котором Вашингтон подозревал всех остальных, почти не был свойствен. Он лично изнасиловал сотни женщин, убивал из прихоти; он был расистом, уничтожавшим китайцев всякий раз, когда находил их на рудниках, где те работали. Его помощники были еще более отъявленными убийцами и садистами и изобретали всевозможные пытки. Но генерал Вилья не питал антиамериканских настроений. Американцы снабжали его оружием и снаряжением. Под его началом действовало десять тысяч человек, преимущественно в северном округе Чиуауа. Они грабили, совершали набеги, творили что хотели и однажды даже одержали эффектную военную победу при Сакатекас, сражаясь за дело революции.
В центральной области страны, Морелос, действовал Эми-лиано Сапата, не пытавшийся объединяться с другими лидерами, несмотря на то что все они были метисами (в их жилах текла смесь европейской и индейской крови). Сапата, человек с большими печальными глазами, возглавлял крестьянское восстание в горных областях в центре страны. Его последователями были мексиканцы-земледельцы, как метисы, так и представители племен, не говорящих по-испански (их до сих пор немало в Мексике), сражавшиеся за землю. Он поставил перед собой цель отобрать пахотную землю в Мексике у богатых землевладельцев и распределить ее поровну между крестьянами. Он и его сторонники собирались вести борьбу до тех пор, пока фермеры не получат свою землю.
Борьба продолжалась и после того, как Мадейро стал президентом (1911), и он был бессилен остановить ее. Мадейро, к которому Сапата питал большую симпатию, принадлежал к «неправильному» классу. Он имел крупное поместье на Севере, и в его окружении были и другие фигуры, заинтересованные в процветании богатых (например Венуситано Карранса). Его беспокоило то, что Сапата пытается превратить Революцию в революцию. Мадейро не мог отдать Сапате свои земли и в то же время не мог подкупить бандитов — «генералов» на Севере. У президента не было достаточной суммы для того, чтобы те сочли мир выгодным для себя. Подобно многим участникам революции, Мадейро был убит ее сторонниками.
К концу 1914 года объединенные силы революционных армий Каррансы, Панчо Вильи и Сапаты установили контроль над Мексикой и нанесли поражение силам правительственной армии, которые еще оставались у Порфирио Диаса. Сапата и Вилья двинули свои армии на столицу, в то время как было сформировано новое революционное правительство. Карранса провозгласил себя президентом и с неохотой и под большим давлением принял программу Сапаты, касавшуюся земельных реформ, хотя сделал очень мало для того, чтобы претворить ее в жизнь.
Альваро Обрегон, носивший подобно многим ведущим фигурам того периода звание генерала, был школьным учителем из северного округа Сонора. Он начал военные действия вместе с партизанами, однако усвоил науку о современном ведении войны и преимуществах, которые дают пулеметы и траншеи. У него были военные советники, прошедшие «Великую войну» в Европе. Его политика, оказавшая огромное влияние на формирование современной Мексики, отличалась умеренностью, и этот принцип невозможно было поколебать. Он симпатизировал рабочим и крестьянам, однако никогда не совершал ничего «слишком революционного». Он пользовался значительной поддержкой рабочих и включил их в армию под названием Красных батальонов. В апреле 1915 года Вилья вступил с Обрегоном в решающую схватку: последний окружил конный отряд бандитов колючей проволокой и траншеями с пулеметными гнездами. Вилья эффективно использовал свою полевую артиллерию и сражался яростно, однако он никогда не понимал преимуществ современной тактики. Самому 06-регону оторвало руку, и эта оторванная часть тела в банке с рассолом стала эмблемой Красных батальонов Обрегона, позднее преобразованных в Мексиканскую революционную армию, — предполагалось, что то будет народная армия, воплощение революционного идеала.
Сапата остался верен своей цели — проведению земельной реформы. Местных лидеров, проявлявших подобную несговорчивость, обычно можно было подкупить. Но Сапата не брал денег и не шел на компромисс. В его организацию проник двойной агент, которому было разрешено совершить несколько вероломных нападений, убив при этом множество солдат, чтобы доказать Сапате свою «подлинность». Когда тот поверил ему, агент привел Сапату — выглядевшего, как всегда, великолепно в черной одежде и восседавшего на гнедой лошади — под дула шестисот армейских винтовок, не замедливших открыть огонь. Погибший революционер стал для своего времени фигурой наподобие Че — молодо выглядящего парня, чей образ попал на плакаты и был использован правительством, которое предпочло убить его, нежели воплотить в жизнь его революционные идеи.
Убийства в Мексике продолжались. Их было столько, что с 1910-го по 1920 год население страны уменьшилось на несколько сотен тысяч человек. В ноябре 1920-го однорукий Обрегон стал президентом. Он узаконил все имевшие место конфискации земель, сделав то, что отказался сделать Карранса. Этот шаг, вкупе с поимкой человека, организовавшего убийство Сапаты, позволил ему наконец заключить мир с войсками Сапаты в провинции Морелос, хотя большая часть земель досталась генералам, а бедняки получили лишь небольшие участки. Вилья был куплен и согласился провести остаток своих дней с комфортом в качестве хозяина поместья. Однако в 1923 году друзья и члены семей тех, кого он убивал и насиловал много лет, застрелили его, когда он проезжал в своем новом автомобиле.
Некоторых можно было купить, а некоторых надо было убить. Именно таким путем стали действовать в Мексике. «Никакой генерал не сможет выдержать канонаду в сто тысяч песо», — сказал однажды Обрегон. К1924 году четверть национального бюджета уходила на выплаты генералам. Однако многие другие «генералы», местные предводители, были уничтожены вместе с вооруженными бандами своих последователей.
Система, которую установило правительство (в ее основу легла Конституция 1917 года), имела своей первоочередной целью не демократию, но стабильность. В 1928 году Мексика едва не соскользнула вновь в пучину революции. Обрегон выдвинул свою кандидатуру на безальтернативных выборах и выиграл «гонку». Он стал бы диктатором, если бы не артист, который, исполняя в скетче роль президента, выхватил пистолет и застрелил его. Убийца был немедленно схвачен и растерзан.
Казалось, что смена президентов всегда будет угрожать национальной стабильности. Решением этой проблемы для Мексики стала НРП (Национальная революционная партия), сформированная в 1929 году. С помощью этого института квалифицированный кандидат в президенты мог быть избран и представлен общественности. В течение шести лет президент пользовался почти неограниченной властью. Но он не имел права отдавать территорию другому государству, конфисковать землю у коренных жителей и переизбираться на второй срок. Во время Второй мировой войны, желая выглядеть более стабильно и демократично, НРП изменила свое название, благодаря чему и возник уникальный мексиканский парадокс: она стала именоваться Институционной революционной партией (ИРП).
Именно такой и стала Мексика. То была не демократия, но «учредительная»... революция, боявшаяся революционных изменений. ИРП подкупала или убивала лидеров-аграриев, на словах восхваляя Сапату, проводила как можно меньше реформ. Она подкупала профсоюзы, пока они не стали частью ИРП. Она подкупала прессу, подкупая газеты одну за другой, пока не установила над ней полный контроль. ИРП не применяла насилия. Она пыталась действовать методами кооптации. Лишь в тех редких ситуациях, когда они не срабатывали, она прибегала к убийству.
В 1964 году ИРП выбрала бывшего министра внутренних дел Густаво Диаса Ордаса следующим президентом. Из всех возможных кандидатов он придерживался наиболее консервативных взглядов. Занимая пост министра внутренних дел, он сумел установить необычайно хорошие отношения с США. Казалось, что он будет наилучшим из возможных руководителей страны в течение опасных 60-х.
Диас Ордас очень хотел показать положительные черты Мексики. То был один из лучших моментов с точки зрения экономического развития: ежегодный прирост национального дохода колебался между 5% и 6%, а в 1967 году он составил даже 7%. В январе 1968 года «Нью-Йорк тайме» сообщала: «Постоянный экономический рост в рамках политической и финансовой стабильности выделил Мексику среди главных стран Латинской Америки». Из слов Октавио Паса, писавшего об этом периоде, возникает ощущение скептицизма по отношению к происходящему: «Экономика страны достигла такого прогресса, что экономисты и социологи упоминали Мексику в качестве примера для других слаборазвитых стран».
Летние Олимпийские игры 1968 года явились первым большим международным событием, которое должно было состояться в Мексике начиная с 1910 года. Тогда, в преддверии краха тридцатилетней диктатуры, Порфирио Диас попытался устроить международное празднование столетия движения за независимость. Во время Олимпийских игр 1968 года Мексиканская революция должна была впервые явить себя миру, показав все свои достижения, включая сформировавшийся средний класс, современную застройку Мехико и тот высокий уровень организации международного события столь гигантских масштабов, на который была способна Мексика. Весь мир должен был увидеть по телевидению, что Мексика более не отсталая страна, раздираемая междуусобной борьбой: она стала процветающей, успешно развивающейся, современной.
Но Диас Ордас также понимал, что на дворе 1968 год и могут возникнуть сложности. Наиболее явное противоречие, различимое, так сказать, на горизонте — а именно конфликты в США на национальной почве, — могло привести к политизации Игр, так же как убийство Кинга привело к политизации «Оскара». Мысль о бойкоте Олимпийских игр со стороны черных впервые возникла на встрече лидеров движения «Власть черных» в Ньюарке после беспорядков, имевших место в этом городе в то лето. В ноябре Гарри Эдвардс, чернокожий — добродушный и популярный преподаватель социологии в государственном колледже Сан-Хосе в Калифорнии, — вновь поднял эту идею на конференции чернокожей молодежи. Большинство спортсменов и чернокожих лидеров не думали, что бойкот черных будет эффективен, но одним из первых последователей идеи Эдвардса стал Томми Смит, студент Государственного колледжа Сан-Хосе и выдающийся спортсмен, уже установивший два мировых рекорда по легкой атлетике. Ли Эванс, чемпион-спринтер, также студент колледжа Сан-Хосе, заявил, что будет участвовать в бойкоте. В феврале Международный олимпийский комитет вдохнул новую жизнь в идею бойкота: взамен нескольких знаковых жестов он не допустил к участию в Играх команду из ЮАР, где господствовал режим апартеида.
Гарри Эдвардс, двадцатипятилетний бородач ростом шесть футов, носивший солнечные очки и черный берет, прежде был одним из лучших спортсменов колледжа и настаивал на том, чтобы к президенту США обращались «Линчинг Джонсон»*. Из своего штаба по проведению бойкота, располагавшегося в Сан-Хосе, он интересовался не только Олимпийскими играми, но также и бойкотированием программ в колледжах и на производстве. В 1968 году, однако, главную цель для него представлял собой Мехико. Плакат на стене его комнаты гласил: «Чем бегать и прыгать за медали, лучше постоим за гуманность». Стену также украшал портрет «Негр — изменник недели» — изображение почитаемого чернокожего спортсмена, противника бойкота. Среди тех, кто удостоился этой «чести», были бейсболист Уилли Мейс, легкоатлет Джесс Оуэнс и чемпион по десятиборью Рэфтер Джонсон. Джонсону предлагали бойкотировать Игры 1960 года, Дик Грегори призывал к бойкоту в 1964-м, но на этот раз с помощью штаба Гарри Эдвардса идея, казалось, набрала силу.
В марте журнал «Лайф» опубликовал список десяти лучших чернокожих спортсменов-студентов и, к своему удивлению, выявил широко распространенное убеждение: стоит отказаться от возможности завоевать олимпийскую медаль ради улучшения условий жизни людей своей расы. «Лайф» также обнаружил, что чернокожие спортсмены возмущены тем, как с ними обращаются в американских университетах. Спортсменов обещали обеспечить жильем, однако не оказывали никакой помощи, когда они сталкивались с дискриминацией при получении квартир. В колледже Сан-Хосе белые спортсмены получали поддержку спортивного управления через студенческие организации, куда черных не принимали. Среди инструкторов по спортивным программам на сто пятьдесят ведущих университетов приходилось всего семь чернокожих преподавателей. Белые инструкторы обучали чернокожих студентов в раздевалках или на ходу, на улице. Консультанты по учебе постоянно советовали им выбирать себе специальные курсы пониженной сложности для успешной сдачи экзаменов. И кроме того, они обнаружили, что никто из сотрудников факультета и студентов никогда не разговаривает с ними ни о чем другом, кроме спорта.
В начале года, после успешно прошедшей зимней Олимпиады, Международный олимпийский комитет все-таки вынес решение о том, чтобы допустить к Играм Южно-Африканскую Республику. Его сотрудники еще не понимали, каким будет 1968 год. Весной мексиканцы, предчувствуя катастрофу, обратились в комитет с просьбой пересмотреть свое решение, учитывая, что Играм угрожал бойкот со стороны более чем сорока команд. Комитет выполнил просьбу, вновь наложив запрет на участие Южной Африки. Это заставило некоторых чернокожих американских спортсменов, в том числе Смита и Эванса, заявить, что они подумают, выступать ли им в Мексике. Американцы отчаянно пытались избежать бойкота черных, поскольку команда США по легкой атлетике, имея столь высокий потенциал, могла оказаться лучшей в истории Америки и, возможно, в истории современного спорта. В конце лета Эдвардс сообщил «Черным пантерам», что бойкот Олимпийских игр отозван, однако атлеты будут носить на руках черные повязки и откажутся принять участие в церемониях награждения. К сентябрю мексиканское правительство имело все основания надеяться, что Олимпийские игры пройдут исключительно успешно.
Мексиканское правительство не считало себя диктатурой, так как президент, несмотря на свою абсолютную власть, должен был уйти по окончании срока правления. «Порфириато», как называли тридцатилетнее правление Порфирио Диаса, более было невозможно. Правительство шло навстречу нуждам народа. Если рабочим нужны были профсоюзы, ИРП «обеспечивала» их профсоюзами. Мексиканцы, желавшие преобразовать жизнь так, чтобы она стала лучше, должны были вступать в ИРП. Лишь члены ИРП могли быть участниками этих Игр. Даже три сына Эмилиано Сапаты, один из которых унаследовал эффектную внешность отца, работали на ИРП. В Мексике до сих пор происходили столкновения ИРП с людьми, подобными Вилье, которых можно было купить, так же как и с несколькими последователями Сапаты, слишком упрямыми, чтобы их можно было привлечь к сотрудничеству, — теми, кого надо было либо упрятать в тюрьму на неопределенный срок, либо убить. Крестьяне, поняв, что революция не выполнила своего обещания относительно земли, начали вступать в крестьянские организации, которые сплошь находились под контролем ИРП. Время от времени возникали новые организации, имевшие целью представлять интересы крестьян. Их руководителей ждала та же судьба: быть купленными или убитыми; то же касалось новых лидеров организаций трудящихся и молодых журналистов.
В то время как экономика год за годом переживала рост, казавшийся чудом, усиливалось подозрение, что это новое богатство распределяется чрезвычайно несправедливо. В 1960 году Ифигения Мартинес, исследовательница, работавшая в экономическом институте, выполнила работу по этой проблеме и показала, что около 78% чистого дохода в Мексике попадает в руки всего 10% населения, составляющих верхушку общества. Никто прежде никогда не проводил научных исследований на эту тему, и результаты показались столь невероятными, что другие организации, в частности Банк Мехико, провели повторные изыскания, однако пришли к тем же выводам.
Подобные исследования лишь объясняли с точки зрения статистики очевидный феномен: в быстро растущей и развивающейся Мексике многие жители несчастливы. С конца 50-х годов началось возникновение движений протеста. Сформировалось крестьянское движение, протестовал профсоюз учителей, прошла забастовка врачей, работавших в системе общественной безопасности, а в 1958 году — забастовка железнодорожников. Все эти движения быстро уничтожили: всех «кооптировали», отправили в тюрьму или убили. Десятилетие спустя после забастовки на железных дорогах ее руководитель, Демет-рио Вальехо Мартинес, по-прежнему находился в тюрьме.
И все же в 1968 году, в преддверии Олимпийских игр, существовала единственная группа, которую не контролировала ИРП: студенты. Причиной было то, что студенты были новым явлением для Мексики в качестве политической силы. Формирование студенчества стало результатом скачка в экономическом развитии страны. После Второй мировой войны темпы роста населения в Мексике ускорились. К 1968 году Мехико был одним из наиболее быстро растущих городов мира: его население увеличивалось примерно на 3% ежегодно. Весьма значительную часть населения Мексики, и особенно Мехико (что типично для пирамидообразных демографических структур быстроразвивающихся стран), составляла молодежь. А по мере роста среднего класса в Мексике стало больше студентов, причем многие из них учились в переполненном Национальном автономном университете (УНАМ), а также в Национальном политехническом институте, и жили в обширных новых кампусах, расположенных в современных районах столицы, поглощавших каждый год новые территории, милю за милей.
Эти студенты, как и их товарищи во Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенных Штатах и множестве иных мест, острейшим образом ощущали, что живут в значительно более комфортных с точки зрения экономики условиях, нежели их родители. Молодых мексиканцев также беспокоило и то, что они пользуются благами экономического роста, которые многим недоступны.
Роберто Эскудейро, ставший в 1968 году одним из студенческих лидеров, говорил: «Между нашим поколением и поколением наших родителей огромная разница. Они были настроены очень традиционно. Они получали различные блага от Мексиканской революции, и их героями были Сапата и другие деятели революционных времен. Для нас они тоже были героями, но у нас также были Че и Фидель. Мы видели в ИРП в значительной степени авторитарную силу, а они воспринимали ее как революционно-освободительную».
Сальвадор Мартинес де ла Роса (все знали его как Пино), невысокий светловолосый юноша, похожий на растрепанного воробья, в 1968 году также был лидером студенческого движения. Он родился в 1945 году и в 1968-м изучал ядерную физику в УНАМ. Пино был «нортеньо», то есть происходил из северных областей Мексики, откуда ближе до Соединенных Штатов и где культурное влияние Америки ощущается значительно сильнее. «В 50-е нам нравился Марлон Брандо в «Дикаре» и Джеймс Дин в «Бунте без причин», — вспоминал он. — Мы гораздо больше интересовались американской культурой, чем наши родители. В 50-е студенты носили рубашки и галстуки. Мы же ходили в джинсах и рубашках, напоминающих по стилю одежду туземцев».
В университетские годы расширился кругозор Пино. «В Китайском клубе университета показывали французские фильмы, которые в Мексике нельзя было увидеть больше нигде. Тогда я впервые увидел фильм о лесбиянках — «Легкий наездник». То был целый бунт в культуре. Мы любили Элдриджа Кливера и Мухаммеда Али, Анджелу Дэвис, Джоан Баез,Пита Сигера», — рассказывал он. Песни движения за гражданские права, такие как «Все преодолеем», были хорошо известны, и Мартин Лютер Кинг, особенно после смерти, занял в студенческом пантеоне УНАМ место среди героев рядом с Че и Сапатой. «Черные пантеры» также пользовались в УНАМ некоторой популярностью. Но, как рассказывал Мартинес де ла Роса, «наиболее важна была Кубинская революция. Книгу Режи Дебре «Революция в революции» мы прочли все».
До знаменитых событий 1968 года в УНАМ прошло немало забастовок и маршей. В 1965 году студенты поддержали забастовку врачей, требовавших увеличения зарплаты, а в 1966-м три месяца бастовали против авторитарного ректора, Игнасио Чавеса. В марте 1968 года, после грандиозных маршей в Европе, в Мехико также состоялся марш протеста против войны во Вьетнаме. Но по сравнению с движениями в США, Европе или Японии мексиканское студенческое движение было весьма малочисленным: оно насчитывало всего несколько сот участников.
В 1968 году скромное студенческое движение впервые сделалось объектом внимания мексиканского правительства, не желавшего никаких проблем во время Олимпиады. К тому же президенту Густаво Диасу Ордасу было трудно поверить в то, что движения протеста распространяются по всему миру сами по себе, без помощи организаторов, так сказать, по волнам телеэфира. Он был убежден в существовании международного заговора революционеров, переезжавших из страны в страну, везде распространявших хаос и устраивавших перевороты. Ключевую роль в этом заговоре, очевидно, играли кубинцы. Поэтому в то время как мексиканское правительство отказалось поддержать наложенное Соединенными Штатами эмбарго и открыто помогало Кубе, в действительности президент испытывал параноидальный страх по отношению к кубинцам и тщательно контролировал авиаперелеты на остров, сохраняя и изучая списки пассажиров. Публично отказавшись наложить эмбарго на Кубу, он в то же время не разрешал Мексике вести торговлю с островом и консультировался с американской разведкой относительно «кубинской угрозы». В бытность свою министром внутренних дел Диас Ордас поддерживал тесные отношения с ЦРУ и ФБР. Политика, проводившаяся Мексикой по отношению к США, основывалась на противоречии между публичными утверждениями и частным общением. Точно так же в 1916 году Карранса притворялся, будто является противником интервенции США, а на самом деле подталкивал американского президента Вудро Вильсона к тому, чтобы послать в Мексику войска и атаковать беспокойного Панчо Вилью.
Лекамберри, черный замок в пригороде Мехико, напоминает Бастилию и действительно является выстроенной во французском стиле тюрьмой с круглым внутренним двориком и рядами камер, расположенных одна над другой. В 1968 году то была печально знаменитая тюрьма, куда сажали «политических». Сегодня в Лекамберри помещается Национальный архив, где хранятся документы, представлявшие собой в 1968 году государственную тайну. Решетки заменили на большие окна и уложили хорошо отполированный деревянный паркет. Тесные камеры размером четырнадцать на шесть футов заполнены папками, которые, очевидно, были основательно подчищены. Но все же Лекамберри рисует картину паранойи в масштабе государства, которой было охвачено правительство Диаса Ордаса.
Министерство внутренних дел располагало богатой информацией. Каждая студенческая организация, даже если в ней было всего двадцать человек, включала в себя минимум одного доносчика. Он составлял скучные детальные отчеты о собраниях, на которых ничего не происходило. Коммунисты всякого рода представляли особый интерес, и еще более пристальное внимание уделялось иностранцам, общавшимся с мексиканскими коммунистами. Правительство получало детальные сообщения о том, кто пел кубинские песни, кто предложил установить вьетнамскую скульптуру и кто поддержал предложение, кто летал в Гавану, особенно в период, близкий к 26 июля, когда на Кубе ежегодно отмечалась дата первого восстания Кастро. Те, кто принимал участие в чествовании Хосе Марти, также были взяты на заметку, несмотря на то что сочинения отца кубинской независимости вызывали восхищение как у сторонников, так и у противников Кастро.
Другой напастью, неотступно мучившей Диаса Ордаса, оказались французы. Мексиканские студенты были очарованы майскими событиями во Франции, причем значительно больше, чем следовало бы. Хотя движения в Америке, Германии, многих других странах начались раньше, демонстрировали большую стойкость, были лучше организованы и оказали значительное влияние, для многих студентов-мексиканцев май в Париже являлся подлинным событием 1968 года.
Отчасти это могло объясняться представлением, восходившим еще к девятнадцатому веку, но прочно державшимся в Мексике, о Франции как мировой имперской державе. Короткое время Франция управляла Мексикой. В 1968 году высшее образование, полученное во Франции, по-прежнему считалось в Мексике наиболее престижным, а Сартр воспринимался как главный интеллектуал. Лоренсо Мейер, выдающийся мексиканский историк, работавший в «Коллегио де Мехико», сам бывший выпускником Чикагского университета, говорил об этой давней франкофилии: «Я думаю, это вызвано инерцией... это нечто, тянущееся из прошлого».
Но и восхищение студентов, и страх президента перед французским студенческим движением также основывались на мифе о том, что парижские студенты могли объединиться с рабочими и вместе овладеть страной. 31 марта Троцкистская революционная рабочая партия в Мехико призвала студентов и рабочих провести митинг, «дабы совершить то, что было сделано во Франции» и «использовать в Мексике опыт Франции». 4 июня в школе политических и общественных наук УНАМ появилась газета Мексиканской секции VI Интернационала Троцкистской революционной рабочей партии, содержавшая призыв: «Все рабочие структуры должны оказать поддержку революционному движению Франции для создания нового рабочего государства. Французская коммунистическая партия и профсоюз, продажные предатели по отношению к революционному движению во Франции, обратились с просьбой к руководству движения во Франции, а также к рабочим, крестьянам и студентам выступить против капитализма. Это французское революционное движение — мощный удар по наследию Французской коммунистической партии и мировой бюрократии». 24 июля экономическая школа УНАМ организовала встречу с двумя французскими студентами из Нантера — Дени Декреаи и Дидье Квеша.
Обо всем этом в министерство внутренних дел сообщали информаторы, бывшие участниками этих крохотных студенческих групп левого толка и состоявшие на службе у правительства. Намерение радикально настроенных студентов объединить силы с рабочими, подобно тому как, по их мнению, сделали французские студенты (опасная идея, считала большая часть политического истеблишмента!), виделось особенно грозным руководству ИРП. Ведь именно ИРП предложила объединить различные элементы общества, а затем установить контроль над их взаимосвязями. Вот как мыслилось функционирование системы.
Правительству стало известно, что 18 июля группа студен-тов-коммунистов решила устроить собрание и обсудить возможность студенческой голодовки в поддержку Деметрио Вальехо Мартинеса, находившегося в тюрьме с того момента, как в 1958 году он возглавил забастовку железнодорожников. Он был одним из наиболее известных политзаключенных. В действительности студенты так и не провели эту акцию, но Вальехо Мартинес сам начал голодовку — ничего не ел, кроме подслащенного лаймового сока, до тех пор, пока 6 августа у него не произошел коллапс. В результате он был помещен в больницу, где его стали кормить через трубку.
По иронии судьбы единственная серьезная попытка организовать акцию с участием мексиканских студентов в поддержку французских провалилась из-за недостатка интереса к ней. В конце мая Хосе Ревуэльтас, хорошо известный писатель-коммунист и лауреат Национальной премии Мексики политературе, в помещении философской школы, которое называли «аудитория Че Гевары», беседовал с группой студентов о проведении шествия в поддержку французов. Однако планы были перенесены на июнь, а к июлю мексиканские студенты почувствовали, что у них слишком много своих проблем. «В конце концов, — сказал Роберто Эскудейро, — у них погиб только один человек, и то случайно».
Что касается президента, то все это он воспринимал как свидетельства мирового заговора французских и кубинских радикалов, имеющего целью повсюду посеять смуту. Они успешно занимались этим весь год, и теперь, когда подошло время Олимпийских игр, смута достигла Мексики! В материалах министерства внутренних дел неоднократно отмечалось, что студенческие брошюры часто оканчивались фразой: «Viva los movimientos estudiantiles de todo el mundo!» — «Да здравствуют студенческие движения всего мира!»
Эти маленькие студенческие группы вкупе с мировыми событиями пробудили в сознании президента особого рода мексиканскую ксенофобию, восходящую еще к опыту ацтеков, — боязнь иностранного заговора, который надлежало раскрыть и искоренить. Министерство внутренних дел тщательно присматривалось к американским студентам, прибывавшим в Мексику летом (поскольку в это время занятия в Мексике продолжаются). Они также приглядывались ко многим мексиканцам, посещавшим Беркли и другие университеты в Калифорнии и прибывшим домой на лето. И действительно, эти мексиканские студенты из Калифорнии оказывали существенное влияние на мексиканское студенческое движение. Роберто Родригес Баньос, бывший в 1968 году главой национального отделения АМЕКС, первого агентства новостей в Мексике (возникшего для создания альтернативы «Новостям», проходившим государственный контроль), рассказывал: «В 1968 году мексиканские студенты с упоением читали о событиях в Париже, Чехословакии, Беркли, Колумбийском и других американских университетах. Со времени беспорядков в Уоттсе, имевших место летом 1965 года, большинство мексиканцев были убеждены, что США находятся в состоянии гражданской войны. Они наблюдали по телевидению пожары в гигантском американском квартале большого города. Правительство также видело, что произошло во Франции, Чехословакии и Соединенных Штатах, и было убеждено, что мир дестабилизирован. В студенческом движении правительство видело те же внешние силы, нацеленные на дестабилизацию Мексики».
Мексика была одной из немногих стран в мире, которая не осудила вторжение СССР в Чехословакию. ИРП более не приветствовала никаких революций. Правительство было готово пойти на все, чтобы революция не пришла в Мексику. Тревогу у него вызывали Куба и Советский Союз, Гватемала и Белиз, расположенные к югу от Мексики. Беспокойство относительно Белиза означало, что правительство также тревожит Великобритания, поскольку там по-прежнему располагались ее военные базы. Знаменитое высказывание Порфирио Диаса звучало так: «Бедная Мексика, Бог так далеко от тебя, а Соединенные Штаты — так близко». Но теперь мир становился все меньше. С точки зрения Диаса Ордаса, надо было перефразировать как «Бедная Мексика, Бог так далеко от тебя, а все остальные — так близко».
ИРП также испытывала затруднения и потому, что было непонятно, как удерживать контроль над студентами, которые не нуждаются в пище, земле, работе и деньгах. ИРП могла создавать студенческие организации наподобие учрежденных профсоюзов рабочих, групп журналистов и организации сторонников земельной реформы, но у студентов не было стимула вступать в студенческие организации ИРП. Студенческие лидеры были вожаками лишь благодаря ежедневной поддержке своих товарищей-учащихся. Если бы лидер стал «сотрудничать» с ИРП, он бы перестал быть лидером. Лоренсо Мейер говорил: «Студенты были свободны настолько, насколько можно было быть свободным в том обществе».
К лету растущая озабоченность правительства стала очевидной. Аллена Гинзберга, предпринявшего с семьей поездку в Мексику, перед тем как отправиться в Чикаго, остановили на границе и сообщили, что он должен сбрить бороду, если хочет попасть в страну. Всего за несколько месяцев до этого
Диас Ордас (в тот бурный год его слова звучали как речь умиротворителя, придерживающегося умеренных взглядов) говорил, выступая перед мексиканской прессой: «Каждый может отращивать бороду, волосы или бакенбарды, как ему угодно, и может одеваться хорошо или плохо, как считает нужным...»
Если бы все студенческие движения 1968 года устроили состязание для выявления, начало какого из них выглядело наиболее безобидно, выиграть это состязание было бы трудно, но у мексиканского студенческого движения был бы отличный шанс занять первое место. До 22 июля оно было малочисленным и разобщенным. Подготовка Олимпийских игр успешно развивалась по намеченному плану. Из шестнадцати стран прибыло восемнадцать скульпторов (среди них — Александр Калдер и Генри Мур), чьи работы должны были установить в городе. Скульптуру Калдера, выполненную из стали и весившую семьдесят тонн, предполагалось установить перед новым стадионом «Ацтека». Другие были размещены вдоль «Дороги дружбы», ведущей к Олимпийской деревне. Оскар Уррита, руководивший культурной программой, объявив это все прессе, процитировал старинное мексиканское стихотворение, которое оканчивалось такими словами: «И еще сильнее люблю я своего брата-человека». Такова должна былабыть, если можно так выразиться, тема Игр.
Событием, произошедшем 22 июля, стала драка между двумя соперничавшими средними школами. Никто до сих пор точно не знает, что ее вызвало. Эти две группы уже давно конкурировали между собой; возможно, в события также были вовлечены две местные банды: «Спайдерз» и «Сьюдаде-ланз». Драка переместилась на Пласа де Сьюдадела — один из важнейших торговых центров города. На следующий день две банды напали на студентов, но те не ответили. Полиция и специальные «миротворческие» силы находились здесь же. Вначале они только наблюдали за происходящим, но затем начали провоцировать студентов и бросать гранаты со слезоточивым газом. Военные стали преследовать студентов по всему кварталу, избивая их. Это неистовство продолжалось три часа; двенадцать студентов было арестовано. Многих учащихся и преподавателей избили. Причины нападения остались неизвестны.
Так студенческое движение внезапно получило повод к активности, вызвавший отклик у мексиканской общественности. Следующий шаг был предпринят тремя днями позже. Группа студентов решила провести марш с требованиями освобождения арестованных учащихся и протестами против насилия. Вплоть до этого момента все акции протеста студентов проводились в защиту активистов более ранних движений, например того, которое организовало стачку железнодорожников. До этого никто из них не сидел в тюрьме. В отличие от других демонстраций эта собрала значительно больше участников.
Судьба любит дразнить параноиков. Случилось так, что демонстрация пришлась на 26 июля, и студенческий марш по центру города слился с ежегодной демонстрацией сторонников Фиделя. Это объединенное шествие было самым большим, которое когда-либо видело мексиканское правительство. Армия преградила демонстрантам путь и оттеснила их на боковые улицы, где некоторые из протестующих стали бросать в солдат камни. При этом демонстранты, бросавшие камни, были незнакомы студентам, а камни они находили в мусорных ящиках, что было любопытно, поскольку в мусорных контейнерах в центре Мехико камней обычно не бывает. Бои продолжались день заднем. Автобусы подвергались реквизиции; пассажиров заставляли выйти, после чего автобусы подгоняли к стенам и открывали огонь.
Студенты заявили, что этот и другие акты насилия были разработаны военной разведкой для оправдания жестоких ответных действий полицейских (это обвинение нашло широкое подтверждение в документах, ставших доступными в 1999 году). Правительство возлагало ответственность за насильственные действия на молодых членов Коммунистической партии. К концу месяца один студент погиб, сотням были нанесены увечья и неизвестно сколько было брошено в тюрьмы.
Каждое выступление являлось поводом для следующего: чем больше становилось раненых и заключенных, тем больше студентов выходило на демонстрации против жестокости правительства.
В начале августа студенты организовали Национальный совет по забастовкам (Эсе-энэ-аче), куда вошли представители различных учебных заведений Мехико. Совет был сугубо демократической организацией (этим он отличался от других общественных организаций Мексики, но весьма напоминал Эс-ди-эс, Эс-эн-си-си и столь многие другие организации протеста). Студенты выбирали делегатов, и Эсе-энэ-аче решал все вопросы посредством голосования этих трехсот человек. Роберто Эскудейро оказался самым старшим из них (его выдвинули аспиранты философского факультета, где он изучал марксизм). Он рассказывал: «В Эсе-энэ-аче споры на идеологические темы могли продолжаться десять — двенадцать часов. Вот пример. Правительство предложило вступить в диалог. Эсе-энэ-аче заявил, что диалог должен быть публичным — ведь совет контролировал всю информацию, не являвшуюся общедоступной. Это было одной из проблем, так как правительство хотело сохранить все в тайне. Тогда правительство призвало обсудить саму идею диалога. Эсе-энэ-аче провели десятичасовые дебаты по вопросу, был ли этот телефонный звонок насилием над их принципом проводить лишь публичные диалоги».
Подобно польским студентам четырьмя месяцами ранее мексиканские студенты-демонстранты несли плакаты, протестуя против полного совпадения взглядов прессы и правительства, однако у них не имелось способа распространять среди широкой общественности правдивую информацию о происходящем. Поэтому в ответ на тот факт, что ИРП контролировала все новостные каналы, они создали бригады, по шесть — пятнадцать человек в каждой, и назвали их в честь какого-либо события или знаковой фигуры 60-х — так, одна из них носила имя Александра Дубчека. Бригады устраивали на улице театральные выступления. Они приходили на рынки и в другие общественные места и разыгрывали диалоги (иногда споры), причем у каждого была своя роль; исполняли сценки, в которых обсуждались текущие события. Таким образом горожане узнавали правду о происходящем. Это работало, поскольку в обществах со сплошь продажной прессой люди приучены добывать новости на улице.
В сентябре кошмар Диаса Ордаса стал реальностью. Французский студент, участник майского движения в Париже, прибыл в Мексику, дабы проинструктировать студентов. Однако он не учил, как устраивать революцию, строить баррикады или делать «коктейль Молотова», — это мексиканским студентам было уже известно. Жан Клод Левек, будущий архитектор, за время студенческого восстания во Франции научился изготавливать плакаты у студентов колледжа изящных искусств. Теперь Мехико покрылся отпечатанными на дешевой мексиканской бумаге изображениями солдат, бросающихся на студентов со штыками и дубинками, людей с запертыми на замок ртами, журналистов со змеиными языками и долларами поверх глаз. Был даже олимпийский плакат со злобной обезьяной в боевой каске, безошибочно напоминавшей некоего президента.
Но Мексика и Франция — это не одно и то же. В Мексике группу студентов, попытавшихся расклеить плакаты и расписать стены, расстреляли.
К августу студенческие демонстрации и сопутствовавшее им насилие, чинимое военными, распространились на другие области. Сообщалось, что один студент был убит в Вилья-Эр-мосе, столице штата Табаско. В Мехико Эсе-энэ-аче удалось созвать на демонстрацию против насильственных действий военных пятьдесят тысяч участников. В августе в «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» появилась статья, где говорилось, что в Мексике начались волнения «накануне Олимпиады». Это было именно то, чего так не хотелось Диасу Ордасу: Олимпийские игры в Мехико начали напоминать Чикагскую конвенцию. «Прежде чем войскам удалось восстановить порядок, было сожжено или повреждено около ста автобусов, разграблены магазины, четверо студентов убито, сто ранено». Власти объявили виновниками насилия «агитаторов-коммунистов, направленных в Мексику из-за рубежа». Согласно заявлениям мексиканского правительства, среди арестованных было пятеро французов, в которых «удалось опознать опытных агитаторов», участвовавших в майском восстании студентов в Париже. Ни имен, ни более существенных уточняющих сведений не сообщалось. Однако журнал подчеркивал наличие и «других факторов», включая недовольство существованием одной-единственной правящей партии.
«Давайте спросим, кто несет ответственность». Плакат мексиканских студентов 1968 г., изображающий президента Диаса Ордаса в виде обезьяны.
хов. Однако Игры состоялись. Апрельская церемония вручения академических премий была отложена на два дня в связи с трауром после гибели Мартина Лютера Кинга, а затем омрачена политическими событиями. Боб Хоуп, не слишком любимый левыми за девичьи шоу, устраиваемые для войск во Вьетнаме, напугал зрителей шутками насчет отсрочки. Два фильма об отношениях между расами, хотя и на примитивные сюжеты, где дидактика граничила с глупостью — «В сердце ночи» и «Отгадайте, кто придет обедать», — получили награды. Характерная позитивная деталь времени: чешский режиссер Иржи Менжел получил «Оскара» за лучшую картину на иностранном языке (фильм «Подходят поезда»), и ему дали возможность приехать на церемонию награждения. То было в полной мере политическое событие.
Еще хуже, чем политизация, были постоянные срывы. Протестующие закрыли Венецианский бьеннале и кинофестиваль в Каннах, устроили беспорядки на книжной ярмарке во Франкфурте и вдобавок сорвали церемонию «Мисс Америка». Даже победитель дерби в Кентукки был дисквалифицирован за употребление наркотических средств. И конечно, то был год проведения Чикагской конвенции. Ничего подобного не должно было произойти в Мексике.
Диас Ордас, президент Мексики, назначенный руководителем ИРП (Учредительной революционной партии), был наследником революции и хранителем существующего противоречия в названии правящей партии (заметим, сформулированного с осторожностью). В 1910 году Мексика представляла собой лабиринт, где царили политический хаос и социальная несправедливость. Столетия неразумного колониального правления, сменившегося продажной диктатурой и иностранными оккупационными режимами, в итоге вылились в тридцатилетнее правление одного человека. То был знакомый образец. После хаоса, длившегося много лет, диктатор Порфирио Диас предложил стабильность. Однако к 1910 году ему исполнилось восемьдесят лет, и он не предпринял ничего, чтобы обеспечить себе преемника или создать какие бы то ни было институты, которые продолжат его дело. Политических партий не существовало; никакой идеологии Диас не предлагал. Мексика была раздроблена: существовали различные культуры, этнические группы и общественные классы, причем у каждого были свои нужды и требования, и различия между ними доходили до глубокого драматизма. Когда в стране произошел взрыв, названный Мексиканской революцией, то началась бесконечная цепь в высшей степени разрушительных гражданский войн, причем большая часть из них имела местные корни. В них участвовало множество лидеров и множество армий. Однако с тем же самым столкнулся в Мексике Эрнан Кортес в начале шестнадцатого века. Управление в ацтекских племенах осуществлялось коалицией лидеров из различных групп. Кортес сокрушил ацтеков, разделив коалицию и обеспечив лояльность некоторых лидеров. Вот как велась политическая игра в Мексике.
Франсиско Мадейро, предприниматель с Севера, возглавлял одну из фракций. Он привлекал мексиканцев — представителей высшего, среднего и рабочего классов — умеренной политической программой. На Севере тон задавали крепкие парни, разъезжавшие на лошадях, — партизаны, бандиты, участвовавшие в деле революции, иногда в качестве наемников. Наиболее выдающимся из них был Панчо Вилья. Вилья был единственным из революционно настроенных лидеров, которому удалось снискать благожелательные отзывы американской прессы. Даже Мадейро подвергался резкой критике за свое предложение снизить налог на мексиканскую нефть, контролировавшуюся и вывозившуюся в США американскими нефтяными компаниями. Но Панчо Вилье «антиамериканизм», в котором Вашингтон подозревал всех остальных, почти не был свойствен. Он лично изнасиловал сотни женщин, убивал из прихоти; он был расистом, уничтожавшим китайцев всякий раз, когда находил их на рудниках, где те работали. Его помощники были еще более отъявленными убийцами и садистами и изобретали всевозможные пытки. Но генерал Вилья не питал антиамериканских настроений. Американцы снабжали его оружием и снаряжением. Под его началом действовало десять тысяч человек, преимущественно в северном округе Чиуауа. Они грабили, совершали набеги, творили что хотели и однажды даже одержали эффектную военную победу при Сакатекас, сражаясь за дело революции.
В центральной области страны, Морелос, действовал Эми-лиано Сапата, не пытавшийся объединяться с другими лидерами, несмотря на то что все они были метисами (в их жилах текла смесь европейской и индейской крови). Сапата, человек с большими печальными глазами, возглавлял крестьянское восстание в горных областях в центре страны. Его последователями были мексиканцы-земледельцы, как метисы, так и представители племен, не говорящих по-испански (их до сих пор немало в Мексике), сражавшиеся за землю. Он поставил перед собой цель отобрать пахотную землю в Мексике у богатых землевладельцев и распределить ее поровну между крестьянами. Он и его сторонники собирались вести борьбу до тех пор, пока фермеры не получат свою землю.
Борьба продолжалась и после того, как Мадейро стал президентом (1911), и он был бессилен остановить ее. Мадейро, к которому Сапата питал большую симпатию, принадлежал к «неправильному» классу. Он имел крупное поместье на Севере, и в его окружении были и другие фигуры, заинтересованные в процветании богатых (например Венуситано Карранса). Его беспокоило то, что Сапата пытается превратить Революцию в революцию. Мадейро не мог отдать Сапате свои земли и в то же время не мог подкупить бандитов — «генералов» на Севере. У президента не было достаточной суммы для того, чтобы те сочли мир выгодным для себя. Подобно многим участникам революции, Мадейро был убит ее сторонниками.
К концу 1914 года объединенные силы революционных армий Каррансы, Панчо Вильи и Сапаты установили контроль над Мексикой и нанесли поражение силам правительственной армии, которые еще оставались у Порфирио Диаса. Сапата и Вилья двинули свои армии на столицу, в то время как было сформировано новое революционное правительство. Карранса провозгласил себя президентом и с неохотой и под большим давлением принял программу Сапаты, касавшуюся земельных реформ, хотя сделал очень мало для того, чтобы претворить ее в жизнь.
Альваро Обрегон, носивший подобно многим ведущим фигурам того периода звание генерала, был школьным учителем из северного округа Сонора. Он начал военные действия вместе с партизанами, однако усвоил науку о современном ведении войны и преимуществах, которые дают пулеметы и траншеи. У него были военные советники, прошедшие «Великую войну» в Европе. Его политика, оказавшая огромное влияние на формирование современной Мексики, отличалась умеренностью, и этот принцип невозможно было поколебать. Он симпатизировал рабочим и крестьянам, однако никогда не совершал ничего «слишком революционного». Он пользовался значительной поддержкой рабочих и включил их в армию под названием Красных батальонов. В апреле 1915 года Вилья вступил с Обрегоном в решающую схватку: последний окружил конный отряд бандитов колючей проволокой и траншеями с пулеметными гнездами. Вилья эффективно использовал свою полевую артиллерию и сражался яростно, однако он никогда не понимал преимуществ современной тактики. Самому 06-регону оторвало руку, и эта оторванная часть тела в банке с рассолом стала эмблемой Красных батальонов Обрегона, позднее преобразованных в Мексиканскую революционную армию, — предполагалось, что то будет народная армия, воплощение революционного идеала.
Сапата остался верен своей цели — проведению земельной реформы. Местных лидеров, проявлявших подобную несговорчивость, обычно можно было подкупить. Но Сапата не брал денег и не шел на компромисс. В его организацию проник двойной агент, которому было разрешено совершить несколько вероломных нападений, убив при этом множество солдат, чтобы доказать Сапате свою «подлинность». Когда тот поверил ему, агент привел Сапату — выглядевшего, как всегда, великолепно в черной одежде и восседавшего на гнедой лошади — под дула шестисот армейских винтовок, не замедливших открыть огонь. Погибший революционер стал для своего времени фигурой наподобие Че — молодо выглядящего парня, чей образ попал на плакаты и был использован правительством, которое предпочло убить его, нежели воплотить в жизнь его революционные идеи.
Убийства в Мексике продолжались. Их было столько, что с 1910-го по 1920 год население страны уменьшилось на несколько сотен тысяч человек. В ноябре 1920-го однорукий Обрегон стал президентом. Он узаконил все имевшие место конфискации земель, сделав то, что отказался сделать Карранса. Этот шаг, вкупе с поимкой человека, организовавшего убийство Сапаты, позволил ему наконец заключить мир с войсками Сапаты в провинции Морелос, хотя большая часть земель досталась генералам, а бедняки получили лишь небольшие участки. Вилья был куплен и согласился провести остаток своих дней с комфортом в качестве хозяина поместья. Однако в 1923 году друзья и члены семей тех, кого он убивал и насиловал много лет, застрелили его, когда он проезжал в своем новом автомобиле.
Некоторых можно было купить, а некоторых надо было убить. Именно таким путем стали действовать в Мексике. «Никакой генерал не сможет выдержать канонаду в сто тысяч песо», — сказал однажды Обрегон. К1924 году четверть национального бюджета уходила на выплаты генералам. Однако многие другие «генералы», местные предводители, были уничтожены вместе с вооруженными бандами своих последователей.
Система, которую установило правительство (в ее основу легла Конституция 1917 года), имела своей первоочередной целью не демократию, но стабильность. В 1928 году Мексика едва не соскользнула вновь в пучину революции. Обрегон выдвинул свою кандидатуру на безальтернативных выборах и выиграл «гонку». Он стал бы диктатором, если бы не артист, который, исполняя в скетче роль президента, выхватил пистолет и застрелил его. Убийца был немедленно схвачен и растерзан.
Казалось, что смена президентов всегда будет угрожать национальной стабильности. Решением этой проблемы для Мексики стала НРП (Национальная революционная партия), сформированная в 1929 году. С помощью этого института квалифицированный кандидат в президенты мог быть избран и представлен общественности. В течение шести лет президент пользовался почти неограниченной властью. Но он не имел права отдавать территорию другому государству, конфисковать землю у коренных жителей и переизбираться на второй срок. Во время Второй мировой войны, желая выглядеть более стабильно и демократично, НРП изменила свое название, благодаря чему и возник уникальный мексиканский парадокс: она стала именоваться Институционной революционной партией (ИРП).
Именно такой и стала Мексика. То была не демократия, но «учредительная»... революция, боявшаяся революционных изменений. ИРП подкупала или убивала лидеров-аграриев, на словах восхваляя Сапату, проводила как можно меньше реформ. Она подкупала профсоюзы, пока они не стали частью ИРП. Она подкупала прессу, подкупая газеты одну за другой, пока не установила над ней полный контроль. ИРП не применяла насилия. Она пыталась действовать методами кооптации. Лишь в тех редких ситуациях, когда они не срабатывали, она прибегала к убийству.
В 1964 году ИРП выбрала бывшего министра внутренних дел Густаво Диаса Ордаса следующим президентом. Из всех возможных кандидатов он придерживался наиболее консервативных взглядов. Занимая пост министра внутренних дел, он сумел установить необычайно хорошие отношения с США. Казалось, что он будет наилучшим из возможных руководителей страны в течение опасных 60-х.
Диас Ордас очень хотел показать положительные черты Мексики. То был один из лучших моментов с точки зрения экономического развития: ежегодный прирост национального дохода колебался между 5% и 6%, а в 1967 году он составил даже 7%. В январе 1968 года «Нью-Йорк тайме» сообщала: «Постоянный экономический рост в рамках политической и финансовой стабильности выделил Мексику среди главных стран Латинской Америки». Из слов Октавио Паса, писавшего об этом периоде, возникает ощущение скептицизма по отношению к происходящему: «Экономика страны достигла такого прогресса, что экономисты и социологи упоминали Мексику в качестве примера для других слаборазвитых стран».
Летние Олимпийские игры 1968 года явились первым большим международным событием, которое должно было состояться в Мексике начиная с 1910 года. Тогда, в преддверии краха тридцатилетней диктатуры, Порфирио Диас попытался устроить международное празднование столетия движения за независимость. Во время Олимпийских игр 1968 года Мексиканская революция должна была впервые явить себя миру, показав все свои достижения, включая сформировавшийся средний класс, современную застройку Мехико и тот высокий уровень организации международного события столь гигантских масштабов, на который была способна Мексика. Весь мир должен был увидеть по телевидению, что Мексика более не отсталая страна, раздираемая междуусобной борьбой: она стала процветающей, успешно развивающейся, современной.
Но Диас Ордас также понимал, что на дворе 1968 год и могут возникнуть сложности. Наиболее явное противоречие, различимое, так сказать, на горизонте — а именно конфликты в США на национальной почве, — могло привести к политизации Игр, так же как убийство Кинга привело к политизации «Оскара». Мысль о бойкоте Олимпийских игр со стороны черных впервые возникла на встрече лидеров движения «Власть черных» в Ньюарке после беспорядков, имевших место в этом городе в то лето. В ноябре Гарри Эдвардс, чернокожий — добродушный и популярный преподаватель социологии в государственном колледже Сан-Хосе в Калифорнии, — вновь поднял эту идею на конференции чернокожей молодежи. Большинство спортсменов и чернокожих лидеров не думали, что бойкот черных будет эффективен, но одним из первых последователей идеи Эдвардса стал Томми Смит, студент Государственного колледжа Сан-Хосе и выдающийся спортсмен, уже установивший два мировых рекорда по легкой атлетике. Ли Эванс, чемпион-спринтер, также студент колледжа Сан-Хосе, заявил, что будет участвовать в бойкоте. В феврале Международный олимпийский комитет вдохнул новую жизнь в идею бойкота: взамен нескольких знаковых жестов он не допустил к участию в Играх команду из ЮАР, где господствовал режим апартеида.
Гарри Эдвардс, двадцатипятилетний бородач ростом шесть футов, носивший солнечные очки и черный берет, прежде был одним из лучших спортсменов колледжа и настаивал на том, чтобы к президенту США обращались «Линчинг Джонсон»*. Из своего штаба по проведению бойкота, располагавшегося в Сан-Хосе, он интересовался не только Олимпийскими играми, но также и бойкотированием программ в колледжах и на производстве. В 1968 году, однако, главную цель для него представлял собой Мехико. Плакат на стене его комнаты гласил: «Чем бегать и прыгать за медали, лучше постоим за гуманность». Стену также украшал портрет «Негр — изменник недели» — изображение почитаемого чернокожего спортсмена, противника бойкота. Среди тех, кто удостоился этой «чести», были бейсболист Уилли Мейс, легкоатлет Джесс Оуэнс и чемпион по десятиборью Рэфтер Джонсон. Джонсону предлагали бойкотировать Игры 1960 года, Дик Грегори призывал к бойкоту в 1964-м, но на этот раз с помощью штаба Гарри Эдвардса идея, казалось, набрала силу.
В марте журнал «Лайф» опубликовал список десяти лучших чернокожих спортсменов-студентов и, к своему удивлению, выявил широко распространенное убеждение: стоит отказаться от возможности завоевать олимпийскую медаль ради улучшения условий жизни людей своей расы. «Лайф» также обнаружил, что чернокожие спортсмены возмущены тем, как с ними обращаются в американских университетах. Спортсменов обещали обеспечить жильем, однако не оказывали никакой помощи, когда они сталкивались с дискриминацией при получении квартир. В колледже Сан-Хосе белые спортсмены получали поддержку спортивного управления через студенческие организации, куда черных не принимали. Среди инструкторов по спортивным программам на сто пятьдесят ведущих университетов приходилось всего семь чернокожих преподавателей. Белые инструкторы обучали чернокожих студентов в раздевалках или на ходу, на улице. Консультанты по учебе постоянно советовали им выбирать себе специальные курсы пониженной сложности для успешной сдачи экзаменов. И кроме того, они обнаружили, что никто из сотрудников факультета и студентов никогда не разговаривает с ними ни о чем другом, кроме спорта.
В начале года, после успешно прошедшей зимней Олимпиады, Международный олимпийский комитет все-таки вынес решение о том, чтобы допустить к Играм Южно-Африканскую Республику. Его сотрудники еще не понимали, каким будет 1968 год. Весной мексиканцы, предчувствуя катастрофу, обратились в комитет с просьбой пересмотреть свое решение, учитывая, что Играм угрожал бойкот со стороны более чем сорока команд. Комитет выполнил просьбу, вновь наложив запрет на участие Южной Африки. Это заставило некоторых чернокожих американских спортсменов, в том числе Смита и Эванса, заявить, что они подумают, выступать ли им в Мексике. Американцы отчаянно пытались избежать бойкота черных, поскольку команда США по легкой атлетике, имея столь высокий потенциал, могла оказаться лучшей в истории Америки и, возможно, в истории современного спорта. В конце лета Эдвардс сообщил «Черным пантерам», что бойкот Олимпийских игр отозван, однако атлеты будут носить на руках черные повязки и откажутся принять участие в церемониях награждения. К сентябрю мексиканское правительство имело все основания надеяться, что Олимпийские игры пройдут исключительно успешно.
Мексиканское правительство не считало себя диктатурой, так как президент, несмотря на свою абсолютную власть, должен был уйти по окончании срока правления. «Порфириато», как называли тридцатилетнее правление Порфирио Диаса, более было невозможно. Правительство шло навстречу нуждам народа. Если рабочим нужны были профсоюзы, ИРП «обеспечивала» их профсоюзами. Мексиканцы, желавшие преобразовать жизнь так, чтобы она стала лучше, должны были вступать в ИРП. Лишь члены ИРП могли быть участниками этих Игр. Даже три сына Эмилиано Сапаты, один из которых унаследовал эффектную внешность отца, работали на ИРП. В Мексике до сих пор происходили столкновения ИРП с людьми, подобными Вилье, которых можно было купить, так же как и с несколькими последователями Сапаты, слишком упрямыми, чтобы их можно было привлечь к сотрудничеству, — теми, кого надо было либо упрятать в тюрьму на неопределенный срок, либо убить. Крестьяне, поняв, что революция не выполнила своего обещания относительно земли, начали вступать в крестьянские организации, которые сплошь находились под контролем ИРП. Время от времени возникали новые организации, имевшие целью представлять интересы крестьян. Их руководителей ждала та же судьба: быть купленными или убитыми; то же касалось новых лидеров организаций трудящихся и молодых журналистов.
В то время как экономика год за годом переживала рост, казавшийся чудом, усиливалось подозрение, что это новое богатство распределяется чрезвычайно несправедливо. В 1960 году Ифигения Мартинес, исследовательница, работавшая в экономическом институте, выполнила работу по этой проблеме и показала, что около 78% чистого дохода в Мексике попадает в руки всего 10% населения, составляющих верхушку общества. Никто прежде никогда не проводил научных исследований на эту тему, и результаты показались столь невероятными, что другие организации, в частности Банк Мехико, провели повторные изыскания, однако пришли к тем же выводам.
Подобные исследования лишь объясняли с точки зрения статистики очевидный феномен: в быстро растущей и развивающейся Мексике многие жители несчастливы. С конца 50-х годов началось возникновение движений протеста. Сформировалось крестьянское движение, протестовал профсоюз учителей, прошла забастовка врачей, работавших в системе общественной безопасности, а в 1958 году — забастовка железнодорожников. Все эти движения быстро уничтожили: всех «кооптировали», отправили в тюрьму или убили. Десятилетие спустя после забастовки на железных дорогах ее руководитель, Демет-рио Вальехо Мартинес, по-прежнему находился в тюрьме.
И все же в 1968 году, в преддверии Олимпийских игр, существовала единственная группа, которую не контролировала ИРП: студенты. Причиной было то, что студенты были новым явлением для Мексики в качестве политической силы. Формирование студенчества стало результатом скачка в экономическом развитии страны. После Второй мировой войны темпы роста населения в Мексике ускорились. К 1968 году Мехико был одним из наиболее быстро растущих городов мира: его население увеличивалось примерно на 3% ежегодно. Весьма значительную часть населения Мексики, и особенно Мехико (что типично для пирамидообразных демографических структур быстроразвивающихся стран), составляла молодежь. А по мере роста среднего класса в Мексике стало больше студентов, причем многие из них учились в переполненном Национальном автономном университете (УНАМ), а также в Национальном политехническом институте, и жили в обширных новых кампусах, расположенных в современных районах столицы, поглощавших каждый год новые территории, милю за милей.
Эти студенты, как и их товарищи во Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенных Штатах и множестве иных мест, острейшим образом ощущали, что живут в значительно более комфортных с точки зрения экономики условиях, нежели их родители. Молодых мексиканцев также беспокоило и то, что они пользуются благами экономического роста, которые многим недоступны.
Роберто Эскудейро, ставший в 1968 году одним из студенческих лидеров, говорил: «Между нашим поколением и поколением наших родителей огромная разница. Они были настроены очень традиционно. Они получали различные блага от Мексиканской революции, и их героями были Сапата и другие деятели революционных времен. Для нас они тоже были героями, но у нас также были Че и Фидель. Мы видели в ИРП в значительной степени авторитарную силу, а они воспринимали ее как революционно-освободительную».
Сальвадор Мартинес де ла Роса (все знали его как Пино), невысокий светловолосый юноша, похожий на растрепанного воробья, в 1968 году также был лидером студенческого движения. Он родился в 1945 году и в 1968-м изучал ядерную физику в УНАМ. Пино был «нортеньо», то есть происходил из северных областей Мексики, откуда ближе до Соединенных Штатов и где культурное влияние Америки ощущается значительно сильнее. «В 50-е нам нравился Марлон Брандо в «Дикаре» и Джеймс Дин в «Бунте без причин», — вспоминал он. — Мы гораздо больше интересовались американской культурой, чем наши родители. В 50-е студенты носили рубашки и галстуки. Мы же ходили в джинсах и рубашках, напоминающих по стилю одежду туземцев».
В университетские годы расширился кругозор Пино. «В Китайском клубе университета показывали французские фильмы, которые в Мексике нельзя было увидеть больше нигде. Тогда я впервые увидел фильм о лесбиянках — «Легкий наездник». То был целый бунт в культуре. Мы любили Элдриджа Кливера и Мухаммеда Али, Анджелу Дэвис, Джоан Баез,Пита Сигера», — рассказывал он. Песни движения за гражданские права, такие как «Все преодолеем», были хорошо известны, и Мартин Лютер Кинг, особенно после смерти, занял в студенческом пантеоне УНАМ место среди героев рядом с Че и Сапатой. «Черные пантеры» также пользовались в УНАМ некоторой популярностью. Но, как рассказывал Мартинес де ла Роса, «наиболее важна была Кубинская революция. Книгу Режи Дебре «Революция в революции» мы прочли все».
До знаменитых событий 1968 года в УНАМ прошло немало забастовок и маршей. В 1965 году студенты поддержали забастовку врачей, требовавших увеличения зарплаты, а в 1966-м три месяца бастовали против авторитарного ректора, Игнасио Чавеса. В марте 1968 года, после грандиозных маршей в Европе, в Мехико также состоялся марш протеста против войны во Вьетнаме. Но по сравнению с движениями в США, Европе или Японии мексиканское студенческое движение было весьма малочисленным: оно насчитывало всего несколько сот участников.
В 1968 году скромное студенческое движение впервые сделалось объектом внимания мексиканского правительства, не желавшего никаких проблем во время Олимпиады. К тому же президенту Густаво Диасу Ордасу было трудно поверить в то, что движения протеста распространяются по всему миру сами по себе, без помощи организаторов, так сказать, по волнам телеэфира. Он был убежден в существовании международного заговора революционеров, переезжавших из страны в страну, везде распространявших хаос и устраивавших перевороты. Ключевую роль в этом заговоре, очевидно, играли кубинцы. Поэтому в то время как мексиканское правительство отказалось поддержать наложенное Соединенными Штатами эмбарго и открыто помогало Кубе, в действительности президент испытывал параноидальный страх по отношению к кубинцам и тщательно контролировал авиаперелеты на остров, сохраняя и изучая списки пассажиров. Публично отказавшись наложить эмбарго на Кубу, он в то же время не разрешал Мексике вести торговлю с островом и консультировался с американской разведкой относительно «кубинской угрозы». В бытность свою министром внутренних дел Диас Ордас поддерживал тесные отношения с ЦРУ и ФБР. Политика, проводившаяся Мексикой по отношению к США, основывалась на противоречии между публичными утверждениями и частным общением. Точно так же в 1916 году Карранса притворялся, будто является противником интервенции США, а на самом деле подталкивал американского президента Вудро Вильсона к тому, чтобы послать в Мексику войска и атаковать беспокойного Панчо Вилью.
Лекамберри, черный замок в пригороде Мехико, напоминает Бастилию и действительно является выстроенной во французском стиле тюрьмой с круглым внутренним двориком и рядами камер, расположенных одна над другой. В 1968 году то была печально знаменитая тюрьма, куда сажали «политических». Сегодня в Лекамберри помещается Национальный архив, где хранятся документы, представлявшие собой в 1968 году государственную тайну. Решетки заменили на большие окна и уложили хорошо отполированный деревянный паркет. Тесные камеры размером четырнадцать на шесть футов заполнены папками, которые, очевидно, были основательно подчищены. Но все же Лекамберри рисует картину паранойи в масштабе государства, которой было охвачено правительство Диаса Ордаса.
Министерство внутренних дел располагало богатой информацией. Каждая студенческая организация, даже если в ней было всего двадцать человек, включала в себя минимум одного доносчика. Он составлял скучные детальные отчеты о собраниях, на которых ничего не происходило. Коммунисты всякого рода представляли особый интерес, и еще более пристальное внимание уделялось иностранцам, общавшимся с мексиканскими коммунистами. Правительство получало детальные сообщения о том, кто пел кубинские песни, кто предложил установить вьетнамскую скульптуру и кто поддержал предложение, кто летал в Гавану, особенно в период, близкий к 26 июля, когда на Кубе ежегодно отмечалась дата первого восстания Кастро. Те, кто принимал участие в чествовании Хосе Марти, также были взяты на заметку, несмотря на то что сочинения отца кубинской независимости вызывали восхищение как у сторонников, так и у противников Кастро.
Другой напастью, неотступно мучившей Диаса Ордаса, оказались французы. Мексиканские студенты были очарованы майскими событиями во Франции, причем значительно больше, чем следовало бы. Хотя движения в Америке, Германии, многих других странах начались раньше, демонстрировали большую стойкость, были лучше организованы и оказали значительное влияние, для многих студентов-мексиканцев май в Париже являлся подлинным событием 1968 года.
Отчасти это могло объясняться представлением, восходившим еще к девятнадцатому веку, но прочно державшимся в Мексике, о Франции как мировой имперской державе. Короткое время Франция управляла Мексикой. В 1968 году высшее образование, полученное во Франции, по-прежнему считалось в Мексике наиболее престижным, а Сартр воспринимался как главный интеллектуал. Лоренсо Мейер, выдающийся мексиканский историк, работавший в «Коллегио де Мехико», сам бывший выпускником Чикагского университета, говорил об этой давней франкофилии: «Я думаю, это вызвано инерцией... это нечто, тянущееся из прошлого».
Но и восхищение студентов, и страх президента перед французским студенческим движением также основывались на мифе о том, что парижские студенты могли объединиться с рабочими и вместе овладеть страной. 31 марта Троцкистская революционная рабочая партия в Мехико призвала студентов и рабочих провести митинг, «дабы совершить то, что было сделано во Франции» и «использовать в Мексике опыт Франции». 4 июня в школе политических и общественных наук УНАМ появилась газета Мексиканской секции VI Интернационала Троцкистской революционной рабочей партии, содержавшая призыв: «Все рабочие структуры должны оказать поддержку революционному движению Франции для создания нового рабочего государства. Французская коммунистическая партия и профсоюз, продажные предатели по отношению к революционному движению во Франции, обратились с просьбой к руководству движения во Франции, а также к рабочим, крестьянам и студентам выступить против капитализма. Это французское революционное движение — мощный удар по наследию Французской коммунистической партии и мировой бюрократии». 24 июля экономическая школа УНАМ организовала встречу с двумя французскими студентами из Нантера — Дени Декреаи и Дидье Квеша.
Обо всем этом в министерство внутренних дел сообщали информаторы, бывшие участниками этих крохотных студенческих групп левого толка и состоявшие на службе у правительства. Намерение радикально настроенных студентов объединить силы с рабочими, подобно тому как, по их мнению, сделали французские студенты (опасная идея, считала большая часть политического истеблишмента!), виделось особенно грозным руководству ИРП. Ведь именно ИРП предложила объединить различные элементы общества, а затем установить контроль над их взаимосвязями. Вот как мыслилось функционирование системы.
Правительству стало известно, что 18 июля группа студен-тов-коммунистов решила устроить собрание и обсудить возможность студенческой голодовки в поддержку Деметрио Вальехо Мартинеса, находившегося в тюрьме с того момента, как в 1958 году он возглавил забастовку железнодорожников. Он был одним из наиболее известных политзаключенных. В действительности студенты так и не провели эту акцию, но Вальехо Мартинес сам начал голодовку — ничего не ел, кроме подслащенного лаймового сока, до тех пор, пока 6 августа у него не произошел коллапс. В результате он был помещен в больницу, где его стали кормить через трубку.
По иронии судьбы единственная серьезная попытка организовать акцию с участием мексиканских студентов в поддержку французских провалилась из-за недостатка интереса к ней. В конце мая Хосе Ревуэльтас, хорошо известный писатель-коммунист и лауреат Национальной премии Мексики политературе, в помещении философской школы, которое называли «аудитория Че Гевары», беседовал с группой студентов о проведении шествия в поддержку французов. Однако планы были перенесены на июнь, а к июлю мексиканские студенты почувствовали, что у них слишком много своих проблем. «В конце концов, — сказал Роберто Эскудейро, — у них погиб только один человек, и то случайно».
Что касается президента, то все это он воспринимал как свидетельства мирового заговора французских и кубинских радикалов, имеющего целью повсюду посеять смуту. Они успешно занимались этим весь год, и теперь, когда подошло время Олимпийских игр, смута достигла Мексики! В материалах министерства внутренних дел неоднократно отмечалось, что студенческие брошюры часто оканчивались фразой: «Viva los movimientos estudiantiles de todo el mundo!» — «Да здравствуют студенческие движения всего мира!»
Эти маленькие студенческие группы вкупе с мировыми событиями пробудили в сознании президента особого рода мексиканскую ксенофобию, восходящую еще к опыту ацтеков, — боязнь иностранного заговора, который надлежало раскрыть и искоренить. Министерство внутренних дел тщательно присматривалось к американским студентам, прибывавшим в Мексику летом (поскольку в это время занятия в Мексике продолжаются). Они также приглядывались ко многим мексиканцам, посещавшим Беркли и другие университеты в Калифорнии и прибывшим домой на лето. И действительно, эти мексиканские студенты из Калифорнии оказывали существенное влияние на мексиканское студенческое движение. Роберто Родригес Баньос, бывший в 1968 году главой национального отделения АМЕКС, первого агентства новостей в Мексике (возникшего для создания альтернативы «Новостям», проходившим государственный контроль), рассказывал: «В 1968 году мексиканские студенты с упоением читали о событиях в Париже, Чехословакии, Беркли, Колумбийском и других американских университетах. Со времени беспорядков в Уоттсе, имевших место летом 1965 года, большинство мексиканцев были убеждены, что США находятся в состоянии гражданской войны. Они наблюдали по телевидению пожары в гигантском американском квартале большого города. Правительство также видело, что произошло во Франции, Чехословакии и Соединенных Штатах, и было убеждено, что мир дестабилизирован. В студенческом движении правительство видело те же внешние силы, нацеленные на дестабилизацию Мексики».
Мексика была одной из немногих стран в мире, которая не осудила вторжение СССР в Чехословакию. ИРП более не приветствовала никаких революций. Правительство было готово пойти на все, чтобы революция не пришла в Мексику. Тревогу у него вызывали Куба и Советский Союз, Гватемала и Белиз, расположенные к югу от Мексики. Беспокойство относительно Белиза означало, что правительство также тревожит Великобритания, поскольку там по-прежнему располагались ее военные базы. Знаменитое высказывание Порфирио Диаса звучало так: «Бедная Мексика, Бог так далеко от тебя, а Соединенные Штаты — так близко». Но теперь мир становился все меньше. С точки зрения Диаса Ордаса, надо было перефразировать как «Бедная Мексика, Бог так далеко от тебя, а все остальные — так близко».
ИРП также испытывала затруднения и потому, что было непонятно, как удерживать контроль над студентами, которые не нуждаются в пище, земле, работе и деньгах. ИРП могла создавать студенческие организации наподобие учрежденных профсоюзов рабочих, групп журналистов и организации сторонников земельной реформы, но у студентов не было стимула вступать в студенческие организации ИРП. Студенческие лидеры были вожаками лишь благодаря ежедневной поддержке своих товарищей-учащихся. Если бы лидер стал «сотрудничать» с ИРП, он бы перестал быть лидером. Лоренсо Мейер говорил: «Студенты были свободны настолько, насколько можно было быть свободным в том обществе».
К лету растущая озабоченность правительства стала очевидной. Аллена Гинзберга, предпринявшего с семьей поездку в Мексику, перед тем как отправиться в Чикаго, остановили на границе и сообщили, что он должен сбрить бороду, если хочет попасть в страну. Всего за несколько месяцев до этого
Диас Ордас (в тот бурный год его слова звучали как речь умиротворителя, придерживающегося умеренных взглядов) говорил, выступая перед мексиканской прессой: «Каждый может отращивать бороду, волосы или бакенбарды, как ему угодно, и может одеваться хорошо или плохо, как считает нужным...»
Если бы все студенческие движения 1968 года устроили состязание для выявления, начало какого из них выглядело наиболее безобидно, выиграть это состязание было бы трудно, но у мексиканского студенческого движения был бы отличный шанс занять первое место. До 22 июля оно было малочисленным и разобщенным. Подготовка Олимпийских игр успешно развивалась по намеченному плану. Из шестнадцати стран прибыло восемнадцать скульпторов (среди них — Александр Калдер и Генри Мур), чьи работы должны были установить в городе. Скульптуру Калдера, выполненную из стали и весившую семьдесят тонн, предполагалось установить перед новым стадионом «Ацтека». Другие были размещены вдоль «Дороги дружбы», ведущей к Олимпийской деревне. Оскар Уррита, руководивший культурной программой, объявив это все прессе, процитировал старинное мексиканское стихотворение, которое оканчивалось такими словами: «И еще сильнее люблю я своего брата-человека». Такова должна былабыть, если можно так выразиться, тема Игр.
Событием, произошедшем 22 июля, стала драка между двумя соперничавшими средними школами. Никто до сих пор точно не знает, что ее вызвало. Эти две группы уже давно конкурировали между собой; возможно, в события также были вовлечены две местные банды: «Спайдерз» и «Сьюдаде-ланз». Драка переместилась на Пласа де Сьюдадела — один из важнейших торговых центров города. На следующий день две банды напали на студентов, но те не ответили. Полиция и специальные «миротворческие» силы находились здесь же. Вначале они только наблюдали за происходящим, но затем начали провоцировать студентов и бросать гранаты со слезоточивым газом. Военные стали преследовать студентов по всему кварталу, избивая их. Это неистовство продолжалось три часа; двенадцать студентов было арестовано. Многих учащихся и преподавателей избили. Причины нападения остались неизвестны.
Так студенческое движение внезапно получило повод к активности, вызвавший отклик у мексиканской общественности. Следующий шаг был предпринят тремя днями позже. Группа студентов решила провести марш с требованиями освобождения арестованных учащихся и протестами против насилия. Вплоть до этого момента все акции протеста студентов проводились в защиту активистов более ранних движений, например того, которое организовало стачку железнодорожников. До этого никто из них не сидел в тюрьме. В отличие от других демонстраций эта собрала значительно больше участников.
Судьба любит дразнить параноиков. Случилось так, что демонстрация пришлась на 26 июля, и студенческий марш по центру города слился с ежегодной демонстрацией сторонников Фиделя. Это объединенное шествие было самым большим, которое когда-либо видело мексиканское правительство. Армия преградила демонстрантам путь и оттеснила их на боковые улицы, где некоторые из протестующих стали бросать в солдат камни. При этом демонстранты, бросавшие камни, были незнакомы студентам, а камни они находили в мусорных ящиках, что было любопытно, поскольку в мусорных контейнерах в центре Мехико камней обычно не бывает. Бои продолжались день заднем. Автобусы подвергались реквизиции; пассажиров заставляли выйти, после чего автобусы подгоняли к стенам и открывали огонь.
Студенты заявили, что этот и другие акты насилия были разработаны военной разведкой для оправдания жестоких ответных действий полицейских (это обвинение нашло широкое подтверждение в документах, ставших доступными в 1999 году). Правительство возлагало ответственность за насильственные действия на молодых членов Коммунистической партии. К концу месяца один студент погиб, сотням были нанесены увечья и неизвестно сколько было брошено в тюрьмы.
Каждое выступление являлось поводом для следующего: чем больше становилось раненых и заключенных, тем больше студентов выходило на демонстрации против жестокости правительства.
В начале августа студенты организовали Национальный совет по забастовкам (Эсе-энэ-аче), куда вошли представители различных учебных заведений Мехико. Совет был сугубо демократической организацией (этим он отличался от других общественных организаций Мексики, но весьма напоминал Эс-ди-эс, Эс-эн-си-си и столь многие другие организации протеста). Студенты выбирали делегатов, и Эсе-энэ-аче решал все вопросы посредством голосования этих трехсот человек. Роберто Эскудейро оказался самым старшим из них (его выдвинули аспиранты философского факультета, где он изучал марксизм). Он рассказывал: «В Эсе-энэ-аче споры на идеологические темы могли продолжаться десять — двенадцать часов. Вот пример. Правительство предложило вступить в диалог. Эсе-энэ-аче заявил, что диалог должен быть публичным — ведь совет контролировал всю информацию, не являвшуюся общедоступной. Это было одной из проблем, так как правительство хотело сохранить все в тайне. Тогда правительство призвало обсудить саму идею диалога. Эсе-энэ-аче провели десятичасовые дебаты по вопросу, был ли этот телефонный звонок насилием над их принципом проводить лишь публичные диалоги».
Подобно польским студентам четырьмя месяцами ранее мексиканские студенты-демонстранты несли плакаты, протестуя против полного совпадения взглядов прессы и правительства, однако у них не имелось способа распространять среди широкой общественности правдивую информацию о происходящем. Поэтому в ответ на тот факт, что ИРП контролировала все новостные каналы, они создали бригады, по шесть — пятнадцать человек в каждой, и назвали их в честь какого-либо события или знаковой фигуры 60-х — так, одна из них носила имя Александра Дубчека. Бригады устраивали на улице театральные выступления. Они приходили на рынки и в другие общественные места и разыгрывали диалоги (иногда споры), причем у каждого была своя роль; исполняли сценки, в которых обсуждались текущие события. Таким образом горожане узнавали правду о происходящем. Это работало, поскольку в обществах со сплошь продажной прессой люди приучены добывать новости на улице.
В сентябре кошмар Диаса Ордаса стал реальностью. Французский студент, участник майского движения в Париже, прибыл в Мексику, дабы проинструктировать студентов. Однако он не учил, как устраивать революцию, строить баррикады или делать «коктейль Молотова», — это мексиканским студентам было уже известно. Жан Клод Левек, будущий архитектор, за время студенческого восстания во Франции научился изготавливать плакаты у студентов колледжа изящных искусств. Теперь Мехико покрылся отпечатанными на дешевой мексиканской бумаге изображениями солдат, бросающихся на студентов со штыками и дубинками, людей с запертыми на замок ртами, журналистов со змеиными языками и долларами поверх глаз. Был даже олимпийский плакат со злобной обезьяной в боевой каске, безошибочно напоминавшей некоего президента.
Но Мексика и Франция — это не одно и то же. В Мексике группу студентов, попытавшихся расклеить плакаты и расписать стены, расстреляли.
К августу студенческие демонстрации и сопутствовавшее им насилие, чинимое военными, распространились на другие области. Сообщалось, что один студент был убит в Вилья-Эр-мосе, столице штата Табаско. В Мехико Эсе-энэ-аче удалось созвать на демонстрацию против насильственных действий военных пятьдесят тысяч участников. В августе в «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» появилась статья, где говорилось, что в Мексике начались волнения «накануне Олимпиады». Это было именно то, чего так не хотелось Диасу Ордасу: Олимпийские игры в Мехико начали напоминать Чикагскую конвенцию. «Прежде чем войскам удалось восстановить порядок, было сожжено или повреждено около ста автобусов, разграблены магазины, четверо студентов убито, сто ранено». Власти объявили виновниками насилия «агитаторов-коммунистов, направленных в Мексику из-за рубежа». Согласно заявлениям мексиканского правительства, среди арестованных было пятеро французов, в которых «удалось опознать опытных агитаторов», участвовавших в майском восстании студентов в Париже. Ни имен, ни более существенных уточняющих сведений не сообщалось. Однако журнал подчеркивал наличие и «других факторов», включая недовольство существованием одной-единственной правящей партии.

«Требуем решения проблем Мексики». Плакат Национального совета по забастовкам (1968). Фигура в черном с книгой в руках заимствована из плакатов китайской «культурной революции».
К концу августа более ста тысяч человек приняли участие в студенческих демонстрациях. Однако студенты подозревали, что многие из участников на самом деле являлись правительственными агентами, подосланными для провокаций. Диас Ордас решил сыграть роль Шарля де Голля — как правило, для главы правительства это ошибочная роль — и провести гигантскую демонстрацию в поддержку правительства. Он рассудил, что не сможет повести за собой целые толпы, поэтому заставил привезти правительственных служащих на автобусах в центр Мехико. Одна из наиболее запомнившихся сцен состояла в том, что сотрудницы офисов стаскивали с себя туфли на высоких каблуках и в ярости колотили ими по броне танков. Так они выражали негодование по поводу принудительного участия в демонстрации. В добавление к решимости спасти Олимпийские игры, боязни дестабилизации и разочарованию в связи с невозможностью установить контроль над студентами Густаво Диас Ордас, несомненно, испытал шок от происходящего. Он был чрезвычайно «правильным» человеком из штата Пуэбла, расположенного за цепью вулканов, отделяющей его от столицы. Пуэбла была глубоко консервативной областью. Диас Ордас происходил из провинции, где мужчины, и даже молодые, по-прежнему носили костюмы и галстуки. В его мире было принято остроумно подшучивать над президентом во время вечеринок с коктейлями, но нельзя было открыто осмеивать его при всех, помещая изображения в виде обезьяны или летучей мыши в общественных местах. У этой молодежи не было уважения к власти — и, казалось, она не испытывала уважения ни к чему. Каждый год 1 сентября президент Мексики произносил речь о положении в стране, так называемую «Информе». В сентябре 1968 года Густаво Диас Ордас сказал в своем «Информе»: «Мы были столь терпимы, что нас подвергли критике за нашу чрезмерную снисходительность, однако всему есть предел и нельзя допустить продолжения актов вопиющего насилия над законом и порядком, совершившихся недавно на глазах у всей нации». В его речах часто присутствовали сильные выражения, но предупреждение, в котором он уверял весь мир, что нарушить ход Олимпийских игр не удастся, звучало особенно угрожающе. Всем запомнилась его фраза: «Мы исполним все, что должны». Подобно тому, как было в случае с Александром Дубчеком и Советским Союзом, мексиканские студенты не знали, с кем имеют дело. Мартинес де ла Роса говорил: «Это была угроза, но мы не расслышали ее и не восприняли всерьез». Демонстрации продолжались. Вечером 18 сентября армия, использовав двойной охват, ворвалась в кампус УНАМ и окружила сотни студентов и преподавателей, приказав им либо стоять с поднятыми руками, либо лечь на землю. Их держали на прицеле, на многих направили штыки, пока армия продолжала захват всего кампуса, здание за зданием. Неизвестно, сколько студентов и преподавателей было арестовано; некоторые были освобождены на следующий йень. По оценкам, в тюрьму попало более тысячи человек. 23 сентября полицейские вторглись в политехнический институт, но студенты прогнали их, вооружившись палками. Затем явилась армия — Народная армия Обрегона — и впервые применила оружие против студентов. «Нью-Йорк тайме» сообщала о ранении сорока человек, перестрелках и гибели полицейского, хотя нет никаких свидетельств о наличии у студентов стрелкового оружия. Неопознанные «вигилянтес» — возможно, солдаты без формы — начали нападать на факультеты и стрелять в студентов. Шла эскалация насилия. Наконец 2 октября правительство и Национальный совет по забастовкам провели встречу. Согласно свидетельству Рауля Альвареса Гарина, одного из делегатов Эсе-эне-аче, долгожданный диалог обернулся катастрофой. «Диалог с правительством не состоялся. Мы не сказали ничего». На одном из уличных плакатов того месяца были изображены штыки; подпись гласила: «Диалог?» «Встреча окончилась плачевно», — вспоминал Роберто Эску-дейро, и сотрудники Эсе-энэ-аче отправились на митинг, где объявили о гигантской забастовке в поддержку политических заключенных, которая должна была состояться в течение ближайших десяти дней и продолжаться вплоть до дня открытия Олимпиады. В тот день они собирались вновь вступить в переговоры с правительством. Место проведения митинга, где предполагалось объявить об этом плане, называлось Тлателолько. Студенты не понимали, что решение было уже принято. Правительство сделало вывод: эти студенты не похожи на Панчо Вилью — они похожи на Сапату. Если бы автором этой истории был создатель древнегреческих трагедий, финальная сцена разыгрывалась бы в Тлате-лолько. Казалось, сама судьба распорядилась, чтобы события закончились именно здесь. Мексиканские сюжеты часто начинаются с того, что закручиваются вокруг опасного иностранца, однако в конце речь всегда идет о самой Мексике, о том, что Пас назвал «ее тайным лицом: лицом индейца, метиса, злым, забрызганным кровью лицом». Мартинес де ла Роса любил говорить об американском влиянии, о «Черных пантерах» и гражданских правах. Однако, вспоминая речи, звучавшие в Эсе-эне-аче, он был удивлен, увидев, насколько националистически были настроены его сотрудники, произносившие монологи о нарушении Конституции и идеалах Сапаты. Итак, оказалось, что их история — это не история Че, Сорбонны, Кон-Бенди и даже не Беркли: это история Монтесумы, Кортеса, Каррансы, Обрегона, Вильи, Сапаты. Она разыгрывалась на том месте, которое мексиканское правительство называло «Л а Пласа де ла трес культурас» — площадью Трех культур Однако само событие всегда связывают с ацтекским названием этого места — Тлателолько. Если одно место могло бы поведать всю историю Мексики, ее завоеваний, резни, начинаний, поражений, побед и надежд, то это было бы именно Тлателолько. Когда Монтесу-ма правил империей ацтеков с острова Теночтитлана посреди высокогорного озера, ныне находящегося на территории Мехико, среди его союзников было расположенное по соседству королевство Тлателолько — процветающий торговый центр империи, место рыночной торговли, последним Правителем которого был юный Каутемокцин, пришедший к власти в 1515 году, за четыре года до того, как испанцы взяли контроль над страной. Испанцы уничтожили Тлателолько и построили посреди руин церковь — этот обычай они практиковали при уничтожении мусульманских поселений в Испании. В 1535 году здесь был построен францисканский монастырь во имя святого Якова (Сантьяго), патрона недавно объединившейся Испании. В 60-х годах мексиканское правительство обозначило свое присутствие на этом месте завоеваний и разрушений, выстроив многоэтажное здание министерства иностранных дел и огромный, значительной протяженности комплекс жилых домов среднего класса, занимавший несколько кварталов, каждый из которых получил наименование в честь штата или важной даты мексиканской истории. Строения тянутся целыми милями — здания с благоустроенными квартирами, где, пользуясь субсидиями на оплату жилья, обитают лояльно настроенные по отношению к ИРП семьи, — настоящий бастион ИРП в центре города. Не то чтобы ей кто-то противостоял. Но здания доказывали, что ИРП существует. В 1985 году оказалось, что эта экспериментальная конструкция вовсе не столь высокого качества, как объявляла ИРП, и, когда большинство зданий рухнуло, зашаталось или развалилось во время землетрясения, поползли скандальные слухи. В то же время ацтекские руины и францисканская церковь пострадали мало. Тлателолько представляет собой вымощенную плитами площадь, окруженную с двух сторон стенами из черных камней, скрепленных белым известковым раствором, — часть большого комплекса ацтекских руин. На одну из сторон площади также выходит фасад церкви. Спереди и по другую сторону находятся жилые комплексы. У строения, расположенного спереди — Эдифисьо-чиуауа, — имеется открытая галерея на третьем этаже, где можно стоять напротив бетонной стены высотой по пояс и смотреть на площадь. Такое место опытные политические организаторы ни за что не выбрали бы. Полиции стоило только перекрыть несколько проходов между зданиями, и площадь оказалась бы блокирована. Даже во время операции, проведенной военными в УНАМ, несколько проворных студентов сумели ускользнуть. Но с Тлателолько бежать было невозможно. Митинг был назначен на четыре часа. К трем полиция уже останавливала машины, перекрыв въезд в центр города. Обреченные люди шли пешком — парами, семьями, вели с собой маленьких детей. На площадь прошло лишь относительно небольшое количество — от пяти до двенадцати тысяч, смотря по тому, чьим свидетельствам верить. То были одни из наиболее низких показателей с момента начала беспорядков в июле. Ведь планировался митинг, созванный для того, чтобы сделать объявление, а не массовая демонстрация. Миртоклейя Гонсалес Гальярдо, двадцатидвухлетняя студентка политехнического института, делегированная Эсе-энэ-аче, отправилась на площадь вопреки просьбам родителей: они боялись, что случится что-то ужасное. Однако она должна была пойти. Прогрессивно настроенные мексиканцы только-только начали задумываться о женском равноправии, и она являлась одной из девяти женщин на триста делегатов. По ее воспоминаниям, «в Эсе-энэ-аче слушали не слишком внимательно, когда говорила женщина». Но ее избрали для того, чтобы представлять четырех ораторов, это было необычно: женщины редко выполняли подобную роль, требовавшую быть «на виду». «Когда я шла к Тлателолько с четырьмя ораторами, которых должна была представлять, — рассказывала она (ее душили слезы, когда она вспоминала о тех событиях, хотя прошло с тех пор без малого тридцать четыре года), — нас предупреждали об осторожности: поблизости видели военных. Но я не испугалась: ведь мы решили, что митинг будет короткий. Там были рабочие, студенты, многие пришли с семьями: они входили на площадь и заполнили ее до отказа. Никаких военных на площади мы не видели». Они поднялись на лифте на балкон третьего этажа Эдифи-сьо-чиуауа — своего рода командный пункт, откуда можно было обратиться к толпе на площади. «Мы расположились на третьем этаже, и начались выступления ораторов», — рассказывала она. Вдруг слева, над церковью, показались вертолеты с зелеными огнями. Внезапно все присутствовавшие на площади начали падать. А потом появились люди в белых перчатках и с оружием — может быть, они поднялись на лифте. Они приказали нам спуститься на первый этаж, где и начали всех избивать». Находясь внизу, она услышала звуки автоматных очередей. В мексиканской армии существует два типа подразделений: регулярная армия, находящаяся в ведении комитета начальников штабов и министерства обороны, и батальон «Олимпия», подчиняющийся непосредственно президенту. По-ви-димому, здесь были солдаты из обоих подразделений, олимпийцев переодели в гражданское платье, а для того чтобы они могли узнать своих, у каждого одна руку была в белой перчатке (как будто этот знак мог остаться незаметным для остальных!). Эти солдаты поднялись на третий этаж Эдифисьо-чиуауа и смешались с лидерами Эсэ-энэ-аче. Затем, когда Миртоклейя Гонсалес Гальярдо начала говорить, они открыли огонь по толпе, находившейся внизу. Многие свидетельства описывают этих людей как снайперов, подразумевая, что они были меткими стрелками, но на самом деле они стреляли по толпе без разбору — подали и протестующие, и солдаты регулярной армии. Был ранен даже армейский генерал. Армейцы в ответ начали яростно стрелять по балкону, откуда вели огонь люди в белых перчатках, но где также находились и лидеры Эсе-энэ-аче. «Белые перчатки запаниковали, и отовсюду слышались крики: «Не стреляйте! Мы из батальона «Олимпим»!» Согласно свидетельствам, на площади продолжалась стрельба из автоматов. Рауля Альвареса Гарина, также находившегося на балконе, вместе с остальными оттеснили на край площади между ацтекскими руинами и старинной церковью францисканцев и заставили встать лицом к стене. Что происходило на площади, отсюда было не видно, но Альварес Гарин четко помнит, что автоматная стрельба не прекращалась в течение двух с половиной часов. Толпа кинулась бежать, но между церковью и Эдифисьо-чиуауа путь ей преградили солдаты. Кое-кто попробовал пройти с другой стороны церкви, между руинами, но все попытки пресекались военными. Люди пытались войти в церковь, чтобы найти убежище. Но массивные двери шестнадцатого века были заперты, а из-за зубцов стены в мавританском стиле, расположенной вокруг купола, стреляли снайперы. То была идеальная ловушка. Оставшиеся в живых рассказывали, что солдаты сжалились над ними и помогли выйти. О том, что звук стрельбы автоматов раздавался два часа или более, свидетельствуют почти все очевидцы. Другие, в том числе Гонсалес Гальярдо, помнят нападение военных с винтовками и штыками. В нескольких районах в центре города громоздились мертвые тела. Мартинес де л а Роса, который к этому моменту был арестован и заключен в тесной камере Лекамберри, видел, что тюрьма полна заключенных с кровоточащими ранами (у некоторых были огнестрельные ранения). Мексиканское правительство сообщило, что убито четверо студентов, однако впоследствии количество жертв выросло до двенадцати. Газеты, находившиеся под контролем правительства, также приводили невысокие цифры (если приводили вообще). Телевидение просто сообщило, что произошел инцидент с участием полиции. «Универсаль» 3 октября поместила сообщение о двадцати девяти убитых и более чем восьмидесяти раненых. «Соль де Мехико» упомянула о стрельбе снайперов по армейцам, в результате которой были ранены один генерал и одиннадцать солдат и убито более двадцати представителей гражданского населения. «Нью-Йорк тайме» также сообщала о «минимум двадцати погибших», тогда как лондонская «Гардиан» писала о трехстах двадцати пяти погибших (эту цифру затем процитировал Октавио Пас, который в знак протеста отказался от дипломатической карьеры). Некоторые говорили, что погибли тысячи. И тысячи пропали без вести. Родители Миртоклейи Гонсалес Гальярдо, предупреждавшие, чтобы она не ходила на митинг, провели десять ужасных дней вместе со служащими Красного Креста, разыскивая свою дочь среди мертвых. Через десять дней они нашли ее в тюрьме. Туда попали многие. Альварес Гарин провел два года семь месяцев в тесной камере Лекамберри. Заключенные избрали его старостой своего этажа («Единственные выборы, которые я выиграл в жизни!» — говорил он). Мартинес де ла Роса также пробыл три года в тюрьме. Многие годы о пропавших ничего не было известно — убиты ли, находятся в тюрьме или присоединились к партизанам. Некоторые действительно влились в вооруженные группы, которые вели в сельской местности партизанскую войну. Родители не спешили разглашать тот факт, что их сын или дочь пропали без вести, поскольку правительство могло представить дело так, будто пропавший был связан с вооруженной группой. На сегодняшний день комитет по защите прав человека утверждает, что в вооруженных столкновениях в 70-х годах было убито около пятисот мексиканцев, якобы связанных с партизанскими отрядами. Однако массовых захоронений жертв Тлателолько или других, позднейших рас-прав не найдено. Были случаи, когда целые семьи подвергались запугиванию, если они настойчиво пытались узнать о судьбе своих близких, пропавших в 1968 году. Мартинес де ла Роса рассказывал: «Семьи не говорили о пропавших детях, поскольку в домах раздавались телефонные звонки и неизвестные говорили: «Если вы хоть что-нибудь скажете, все остальные ваши дети умрут». Я понимал это. Когда я был ребенком, кто-то убил моего отца и сказал мне, что, если я не буду молчать об этом, он убьет моего старшего брата. Поэтому я ничего не сказал». В 2000 году Миртоклейя Гонсалес Гальярдо случайно встретилась с другом студенческих лет. Он изумился, увидев ее. Все эти годы он думал, что Миртоклейю убили на площади. В 1993 году, в двадцать пятую годовщину массового расстрела, правительство дало разрешение установить памятник на площади. Выжившие участники события, историки и журналисты пытались установить имена жертв, однако смогли назвать не более двадцати человек. В результате другой попытки, сделанной в 1998 году, было установлено всего несколько новых имен. Большинство мексиканцев, пытавшихся разгадать эту тайну, подсчитали, что было убито сто — двести человек. Кто-то вел съемку со значительного расстояния из окон одного из верхних этажей министерства иностранных дел, но пленку найти не удалось. После 2 октября студенческое движение было распущено. Олимпийские игры прошли без каких бы то ни было сбоев. Избранным преемником Густаво Диаса Ордаса стал Луис Эче-веррья, министр внутренних дел, вместе с ним разработавший план подавления студенческого движения. До самой своей смерти в 1979 году Диас Ордас утверждал, что одним из величайших его свершений в пору президентства было то, как он поступил со студенческим движением и предотвратил какие бы то ни было затруднения во время Игр. Но, во многом подобно тому, как вторжение в Чехословакию стало концом Советского Союза, Тлателолько стало незаметным началом конца ИРП. В чрезвычайно смелой для 1971 года книге мексиканской журналистки Елены Понятовской о массовых убийствах приведены слова Альвареса Гарина: «Все мы родились вновь 2 октября. И в этот день все мы решили, как собираемся умереть: сражаясь за подлинную справедливость и демократию». В июле 2000 года, впервые за семьдесят один год своего существования, ИРП в результате голосования лишилась власти, и это произошло демократическим путем, в результате процесса, длившегося десятилетия, без применения насилия. Сегодня пресса пользуется значительно большей свободой, и Мексика стоит гораздо ближе к тому, чтобы стать подлинно демократическим государством. Однако весьма показательно, что даже теперь, когда ИРП утратила власть, многие мексиканцы говорили, что боятся давать интервью для этой книги, а некоторые из тех, кто согласился, подумав, отказались. На высокой прямоугольной плите, поставленной в двадцать пятую годовщину события, помещен список с датами жизни двадцати жертв. Многим из них было восемнадцать — двадцать лет. Внизу добавлены слова: «и многие другие товарищи, чьи имена и годы жизни неизвестны». Каждый год в октябре мексиканцы поколения 1968 года плачут. У мексиканцев очень долгая память. Они до сих пор помнят, как ацтеки угнетали другие племена, и спорят о том, можно ли оправдать принцессу Малинче, сотрудничавшую с Кортесом и предавшую ацтекский союз. Не забыто и то, как французы потворствовали захвату Мексики в 1862 году. Крестьяне до сих пор помнят о неисполненных обещаниях Эмили-ано Сапаты. И можно быть абсолютно уверенным, что мексиканцы еще долго будут помнить о том, что случилось 2 октября 1968 года на площади меж ацтекских руин Тлателолько.Часть IV ОСЕНЬ НИКСОНА
Не будет преувеличением сказать, что судьба всего рода человеческого зависит от происходящего в Америке. Этот факт производит на население всего остального мира ошеломляющее впечатление: оно должно ощущать себя пассажиром самолета, несущегося со сверхзвуковой скоростью, вынужденным бессильно взирать на то, как шайка пьяниц, ипохондриков, уродцев и сумасшедших дерется за кресло пилота и контроль над самолетом.Элдридж Кливер. «Душа во льду», 1968
Глава 20 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА
Понимаете ли вы всю меру ответственности, лежащей на мне? Я — единственный человек, стоящий между Никсоном и Белым домом.Дж.Ф. Кеннеди, 1960
Я уверен: если мои убеждения, моя интуиция, мои добрые намерения (а если говорить об Америке, то американская политическая традиция) верны, — значит, этот год станет годом моей победы.«Накануне президент Мексики Густаво Диас Ордас официально объявил об открытии XIX Олимпийских игр, выступая в атмосфере красочного праздника, где царил дух братства и мира, в присутствии стотысячной толпы на олимпийском стадионе в Мехико». Такими фразами пестрели заголовки передовиц «Нью-Йорк тайме» и других многотиражных газет по всему миру. Диас Ордас произнес во всеуслышание те же слова, за которые он убивал других. Символом Игр стал голубь мира, красовавшийся на тех самых бульварах, где совсем недавно избивали студентов. Между тем афиши уверяли: «С наступлением мира позволено все!» По всеобщему признанию, мексиканцы устроили роскошное зрелище. Особенно поразила своим великолепием церемония открытия Игр, когда каждая команда демонстрировала свой флаг перед важно восседавшим при всех регалиях Диасом Ордасом, которого теперь называли «эль президенте», а прежде — «эль чанго». Никого не оставило равнодушным дефиле сборной Чехословакии: представители разных национальностей встали со своих мест и устроили овацию. Впервые в истории олимпийский огонь был зажжен женщиной, и в этом факте все увидели заметный прогресс по сравнению с античностью, когда женщинам под страхом смертной казни запрещалось присутствовать на Олимпиаде. Движение мексиканских студентов не подавало признаков жизни; если же кто-то о нем вспоминал, правительство ограничивалось тем, что, вопреки всякой логике, заявляло, будто это движение представляло собой международный коммунистический заговор, инспирированный ЦРУ. Тем не менее число гостей Олимпиады разочаровало мексиканских организаторов Игр. В отелях Мехико даже оставались свободные номера.P.M. Никсон, 1968


"Свобода слова". Студенческий плакат 1968г. Внизу — логотипОлимпиады в Мехико.
Соединенные Штаты, как и предполагалось, выставили одну из лучших в истории спорта сборных; американцы были особенно сильны в легкой атлетике и командных видах соревнований. Однако в скором времени в ход событий вмешалась политика Томми Смит и Джон Карлос, завоевавшие золотую и бронзовую медали в беге на двести метров, явились на церемонию вручения наград разутыми, в длинных черных носках. Как только раздались звуки национального гимна США, каждый из них, подняв вверх руку в черной перчатке, сделал жест, символизировавший «Власть черных». Все это выглядело как некая спонтанная выходка, однако на самом деле эта акция на фоне политических событий 1968 года явилась результатом нескольких встреч и сговора атлетов. Они купили черные перчатки, поскольку рассчитывали на то, что вручать награды будет восьмидесятидвухлетний Эйвери Брандидж, президент Международного олимпийского комитета, который в течение года добивался участия в Играх сборной ЮАР, состоявшей из одних белых. Будучи уверены в победе, спортсмены решили надеть перчатки, не желая не пожимать руку Брандиджу. Но он тогда оказался на другом мероприятии. Зрители, наблюдавшие эту сцену, могли заметить, что атлеты использовали одну пару перчаток: Смит надел перчатку на правую руку, а Карлос — на левую. Другой парой перчаток воспользовался участник забега на четыреста метров Ли Эванс, их товарищ по команде и однокашник по университету Гарри Эдвардса в Сан-Хосе. Эванс на глазах у всех сделал рукой тот же самый знак, однако никто не обратил на это внимания. На следующий день Карлос дал интервью на одном из центральных бульваров Мехико. «Мы хотели, чтобы черные во всем мире — какой-нибудь мелкий бакалейщик или владелец мастерской по ремонту обуви — знали, что эта медаль, которая висит на груди у меня или Томми, также принадлежит и им». Международный олимпийский комитет, и в особенности Брандидж, были крайне раздражены. В американской сборной произошел раскол: одни спортсмены сочли себя оскорбленными, другие же стремились сохранить единство своей уникальной команды. МОК грозился дисквалифицировать сборную США в полном составе. Правда, из всей команды были дисквалифицированы лишь Смит и Карлос; им дали сорок восемь часов на то, чтобы покинуть Олимпийскую деревню. Другие черные атлеты тоже позволяли себе выходки с политическим подтекстом, однако олимпийский комитет, казалось, постарался найти оправдание этим проступкам, которые не были сочтены серьезными. Так, после забега на четыреста метров победители Ли Эванс, Ларри Джеймс и Рон Фримен явились на церемонию вручения наград в черных беретах и повторили тот самый жест рукой. Тем не менее Международный олимпийский комитет поспешил заявить, что инцидент произошел не в момент исполнения национального гимна и, следовательно, спортсмены не оскорбили свой флаг. Они и в самом деле обнажили головы во время исполнения гимна. Медалисты улыбались, демонстрируя пресловутые жесты. В отличие от них Смит и Карлос были абсолютно серьезны. Таким образом, как и в эпоху рабства, негр с улыбкой на лице, не совершавший никаких угрожающих телодвижений, не подлежал наказанию. Ральф Бостон, завоевавший бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в длину и явившийся разутым на церемонию вручения наград, не был никак наказан за эту акцию. Боб Бимон, который с первой попытки прыгнул на восемь метров девяносто сантиметров, на пятьдесят пять сантиметров превысив мировой рекорд, и завоевал золотую медаль в состязаниях по прыжкам в длину, пришел получать награду в тренировочных брюках, закатанных с целью продемонстрировать черные носки, и это было молчаливо принято. Самый первый инцидент во время вручения медалей Смиту и Карлосу не привлек к себе почти никакого внимания на переполненном олимпийском стадионе. Лишь после передачи по телевидению, когда камера была направлена на этих двоих так, как будто весь стадион делал то же, что и они, этот эпизод стал одним из самых памятных моментов Олимпийских игр 1968 года. Инцидент наложил негативный отпечаток на дальнейшую спортивную карьеру Смита, который тогда побил все рекорды, пробежав двести метров за 19,83 секунды; впрочем, всякий раз, когда ему напоминали об этом случае, он неизменно отвечал: «Я ни о чем не жалею». В 1998 году в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс он заявил: «Мы тогда выступили в защиту прав человека и черных американцев». С другой стороны, на этой Олимпиаде неизвестный девятнадцатилетний черный боксер из Хьюстона скомпрометировал свое будущее в спорте тем, что поступил не так, как Смит. Когда Джордж Формен завоевал золотую медаль в тяжелом весе, победив советского чемпиона Ионаса Чепулиса, он где-то раздобыл небольшой американский флаг. Возможно, этот флаг находился у Формена во время боя. Победитель обернул его вокруг головы. Никсону понравился этот ход; он с удовлетворением поставил Формена в пример тем молодым американцам, которые выступали против войны и постоянно критиковали политику США. Губерт Хамфри заметил, что молодой человек с флагом во время интервью на ринге приветствовал Джоба Корпса, которого Никсон грозился уволить. Однако многим фанатам бокса, особенно черным, это напомнило некоторые сцены из «Хижины дяди Тома», поэтому когда Формен перешел в профессионалы, кое-кто стал видеть в нем «Великую Белую Надежду». Особенно ярко это проявилось в Заире, во время боя Формена с любимцем публики Мухаммедом Али, который его нокаутировал: тогда вся черная Африка вместе с большинством болельщиков во всем мире приветствовали победу Али. От этого унижения Формен не мог оправиться в течение нескольких лет. В тот год, наполненный потрясениями и кровопролитием, бейсбольный сезон заметно сместился по времени, став таким же интригующим и радостным, как и живопись Норманна Рокуэлла. Такие имена, как Микки Ментл и Роджер Марис (играл в составе «Кардиналов» из Сент-Луиса), все еще были у всех на слуху; эти имена принадлежали тому периоду, который предшествовал эпохе 60-х и «резолюции по Тонкинскому заливу», когда большинство американцев еще не знали о стране под названием Вьетнам. 27 апреля менее чем в миле от осажденного полицией Колумбийского университета Микки Ментл сделал свой пятьсот двадцать первый результативный бросок в игре против «Тигров» из Детройта, разделив с Тедом Уильямсом четвертое место по числу результативных бросков за спортивную карьеру. В тот самый вечер, когда в Л ос-Анджел е-се был застрелен Бобби Кеннеди, в этом городе играли «Ловкачи», и тридцатиоднолетний правофланговый подающий Дон Драйсдейл провел шестую удачную игру подряд, на этот раз против «Пиратов» из Питсбурга. В результате он побил рекорд шестидесятичетырехлетней давности, принадлежавший Доку Уайту. 19 сентября, на следующий день после захвата мексиканскими войсками здания Национального университета в Мехико, Микки Ментл сделал свой пятьсот тридцать пятый результативный бросок, побив рекорд Джимми Фокса, и по результативности стал третьим игроком за всю историю бейсбола, уступив лишь Вилли Мейсу и Бейбу Руту. Избиение в Тлателолько фигурировало на первых страницах газет рядом со сведениями о Бобе Гибсоне из команды «Кардиналы»; в то самое время, когда происходила эта бойня, Гибсон сделал семнадцать точных бросков в открывшей мировую серию игре против «Тигров» из Детройта, побив рекорд Сенди Куфакса с его легендарными пятнадцатью бросками в игре против «Янки» в 1963 году. Для бейсбола этот сезон стал поистине великим, хотя обеспечивать проведение игр было чрезвычайно трудно. Посещаемость оставалась низкой почти на всех стадионах, за исключением Детройта, где «Тигры» провели памятную всем свою первую удачную игру. Некоторые стадионы были расположены по соседству с районами, охваченными волнениями чернокожих. Кое-кто из бейсбольных фанатов полагал, что хорошая подача невозможна без сильного удара. Другие считали, что американский футбол с его быстро растущей аудиторией был более жестким, чем бейсбол, а потому больше соответствовал духу времени. Чемпионат мира 1968 года обещал болельщикам один из самых блестящих в истории бейсбола поединков между подающими Денни Маклейном из Детройта и Бобом Гибсоном из Сент-Луиса. Это была серия из семи игр, в которой «Тигры», проиграв три матча из четырех, сумели взять реванш в следующих трех благодаря неожиданно открывшейся блестящей подаче Микки Лолича. Для бейсбольных фанатов это был состоявший из семи игр «антракт» в событиях 1968 года. Что же касается всего остального, то Джин Маккарти, считавшийся первым приличным бейсболистом из числа полупрофессионалов, заявил, что лучшими бейсболистами являются те игроки, которые «оказались достаточно сообразительны, чтобы понимать игру, и недостаточно умны для того, чтобы потерять к ней интерес». Между тем из ритма времени выбивался не только бейсбол, но и такая страна, как Канада, охваченная странным явлением под названием «трюдомания». Страна, являвшаяся убежищем, по некоторым оценкам, для каждых пяти из ста дезертиров армии США и, сверх того, для сотен уклонистов от призыва, становилась местом проживания счастливых чудаков. Пьер Элиот Трюдо стал новым либеральным премьер-министром Канады. Трюдо был одним из немногих премьер-министров в истории Канады, кто обладал репутацией популиста. Сорокашестилетний холостяк являл собой тот тип политика, который вызывает у публики желание пообщаться, прикоснуться и даже поцеловать. Он стал популярен благодаря своей оригинальной манере одеваться, благодаря сандалиям, кожаному пальто зеленого цвета и другим экстравагантным причудам. Как-то раз он даже съехал вниз по перилам лестницы в палате общин, держа в руках кипу законопроектов. Он занимался йогой, нырял в поисках жемчуга и имел коричневый пояс по карате. У него было несколько престижных дипломов об окончании университетов Гарварда, Лондона и Парижа, так что вплоть до 1968 года он был известен более как интеллектуал, нежели как политик. На деле одной из немногих областей, в которых он не был крупным специалистом, являлась именно политика. Когда американцы оказались в безрадостной ситуации выбора между Хамфри и Никсоном, журнал «Тайм» выразил настроение большинства граждан: «Соединенным Штатам редко доводилось обращаться в поисках политического примера на север, в сторону Канады. Однако на прошлой неделе американцы имели все основания позавидовать канадцам, наблюдая энергичную манеру поведения их нового премьер-министра Пьера Элиота Трюдо, который, совместив интеллект с политическим опытом, демонстрирует боевой задор, яркий стиль и нестандартный подход к решению национальных проблем Многие избиратели в Соединенных Штатах хотят обновления политической жизни...» В эпоху экстремизма Трюдо оставался умеренным политиком левого толка; впрочем, установить его истинные политические взгляды не представлялось возможным. Он происходил из Квебека, однако превосходно говорил и на французском, и на английском; было совершенно неясно, какой из сторон он симпатизирует, поэтому многие искренне верили в то, что он сможет разрешить конфликт между французами и англичанами, остававшийся в Канаде политическим камнем преткновения. В то время как большинство канадцев выступали против войны во Вьетнаме, Трюдо заявил, что, по его мнению, бомбардировки следует прекратить, но он не станет предписывать Соединенным Штатам, что им следует делать. Формула классического трюдоизма гласит: «Мы, канадцы, должны помнить: Соединенные Штаты тоже являются суверенным государством». В свое время Трюдо арестовали в Москве за то, что он бросал снежки в монумент Сталина. Несмотря на это, его иногда обвиняли в коммунизме. Однажды, когда Трюдо прямо спросили, является ли он коммунистом, он ответил: «На самом деле я каноист. На каноэ я спускался по таким рекам, как Маккензи, Коппермайн и Сагеней. Этим я хотел доказать, что каноэ является универсальной лодкой, обладающей лучшими мореходными качествами. В 1960 году я плавал из Флориды на Кубу: море в этом районе на редкость коварное. Кое-кто полагал, будто я пытался нелегально доставить на Кубу партию оружия. Я хотел бы у вас спросить: много ли оружия вы сможете увезти на каноэ?» Редко встретишь такого политика, который может выйти из положения подобным образом, однако в 1968 году, когда всему остальному миру было не до смеха, канадцы смеялись. Трюдо, которому явно недоставало политического опыта, мог бы сказать, что избиратели пошутили, отдав ему свои голоса. А потом они к нему привыкли. Простой канадец Маршалл Мак-лахэн охарактеризовал физиономию Трюдо как «маску, которая подходит всем». «Никому не дано в нем разобраться, — заявил Маклахэн. — У него нет собственного мнения ни по одному вопросу». Во всяком случае, в социальной сфере политика Трюдо была вполне определенной. Несмотря на репутацию ловеласа, он занял твердую позицию по «женскому вопросу» (в частности, были либерализованы законы об абортах), а также проявил себя горячим поборником прав гомосексуалистов. Накануне апрельских выборов Трюдо постоянно видели в спортивном «мерседесе». Какой-то репортер спросил его, не собирается ли он теперь, став премьер-министром, оставить «мерседес». Трюдо ответил вопросом на вопрос: «Автомобиль «мерседес» или девчонку по имени Мерседес?» В церемонии похорон Трюдо, умершего в 2000 году в возрасте восьмидесяти лет, приняли участие, с одной стороны, экс-президент США Джимми Картер, а с другой — кубинский лидер Фидель Кастро. «Битлз» тоже поразили общественность отсутствием какой бы то ни было конкретной идеологии и отказом от ограничений, порожденных твердыми убеждениями. Осенью 1968 года они выпустили свою первую запись собственного производства — пластинку с песней «Революция» на одной стороне и «Неу, Yude!» («Эй, еврей!») на другой. Основная идея, заложенная в «Революции», состояла в следующем: «Все мы хотим изменить мир», однако делать это надлежит постепенно и осторожно. Такой подход к проблеме навлек на «Битлз» нападки с самых разных сторон, включая даже официальную советскую прессу, хотя к концу 1968 года так думали уже очень многие. К концу года, когда душа обычно чувствует обновление, в этот раз, напротив, многие испытывали усталость. Однако ее ощущали далеко не все. Студенческие активисты возвращались в свои учебные заведения, намереваясь не только закрепиться на достигнутых весной рубежах, но и продолжать далее в том же духе, тогда как университетское руководство надеялось вернуться к положению дел, существовавшему до весенних событий. Когда в середине октября открылся Свободный университет в Берлине, оказалось, что почти все лето в женских комнатах студенческого общежития жили мужчины. Университетское руководство сдалось и объявило: комнаты в общежитии впредь будут предназначены для совместного проживания девушек и юношей. В Колумбийском университете радикально настроенные студенты были намерены не только продолжать борьбу, но и перевести ее в международную плоскость. В июне Лондонская школа экономики совместно с Би-би-си пригласила лидеров «новых левых» из десяти стран для участия в дискуссии, которая получила название «Студенты в революции». Студенческие организации ухватились за эту возможность. Их противники, например де Голль, твердили о международном заговоре, сами же студенты считали, что это, возможно, удачная идея. Ведь большинство из них не были знакомы друг с другом (за исключением тех, кто принял участие в весеннем марше против войны во Вьетнаме). Эс-ди-эс Колумбийского университета приняло решение делегировать Льюиса Коула — как бесцеремонно заявил Радд, «поскольку он был любителем сигарет “Голуаз”». На самом деле Коул слыл интеллектуалом и лучше всех своих товарищей разбирался в марксистской теории. Коул и Радд регулярно приглашались на популярные ток-шоу Дэвида Сасскинда и Уильяма Бакли. Студенты из Эс-ди-эс Колумбийского университета ощущали потребность в идеологии, соответствовавшей их программе действий. Мартин Лютер Кинг обладал «нравственным императивом», но эти студенты были абсолютно чужды религии, поэтому большинство из них такой подход не устраивал. Коммунистический вариант — стать частью массовой партии и мощного движения — представлялся чересчур авторитарным. Кубинская альтернатива казалась слишком милитаризованной. «В Эс-ди-эс сложилось мнение, что мы занимаемся практикой, тогда как теорию следует искать в Европе», — вспоминал Коул. Кон-Бенди разделял эту точку зрения. По его словам, «у американцев не хватает терпения на теорию. Они практики. Сильное впечатление на меня произвел этот американец, Джерри Рубин. Так держать!» Однако студенты Колумбийского университета, которым так хорошо удавалось привлекать к себе внимание, испытывали потребность в теории, способной объяснить, ради чего они делали все то, что делали. Коул проникся тревожным чувством в предвидении дискуссии с опытными европейскими теоретиками. Встреча в Лондоне едва не была сорвана иммиграционной службой, пытавшейся выдворить радикалов из страны. Консерваторы не желали приезда Кон-Бенди, но министр внутренних дел Джеймс Каллаган вступился за него, заметив, что выдворение Кон-Бенди скомпрометирует британскую демократию и сыграет на руку ему самому. Льюис Коул был задержан в аэропорту, и Би-би-си пришлось договариваться с властями о его освобождении. Кон-Бенди поспешил втолковать журналистам, что они вовсе не лидеры, а скорее «рупоры, так сказать, громкоговорители движения». Эту верную оценку можно было применить и к нему самому, и ко многим другим. Кон-Бенди сделал ловкий ход. О де Голле впервые услышали в июне 1940 года, когда он покинул Францию и, находясь в эмиграции на Британских островах, обратился к французам по радио со своим знаменитым призывом продолжать борьбу с немецкими оккупантами и не оказывать никакой поддержки правительству коллаборационистов во главе с маршалом Филиппом Петеном. На этот раз уже Кон-Бенди заявил, что он обращается к британцам за поддержкой. «Я предложу руководству Би-би-си воссоздать «Свободное французское радио» таким, каким оно было во время войны». Он сказал, что в точности повторит обращение де Голля, за исключением нескольких мест: вместо слова «нацисты» он вставит словосочетание «французские фашисты», а имя «Петен» заменит на «де Голль». В ходе прений тон задавал лидер британского студенчества, уроженец Пакистана Тарик Али, который одно время был президентом известного дискуссионного клуба «Оксфорд юнион». Али заявил, что студенты более не считают выборы способом осуществления социальных перемен. Затем участники дискуссии посетили могилу Карла Маркса и там все вместе сфотографировались на память. Кон-Бенди вернулся в Германию с твердым намерением отказаться от лидерства и раствориться в массе участников движения. Он повторял, что стал жертвой «культа личности» и что «власть развращает». В интервью «Санди тайме» он сказал: «Я им не нужен. Кто слышал о Кон-Бенди пять месяцев назад? Или даже пару месяцев назад?» Коул полагал, что затея не удалась. Он никогда не понимал, в чем заключалась идеология Кон-Бенди, и считал полемическое искусство Тарика Али демагогией. Люди, с которыми он был связан, в большинстве своем состояли в германском Эс-дэ-эс, и впоследствии он ездил по ФРГ вместе с Кадеем Вольфом. По словам Коула, «в конечном счете немцы всегда были в высшей степени похожи друг на друга. Немцы живут почти в той же самой культурной среде, которая взрастила Маркузе и Маркса. Вместе с тем самым сильным ощущением немецкой молодежи является чувство отчуждения. Молодые люди в современной одежде гуляют по улицам немецких городов, а представители старшего поколения неодобрительно косятся на них». Впрочем, к осени Коул вернулся в Колумбийский университет с заимствованной у французов теорией под названием «образцовая акция». Французы сделали то, что студенты Колумбийского университета лишь пытались предпринять, а именно проанализировали все сделанное и на этой основе разработали программу действий. Теория «образцовой акции» заключалась в следующем: небольшая группа студентов осуществляет акцию, которая в дальнейшем служит образцом для действий более многочисленных групп. События в Нантере были именно такой акцией. Марксизм-ленинизм всегда пренебрежительно относился к подобным теориям, характеризуя их как «детскую болезнь левизны». В июне Джорджо Амендола, теоретик и член комиссии по регламенту Итальянской коммунистической партии, самой многочисленной компартии Запада, обрушился на движение итальянских студентов с обвинениями в «инфантилизме» и высмеял саму мысль о том, что студенты могут выступить в авангарде революции без массовой социальной поддержки в соответствии с традиционным марксистским подходом. Он назвал это «революционным дилетантизмом». Как заявил Льюис Коул, «теория «образцовой акции» стала нашим руководством лишь на первое время. Поэтому нам приходилось часто согласовывать наши действия. Перед нами всегда стоял вопрос: “Что мы должны делать сейчас?”»Плакат Эс-ди-эс, приглашающий на демонстрацию перед днем выборов (1968). (Центр изучения политической графики)
«3 ноября — все в Детройт! Выборы —- это обман! Долой полицию! К забастовке! Прочь из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока! Поддерживаем забастовку шоферов! Прекратите дискриминацию в отношении женщин! Полиция, вон из гетто! Свободу политическим заключенным! За дальнейшей информацией обращайтесь в Эс-ди-эс” Теперь, обладая подходящей теорией, студенты были готовы стать тем революционным центром, который мог породить, говоря словами Хейдена, «два, три и больше Колумбийских университетов». Кроме того, революционная теория способствовала превращению штаб-квартиры быстро растущего Эс-ди-эс в своего рода командный пункт. Первым мероприятием, организованным в Колумбийском университете, стала демонстрация протеста против вторжения в Прагу. Правда, демонстрация-проводилась в августе, поэтому в ней участвовало мало студентов. По словам Коула, «организация этого дела оставляла желать лучшего. Демонстрация прошла под лозунгом “Сайгон, Прага — свинья везде выглядит одинаково”». Эс-ди-эс Колумбийского университета в поисках акции, которая смогла бы придать движению новый импульс, ухватился за идею создания студенческого интернационала, но с самого начала этот замысел был обречен на провал. За два дня до открытия конференции разнеслась весть об избиении студентов в Мексике. Студенты Колумбийского университета, испытывавшие некое чувство вины — ведь они даже не подозревали о том, что в Мексике существует студенческое движение, — попытались прямо на конференции организовать акцию протеста. Однако они оказались не в состоянии договориться между собой. Французские «ситуационисты» в течение всего второго дня работы конференции занимались лишь тем, что пародировали каждого, кто брал слово. Для некоторых это был доступный способ отвлечься от излишнего многословия. Как вспоминал Коул, «мы осознали, что все мы были слишком разными. Единственное, что нас объединяло, — это общность мнений по таким вопросам, как ненависть к авторитаризму и антиобщественные настроения». Более того, французы стали объектом все возраставшей неприязни со стороны представителей других делегаций, особенно американцев, поскольку те считали, что французы учат, как им следует поступать в ситуации с войной во Вьетнаме, и не понимают, насколько болезненным был этот вопрос для США. По мнению Марка Радда, «европейцы вели себя чересчур самонадеянно и слишком умничали. Они хотели одного: говорить. И они говорили и говорили». Ораторы произносили одну речь за другой, но Радд понял, что из этого ничего не выйдет. Радд не сомневался в том, что момент был исторический, революция мало-помалу разгоралась и его задача заключалась в том, чтобы помочь ей разгореться. Взяв кое-что от Че Гевары («первый долг революционера заключается в том, чтобы делать революцию») и добавив к этому идею «возвращения войны туда, откуда она пришла» наряду с теорией «образцовой акции», в июне 1969 года он оказался в составе подпольной группировки «метеорологов», практиковавшей насилие и террор. Название этой организации дала поэтическая строчка Боба Дилана: «Тебе не нужен метеоролог, для того чтобы понять, куда дует ветер». В марте 1970 года члены группировки дали ей новое название — «Погода подполья», — решив, что прежнее предполагало исключительно мужской состав организации. Теперь, оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что террористическая группировка, созданная представителями (и представительницами) среднего класса, давшими ей название, заимствованное из песни Боба Дилана, оказалась злейшим врагом для них самих. Единственными жертвами этой группировки стали трое ее членов, собиравшие взрывные устройства в одном из домов Гринвич-Вилледжа и погибшие при взрыве. Впрочем, насилие тогда распространилось повсеместно. К насилию прибегало правительство; насилие применяла полиция. Время было жестоким, и казалось, что близится революция. Дэвид Гилберт, первым постучавшийся в дверь комнаты в студенческом общежитии, где жил Радд, с тем чтобы вовлечь его в ряды Эс-ди-эс, продолжал заниматься террористической деятельностью даже после роспуска «Погоды подполья» в середине 70-х годов. Спустя более чем двадцать лет он все еще отбывал срок в тюрьме за участие в чудовищном теракте 1981 года. Многие радикалы из числа участников студенческих волнений 1968 года в 70-х стали членами подпольных террористических группировок в Мексике, Центральной Америке, Франции, Испании, ФРГ и Италии. Политика порой имеет более длинные щупальца, чем кажется. Тот роковой первый день весны, когда Рокфеллер выбил почву из-под ног у либерального крыла республиканской партии, положил начало длинному ряду событий, которые США переживают с тех пор и по сей день. В 1968 году появился новый тип республиканца. Это стало очевидным в конце июня, когда президент Джонсон назначил судью Эйба Фортаса преемником Эрла Уоррена на посту председателя Верховного суда США. Уоррен подал в отставку, не дожидаясь ухода администрации Джонсона, поскольку он был уверен в победе Никсона и не хотел, чтобы его «попросили» освободить место для никсо-новского назначенца. Выбор кандидатуры Фортаса был вполне предсказуемым: личный друг Джонсона, Фортас был назначен им на пост судьи вместо Артура Голдберга тремя годами ранее. Фортас был известен как лидер либерально настроенной группы судей, задававшей тон в Верховном суде с середины 50-х. Он стал пятым евреем, заседавшим в Верховном суде, и первым, получившим пост главного судьи. В те времена сенат редко оспаривал назначения на должности в Верховном суде. Сенаторы-республиканцы, равно как и сенаторы-демократы, признавали за президентом право сделать свой выбор. В этом отношении никаких разногласий не было с 1930 года, когда кандидатура Дж. Паркера, назначенного Гербертом Гувером, была отклонена с перевесом в два голоса. Но когда прозвучало имя Фортаса, немедленно раздались обвинения в кумовстве. Фортас на протяжении многих лет был другом и советником президента, однако никто не сомневался в его профессионализме. Обвинение в кумовстве было бы гораздо более справедливым в отношении другой креатуры Джонсона — Гомера Торнберри, назначенного на освободившееся место Фортаса. Торнберри, давний друг Джонсона, некогда отговаривал его от выдвижения на пост вице-президента, однако впоследствии изменил свое мнение и стоял рядом с Джонсоном во время приведения его к присяге в качестве президента после гибели Джона Кеннеди. Будучи в течение четырнадцати лет конгрессменом, Торнберри как-то незаметно превратился в судью. До прихода Джонсона к власти он был сторонником расовой сегрегации, но впоследствии кардинально изменил свои взгляды и несколько раз выступил с позиций противника сегрегации по целому ряду принципиальных вопросов. Главной проблемой было вовсе не кумовство, а само право Джонсона назначать членов Верховного суда. Республиканцы, бывшие хозяевами Белого дома в течение всего-навсего восьми лет из последних тридцати шести, получили хороший шанс вернуться к власти в 1968 году, тогда как некоторые из них просто хотели иметь в Верховном суде «своих» судей. Роберт Гриффин, сенатор-республиканец из Мичигана, уговорил девятнадцать сенаторов от республиканской партии подписать петицию, в которой указывалось, что Джонсон за семь месяцев до истечения срока своих полномочий не может назначать одного за другим двух судей. Ни в области права, ни в политической традиции не было решительно ничего, что могло бы обосновать подобное заявление. Аналогичная ситуация, когда члены Верховного суда назначались в год выборов, в двадцатом столетии имела место целых шесть раз. В частности, Уильям Бреннан был назначен Эйзенхауэром за месяц до выборов. Некогда Джон Адамс назначил судьей своего друга Джона Маршалла (одно из наиболее выдающихся назначений за всю американскую историю!) всего л ишь за несколько недель до вступления в должность Джефферсона. На самом деле Гриффин стремился не допустить назначения ставленников Джонсона. «Безусловно, президент, ставший «хромой уткой», в соответствии с Конституцией имеет право предлагать свои кандидатуры на должности в Верховном суде, — возражал Гриффин, — однако сенат не должен их утверждать». Впрочем, Гриффин с его коалицией правых республиканцев и сенаторов-демокра-тов от южных штатов решились на этот шаг отнюдь не на свой страх и риск. По сведениям Джона Дина, ставшего личным консультантом Никсона, последний, будучи кандидатом в президенты, поддерживал с Гриффином регулярные контакты через Джона Эрлихмана, впоследствии занявшего пост главного советника президента по вопросам внутренней политики. Однако демократы имели большинство (почти 2:1) и проголосовали за предложенные президентом кандидатуры; значительная часть республиканских лидеров, включая лидера меньшинства Эверетта Дирксена, сделала то же самое. Во время слушаний в конгрессе Фортас был подвергнут беспрецедентному в истории назначения членов Верховного суда допросу с пристрастием. Против него выступила коалиция правых республиканцев и сенаторов-демократов от южных штатов. В роли главных инквизиторов фигурировали Стром Тармонд из Южной Каролины и Джон Стентон из Миссисипи, критиковавшие Фортаса за проявленный им «либерализм» в отношении тех «постановлений, которыми Верховный суд закрепил за собой присвоенное им право переписывать Конституцию». Это был новый тип коалиции; употребляя тщательно составленные формулировки, они вменяли в вину Фор-тасу и Уоррену главным образом судебные решения, направленные против сегрегации, и защищали права граждан, равно как и постановления о защите для подсудимых и терпимости в отношении порнографии. Были рассмотрены пятьдесят два эпизода; в итоге выяснилось, что в сорока девяти случаях Фортас голосовал за то, чтобы не квалифицировать конкретный материал как порнографию; затем состоялось закрытое заседание, в ходе которого для сенаторов был организован конфиденциальный просмотр скандального материала, привлеченного в качестве доказательства обвинения. Стром Тармонд упрекнул Фортаса даже за судебное решение, принятое Верховным судом под председательством Уоррена, только пртому, что Фортас присутствовал на том заседании. В октябре республиканцы все же сумели блокировать назначение Фортаса посредством обструкции, для которой им пришлось заручиться большинством в две трети. Сторонникам Фортаса в сенате не хватило четырнадцати голосов, и его назначение было успешно заблокировано вплоть до конца сессии конгресса — первый случай в американской истории, когда обструкция была применена с целью блокировать назначение на должность в Верховном суде. Поскольку Фортас не мог освободить занимаемый им пост судьи, выдвижение кандидатуры Торнберри тоже было обречено. Когда Никсон пришел к власти, он всерьез взялся за Верховный суд, стремясь избавиться от всех либерально настроенных судей и заменить их преимущественно выходцами с Юга, имевшими репутацию борцов против движения за гражданские права. Мишенью номер один стал Фортас: он потерял свою должность в результате инспирированного Белым домом скандала, поводом для которого стало получение Фортасом неких «гонораров», что являлось обычной практикой для членов Верховного суда. Итак, Фортас ушел в отставку. Следующей мишенью был Уильям О. Дуглас, семидесятилетний либерал, назначенный на должность судьи еще Рузвельтом. С подачи Белого дома Джеральд Форд попытался инициировать процедуру отрешения Дугласа от должности, но безуспешно. Попытка внедрить в состав Верховного суда южан, известных своим неприятием гражданских прав, также провалилась. Кандидатура одного из них, Клемента Хейнсуорта, была отвергнута демократическим большинством, недовольным отставкой Фортаса. Другой, Г. Гарольд Карсуэлл, как выяснилось, был абсолютно некомпетентен. Однако отставка Фортаса и оставлявшее желать лучшего состояние здоровья престарелых судей предоставили Никсону уникальную возможность назначить за годы своего первого президентского срока четырех членов Верховного суда, включая Уильяма Ренквиста, эксперта министерства юстиции по правовым вопросам, который не зависел от решений Верховного суда. Проницательный наблюдатель мог бы заметить, что стратегия Никсона, ставшая новой стратегией республиканцев, была впервые представлена общественности на съезде республиканской партии в Майами, когда Никсон остановил свой выбор на губернаторе Мэриленда Спиро Т. Эгню. Многие полагали, что это был ошибочный выбор. С популярностью Рокфеллера пара Никсон — Рокфеллер могла бы стать счастливым лотерейным билетом. Даже если бы Рокфеллер не согласился стать «номером два», мэр Нью-Йорка Джон Линдсей — представительный и обаятельный либерал, один из авторов доклада комиссии Кернера по проблемам насилия на расовой почве, — ясно дал понять, что готов выставить свою кандидатуру на пост вице-президента в паре с Никсоном. Консерватор Никсон и либерал Линдсей могли бы создать некую видимость, будто в республиканской партии представлен полный спектр всей американской политики. Вместо этого Никсон повернул вправо, остановив свой выбор на малоизвестном и не очень популярном крайнем консерваторе, чьи взгляды, особенно по расовой проблеме и вопросам правопорядка, были настолько реакционными, что многим он казался законченным фанатиком. Эгню, болезненно воспринявший негативную реакцию на свое выдвижение, посетовал: «По-моему, совершенно очевидно, что я гораздо менее правый, чем король Лир». Журналисты немедленно задали ему встречный вопрос: «Почему вы решили, что король Лир был правым?» На что Эгню с улыбкой ответил: «Он обладал правом казнить своих подданных, а это и значит быть правым». Улыбка немедленно исчезла с его лица, как только речь зашла о том приеме, который он встретил в собственной партии и в прессе. «Если бы Джон Линдсей стал кандидатом, мы получили бы взрыв возмущения на юге и ликование на северо-востоке». Такова была установка. Выбор Эгню стал частью «южной стратегии». В течение ста лет политика в отношении южных штатов оставалась неизменной. Демократическая партия была детищем Джона Колдуэлла Калхоуна, выходца из Южной Каролины и выпускника Йельского университета, который в течение нескольких десятилетий, предшествовавших Гражданской войне, отстаивал интересы плантаторов и рабовладельцев Юга под знаменем борьбы за права штатов. С точки зрения белых южан, республиканская партия была ненавистной партией янки, партией Авраама Линкольна, который хотел заставить их отпустить на свободу рабов, принадлежавших им на правах частной собственности. После Реконструкции30 обе партии мало что могли предложить черным избирателям, поэтому в следующем столетии белые южане остались верны своей партии и демократы всегда могли рассчитывать на мощный блок южных штатов. Мнение Джорджа Уоллеса, озвученное им в качестве независимого кандидата в президенты, заключалось в том, что интересы демократов-южан шли вразрез с программой демократической партии, хотя южане вовсе не собирались становиться республиканцами. Стром Тармонд из Южной Каролины высказал аналогичное мнение еще в 1948 году, когда он выдвигался как кандидат в президенты (и был соперником Трумэна) от партии, носившей красноречивое название «Партия прав штатов». В 1968 году Тармонд, один из самых ревностных участников допроса Эйба Фортаса, внезапно совершил необъяснимый поступок: он стал республиканцем. Тармонд весьма своевременно поддержал Никсона и хорошо поработал в его пользу на партийном съезде в Майами, получив от него обещание не брать себе в напарники человека, который не устроит южан. Так что у Линдсея изначально не было никаких шансов принять участие в предвыборной гонке, хотя он об этом не знал. В 1964 году, после подписания Джонсоном Акта о гражданских правах, президент, по словам лиц из его ближайшего окружения, был сильно угнетен и поговаривал о том, что этим актом он подтолкнул «весь Юг» к переходу на сторону республиканцев. По этой причине он и Хамфри решительно воспротивились участию Партии свободы из Миссисипи в состоявшемся в том же году съезде демократической партии. Непоследовательная поддержка со стороны президента, министра юстиции и других правительственных инстанций, которой пользовалось движение в защиту гражданских прав, явилась следствием политики невероятного надувательства, проводимой демократами, желавшими, с одной стороны, прослыть защитниками гражданских прав, а с другой — сохранить голоса южан. Многие либералы, как белые, так и черные, включая Мартина Лютера Кинга, никогда не доверяли ни представителям клана Кеннеди, ни Джонсону, поскольку знали, что эти демократы стремятся сохранить голоса белых южан. Джон Кеннеди своей трудной победой над Никсоном был обязан их поддержке. Джонсон со своим медлительным техасским произношением не вызывал к себе особого доверия избирателей, однако «южная стратегия» Джона Кеннеди сделала его «номером два» в этом тандеме. Комик Ленни Брюс, автор далеко не всегда утонченных сатир, сочинил такую сценку: «Линдону Джонсону в течение первых шести месяцев вовсе не позволяли говорить. Потребовалось целых шесть месяцев для того, чтобы он выучил, как следует произносить слово «нигроу». — Ни-ге-ра-о... — О’кей, Линдон, давай-ка еще раз! — Ни-ге-ра-о...» После вступления в силу закона о гражданских правах консервативно настроенные белые, а также черные и белые либералы уже не сомневались относительно истинной позиции Джонсона. На выборах 1964 года Джонсон с огромным перевесом победил Голдуотера. Республиканцы с горечью упрекали кол-лег-либералов из северных штатов, и особенно Нельсона Рокфеллера, за то, что они не поступились своими принципами. Однако на Юге республиканский кандидат впервые собрал большинство голосов белых избирателей. В нескольких штатах голосов черного электората, включая вновь зарегистрированных избирателей, вместе с голосами традиционных демократов и либералов из южных штатов, надеявшихся изменить Юг, оказалось достаточно, чтобы не дать Голдуотеру победить в целом регионе. Тем не менее среди штатов, в которых Голдуотер одержал победу, помимо его родной Аризоны оказались Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия и Южная Каролина. Теперь Никсон взялся за перестройку своей партии. «Права штатов», а также «закон и порядок», два плохо замаскированных обоснования расизма, легли в основу его избирательной кампании. Соблюдение прав штатов со времен Калхоуна означало невозможность для федерального правительства вмешиваться в дела южных штатов под предлогом защиты прав черного населения. Принцип «закон и порядок» превратился в большую проблему, так как он подразумевал применение полицией силовой тактики не только в отношении антивоенных демонстраций, но и против бесчинствующих негров. С каждым новым выступлением черных среди белых избирателей становилось все больше сторонников «закона и порядка»; это были люди, которые, подобно Норману Мейлеру, «устали от негров и их прав». Популярным прозвищем таких людей стало словосочетание «белый кнутобой», и Никсон выражал интересы «белых кнутобоев». Даже руководство наиболее умеренной из всех черных группировок, НААСП, понимало это. Филипп Сейвидж, директор региональных отделений НААСП в Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэре, назвал Эгню и Никсона кандидатами «белых кнутобоев». Он заявил, что наличие имени Эгню в партийном списке кандидатов «гарантирует республиканской партии то, что в ноябре она не получит большого количества голосов черных избирателей». В 1968 году среди республиканцев по-прежнему были и черные. Эдвард Брук из Массачусетса, единственный на тот момент (и первый со времен Реконструкции) чернокожий сенатор — умеренный сторонник социального прогресса, работавший вместе с Линдсеем в комиссии Кернера, — был республиканцем. Демократическая партия к тому времени еще не стала «черной». Выдвижение Эгню коренным образом изменило ситуацию. Большинство из семидесяти восьми черных делегатов партийного съезда в Майами (всего их было 2666) по возвращении домой либо не пожелали, либо не смогли поддержать партийный список. Один черный делегат заявил в интервью «Нью-Йорк тайме»: «Быть мне в аду, если я смогу оправдать перед неграми Эгню и Никсона». По словам черного делегата из Чикаго, «они говорят нам, что им нужны голоса «белых кнутобоев» и что они не желают нам зла». Республиканская партия потеряла наиболее известного своего чернокожего сторонника, когда Джеки Робинсон, первый чернокожий, кому было суждено попасть в бейсбольную команду высшей лиги, и один из самых почитаемых «героев»-спортсменов, объявил, что покидает штаб Рокфеллера и республиканцев и переходит на работу к демократам, чтобы помочь нанести поражение Никсону; при этом он назвал список кандидатов «Никсон — Эгню» расистским. Точно определив разделение политических партий в будущем, Робинсон сказал: «Я думаю, что республиканцы кое о чем забыли — о том, что порядочные белые люди в ходе выборов намерены реально смотреть на вещи и собираются объединяться с чернокожей Америкой, с еврейской Америкой, с пуэрториканцами. Я утверждаю, что мы не можем отступить: мы не должны терпеть список, который по сути своей является расистским, и кандидатов, которые склонны позволить Югуналожить вето на происходящие ныне процессы». Одно из преимуществ Эгню в качестве товарища по гонке заключалось в том, что он мог несколько больше «забирать вправо», в то время как Никсон, как и полагалось государственному деятелю, мог вести себя более сдержанно. Эгню настаивал на том, чтобы антивоенным движением руководили иностранные коммунисты-заговорщики, однако когда его спросили, кто бы это мог быть, просто сказал, что некоторые лидеры Эс-ди-эс называли себя марксистами и что впоследствии он разузнает об этом больше. «С гражданским неповиновением, — заявил он, находясь в Кливленде, — нельзя мириться, когда оно мешает осуществлению гражданских прав других людей, а по большей части это так и есть» (читай: «Движение за гражданские права нарушает гражданские права белого населения»). Он говорил, что Губерт Хамфри «сочувствует коммунизму», но, извинившись, взял свои слова обратно, когда лидеры республиканцев в конгрессе, Эверетт Дирксен и Джеральд Форд, выразили свое недовольство. Эгню сказал: «Не дурные условия вызывают волнения, но дурные люди». Другое знаменитое заявление Эгню звучало так: «Если вы видели одну трущобу, можете считать, что видели их все». А когда его критиковали за употребление слов «япошка» и «пбляк», кандидат в вице-президенты возражал, что американцы потеряли «чувство юмора». Либерально настроенные республиканцы прилагали большие усилия, чтобы не показывать своего отвращения к кандидатам из списка. Линдсей (его городу выпали на долю беспорядки и демонстрации чернокожих, студентов и участников антивоенного протеста) писал: «В этом году мы слышали громкие крики, призывавшие обеспечить нашу безопасность штыками солдат, стоявших на расстоянии пяти футов друг от друга, и требовавшие давить участников ненасильственных акций, сидевших на улицах. Вы не понимаете, каким в таком случае станет общество. Посмотрите на улицы Праги: вот они, солдаты, которых вы ждете, стоят в пяти футах друг от друга. Вы увидите кровь молодых людей — с длинными волосами, одетых в странное платье, — погибших под танками, сокрушившими их ненасильственный протест против коммунистической тирании. Если мы откажемся от нашей традиции следовать справедливости и гражданскому порядку, это будут наши танки и наши дети». Для Хамфри, кампания котррого после Чикаго продвигалась с большим трудом, стало ясно: он должен бросить вызов Никсону, учитывая его правые взгляды. Его товарищ по гонке, сенатор Эдмунд Маски из Мэна, был либералом с Востока — это помогало укреплять их позиции. Левым мог не нравиться Хамфри, но они не собирались обращаться к Никсону. Для Хамфри война не являлась проблемой, поскольку Северный Вьетнам «решил ее вооруженным путем» и переговоры о мире должны были пройти до января, когда он вступит в должность. Однако в последние месяцы перед выборами Хамфри начал высказываться против кампании «страха и расизма» и начал делать успехи по сравнению с Никсоном. «Если фанатизм и страх возобладают, мы можем потерять все, что было создано с таким трудом. Я не могу предложить вам легких решений. Их нет. Я не могу предложить вам убежища, где можно было бы спрятаться. Его не существует». Хамфри вписал новую главу в историю быстро развивающейся телевизионной эпохи, проводя кампанию с помощью местного телевидения. По традиции, политик приезжал в город, собирал в аэропорту митинг с возможно большим числом участников и организовывал мероприятие, во время которого произносил речь. Хамфри тоже часто так поступал, однако многие города он «пропускал». Единственное, что он делал везде, куда приезжал, — это принимал участие в местном телешоу. Никсон же, вероятно, был не последним нетелегеничным кандидатом, но последним из тех, кто понял это. Многие считали, что дурацкое поведение во время теледебатов привело его к поражению в кампании 1960 года. Показательно, что большинство тех, кто слышал дебаты только по радио, думали, что Никсон выиграл. В 1968 году бригада гримеров разработала для него многослойный макияж и освещение, при котором он не выглядел как злодей в немом фильме. Его телевизионный координатор Роджер Эйлес, считавший собственный молодой возраст (ему было двадцать восемь) его преимуществом, говорил: «Никсон не дитя телевидения, и, возможно, это последний кандидат, который не может участвовать в шоу Касона, но может участвовать в выборах». В 1968 году появление на телевизионных ток-шоу стало новейшей формой проведения предвыборной кампании. Эйлес говорил о Никсоне: «Он общается с людьми с телеэкрана, он — личность, но выглядит не лучшим образом, когда во время шоу объявляют: “Итак, вот он... Дик!”» Когда до выборов оставалось всего несколько недель, в рамках кампании Хамфри — Маски стали появляться специфические, но эффективные печатные материалы. Никогда прежде на лидера гонки не нападали таким образом. «Если бы восемь лет назад вам кто-нибудь предложил подумать насчет Дика Никсона, вы бы рассмеялись ему в лицо». Затем следовало продолжение: «5 ноября — День реализма. Если в глубине души вы понимаете, что не можете голосовать за избрание Дика Никсона президентом Соединенных Штатов, то лучше встаньте сейчас, чтобы вас сосчитали». К листовке прилагался купон участника кампании с надписью: «Считаю, что Дику Никсону не стоит быть президентом Соединенных Штатов». Джордж Уоллес был темной лошадкой. Увлечет ли он за собой достаточно избирателей-южан, чтобы «побить» штаты, поддерживающие Никсона, разрушив таким образом свою «южную стратегию»? Или он собирается подобно старой Партии прав штатов привлечь демократов Юга, по-прежнему хранящих верность старой партии? Выступая на Юге перед толпами, Уоллес говорил, что ни Никсон, ни Хамфри не годятся в президенты, поскольку поддерживают законодательство о гражданских правах, которое, обращаясь к шумящим толпам, он определил как несоответствие поговорке «Мой дом — моя крепость». Никсон также сказал об Уоллесе, что он «не годится» в президенты. В ответ Уоллес заявил, что Никсон — «один из тех богатеньких мальчиков с Востока, которые задирают нос перед любым южанином и жителем Алабамы, дразнят нас за красные шеи и войлочные шляпы, называют нас “сборщиками гороха” и “дятлами”». По иронии судьбы сам Никсон всегда считал себя противником «богатеньких мальчиков с Запада». Отчаяние влечет за собой легкомыслие. Йетта Браунстайн из Бронкса выступила в качестве независимого кандидата, заявив: «Я считаю, что нам в Белом доме нужна еврейская мама, которая позаботится обо всем». Среди избирателей было немало таких, чье отношение к выборам лучше всего выразилось в выдвижении кандидатуры комика Пэта Полсена, который, сделав печальное лицо, грустным голосом произнес: «Думаю, что я отличный кандидат, поскольку вначале я солгал о том, что хочу участвовать в выборах. Я очень серьезно подумал обо всех проблемах и продолжаю давать обещания, которые не смогу выполнить. —* С невозмутимым видом Полсен продолжал: — Немало людей понимают, что наш нынешний закон о призыве несправедлив. Эти люди называются солдатами...» Его кампания была начата во время популярного телевизионного шоу «Смотерс бразерз комеди ауа». Том Смотерс выступал в качестве официального менеджера его кампании, и накануне выборов, согласно опросам общественного мнения, Полсен, хотя и не был кандидатом, имел миллионы сторонников. В последние две недели проведения кампании опросы начали показывать: Никсон теряет тот таинственный мандат, кото-», рый в политических гонках и соревнованиях по бейсболу называют инерцией. Тот факт, что число сторонников у Никсона оставалось неизменным, а у Хамфри продолжало расти, подразумевал тенденцию, обозначавшую продвижение Хамфри. Привлекали к себе внимание и кампании по выборам в палату представителей, лучше профинансированные и более содержательные, нежели гонки многих предшествующих лет. Причиной была следующая возможность: если Хамфри и Никсон закончат гонку, набрав почти равное количество голосов избирателей, при том что Уоллес «возьмет» несколько южных штатов, то ни у кого не будет преимущества в количестве голосов выборщиков от штатов. В этом случае победитель должен быть выбран палатой представителей. Участники голосования считали этот исход не слишком удовлетворительным. Действительно, опрос общественного мнения показал, что 81% американцев отвергли бы институт избирателей и предпочли президента, избранного народным голосованием. Однако в день выборов Уоллес не сыграл существенной роли. Он получил голоса пяти штатов, забрав их у Никсона, а тот привлек на свою сторону весь остальной Юг, за исключением Техаса. По итогам всеобщего голосования преимущество оказалось одним из самых незначительных в истории Америки — всего около 0,7%; перевес же, полученный им в коллегии выборщиков, был довольно весомым. Демократы контролировали и палату представителей и сенат. Лишь 60% избирателей потрудились принять участие в выборах. Двести тысяч участников голосования отдали предпочтение Пэту Полсену. Чехи восприняли победу Никсона, давнишнего участника «холодной войны», как подтверждение того, что США являются противником советской оккупации. Большинство жителей Западной Европы были обеспокоены, считая, что перемены в Белом доме замедлят мирные переговоры в Париже. Жители развивающихся стран предвидели сокращение помощи, предоставляемой им Соединенными Штатами. Арабские государства остались равнодушны к событиям, поскольку и Никсон, и Хамфри были одинаково дружественно настроены по отношению к Израилю. Ширли Чисхольм стала первой женщиной с черной кожей, избранной в палату представителей. Черные получили семьдесят мест на Юге, включая первые в двадцатом веке места в законодательных органах во Флориде и Северной Каролине и три дополнительных места в Джорджии. Однако Никсон завоевал очевидное большинство голосов белого населения Юга. Стратегия, которая подвела Эйба Фортаса, одновременно помогла избранию Никсона, и именно она стала основной стратегией республиканской партии. Республиканцы получали голоса расистов, а демократы — чернокожих, откуда следует, что в Америке больше избирателей-расистов, чем чернокожих. Ни одному демократу со времен Джона Ф. Кеннеди не удалось завоевать большинство голосов белого населения Юга. Это не значит, что все белые южане были расистами, но именно голоса сторонников сегрегации республиканцы стремились получить на Юге. Теперь каждый кандидат от этой партии высказывается о правах штатов. В 1980 году Рональд Рейган начал свою президентскую кампанию в никому не известном захолустном провинциальном городишке штата Миссисипи. Этот городок был известен остальному миру лишь убийством в 1964 году Чейни, Гудмена и Швернера. Но кандидат от республиканцев ни разу не упомянул этих сотрудников Эс-эн-си-си, ставших мучениками. О чем он говорил в городе Филадельфия, штат Миссисипи, начиная свою кампанию? О правах штатов.Глава 21 ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
Я теперь меньше обращаю внимания на второстепенные проблемы; когда двое моих знакомых явились ко мне с красными лицами, разъярившись из-за какого-то пустякового спора, мне захотелось сказать им: «Послушайте, Земля продолжает вращаться вокруг своей оси, не обращая внимания на ваши проблемы. Спорьте исходя из этого...»Том Хейден позднее писал о 1968 годе: «Я думаю, это хорошо, что такой плохой год закончился избранием Ричарда Никсона в президенты». По данным опросов общественного мнения, 51% американцев ожидали, что Никсон будет хорошим президентом, 6% надеялись — «великим», а еще 6% не сомневались, что скверным. Никсон выглядел совсем как мальчик, которому на Пасху дали монетку, а Джордж Уоллес обвинял калифорнийца в том, что он устроил себе кабинет в роскошном номере на тридцать девятом этаже нью-йоркского отеля «Пьер» с видом на Центральный парк, довольно близко к своей десятикомнатной квартире на Пятой авеню. Никсон много работал. Он вставал в семь утра, съедал легкий завтрак, проходил полтора квартала до отеля «Пьер», пересекал вестибюль — как указывали репортеры, «почти незамеченным» — и работал следующие десять часов. Среди посетителей, которые нравились ему больше всего, был обладатель кубка Хейсмэна31 того года О. Дж. Симпсон, звезда Университета южной Калифорнии, пробежавший больше ярдов, чем какой-либо другой футболист в истории спорта. «Собираетесь ли вы использовать открывшиеся перед вами возможности, О-Джей?» — осведомился новоизбранный президент. Что касается двух тысяч высокопоставленных чиновников, занимавших должности, по старшинству следующие за министерскими, то, как сказал Никсон своим сотрудникам, желательно, чтобы при их замещении круг поиска был максимально широким. Помощники избранного президента хорошо усвоили его наставления. У них был текст письма, лично составленного Никсоном, в котором он предлагал адресатам высказывать свои идеи. Они разослали его восьмидесяти тысячам человек согласно справочнику «Кто есть кто в Америке». В результате пошли разговоры о том, что Никсон интересовался мнением Элвиса Пресли, чье имя также упоминалось в этой книге. Обычно президенты предавали гласности имена членов своего кабинета постепенно, одно за другим, однако Никсон, в надежде приручить телевидение, последние десять лет портившее ему карьеру, решил объявить весь список сразу из вашингтонского отеля в самое выигрышное эфирное время и договорился, что это покажут по всем трем телеканалам. Такова была одна из его немногих новаций в отношении телевидения. Однако он питал странное пристрастие к другому техническому средству, которое в свое время погубило его, — магнитофону32. Администрация Джонсона определенным образом ограничивала использование подслушивающей и записывающей аппаратуры, но весной 1968 года конгресс принял закон, значительно увеличивавший число федеральных учреждений, получавших право применять такую аппаратуру, а также оговаривавший большее количество ситуаций, при которых она могла использоваться. Джонсон подписал этот закон 19 июня, но сказал, что, по его мнению, конгресс «предпринял неразумный и опасный шаг, санкционировав подслушивание и запись разговоров федеральными, государственными и местными органами почти в любой ситуации». Даже после утверждения закона Джонсон проинструктировал генерального прокурора Рамсея Кларка, чтобы ограничения при применении подслушивающей аппаратуры продолжали оставаться в силе, но Никсон подверг критике администрацию Джонсона за неиспользование возможностей, которые предоставляет новый закон. Он называл подслушивание и запись разговоров «законным и весьма эффективным средством в борьбе с преступностью».Майкл Коллинз. «Ведя огонь». 1974

Пародия «Йиппи!» на инаугурацию Никсона
У него также были новые идеи в отношении организации подслушивания. В декабре помощники Никсона объявили 6 плане создания подслушивающих станций в Бирмингеме (штат Алабама) и графстве Уэстчестер (штат Нью-Йорк), чтобы президент мог услышать «забытого американца». Этот план подразумевал, что добровольцы будут записывать на пленку разговоры в различных районах, на городских митингах, в школах, на собраниях, а новоизбранный президент будет слушать голоса американцев. «Мистер Никсон говорит, что найдет способ, чтобы правительство услышало забытого человека», — сказал доброволец из Уэстчестера. Съезд в Чикаго продолжал оставаться в центре все более жарких дискуссий по так называемому вопросу о «законе и порядке». Если первой реакцией на волнения было отвращение к поведению Дейли и чикагской полиции, то теперь росло число тех, кто доказывал правоту Дейли и полиции, отстаивавших «закон и порядок». В начале декабря правительственная комиссия во главе с Дэниелом Уокером, вице-президентом и генеральным советником округа Монтгомери, выпустила свой отчет о беспорядках в Чикаго под названием «Конфликт прав». В нем делался вывод, что инцидент возник не из-за одного лишь «полицейского разгула», но во многом был спровоцирован самими демонстрантами и их непристойной бранью. Не только левая, но и официальная пресса указывала, что полиция вполне привыкла к нецензурной лексике, и задавалась вопросом, могло ли это действительно быть причиной полного развала дисциплины. Мэра Дейли не раз уличали в употреблении выражений, не принятых ни в печати, ни на радио. В докладе комиссии рассказывалось о тех, кто стал жертвой полиции, пытаясь спастись от нее, говорилось, что полиция избивала всякого, кто попадался ей под руку. Никто не задавался вопросом, почему пострадали сотрудники и сторонники Маккарти. Журнал «Лайф» сообщал, что самые недисциплинированные проявили наибольшую жестокость, то есть подразумевалось, что это «плохие полицейские», которые не воспринимали приказов. Однако многие из демонстрантов, в том числе и Дэвид Деллинджер, и теперь не сомневались, что дело не в развале дисциплины. «Учиненное полицией насилие было запланировано», — заявил Деллинджер в конгрессе. С другой стороны, оставалось немало людей, считавших действия чикагской полиции совершенно законными. В итоге отчет комиссии Уокера ничего не исправил, ничего не решил и ничего не прояснил. Комиссия палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности провела собственные слушания, вызвав в суд Тома Хейдена и других «новых левых». Правда, не удалось заслушать Джерри Рубина, поскольку он явился во взятом напрокат костюме Санта-Клауса и отказался снять его. Эбби Хоффмана арестовали за то, что он был одет в рубашку, раскрашенную под американский флаг. Его обвинили на основании недавно принятого федерального закона, объявлявшего преступлением публично проявленное «неуважение» к флагу. Председатель комиссии, демократ из Миссури Ричард X. Ичорд, сказал, что доклад Уокера «дал результат, обратный ожидаемому», как и усилия журналистов, освещавших этот сюжет. От острого взора членов комиссии палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности не укрылось, как того и можно было ожидать, что вся эта история — результат коммунистического заговора. В доказательство они ссылались на встречу в Париже Деллинджера и Хейдена с представителями Северного Вьетнама и Вьет-конга. «Насилие повсюду следует за этими джентльменами, как ночь следует за днем», — сказал Ичорд, перефразируя Шекспира. Издательский центр при правительстве США решил не печатать доклад комиссии Уокера, поскольку та отказалась устранить из текста нецензурные выражения, которыми, по свидетельствам, обменивались демонстранты и полиция. Уокер заявил, что убрать эти слова значит «лишить доклад его важного компонента». Сам Дейли хвалил доклад и критиковал лишь его заключение. Когда он демонстративно покидал пресс-конференцию, один из журналистов выкрикнул: «А что же безобразия, учиненные полицией?» Однако мэр ничего не ответил. Закон, на основании которого Эбби Хоффмана арестовали за ношение рубашки, раскрашенной под американский флаг, был одним из актов, принятых конгрессом с целью нанесения удара по антивоенному движению, — республиканцы и демократы соревновались при голосовании за акты, обеспечивавшие «закон и порядок» в условиях усиления репрессий в США. Еще одним актом такого рода в 1968 году стал закон, объявлявший преступлением пересечение границ штатов с целью совершения насильственных действий. Федеральные обвинители в Чикаго рассматривали вопрос о привлечении к суду организаторов демонстраций в Чикаго в соответствии с этим еще не опробованным законом. Но Рамсей Кларк, занимавший при Джонсоне должность генерального прокурора, без энтузиазма отнесся к идее устроить процесс по делу о «заговоре». Ситуация изменилась, когда вступивший в должность Никсон назначил на пост генерального прокурора специалиста по долговому праву из Нью-Йорка Джона Митчелла, который однажды заметил, что вся проблема Кларка в том, «что он слишком философски относился к проблеме прав индивида». Он хотел устроить процесс над чикагскими «заговорщиками», и 20 марта 1969 года Тому Хейдену, Ренни Дейвису, Дэвиду Деллинджеру, Эбби Хоффману, Джерри Рубину, Бобби Силу, Джону Фройнсу и Ли Вейнеру, которых стали называть «чикагской восьмеркой», было предъявлено обвинение. Хейден, Дейвис, Деллинджер, Хоффман и Рубин признали, что участвовали в организации чикагской демонстрации, но отрицали свою причастность к актам насилия, ответственность за которые даже комиссия Уокера возлагала на полицию. Но они были хорошо знакомы с лидером «Черных пантер» Бобби Силом. Во время процесса судья Джулиус Хоффман велел взять под стражу Бобби Сила и лишил слова за то, что тот несколько раз назвал его фашистом. Никто из них не понимал, почему в число обвиняемых попали активисты Эс-ди-эс Фройнс и Вейнер, — только они из всех подсудимых и были оправданы. Остальные подали на апелляцию. Однако Джон Митчелл сам позднее попал в тюрьму за лжесвидетельство при расследовании «Уотергейтского дела». В ноябре на какой-то момент внимание итальянцев привлекла история Франки Виолы. Она вышла замуж за человека, которого любила, — своего бывшего одноклассника. Двумя годами раньше она отвергла молодого человека из богатого семейства, Филиппо Мелодиа, и тот похитил ее и изнасиловал. В таких случаях женщина обычно выходила замуж за своего насильника, чтобы избежать скандала и бесчестья. Такой обычай бытовал у сицилийцев несколько столетий. Но Франка отправилась в суд и заявила Мелодиа, что не любит его и о замужестве не может быть и речи. Ее поступок вызвал восхищение всей Италии. Для Мелодиа это был удар — и не только потому, что его отвергли: по сицилийским законам насильник, если женщина не выходила за него замуж, привлекался к суду, и Мелодиа был приговорен к одиннадцати годам тюремного заключения. 3 декабря Италию парализовали забастовки рабочих и демонстрации студентов, после того как на Сицилии были застрелены двое рабочих-забастовщиков. Анархистская бомба разрушила столовую правительственной резиденции в Генуе. Террористы подбросили листовки с призывом «Долой власть!». 5 декабря Рим охватила всеобщая забастовка, но уже 6 декабря рабочие прекратили стачку, поскольку им пообещали повысить зарплату, и оставили десятки тысяч студентов на произвол судьбы. Во Франции идея слияния рабочего и студенческого движений была до сих пор жива, но по-прежнему терпела неудачу. 4 декабря Жак Соважо встретился с лидерами профсоюзов в надежде создать единый фронт, чего не удалось сделать весной. Де Голль искусственно поддерживал франк более года просто потому, что верил в «крепкий франк»; теперь же курс франка стал сильно меняться и началось его падение на мировых валютных рынках. Вместо того чтобы пойти на обычный финансовый маневр — девальвацию, де Голль шокировал Европу и весь финансовый мир, проведя серию крутых мер по сокращению расходов на социальные нужды с целью поддержать падающий курс валюты. Французские рабочие пришли в ярость, и 5 декабря начались забастовки. Но 12 декабря правительство договорилось о прекращении стачки, и учащиеся опять оказались предоставленными самим себе, когда перекрыли улицы Нантера в знак протеста против попыток полицейских допрашивать студентов. Французское правительство пригрозило исключить «студенческих агитаторов» из университетов. Когда де Голля постигали все новые удары судьбы, каждый раз звучали предсказания, что он смягчится: и когда его престиж упал после весенних волнений и забастовок; и когда советское вторжение в Чехословакию поставило под сомнение его внешнеполитический курс; и когда экономика пострадала из-за падения франка. Однако теперь, в конце года, к полному разочарованию европейских партнеров, де Голль в третий раз заблокировал попытку Великобритании вступить в Общий рынок. 7 ноября Беате Кларсфельд, немка, жена выжившего в войну французского еврея и известного охотника за нацистами Сержа Кларсфельда, прибыла на социал-демократический съезд в Берлине, подошла к канцлеру Кизингеру, обвинила его в том, что он был нацистом, и дала ему пощечину. К концу 1968 года западногерманские власти отправили в тюрьму за преступления, совершенные при нацистах, 6221 немца — число само по себе значительное, но составлявшее лишь малый процент от общего числа нацистских преступников. В 1968 году в Западной Германии осудили только треть нацистов — в подавляющем большинстве мелкие, малозаметные фигуры. Несмотря на активность и жестокость нацистских судов при Гитлере, ни один судья не был отправлен за решетку. 6 декабря суд в Берлине оправдал Ханса Иоахима Рейзе, нацистского судью, приговорившего к смерти 230 человек. Ему предъявили обвинение в серьезнейшем злоупотреблении законом, состоявшее из семи пунктов. Однако суд счел, что обвинение доказало лишь факт злоупотребления законом, но не намерение. При вынесении приговора суд основывался на более раннем прецеденте, когда решили, что судьи не виноваты, «если они были ослеплены нацистской идеологией и исходили из понимания закона, которое господствовало в то время». Когда Рейзе остался в зале суда, толпа окружила его, крича: «Позор! Позор!» — а один пожилой человек подошел к нему и с размаху ударил по лицу. На следующей неделе восемь тысяч человек прошли маршем через Берлин в знак протеста против оправдания Рейзе. Но времени уже не оставалось. Срок действия федерального закона о наказании за нацистские преступления истекал 31 декабря 1969 года. Летом 1968 года испанское правительство ввело на территории баскской провинции Гипускоа военное положение. В деревне Ласкано местный священник высказал порицание органисту за то, что тот играл испанский национальный гимн во время совершения таинств. Священника наказали за его критические высказывания. Это было сделать тем проще, что органист — надо же было так случиться — был мэром деревни. Когда мэр отсутствовал, его дом сожгли. Власти арестовали пятерых молодых басков и продержали их в заключении пять дней. По словам очевидцев, их привязали к стульям и били. Они сознались. Обвинение потребовало для них во время суда смертной казни, не предъявив никаких доказательств, кроме показаний полицейских. В декабре трое были приговорены к сорока восьми годам лишения свободы, один — к двенадцати, еще один — оправдан. Однако 16 декабря испанское правительство решило продемонстрировать свою приверженность справедливости и отменило указ, изданный еще королем Фердинандом Арагонским и королевой Изабеллой Кастильской, об изгнании из Испании всех евреев, которые не исповедовали католицизм. В июне, когда Том Хейден потребовал, чтобы появились «два, три, много Колумбийских университетов», он добавил, что его цель — чтобы США «или изменились, или отправили войска для оккупации американских кампусов». В декабре он получил второй вариант. 5 декабря, после недели беспорядков и драк между полицией, студентами и сотрудниками государственного колледжа Сан-Франциско, вооруженные полицейские, распыляя слезоточивый газ, начали очищать кампус. Президент колледжа С.И. Хаякава, прибывший туда неделей раньше, ясно определил свою позицию, осудив движение за свободу слова 1964 года. Он заявил перед более чем двухтысячной толпой студентов: «У полиции есть приказ очистить колледж. Здесь более нет наивных наблюдателей». Протесты начались с требований чернокожих студентов вести для них курсы лекций. Последние три недели года университет оставался открытым, однако хорошо вооруженные группы полицейских постоянно атаковали студентов, когда те собирались для акций протеста. Находившийся рядом колледж Сан-Матео, который был закрыт из-за происходивших событий, открылся вновь 15 декабря. По словам его президента, он был похож на военный лагерь: повсюду разместились вооруженные полицейские, готовые в любую минуту пресечь беспорядки. Большинство граждан поносило президента за разгром кампуса в ходе столкновений. Грейсон Кирк, который ушел в отставку в августе, в декабре въехал в двадцатидвухкомнатный особняк в Ривердейле, районе Бронкса. Особняк был предоставлен Колумбийским университетом, владевшим этой собственностью. В начале декабря англичане, поддерживавшие федеральное правительство Нигерии, начали менять свое отношение к войне в Биафре. Если раньше они настаивали на неминуемой победе Нигерии, то теперь стали понимать, что война зашла в тупик. США также изменили свою политику. Джонсон приказал разработать план масштабной программы помощи (его бюджет составлял двадцать миллионов долларов), осуществляемой по воздуху, по земле и по морю. Французы уже оказывали поддержку Биафре, что вызывало со стороны Нигерии яростные упреки: дескать, Биафра продолжает держаться лишь благодаря этой помощи. Самолеты, доставлявшие грузы в Биафру, отправлялись каждую ночь в шесть вечера из Либревиля (Габон). Однако Биафра могла продолжать борьбу лишь в течение ближайшего года, и к моменту ее капитуляции 15 января 1970 года около миллиона лиц гражданского населения умерло от голода. После одиннадцати месяцев переговоров восемьдесят два члена команды американского судна «Пуэбло» были освобождены в Северной Корее в обмен на признание правительства США, что их поймали при совершении шпионских действий. Как только восемьдесят два американца оказались в безопасности, правительство США опротестовало свое заявление. Некоторые считали, что это странный способ для нации вершить свои дела; другие полагали, что это невысокая цена за освобождение членов команды без военного вмешательства. Чем именно занимался экипаж «Пуэбло» в тот момент, когда его захватили северокорейцы, так и осталось неизвестным. Во Вьетнаме сведения о массовых убийствах, осуществлявшихся американской дивизией в Ми-Лай в марте, продолжали распространяться по всему региону. Осенью письмо Тома Глена из 11-й бригады, сообщавшего о массовых убийствах, пришло в штаб дивизии, и нового начальника оперативного отдела, майора Колина Пауэлла, попросили написать ответ. Не спросив ни о чем Глена, он написал, что никаких оснований для обвинений нет — в письме были просто неподтвержденные слухи. Затем в сентябре следующего года лейтенанту Уильяму Кэлли было предъявлено обвинение в многочисленных убийствах, и к ноябрю эта история получила широкую известность. Тем не менее Пауэлл заявил, что впервые услышал о массовых убийствах лишь через два года после того, как они произошли, а до этого ничего о них не знал. Ничего о роли Пауэлла в «прикрытии» этих преступлений — он даже не присутствовал во Вьетнаме во время убийств — не было известно общественности до тех пор, пока журнал «Ньюсуик» не сообщил эти факты в 1995 году в связи со слухами о намерении Пауэлла баллотироваться в президенты. Вопреки ноябрьскому заявлению Джонсона об одностороннем прекращении бомбардировок Северного Вьетнама и выраженной им надежде, что это приведет в интенсивным и продуктивным переговорам, 6 декабря служба призыва объявила о том, что призыв должен быть увеличен до трех тысяч человек в месяц. К середине сентября лица, участвовавшие в мирных переговорах в Париже, говорили, что Джонсон «обещал больше, чем мог выполнить» по части перспектив мирного урегулирования в преддверии выборов.
«И дети?И дети».Плакат, созданный в 1970 году, после того как стало известно о массовых убийствах в Ми-Лай.
В Париже под конец года участники мирных переговоров предприняли существенное и решительное усилие по решению вопроса о... форме стола. Ханой был полон решимости сесть за квадратный стол, что было абсолютно неприемлемо для Южного Вьетнама. Другие делегации предлагали круглый стол. К концу года было предложено одиннадцать вариантов форм воображаемого стола (при том, что стол у них был всего один). За вопросом о столе крылись более сложные проблемы: например, делегаты от Северного Вьетнама настаивали на присутствии вьетконговцев, в то время как вьетконговцы отказывались вести диалог с представителями Южного Вьетнама, но хотели говорить с американцами. Сенатор Джордж Макговерн, выдвинутый в последнюю минуту кандидат — сторонник мира, на Чикагском съезде сказал, что южновьетнамский вице-президент Нгуен Сао Ки — «маленький дешевый диктатор», и обвинил его и других правительственных чиновников Южного Вьетнама в том, что они задерживают течение мирных переговоров. «В то время как Ки флиртует в шикарных заведениях Парижа и торгуется насчет того, за круглым или квадратным столом будет он сидеть, американцы умирают, обеспечивая у него на родине существование его продажного режима». Сенаторы, придерживавшиеся антивоенных настроений, избегали откровенных высказываний о вьетнамцах-южанах (одни — из уважения к Джонсону, другие — для того чтобы не нарушать ход переговоров). Когда Джонсон ушел со своего поста, они пожелали высказываться более откровенно. Некоторые утверждали, что хотят подождать до инаугурации Никсона, однако Макговерн заговорил за две недели до этого события. Опрос общественного мнения показал, что на данный момент незначительное большинство американцев приветствует идею отступления и отказа от военных действий в пользу Южного Вьетнама. Макговерн настаивал на вдумчивой оценке уроков Вьетнама. По его мнению, одним из величайших уроков стали «губительные последствия проведения исторических аналогий». Хотя не существовало параллелей между тем, что произошло в Юго-Восточной Азии в начале шестидесятых и в Европе в конце тридцатых, поколение Второй мировой войны оказалось втянуто в гражданскую войну во Вьетнаме в том числе и потому, что они были свидетелями попустительства Гитлеру. Макговерн говорил: «В ходе этой войны ежедневно велся подсчет убитых, и результаты преподносились нам год за годом подобно счету футбольных матчей». Военные поняли, что это тоже было ошибкой. Они даже завышали цифры потерь. Впоследствии они пытались представить войны настолько бескровными, насколько это было возможно, и сообщали об убитых врагах как можно меньше. Военные сделали из событий собственные выводы, причем далеко не все совпадали с теми, которые имел в виду Макговерн, пытаясь начать дискуссию. Военные заключили, что в эпоху телевидения журналистов следует контролировать куда более строго и что надо тщательно следить за «имиджем войны». Генералы должны были думать о том, как будет выглядеть битва по телевидению и как контролировать это зрелище. Идея армии, комплектуемой путем призыва, оказалась порочной, поскольку она порождала весьма серьезные возражения общественного мнения (к тому же появлялось слишком много солдат-отказников). Лучше было иметь вооруженные силы, сплошь укомплектованные контрактниками, — людьми, нуждающимися в работе и возможностях сделать карьеру. Впоследствии, когда студентов перестали призывать в армию, войны перестали быть первоочередной проблемой, обсуждавшейся в кампусах. Кроме того, воевать следовало лишь против более или менее беззащитных стран, в победе над которыми решающую роль играло техническое превосходство; против врагов, способных оказывать сопротивление неделями, но не годами. 1968 год закончился в точности так же, как начался: Соединенные Штаты обвинили Вьетконг в нарушении объявленного им же рождественского прекращения огня. Но в течение этого года во Вьетнаме погибло 14 589 американских военнослужащих, в результате чего общее количество потерь американцев увеличилось вдвое. Когда США в 1973 году наконец ушли из страны, 1968-й остался годом наиболее высоких потерь за всю войну. В конце года Чехословакия продолжала выказывать открытое неповиновение. Трехдневную общенациональную сидячую забастовку ста тысяч студентов поддержали рабочие. Дубчек выступил с речью о том, что правительство делает все возможное для продолжения реформ, однако населению следует прекратить акты неповиновения, которые способны вызвать лишь репрессии. В действительности же в декабре, когда границы вновь перекрыли, последние реформы были свернуты. 21 декабря Дубчек выступил в последний раз в 1968 году с речью, адресовав ее ЦК Коммунистической партии Словакии. Он продолжал настаивать на том, что реформы должны проводиться и что они будут способствовать коммунистической демократии. Если не считать нескольких упоминаний о «нынешних трудностях», можно было подумать, что речь была написана в лучшие дни Пражской весны. «Мы должны гарантировать основополагающие права и свободы, соблюдать социалистическую законность и полностью реабилитировать несправедливо осужденных граждан — такова неотъемлемая позитивная особенность нашей послеянварской политики». В 1969 году Дубчек был отстранен от должности. В 1970 году его исключили из Коммунистической партии. Он и его реформы, «социализм с человеческим лицом», постепенно исчезли из истории. Млынарж, лишившийся своего поста в 1968 году, понял, что не сможет больше участвовать в политической жизни, как того хотел, и сказал: «Мы были круглыми дураками. Но наша глупость была в том, что мы считали возможным реформировать коммунизм». В апреле 1968 года Дубчек дал интервью французской коммунистической газете «Юманите»: «Я не знаю, почему социализм, который основывается на четком функционировании всех демократических принципов и полного права человека на выражение своих взглядов, является чем-то ущербным. Напротив, я глубоко убежден, что атмосфера демократии в партийной и общественной жизни приведет к укреплению единства нашего социалистического общества и мы склоним к активному сотрудничеству всех одаренных и талантливых граждан нашей страны». Дубчек, бюрократ с приятной улыбкой, являл собой смесь противоречий, способную сбить с толку. В ходе всей своей карьеры он был винтиком в машине тоталитаризма, а когда достиг вершины власти, то объявил себя демократом. Он был прагматиком и мечтателем одновременно. Он умел искусно маневрировать в причудливом лабиринте коммунистической политики. Но в конце даже он признал, что мог быть и невероятно наивным. К концу 1968 года Советы ощущали обеспокоенность, однако все еще не понимали, сколько они потеряли, разрушив иллюзии Пражской весны. Дубчек попытался отступить тем же путем, что Гомулка в 1956-м, обуздав великие стремления, снизив уровень ожиданий народа, поладив с Москвой. Но Дубчек не был Гомулкой. По крайней мере такой вывод сделала Москва, в то время как народ Чехословакии по-прежнему гадал, кто же он такой. Часто забывают, что в 1968 году Александр Дубчек был противником войны, отказавшимся от решения проблемы военным путем даже ценой собственного спасения. Этот лидер никому не дал ни запугать себя, ни купить, никогда не играл в «холодную войну», никогда не обращался к капиталистам, никогда не нарушал договора и даже своего слова — и стоял у власти (причем его власть была подлинной) лишь 220 восхитительных дней. То были дни, когда невозможное казалось возможным, как было написано в лозунге на одной из парижских стен в мае: «Будь реалистом, проси о невозможном». После его смерти никто не мог с уверенностью сказать, что знал его по-настоящему. Вторжение советских войск в Чехословакию 20 августа 1968 года ознаменовало начало конца Советского Союза. Финал же наступил спустя более чем 20 лет, и Запад был потрясен: он уже забыл о том, что произошло тогда. Но во время вторжения даже журнал «Тайм» предсказывал конец. То был конец героической Советской России: страны, которой очень многие восхищались, поскольку она отважилась в одиночку выстоять и построить первое социалистическое общество, поскольку она играла роль могучего защитника в братстве социалистических стран, поскольку она пожертвовала миллионами жизней, чтобы освободить Европу от фашизма. Ее более не считали доброй. После падения Советского Союза Дубчек написал, что СССР был обречен из-за одного существенного порока: «Эта система запрещала изменения». Падение длилось дольше, нежели предсказывало большинство. В 2002 году Михаил Горбачев, последний советский лидер, говорил своему давнему другу, бывшему сотруднику правительства Дубчека Зденеку Млынаржу: «Подавление Пражской весны, которая была попыткой прийти к новому пониманию социализма, также породило очень резкую реакцию в Советском Союзе, что привело к фронтальному подавлению всех форм свободомыслия. Государственный аппарат, обладавший идеологической и политической властью, действовал решительно и бескомпромиссно. Это оказало воздействие на всю внутреннюю и внешнюю политику и на развитие советского общества как такового: оно впало в состояние глубокого застоя». Мечта Дубчека — путь, который так и не был найден, — весьма отличалась от произошедшего, то есть от коллапса коммунизма. Он и многие другие коммунисты всегда верили, что злоупотребления советской системы можно устранить с помощью реформ, что коммунизм можно заставить работать. После вторжения советских войск никто не мог больше поверить в это, а после того, как эта вера была утеряна, верить было уже почти не во что. Без этой мечты коммунисты, думавшие о реформах, не имели другого выбора, кроме как обратиться к капитализму, в котором они находили неприемлемые недостатки. Они сделали ту же ошибку, что и в 1968 году: капитализм можно изменить, и тогда он приобретет человеческое лицо. В Польше студенты и интеллектуалы 1968 года в 80-е наконец-то сумели привлечь рабочих на свою сторону и избавились от коммунизма. Яцек Куронь, давая интервью в 2001 году, чуть не плача, говорил о новой системе: «Я хотел создать демократию, но я как следует не продумал, каким образом. И вот доказательство: я думал, что капитализм может реформировать сам себя, все необходимое, например самоуправление рабочих, может быть достигнуто позднее. Но затем оказалось, что уже слишком поздно. Вот доказательство моей слепоты... Проблема коммунизма состоит в том, что централизация приводит к диктатуре центра, и нет никаких способов изменить это. Капитализм же представляет собой диктатуру богатых. Я не знаю, что делать. Контроль центра бессилен остановить ее. Единственное, о чем я сожалею, — это о своем участии в первом правительстве (посткоммунистическом. — Авт.), Мое участие помогло людям принять капитализм. Я думал, что капитализм в состоянии реформировать сам себя. Но это не так. Здесь, как в России, контроль осуществляет маленькая группа, поскольку капитализм нуждается в капиталах. Теперь здесь (в Польше) половинанаселения находится на грани голода, а другая преуспевает». Давая интервью в конце года, Сэмюел Элиот Морисон, один из самых уважаемых американских историков, которому тогда был восемьдесят один год, сказал: «Нам и прежде приходилось переживать периоды отклонения от нормы, когда царили беспорядок и насилие, казавшиеся угрожающими и неразрешимыми в тот момент. И все же мы сохранили себя как нация. Сущность нашей демократии состоит в том, что в ней есть место компромиссу — у нас есть способность устанавливать равновесие между властью и свободой. И я убежден, что и в этот раз мы установим новое равновесие и в ходе этого процесса у нашего народа выработается новое представление об отношениях между людьми». Для всего мира оказалось справедливо то, что увидел в Польше Яцек Куронь: изменения в мире оказались весьма далеки от того, чего хотели люди, стремившиеся изменить мир. Но это не значит, что 1968 год не изменил мир. Активисты антивоенного движения не положили конец войне Америки за гегемонию, но благодаря их усилиям она стала вестись по-иному и ее иначе стали преподносить публике. Оказывая противодействие призыву, активисты антивоенного движения научили генералов, что им следует делать для продолжения войны. С точки зрения истории увязывание фундаментальных сдвигов с каким-то конкретным моментом всегда грешит неточностью. Ведь были и 1967-й, и 1969-й, и предшествовавшие годы, сделавшие 1968-й тем, чем он был. Но 1968-й был эпицентром сдвига, фундаментальных изменений, рождения нашего современного общества, в котором главенствующее положение занимают средства массовой информации. Вот почему популярная музыка того времени — главное выражение поп-культуры — осталась значимой для последующих поколений молодежи. То было начало конца «холодной войны» и зарождение нового геополитического порядка. В рамках этого порядка произошло изменение самой природы политики и лидеров. Закрепился подход Трюдо к лидерству, когда известным становится стиль, а не сущность той или иной фигуры. Маршалл Маклу-ан, великий пророк шестидесятых, предсказывал: «Политик будет только счастлив — и даже слишком счастлив — отречься от себя в пользу своего имиджа, поскольку имидж станет играть столь важную роль, сколь возможно». Политические лидеры поколения 1968 года, пришедшие к власти, такие как Билл Клинтон в США или Тони Блэр в Великобритании, продемонстрировали интуитивное согласие с этим представлением о лидерстве. В 1968-м «истеблишмент» часто с надеждой высказывал мысль о том, что действия всей этой радикально настроенной молодежи являются следствием ее молодости. Когда эти люди повзрослеют, они, несомненно, «успокоятся» и займутся зарабатыванием денег. Сила капитализма, подобно мексиканской ИРП, заключается в его безграничной вере в свою способность купить любого человека. Но в действительности это поколение осталось поколением активистов. Опросы общественного мнения, проводимые в Соединенных Штатах, показывают, что именно молодежь, особенно в возрасте от восемнадцати до двадцати одного года, получившая право голосования благодаря деятельности активистов в 1968 году, наименее заинтересована в том, чтобы участвовать в выборах.

«Назад, к нормальному состоянию». Плакат парижских студентов 1968 года.
В октябре 1968 года, когда Том Хейден давал показания перед Национальной комиссией по вопросам насилия и его предотвращения, судья А. Лион Хиггинботам спросил его, верит ли он вто, что, если наделить восемнадцатилетних правом голосовать, это поможет молодежи преодолеть разочарование. Хейден предупредил, что, если они лишат избирательного права всех, их собственное разочарование будет еще сильнее. Большинство лидеров 1968 года либо продолжали активно участвовать в политике, подобно Даниэлю Кон-Бенди и Тому Хейдену, либо стали журналистами или преподавателями. Таковы наиболее очевидные пути попыток изменить мир. Адам Михник, ставший редактором газеты, имеющей наибольший тираж в Центральной Европе (он никогда не думал, что ему уготована такая судьба), часто встречается с теми, кого во Франции называют людьми шестьдесят восьмого. «Я могу в один миг распознать человека шестьдесят восьмого года, — говорил он. — Дело не в политике, а в способе мышления. Я встречался с Биллом Клинтоном и убедился, что он именно таков». Конечно, один из главных уроков 1968-го заключался в следующем: когда одни люди пытаются изменить мир, другие, кровно заинтересованные в том, чтобы мир оставался прежним, не остановятся ни перед чем, чтобы заставить реформаторов замолчать. В 1970 году четыре участника антивоенной демонстрации в Государственном университете Кента были застрелены. И тем не менее люди всего мира поняли, что они не бессильны, что они могут выйти на улицы — так, как это сделали в 1968 году. И политические лидеры, порожденные «медийным духом» 60-х, весьма озабочены тем, что народные движения игнорируются и это приводит к тяжелым последствиям. Люди младше двадцати пяти лет пользуются в мире не слишком большим влиянием. Но то, что они могут сделать, если готовы выступить, поражает. Помните 1968 год? В середине 90-х, когда студенты начали устраивать акции протеста в Париже, правительство Миттерана заинтересовалось этим так, как не интересовалось правительство де Голля. Миттеран помнил 1968 год, как и все до единого в его правительстве. Когда во время съезда Всемирной организации труда в Сиэтле, проходившего с 29 ноября по 3 декабря, множество демонстрантов, собравшихся в огромные толпы, выразили свой яростный протест против глобализации, это произвело такое впечатление на президента Клинтона, рьяного сторонника мировой торговли, что с тех пор он регулярно проводил обсуждения движения антиглобалистов. 1968 год был ужасным годом, и все же многие потом испытывали по нему ностальгию. Тогда во Вьетнаме погибли тысячи, в Биафре голодали миллионы, в Польше и Чехословакии идеализм потерпел крах, в Мексике произошли массовые убийства, оппозиционеры во всем мире подвергались жестоким избиениям, а два американца, на которых мир возлагал самые большие надежды, погибли, — несмотря на все это, для многих то был год величайших возможностей, и они тоскуют о нем. Как написал Камю в «Бунтующем человеке», те, кто тоскует о мирных временах, «жаждут не облегчения, а того, чтобы замолчала нужда». В 1968 году значительные слои населения по всему миру отказались молчать о том, что они считали неправильным. Их нельзя было заставить замолчать. Их было слишком много, и если они не имели другой возможности выразить свое недовольство тем, что в мире что-то происходит не так, они выходили на улицу и кричали об этом. И это дало миру надежду — столь редкое чувство! — дало ощущение того, что если где-то что-то не так, то всегда найдутся люди, которые выразят это и попытаются это изменить. Однако к концу 1968 года многие почувствовали усталость, злость и тоску по хорошим новостям. В самом конце года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предоставило такой сюжет. Всего семь лет назад, когда Америка казалась гораздо моложе, когда политические убийства виделись чем-то таким, что происходит в других, более бедных и менее стабильных странах, а поколение, которому суждено было сражаться, умирать и протестовать против войны во Вьетнаме, еще ходило в школу, президент Кеннеди обещал, что люди достигнут Луны до конца десятилетия. 25 мая 1961 года он сказал: «Я считаю, что нация должна принять на себя обязательство достичь этой цели до того, как завершится это десятилетие, — обязательство отправить человека на Луну, с тем чтобы он высадился там и благополучно вернулся на Землю. Ни один космический проект в этот период не произведет на человечество такого впечатления и не будет иметь большего значения для долгосрочных исследований космоса; и ничто не будет стоить стольдорого и не потребует столь значительных усилий. Можно утверждать с полным правом, что на Луну отправится не один человек — то будет целая нация». Новое поколение 60-х волновалось, слушая сообщения о первых полетах в космос по радио и по школьным сетям радиовещания в классах. Возникло ощущение, что настала новая эпоха исследований, — ощущение, подобное тому, какое испытывали люди в пятнадцатом веке. Но затем по каким-то причинам стало казаться, что космические исследования постепенно угасли — по крайней мере фокус общего внимания сместился. Молодые люди отправлялись не на Луну, а во Вьетнам. Время от времени в публикациях сообщалось, что бюджет НАСА пришлось сократить, чтобы обеспечить денежными средствами вьетнамскую войну. Предсказание Кеннеди о том, что полет на Луну будет стоить очень дорого, сбылось: за период с момента создания НАСА 1 октября 1958 года до ее десятилетия (1 октября 1968) эта организация истратила сорок четыре миллиарда долларов на различные проекты, связанные с космосом. Затем, в конце сентября, люди словно получили возможность вернуться в более спокойные времена. Космические соревнования — гонки к Луне — возобновились, как будто и не было никакого советского вторжения в Чехословакию. Советы запустили аппарат «Зонд-5» вокруг Луны, и казалось, что очень скоро они отправят туда и космонавта. В октябре американцы отправили трех человек на ракете «Аполлон-7», летавших вокруг Земли одиннадцать дней на космическом корабле, предназначенном и для полетов на Луну. Испытания этого корабля впервые прошли в январе (без пассажиров). Проект «Аполлон-7» был осуществлен столь успешно (по утверждениям НАСА, «идеальный полет»), что НАСА решило сделать рывок. «Апол-лон-8», который, как планировалось, должен был повторить полет «Аполлона-7», вместо этого был выведен с околоземной орбиты и отправлен на Луну. Затем в конце октября Советы запустили «Союз-3» с человеком на борту и, как никогда прежде, приблизились к тому, чтобы достичь Луны. Менее романтичным, однако гораздо более значительным событием, совершившимся ровно через десять лет после первой передачи, осуществленной с помощью спутниковой связи (тогда прозвучало рождественское обращение Эйзенхауэра), стал запуск «Интелсат-3» — первого из новых серий спутников связи, благодаря которым «живое» вещание распространялось на весь мир. Новые спутники увеличили возможности проведения телепередач и телефонных коммуникаций более чем вдвое. Для телевидения настала новая эра. В преддверии Рождества запуск «Аполлона-8» был назначен на 21 декабря. Многие предсказывали, что Советы опередят трех астронавтов на пути к Луне. Сэр Бернард Лоуэлл, ведущий астроном и глава обсерватории «Джодрел бэнк» в Британии, заявил, что проект не обеспечит получения научной информации, достаточно ценной, чтобы оправдать риск. НАСА откровенно признавало, что в этой миссии больше риска, чем пользы. Предполагался выход корабля на окололунную орбиту, что прежде не осуществлялось пилотируемыми кораблями. Учитывалась и возможность того, что аппарат застрянет на постоянной орбите и превратится в своего рода искусственный спутник Луны. НАСА также подтвердило, что проект не был научным. Его целью являлись развитие и отработка на практике навыков, необходимых для посадки на Луну. «Аполлон-8» был запущен согласно плану, и качество телепередачи оказалось очень высоким. Миллионы были поражены. Приблизившись к Луне, корабль облетел вокруг нее и послал из космоса первые, изумившие всех фотографии нашей голубой с белым планеты. В черно-белом варианте изображения попали на первые полосы газет всего мира. Телевещание и фотографии с «Аполлона-8», осуществлявшиеся в первый «глобальный» год, подобно другим событиям, ставшим вехами 1968-го, вызвали ощущение, что это событие видит весь мир. В день Рождества три астронавта облетели вокруг Луны всего в семидесяти милях над поверхностью; оказалось, что она серая, пустынная и холмистая. Затем они запустили двигатели и направились к нашей планете с ее голубыми морями, буйной растительностью и бесконечными раздорами. Это событие 1968 года стало мгновением всеобщего восторга при мысли о будущем. Расизм, нищета, войны во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Биафре — все это было показано со стороны, и все люди ощутили то, что почувствовал астронавт Майкл Коллинз следующим летом, оставшийся на окололунной орбите, когда его товарищи по команде высадились на поверхность. «Я действительно верю, что если бы политические лидеры всего мира смогли увидеть свою планету с расстояния, скажем, сто тысяч миль, их точка зрения коренным образом изменилась бы. Имеющие для всех значение границы стали невидимы, этот кричащий аргумент внезапно лишился какого бы то ни было значения. Крохотный шар будет продолжать спокойно вращаться, не замечая того, что кто-то что-то разделил на нем, являя собой нечто единое, которое взывает ко всеобщему пониманию, к отношению к себе как к единству. Земля должна стать такой, какой она видна: бело-голубой, а не капиталистической или коммунистической; бело-голубой, а не богатой и бедной; бело-голубой, а не завистливой или той, что служит предметом зависти».
Земля в последнюю неделю 1968 г. Фотография, сделанная с «Аполлона-8» над обратной стороной Луны.
Итак, год закончился с ощущением, испытанным Дантовым путешественником, который наконец выбрался из ада и поглядел на звезды.Мой вождь и я на этот путь незримый Ступили, чтоб вернуться в ясный свет, И двигались все вверх, неутомимы, Он впереди, а я ему вослед, Пока моих очей не озарила Краса небес в зияющий просвет; И здесь мы вышли вновь узреть светила. 33Данте. Ад.
Последние комментарии
4 часов 9 минут назад
4 часов 18 минут назад
4 часов 24 минут назад
4 часов 44 минут назад
4 часов 53 минут назад
5 часов 14 минут назад