[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Карен Молинэ Белладонна роман о возмездии
Посвящается Джеки, с любовью
Прищур тяжелых век, что прячут, как алмаз,Суровый взгляд зрачков, смягчившийся на час.И руки холодны, и, как змея, жестокКроваво-красных губ отравленный цветок.Боль плавится в слезах и дарит наслажденье.Смерть кровью залита и превратилась в жизнь…Суинберн,«Долорес, Богоматерь семи страданий»
Маленькая веселая припевка
Белладонна — нежный стон,Хороша, как сладкий сон,Мимолетный легкий шаг;Слезы сладкие в глазах,Сладкий яд в ее устах.Белладонна — грозный враг.
Белладонна — нежный стон
Аромат убийцы — сильнейшее возбуждающее средство. Сладкий, сладкий яд — так ее называют. Красота прямиком из ада. Вам хочется дышать одним воздухом с ней, впитывать молекулы ее славы, как будто один-единственный глоток этого эликсира способен преобразить вашу скучную, рассудительную жизнь. Не отрицайте. Вы и сами знаете, что жаждете услышать фантастическую историю несравненной Белладонны полностью, от начала до конца — настоящую историю, а не те ложные выдумки, что множатся, будто гиены у трупа, с жадностью выискивая обрывки сплетен. Так что запаситесь терпением. Сядьте поудобнее. Представьте, что это вы, а не я, сочиняете ядовито-сладчайшие припевки, распространяете слухи — понемногу, по капельке. Ладно, ладно, признаюсь: не по капельке, а помногу. Я стараюсь не лгать, но иногда просто не могу удержаться и слегка преувеличиваю. Ну почему я должен портить витиеватую нить моего повествования, вплетая в нее чистую правду? — Мне не нужна правда, — с жаром говорит Белладонна. — Я не ищу правды. Я ищу возмездия. La vendetta. Ого, как вы вздрогнули! Вам стало любопытно? А вы испорчены, правда? Милашка Белладонна — звучит так сладко, но она никогда не была милашкой. Никогда, что бы о ней ни шептали. — Кому нужны приятные люди? — спрашивает она, пожимая плечами. — Приятный человек ничего не добьется. Приятные слова ни к чему не приведут. Не ждите, чтобы она была приятной. Приятные скучны. Их жизнь лишена опасностей. Она добилась богатства отнюдь не благодаря приятным манерам. — Не в деньгах счастье, а в их количестве, — горько смеется она. — В этом мире женщину может защитить только власть, которую можно купить за деньги. Защитить от света. От мужчин. От него. Деньги. И еще — сердце, не знающее прощения. Думаю, многие мужчины обладают такой же беспощадностью, что и она, но многие ли из них решатся выстроить для своих страстей целое царство возмездия? Вы считаете, что отмщение непристало светской женщине? Тем хуже для вас. Finita la commedia. Разрешите представиться. Томазино Ченнини, ваш покорный слуга. Мастер на все руки, хорош в любом ремесле. Однажды на досуге мне довелось прочитать все книги в обширной библиотеке, поэтому я стал надежным источником самой разнообразной информации; благодаря моим особым личным качествам я стал надежным домоправителем множества семейств; я неутомимый слушатель и поэтому стал бездонным вместилищем слухов и сплетен; у меня потрясающая интуиция, которая дает себя знать подергиваниями в коленной чашечке, поэтому я умею безошибочно оценивать характер каждого человека. Я знаменит своим мятным джулепом, который подают в блестящих серебряных бокалах, и еще более знаменит своей близостью к Белладонне. Не забывайте об этом. Еще я прихожусь младшим братом Маттео Ченнини — он появился на свет на жалких четыре минуты раньше меня. Пришло время признаться, что нас с братом нельзя назвать полноценными людьми. Точнее, полноценными мужчинами. Родились мы, естественно, нормальными, но кастрация — неподходящая тема для приличной беседы. Впрочем, иногда приятно бывает видеть, как мгновенно вытягивается лицо любого мужчины, стоит шепнуть ему на ухо наш маленький секрет. Неуклюжий толстяк, я стал евнухом так давно, что уже забыл, каково это — чувствовать женщину. Но, не будь мы уродами, Белладонна ни за что не доверилась бы нам, и эта история звучала бы совсем по-иному. Кроме того, я предпочитаю не думать о своей утраченной мужественности. У меня много других достоинств. — Ты — шедевр разрушенной цивилизации, — восторженно говорит обо мне Белладонна. Я для нее незаменим — безупречный стиль, острота суждений, надежный товарищ на все случаи жизни. Я обожаю свою работу! Я познакомился с Белладонной, когда она приближалась к последней грани, когда шла к концу самая черная полоса, сотворившая ее, когда мы с Маттео были… Проклятье. Слишком рано рассказывать вам о том предательстве, хотя каждая повесть, что ни говори, должна рано или поздно добраться до конца. Итак, начну еще раз: это роман о возмездии.Хороша, как сладкий сон
Закройте глаза, и я покажу вам женщину, полную жестокой неуловимости. Вы ею восхищаетесь и презираете. Те, кто беден, наполняются убийственной завистью; те, кто богат, горят высокомерным, желчным восхищением. И все-таки вы жаждете войти в ее мир, словно вам не терпится похитить у нее и присвоить себе главный секрет — кто же она такая? Я знаю, вы задаетесь вопросом — есть ли у нее сердце? Это не имеет значения; у нее хватит денег, чтобы купить и сердце, и все, что заблагорассудится. Смотрите: она сидит не мигая, холодная как лед, но стоит ей указать на вас кончиком веера или заговорить о том о сем своим глубоким голосом, или просто улыбнуться, и кровь начинает быстрее течь по вашим жилам. А если она рассмеется — о, Белладонна, ее завораживающий смех очарует даже глухого — вам захочется поймать этот сладкий звук, посадить его, как джина, в бутылку, чтобы раскрывать и слушать тогда, когда мир без Белладонны покажется серым и пустым. Она не принадлежит этому миру, ее магический потусторонний образ возникает лишь в самых темных уголках клуба «Белладонна». Она не вполне реальна. — А что такое реальность? Что такое польза? — спрашивает однажды ночью Белладонна, скользя между столиками, касаясь пальцами ярких светло-вишневых локонов на парике. — Что может быть скучнее, чем человек, который приносит пользу? Цветы бесполезны, но мы их любим, лелеем, не можем жить без них. Поэтому не говорите мне о пользе, если не понимаете, какая именно польза мне нужна. И этого, конечно, никто не понимает. Кроме меня. Люди верят всему, что ни рассказывают о Белладонне. Например, что она закапывает в глаза разбавленный настой белладонны, чтобы зрачки расширились и блестели. Нет, нет и нет — в ее глазах блестят презрение и легкая, едва уловимая веселость, разожженная ежевечерним ритуалом: перед тем, как войти в клуб, она выпивает стакан свежего сока водяного кресса и запивает его глотком разбавленного уксуса, чтобы разогреть кровь. Ее неземные глаза и едва уловимая улыбка из-под маски пленяют ваше воображение, и вы немеете, как мой брат Маттео, который, словно безмолвный часовой, стоит в дверях клуба вместе с собакой по кличке Андромеда. Убийственная красота Белладонны — или, точнее, той женщины, какой вы ее себе представляете — способна возбудить даже импотента. Кому же и знать, как не мне?Мимолетный легкий шаг
Спросите себя: что скрывается за блистательной маской таинственной Белладонны? На первый взгляд она полна обманчивой простоты, но с какой легкостью ее проницательный взгляд приводит ваши чувства в смятение. Она много лет оттачивала этот талант. Впервые он проявился, совершенно бессознательно, в ту пору, когда она находилась под покровительством одного весьма своеобразного наставника. Потом Белладонна применяла его с другим покровителем — там, где она научилась играть в таинственность, как в игру. В одну из немногих, которые умела выигрывать. Но, предупреждаю вас, у нее безошибочное чутье на обман. Попробуйте ей солгать, и она устремит на вас пронизывающий взор зеленых глаз, взор, от которого цепенеет костный мозг. В ее клубе ей ведомы все тайны. Но сама она неуловима. Знайте: вы даже понятия не имеете, как выглядит Белладонна на самом деле. Больше того: если вы случайно встретите ее на улице, то скажете лишь: «Гляди-ка, что за милашка». Волосы у нее длинные, густые, волнистые, богатого темно-каштанового оттенка с золотыми бликами; твердый овал лица чуть скошен назад; губы — как сочные вишни; подбородок сильный, как и нос; шея длинная, стройная; она среднего роста, с пленительными изгибами фигуры, но держится так прямо, что кажется выше. Двигается она с невероятным проворством, гибкая, как пума, быстрая и изящная. Но мигните — и ее нет. Белладонна никому не доверяет. А с какой стати? Я бы на ее месте тоже никому не доверял.Слезы сладкие в глазах
Подумать только, какие нелепые сочетания бывают в жизни. Минуту назад вы сняли телефонную трубку и случайно подслушали, как ваш муж шепчет любовнице о своих желаниях, а в следующий миг идете в ванную, ищете зубную пасту, сплевываете в мраморную раковину того же бирюзового оттенка, что и кафельные плитки вокруг бассейна, который поблескивает внизу, под окном, среди зелени садов тосканского палаццо. Женщины слетаются к царственной Белладонне, когда впадают в крайнее отчаяние. Они думают, что найдут в ней поддержку и сочувствие, и начинают забрасывать умоляющими письмами. В те времена, в начале 1950-х годов, мы жили в сумеречном мире несправедливых приговоров; в залах суда правили идиоты-мужчины; неправедные деньги и давние связи покупали свободу тем, кто был готов заплатить за нее любую цену. Но у Белладонны хватило бы денег, чтобы купить их со всеми потрохами. И несчастные женщины знают: у них есть Белладонна.Сладкий яд в ее устах
Смотрите, кем она стала: спрут, раскинувший щупальца отмщения. Все эти женщины распростерлись в мольбе, надеясь, что их допустят в тайное царство — клуб «Белладонна». Для них она — современный оракул мщения. Ее голос, говорят они, тих и сладок, как мечта, и когда они рассказывают, что им нужно, она разжигает камин и воскуряет ладан. В ее спокойных движениях оживает первобытная мистическая сила. Она просит женщин повторить свои просьбы, и потом, на самый краткий миг, ее голос меняется, становится острым и хрупким, как красноватая корочка на вымени молочного поросенка, жарящегося в яме, полной мерцающих углей. О да, аромат Белладонны безошибочно прокладывает дорогу. Сказать так много всего в нескольких словах! Но ведь я не говорил, что Белладонна — приятная женщина, правда? Она, конечно же, предпочитает белладонну. Atropa belladonna. Смертоносный паслен, очаровательные пурпурно-красные колокольчики, ягоды черные и блестящие, как шерстка спаниеля. Лично я предпочитаю олеандр. Nerium oleander. Такой нежный, ароматный, бархатный. Полный ядовитой горечи. Его не зря называют «собачья смерть». Погладьте свою любимую дворняжку по гладкой шерстке, а потом пустите порезвиться в пруд, где плавают несколько сладких листочков да гниющих веточек олеандра. Поцелуйте песика на прощание.Белладонна — грозный враг
Она сидит в своем тайном королевстве, укрывшись за прочной скорлупой, неуязвимой для злобы и зависти. Хитроумная загадка, ибо никто не видел ее лица. Но внутри ее пылает огонь, только он и поддерживает в ней жизнь. Она полностью меняет тех женщин, что приходят к ней, но для нее это — всего лишь развлечение, вязальные спицы и пряжа, чтобы чем-то занять руки, пока разум в смятении выискивает людей, исковеркавших ее жизнь. Она называет этих людей членами Клуба. Нет, не клуба «Белладонна». Другого Клуба. И самого худшего из них зовут Его Светлость. Да, женщины из клуба «Белладонна» — лишь малая часть моего рассказа. Но, как и все, кто знакомится с Белладонной, они жаждут понимания, стремятся получить хоть малейший знак ее любви и благожелательности. Ждать им придется долго. Нельзя сказать, что моя дорогая Белладонна невосприимчива к любви, хоть ландшафт ее сердца и усеян сплошь холодными, твердыми камнями. Просто она живет ради тайного умысла. Стремление к заговорам никогда не покинет ее, равно как не угаснет ярость, пылающая в ее сердце. Она перестроит свой мир, перекроит себя, сама выстроит свою судьбу. Она пережила тяжкие страдания, но не позволит судьбе раздавить себя, убить могучий дух. — Вы можете стать всем, чем угодно, если твердо знаете, чего вы хотите; большинство людей этого не знают, — сказали ей однажды. — Если вы скажете себе, что не можете проиграть, то всегда окажетесь победителем. А если станете думать, что вам грозит поражение, непременно проиграете. Если будете чураться правды, дорого заплатите за ложь. Ложь больнее всего бьет того, кто солгал. Она хорошо усвоила эту заповедь. Но в глубине каждой славной победы таится червячок; он копошится в грязи, ища себе пропитания. Крохотный червячок, едва заметная капелька яда, которая отравляет вам праздник и прогрызает рваную дыру в полотне ваших надежд. Этот червячок и ей не дает покоя, но она знает, как защитить себя. Однажды мы познакомились с человеком, который затем учил нас стрелять. Встаньте боком к противнику, говорил он, чтобы как можно меньше подставлять тело под пули; глубоко вдохните, выдохните наполовину, сглотните, а потом нажмите на спусковой крючок — ни в коем случае не тяните его. И тогда ваша мишень даже не узнает, откуда пришел смертельный удар. Стреляйте наверняка. Цельтесь в сердце.Белладонна — нежный стон
Итак, вы все еще со мной? Не сомневаюсь. Я знаю, куда вам хочется, но вы еще не заслужили права вступить под торжественные своды клуба «Белладонна». Пришло время вернуться назад, на много лет, в самое начало тех событий, которые сделали из нее Белладонну. Стояла весна 1935 года, ранняя лондонская весна, почки на деревьях только начали набухать. Ей было всего лишь восемнадцать, и она совсем не знала жизни. Она приехала в гости к своей кузине Джун, сбросив, наконец, утомительное бремя воспитания. Жизнь расстилалась перед ней прямой широкой дорогой, полная смутных мечтаний и девичьих надежд. Вот тогда-то, в туманных мартовских сумерках, ей и выпало несчастье оказаться на пути человека по имени Генри Хогарт. Так, по крайней мере, он себя называл. Генри Хогарт. Один только звук этого имени воскрешает в памяти водоворот чудовищных событий. Одна только мысль о нем и о том зле, начало которому он положил, заставляет приступить к рассказу о моей несравненной Белладонне. О, сладкий, сладкий яд!Дневник (1935 г.)
Лондон, март — май 1935 года
Все женщины — шлюхи, — говорил Хогарт. Он пришел в их тесную квартирку на чашку чая. При этих словах глаза Джун округлились, как блюдечки с молоком, которые ставят для кошки. Ее кузина, тихонько сидевшая в уголке, подняла глаза от книги. — Генри Хогарт, — захихикала Джун, — вы говорите такие ужасные вещи. Я вам не верю. — Но это правда, моя дорогая Джун, — возразил он. — Женщина начинает вести себя как шлюха с самого раннего детства. Вспомните, как маленькая девочка, хлопая ресницами, смотрит на отца. Он тает, будто воск, и дражайшая крошка может из него веревки вить, правда? Чем больше любви она выказывает, тем больше получает взамен. Ага, говорит она себе. Если я люблю папочку, он приносит мне подарки. Потом девочка начинает испытывать свои чары на других мужчинах в семье. И узнает, что из них тоже можно вить веревки. И так далее. В конце концов все мужчины оказываются у нее на крючке. — Но при чем здесь шлюхи? — спросила кузина Джун. — Какое отношение это имеет к ним? Хогарт щелчком стряхнул с пиджака мельчайшую пылинку. Он был очень щепетилен в одежде и всегда жаловался на портного. Потом улыбнулся. — Самое прямое, — ответил он. — Девочки начинают понимать, что парочка нехитрых женских уловок без труда принесет им все, чего они желают. Мужа, дом — все что угодно. Они стремятся продавать себя в обмен на беззаботную жизнь. И всему этому они учатся, сидя на коленях у дорогого папочки. — Я не училась этому у папы, — сказала кузина. — Твой отец был пьяницей, — воскликнула Джун. Она не понимала, о чем идет разговор, а значит, он ей не нравился. Эта тема ее совершенно не интересовала. — Женщины боятся собственных желаний, — продолжал Хогарт. — Потому что эти желания слишком сильны для них, захлестывают с головой. Я имею в виду сексуальные желания. Следовательно, продаваясь, женщины обманывают самих себя. Ради видимой беззаботности они продают свою свободу. — Он поежился. — По мне, пугающая сделка. — Потому вы и не женаты? — спросила кузина. — Это одна из многих причин, — ответил он. — Я всегда в движении. Не могу связывать себя узами брака. «Мужчина многое потерял, если никогда не просыпался в незнакомой постели возле женщины, которой он никогда не видел, если никогда не покидал борделя на заре, мечтая броситься с моста в реку из чисто физического отвращения к жизни». Флобер, разумеется. Хогарт всегда кого-нибудь цитировал. Особенно французов. От этого Джун теряла терпение. Она не знала, кто такой Флобер, и не понимала, о чем говорит Хогарт. — Если бы я хоть раз сделал роковой шаг в сторону семейных отношений, — продолжал Хогарт, — мне бы никогда не выпало счастья познакомиться с очаровательной мисс Джун Никерсон. — О, Хогарт! — воскликнула Джун. — Вы говорите такие приятные вещи. — Мне не кажется, что ваше мнение о женщинах можно назвать приятным, — ответила ее кузина. — Нет, ничего подобного, — возразил Хогарт. — Когда-нибудь вы поймете, моя радость, что приятные слова ни к чему не приведут. Приятный человек ничего не добьется. И тот, кто будет следовать условностям, тоже. Кузине казалось, что он говорит это только для нее, будто проверяет, годится ли она для чего-то важного, и при этом минует Джун, потому что знает — она все равно не способна ничего понять. — Как, например, вы поступили бы, если бы вам представилась возможность получить что-то значительное, роскошное, если бы за этим нужно было только протянуть руку и взять? — спросил Хогарт, глядя прямо на нее. — Если бы вы могли полностью изменить свою жизнь. И для этого нужно было бы сделать всего один шаг в неизвестность. По ее телу пробежала дрожь. Странное предчувствие. Не преувеличивай, сказала она себе. Это всего лишь пустая болтовня. Хогарт ведет ничего не значащий разговор с двумя впечатлительными американскими девчонками, которые делают вид, будто умудрены в лондонской светской жизни. — Я бы ухватилась за эту возможность, — тотчас ответила Джун. — Я бы ее не упустила. — Да, моя дорогая Джун. Я всегда знал, что вы храбрая крошка, — поклонился Хогарт. — А вы? — О, она сама не знает, чего хочет! — запротестовала Джун. — Вы не добьетесь от нее прямого ответа. Но ей показалось, что Хогарт знает ее ответ. Он слегка кивнул, так, что заметить могла только она одна. А Джун ему совсем не нравится. Это внезапное озарение нахлынуло на нее, как послеобеденный дождь в Кенсингтонском саду. Он терпел Джун только потому, что был заинтересован в ней, ее кузине. Она не отвечала ему взаимностью; и он совсем не намеревался соблазнять ее. Это было нечто иное. Она не понимала, что это за чувство. За все свои юные годы она ни разу не встречала людей, похожих на него. Но знать, что она заинтересовала такого мужчину, как Хогарт, было очень лестно. — Прикосновение запретного обостряет чувства, — сказал Хогарт. Джун нахмурилась. Честное слово, с языка Хогарта иногда слетают такие непонятные вещи. — Да, прикосновение запретного, — продолжал он. — Понимаете, моя дорогая Джун, в такой окольной витиеватой манере я приглашаю вас на изысканнейший костюмированный бал. Праздник в сельском доме. Самое выдающееся событие сезона. — Ой, как интересно! — вскричала Джун. — В Лондоне ужасная скука. Все время дождь, пасмурно, сыро, ужасно скучно. И так целыми днями, с тех пор, как я приехала сюда, с тех пор, как в прошлом месяце приехала она. А ей обязательно с нами идти? Посмотрите на нее, не отрывает носа от своей глупой книги. Такая скука. — Конечно, ваша кузина тоже должна пойти, — ответил Хогарт. — Мы не можем пойти без нее. Ее прелестные зеленые глаза ослепят всех гостей. Эти слова совсем не понравились Джун. Она надула губки. Джун любила надувать губки, когда жаловалась. Но здесь, в Лондоне, ей не обойтись без кузины, хотя Джун и считала, что девчонка не проявляет должной благодарности. Когда рядом с Джун была девушка ее возраста, ей было проще выходить в свет, появляться на людях. Такие, как Хогарт, больше интересуются пыльными статуями да всяким старьем в музеях. Ну кого еще встретишь в музее, кроме старых скучных туристов? Кузина должна благодарить ее за то, что она, Джун, пару недель назад на званом обеде познакомилась с Хогартом. Хогарт знал всех и получал приглашения куда угодно. Он водил Джун и ее кузину в самые сказочные места; они пили чай в «Кафе Ройяль», ужинали в «Горгулье», в «400», в «Айви», и там все смотрели на них, потому что завидовали. Они ходили на шикарные вечеринки в роскошные особняки, где было полно слуг; там они встречали множество молодых людей, очень интересных, которые носили потрясающие костюмы, и женщин в шелковых платьях со струящимися шифоновыми рукавами. А какие на них были драгоценности! Джун просто теряла дар речи от зависти. У них в Миннеаполисе никто не носил таких драгоценностей. Не нити, а целые веревки жемчуга. Огромные изумруды и сапфиры. А бриллиантовые тиары! Джун мечтала о такой тиаре. Больше всего на свете ей хотелось найти мужа, у которого хватит денег купить ей бриллиантовую тиару. А еще Джун хотелось, чтобы ее кузина уехала, вернулась домой. Но людям она, кажется, нравилась. Даже Хогарту. Особенно Хогарту. И это страшно удручало. После ухода Хогарта Джун повертелась перед зеркалом, любуясь собой. На нее смотрели тусклые голубые глаза. Все только и говорят, что об ослепительных зеленых глазах ее кузины. Особенно мужчины, молодые, высокие и красивые, которым полагалось смотреть только на Джун. В конце концов, у Джун были деньги, была куча рекомендательных писем к нужным людям — все, какие сумела выудить для нее мать. А у кузины не было ничего. Ладно же, Джун им покажет. Она пойдет на этот костюмированный бал, а потом вернется в Миннеаполис в бриллиантовой тиаре, с высоким, молодым красавчиком мужем, у которого будет титул и шикарный акцент. С мужем, который умеет стрелять, ездить верхом и владеет большим сельским домом, где много собак и слуг, домом, куда Джун будет приглашать неудачливых подружек, чтобы они завидовали ей, потому что их жизнь так скучна. Но Джун никак не могла пойти на этот шикарный костюмированный бал. Что-то стряслось с ее животом, и с каждым часом ей становилось все хуже и хуже. Вскоре она уже не могла встать с постели и только бегала в туалет. Наверное, съела что-нибудь, когда накануне они ходили в «Айви» или в «Кафе де Пари». Она даже обвинила кузину в том, что та отравила ее, чтобы пойти на вечеринку с Хогартом одной. — Я тебе этого никогда не прощу, — визжала Джун, лежа в постели. — Ты нарочно меня отравила. — Если хочешь, я тоже не пойду. Джун разрывалась на части. А вдруг кузина пойдет на бал, познакомится там с шикарным молодым человеком, а у того окажется старший брат, и он будет даже богаче и красивее, и когда он увидит Джун, то влюбится с первого взгляда, и… — Поступай как знаешь, — сказала Джун и надула губки. — Мне все равно. Можешь даже не возвращаться.Часть I Оракул у источника (1947 — 1951)
Белладонна взаперти.Что ей ждать? Куда идти?Кто научит? Кто подскажет?Кто дорогу ей покажет?А в чарующих очахБелладонны — смерти страх…
1 Секрет вечной молодости
— Он опять пялится на тебя. Вон тот, у источника. Белладонна смотрит на круглолицего толстяка, развалившегося в шезлонге, и презрительно пожимает плечами. Она плотнее закутывает в мягкую розовую мохеровую шаль свою дочку Брайони. Та мирно посапывает у нее на коленях. — Похож на полуразложившийся каштан. Маттео улыбается. Он рад, что она еще не разучилась шутить о мужчинах. Вот только пусть этот мужчина держится подальше. Погодите-ка. Это не совсем верно. Прошу прощения, но я вынужден прерваться. Она еще не Белладонна; я уже отвык вспоминать ее такой, какой она была когда-то, — слабой и запуганной. Нет. Я пока не должен забывать, что ее зовут Ариэль. При рождении ей дали имя Изабелла Ариэль Никерсон, а путешествует она под другим именем — Ариэль Хантер. Оно аккуратно вписано в несколько фальшивых паспортов. Я называюсь вымышленным именем Томас Смит, а мой брат прозывается Мэтью. Участие в Сопротивлении помогло развить один из множества моих талантов — искусство подделывать документы и умение жить под чужой личиной. — Да, он и вправду смахивает на сильно подгнивший каштан, особенно с этими миленькими глазками навыкате. Потому, за дряблость сию, нарекаю его «мистер Дрябли», — провозглашаю я, потому что мне не хочется думать о Сопротивлении. — Глядите-ка, сегодня все завсегдатаи вышли на прогулку. Ариэль закрывает глаза, но я знаю — она настороже, чувствует их присутствие в прозрачном весеннем воздухе. Моя болтовня развлекает ее, без нее она пугалась бы каждого случайного прохожего. А они с досужим любопытством окидывают ее взглядами, задумываясь, кто же эта хрупкая дама с семимесячным младенцем на руках и ее спутники — двое мужчин с роскошными темными кудрями, гладкой, бледной кожей и мягкими, округлыми животиками. — Синьора Мандже сегодня в костюме цвета фуксии. Кажется, опять сделала большой начес, — сообщаю я. Мимо проходит пухлая матрона в слишком тесных брючках «капри» и домашних шлепанцах, украшенных — а как же иначе?! — розовыми пуховками для пудры. Она покрывает поцелуями взасос приплюснутую капризную морду своего мерзкого пекинеса. — А это кто? Ну-ка, ну-ка… Мадам Двадцать Каратов сменила тиару на простую парюру из изумрудов-кабошонов. — А другой тоже здесь? Наш Граф Скорбей? — спрашивает Ариэль, ее глаза по-прежнему закрыты. — Да, на своем обычном месте, — отвечаю я. Графом Скорбей мы прозвали худощавого пожилого джентльмена с пышной шевелюрой белоснежных волос, аккуратно зачесанных назад, и тяжелым римским носом. Он прогуливается, помахивая изящной тросточкой красного дерева, верхушку которой венчает золотая львиная голова. Каждое утро он раскланивается с нами с величайшей любезностью, но не произносит ни слова. Его губы не кривятся даже в слабом подобии улыбки. Я уважаю его за это. Он с головой ушел в свои печали, так же, как мы — в свои. — Наверно, важная персона, — предполагаю я. — Здешний персонал осыпает его знаками внимания. — Как ты думаешь, воды излечат его от печалей? — спрашивает Ариэль. Маттео смотрит на меня. От печалей, терзающих нас, исцеления нет. Только время и хитрость. Хитрость тщательно продуманная. Идеально спланированная. Нас исцеляет только мысль о том, что когда-нибудь, может быть, мы сумеем разыскать человека, которого ищем. И отомстить.* * *
Поначалу она возненавидела и меня, и Маттео. Она еще не понимала, кто мы такие и как очутились в этом бельгийском доме. Она не могла ничего с собой поделать — морщилась, то ли от ужаса, то ли от отвращения, когда мы, держа в руках подносы с едой, входили в ее просторную комнату, которую сами же окрасили в цвет сметаны, уставили книжными полками и водрузили у окна кабинетный рояль. И с еще более заметным страхом она встречала любого, кто был тесно связан с человеком, которого нам было велено называть мистером Линкольном. В их число входили Мориц — гнусный тип, «кузен», как нам сказали, другого, не менее гнусного типа — Маркуса. Оба молчаливые, приземистые, широколицые, воняющие дешевым сырым табаком, они несли свою вахту — Маркус охранял запертые ворота, а Мориц прохаживался по двору, любовно сжимая под мышкой заряженный дробовик, и с азартом отстреливал легкомысленных кроликов, забежавших погрызть салата у меня в огороде. Когда она впервые прибыла в этот дом, Хогарт сказал, что ее зовут Доула, что она — «особая подруга» мистера Линкольна, и велел держаться от нее подальше. Запирать ее дверь на замок. А не то… И ни в коем случае не разговаривать с ней. А не то… А не то мы рискуем навлечь на себя гнев гнусного Морица. Верный хозяйский цепной пес, он днем и ночью не спускал с нас глаз, выжидая малейшего промаха. Она прожила здесь несколько месяцев, и только тогда я впервые отважился поздороваться с ней. Я замечал, что ее живот вырастает все больше и больше, под яркими зелеными глазами все темнее наливаются лиловым цветом тяжелые круги, и не мог промолчать. — Вам что-нибудь нужно? — рискнул спросить я однажды днем, войдя к ней на цыпочках с подносом в руках. Она отвернулась от окна и удивленно взглянула на меня. В изумрудных глазах застыли страх и надменность. Она раскрыла рот, но не смогла произнести ни слова — пришлось сначала прочистить горло. Мне пришла в голову безумная мысль — наверное, бедняжка совсем отвыкла говорить. — Вам не положено разговаривать со мной, — произнесла она. — Мне плевать, что мне положено, что нет, — пробормотал я. Я пока еще не мог рассказать ей о крошечной дырочке в стене ее комнаты, скрытой среди развалин на одном из пейзажей Коро. Хогарт, злорадствуя, однажды показал ее мне; Маркус и Мориц просиживали за ней часами — несомненно, по приказу мистера Линкольна. Но в тот день Мориц ушел на охоту, Матильда отправилась в деревню наводить страх на несчастных лавочников; следовательно, Маркус остался охранять ворота, и нашу беседу никто не мог подглядеть. — Неужели? Тогда кто же вы? — спросила она. Ее голос был тусклым, каким-то ржавым. — Томазино Ченнини. Моего брата зовут Маттео. — Вы говорите, как американец. — Давно там не бывал. Впрочем, это неважно, — торопливо добавил я. — Я тревожусь за вас. — А ему до меня дела нет, а вы работаете на него, верно? Иначе как бы вы здесь оказались? — спросила она. Ее голос дрожал. — Вы у него в рабстве? — В рабстве? Что вы хотите сказать? — Этот вопрос застал меня врасплох. — Вы не можете уйти отсюда? — настаивала она. — Мы обязаны ему жизнью. Кроме того, Маттео еще не в состоянии общаться с людьми, да и я, пожалуй, тоже. — И только сейчас я понял, насколько она права. — Вы же видели Маркуса. И Морица. Мимо них муха не пролетит. А эти ворота — единственный путь во внешний мир. Вдоль ограды по всему периметру усадьбы натянута колючая проволока. Мы проверяли. Они даже пропустили ее через живую изгородь. И для нашего милого Морица нет лучшего развлечения, как сдирать шкуры со зверюшек, которые попадаются в нее. Он нас пристрелит на месте. — Маркус и Мориц — это я понимаю. Остального — не понимаю. Ну, Томазино, решайся же. Она станет первым человеком, кому ты раскроешь свою постыдную тайну. Ну и что? Она все равно нас презирает. Вот я ей и рассказал. К моему удивлению, Земля не перестала вращаться и небо не рухнуло прямо на мои пламенеющие щеки. Я следил за ее реакцией. Ее глаза немного смягчились, она потерла кольцо — огромный ослепительный изумруд и два желтых бриллианта по бокам. Слава Богу, она хоть не рассмеялась. — Значит, вы не можете?.. — робко спросила она. — Нет. Не могу даже попытаться. Нет желания пытаться. А у Маттео еще хуже. Его язык покрыт шрамами, он сильно шепелявит. Поэтому не говорит почти ни слова, даже со мной. — Понимаю. Но почему… — она запнулась и глубоко вздохнула. — Я уже разучилась вести нормальные человеческие разговоры. — Она села, сцепила руки на животе и опустила глаза. — Почему вы не попытаетесь убежать из этого ада? — спросила она так тихо, что я еле расслышал. — Разве не хотите отомстить? Эта женщина чрезвычайно интересовала меня, но я не решился расспрашивать ее дальше — боялся, что она больше никогда не станет говорить со мной. — Я не знаю, кто сделал это. Среди нас оказался предатель, но мы так и не увидели лиц тех фашистов. Кроме того, они все уже мертвы. Их убил мистер Линкольн. Так мы вышли на свободу. — Кто такой мистер Линкольн? — Он. Сами понимаете… хозяин. Он велел называть себя мистером Линкольном, потому что… потому что освободил рабов. То есть нас. Ее глаза изумленно распахнулись, она залилась истерическим смехом, таким заливистым, что вскоре он перешел в икоту. Я хотел похлопать ее по спине, чтобы она остановилась, но, едва сделал шаг, она съежилась и отпрянула. — Ох, спасибо. Не помню, когда я в последний раз смеялась так весело, — саркастически заметила она, переводя дыхание и понемногу успокаиваясь. — Но откуда вы знаете, быть может, мистер Линкольн затеял все это, чтобы получить новых домашних слуг? — Она еле заметно улыбнулась, опять растеряв всю радость. — А теперь уходите. Я откланялся и вышел. На душе было тревожно. Но на следующий день, когда я принес ей ланч, она держала в руках тоненькую книжку в сафьяновом переплете. На обложке стояло название: «Тайны Османской империи». — В этой книге говорится, что среди гаремных евнухов это называлось «забрить на службу», — сказала она, прочистив горло, и раскрыла заложенную страницу. — Римляне даже изобрели специальные тиски. Человека зажимали в нужном положении, и зазубренные лезвия отрезали это одним ударом. Вы слышали? Нет, я о таком не слышал. Приятно сознавать, что вы разделяете мою пикантную тайну. — Быстрее заживает, меньше хлопот. На рукоятках тисков часто вырезали львиные головы — жестокое напоминание об утраченной… хм, мужественности. О, моя дорогая подруга еще не стала Белладонной, но она уже была на верном пути. Я же не говорил, что она приятная особа, верно? Она перевернула еще одну страницу. — Здесь говорится, что одни евнухи становились очень чувствительными, чрезмерно эмоциональными и привязчивыми, другие, наоборот, замыкались в себе и ожесточались. Те, кто был умен, становились превосходными главными евнухами гаремов, потому что они не знали снисхождения к тем, кто смотрел на них свысока или осмеливался подшучивать. — Она вопросительно посмотрела на меня. — Как вы думаете, смогли бы вы стать хорошим главным евнухом? Я попытался выдавить улыбку, но не смог. — Здесь говорится еще кое-что, — продолжала она. — Ювенал пишет: «Существуют девушки, которым нравятся евнухи, лишенные мужского естества. Такие гладкие, безбородые, их приятно целовать и не нужно беспокоиться об абортах!» Она захлопнула книгу и протянула ее мне. — Возьмите. Может быть, она вам поможет. — Наверное, римляне знали нечто такое, что неизвестно мне, — сказал я, и она одарила меня едва заметной улыбкой — на сей раз настоящей. От этой улыбки в воздухе переместились какие-то мельчайшие молекулы, из ее глаз исчезли последние следы страха и горечи. Каждый день я приносил и уносил ей подносы с едой, и с каждым днем мы разговаривали чуть-чуть больше. У меня развязался язык, мне не стоило никакого труда рассказать ей о себе, о моем брате, и в конце концов она поверила, что мы с Маттео не предадим ее. Мы стали союзниками, друзьями навеки, раскрыли друг другу сердца. Я понял, что нашел свое истинное призвание. А потом она показала мне дневник, спрятанный внутри томика «Упадка и крушения Римской империи» Гиббона. Она вела его, чтобы не сойти с ума. Я рассказал ей то немногое, что знаю о мистере Линкольне — она называла этого человека Его Светлость, — и по ее просьбе переписал дневник. Я старался, чтобы моя рука не дрожала, иначе почерк получился бы неразборчивым. То, что было нужно, я рассказал Маттео, и вместе мы выработали план бегства. Мы не знали, куда идти, где прятаться, знали только, что должны бежать. Это и вернуло ее к жизни, призналась она позже. Заставило ее снова думать. Строить планы. Помогло увидеть будущее в мире, который чуть не уничтожил ее. Помогло родить ребенка. Помогло, несмотря ни на что, сохранить надежду. Но она так никогда и не смогла вернуться к нормальной жизни. Да она и не хотела, после всего… Я люблю ее, хоть и не могу любить. Люблю ее даже сильнее, потому что не могу. Что может занять в нашей жизни место женщины? Для меня это вопрос не из легких.* * *
Нет, для тех мук, что терзают нас, исцеления не существует. Мерано никогда не считался шикарным курортом, таким, как, например, Монтекатини, а теперь и совсем захирел. Здесь безлюдно и тихо. Сейчас тут всего несколько гостей, и они, по крайней мере до прибытия мистера Дрябли, держатся замкнуто. Как и мы. Синьор Гольдини, говорливый управляющий, восторгается нами, потому что мы забронировали номера на очень долгий срок, а я, кроме того, щедро даю на чай, поэтому он охотно выполняет мои маленькие просьбы. Он заботится, чтобы никто не нарушал наш покой, когда Ариэль неважно себя чувствует, а это случается довольно часто. Для Брайони он вызвал из соседней деревни милого патриархального старичка — здешнего педиатра. За несколько месяцев Мерано превратился для нас в тихую гавань. Здесь, после бегства из Бельгии, мы могли спокойно укрываться на глазах у всего света, и никому не пришло бы в голову искать нас в этом курортном местечке. Наш побег… Нет, нет, нет, хватит об этом. Мне нужно очень многое рассказать вам, и побег подождет. Прежде всего мне нужен послеобеденный моцион. Понимаете, кастратам, как и всем увечным, на водах всегда делается легче. Мы греемся на солнышке, и каждый день кажется нам чуть теплее вчерашнего. Мы радуемся, что дни текут так скучно, с приятным однообразием, благодарны персоналу за то, что он не сует нос в наши дела, любуемся тихим журчанием воды в источнике. Мы встаем с первым солнышком и идем в бюветы пить теплую, солоноватую минеральную воду, насыщенную радоном; подозреваю, в нее добавляют чуть-чуть мышьяка, чтобы улучшить пищеварение. Или, скорее, убить то, что еще осталось от пациента. Маттео встает, молча указывает в сторону парка и уходит. Он почти разучился говорить, хотя иногда лепечет что-то ласковое, когда успокаивает Брайони. Когда она начнет говорить, то наверняка будет шепелявить, как он: «Томатино». — Он за две недели и слова не произнес, — говорит Ариэль, глядя ему вслед. Его плечи сгорбились. — С Графом Скорбей какая-то женщина, — говорю я, чтобы отвлечь ее. — Блондинка, хорошенькая, явно при деньгах. Она плачет. Нет, погоди-ка. Теперь она вопит на кого-то. Гм. Что бы это значило? Как это у женщин получается — одновременно горевать и повелевать? — Откуда я знаю? Сколько ей лет? — Она моложе, чем можно дать на вид. — Когда она встала, мне подумалось, что у нее на щеках, наверное, отпечатались все папилярные линии — так долго она сидела, уткнувшись лицом в ладони. — Может быть, его дочь. Или молодая жена, которую он бросил, приехала умолять его вернуться домой. Или любовница, которая отдала в залог все драгоценности. — Она уходит, я долго смотрю ей вслед. — Она совсем не похожа на него. И не похожа на любовницу. Хотя… кто ее знает! В эту минуту мимо нас вздумалось пройти мистеру Дрябли. Он приподнимает широкополую панаму, потом вдруг поворачивается на каблуках и плюхается на шезлонг рядом с Ариэль. Она поднимает на него глаза и цепенеет. Воздух вокруг нее словно густеет. Он напугал ее так, что бедняжка не может пошевелиться. Он пришел не просто так — ему что-то нужно от нее. Волны желания поднимаются от его покрытого испариной лба, как предзакатный туман над источником. Мистер Дрябли утирает лицо накрахмаленным платком. Этот платок — единственная неизмятая деталь его бежевого льняного костюма, свисающего мешком с обрюзгших плеч. Не могу понять, почему ему вздумалось надеть галстук, отдыхая на водах. Это напоминает мне Хогарта, а Хогарта я не люблю. — Добрый день. Мне кажется, сегодня потеплело, — заявляет он, будто не замечая моего хмурого взгляда. Он облизывает мизинец и поднимает его, определяя, откуда дует ветер, хотя ветра сегодня нет. — Крайне забавно. Как было бы хорошо, если бы разразился шторм. Чудовищная буря. О, да. Просто превосходно. — Он откидывается на спинку шезлонга и обмахивается платком. Я замечаю инициалы: Дж. Дж. А. — Джаспер Джеймс Адлингтон, — представляется он. — Бизнесмен. Homme d’affaires. К вашим услугам. — Томас Смит. А это миссис Хантер. — Очень рад. А где, разрешите спросить, прелестное дитя? — С моим братом Мэтью. — Понятно. Мужчина в роли няньки. Божественно. Как бы я хотел, чтобы у меня в детстве была такая же нянька. — Он испускает удовлетворенный вздох. — Давно отдыхаете в Мерано? Должен признаться, мне здесь страшно нравится. Все так ветхо, так преувеличенно, так по-итальянски. Должен сказать, они мастера все путать. То потеряют твои вещи, то, когда они нужны, их не найдешь. И что они едят — одну лапшу! Невыносимо для пищеварения. За этой пустой болтовней он возится с носовым платком, но я замечаю, что его взгляд на кратчайшую долю секунды метнулся вбок, на великолепное кольцо на пальце Ариэль. В нем огромный изумруд цвета ее глаз, по бокам — два желтых бриллианта, вделанные в золотую оправу, такую широкую, что она доходит до костяшки пальца. Ага, мистер Дрябли, значит, вы охотник за драгоценностями, путешествуете с курорта на курорт в поисках состоятельных одиноких дам. Наверное, успели понять, что в Мерано богатой добычи не жди. — Кто вы такая? — вдруг спрашивает он у Ариэль. — Зачем вы здесь? Она вздрагивает от страха. — Что? — спрашивает она. В ее голосе звенит паника. — Что? Почему вы сказали так? — Она вскакивает столь поспешно, что шезлонг с громким стуком опрокидывается. — Почему вы сказали так? Чего вы хотите? Кто вас послал? И мистер Дрябли, и я спешим ей помочь, но она отшатывается. Ее лицо заливает смертельная бледность. — Отойдите! — кричит она. — Отойдите от меня! Он удивленно смотрит на нее. Такое отчаяние в голосе женщины захватило его врасплох. А источник журчит и журчит, ему дела нет до нас. — Прошу прощения, — говорит он, водружает на место шляпу и, манерным жестом засунув в карман носовой платок, бочком удаляется. Надо же было ему среди всех бессмысленных фраз выбрать именно эти слова! Как бы мне хотелось исколошматить этого суетливого жирного идиота! Теперь она захочет уехать отсюда, как раз тогда, когда я начал понемногу успокаиваться. Проклятье. Как ей удается балансировать на самом краю обрыва? Томазино, ты дурак, если решил, что это легко. Кто вы такая? Зачем вы здесь? Ариэль опускается на другой шезлонг. Ее лицо серо, как пепел, она дрожит всем телом даже под теплыми лучами солнца. Я опускаюсь на колени, стараясь не коснуться ее. — Давай найдем Маттео, — говорю я. — Пусть он уйдет. Пусть он уйдет, — шепчет она снова и снова. Плотно обхватив себя руками, покачивается взад-вперед. — Он ушел. Не волнуйся, он ушел. На мое плечо падает тень. Я поднимаю глаза и вижу Графа Скорбей. Его пальцы, замечаю я, такие же тонкие и изящные, как его тросточка, а глаза своеобразные, светло-карие, в золотистых искорках. — Чем могу помочь? — спрашивает он с характерным итальянским акцентом. — Она очень испугалась, — говорю я ему. — Не могу объяснить, почему. — Не знаю откуда, но у меня возникло чувство, что с ним можно поговорить. У меня одно из моих знаменитых озарений. Мне кажется, этому человеку можно доверять. Может быть, все дело в выражении его глаз — в них нет никаких потайных мотивов, кроме искреннего сочувствия. — Будьте добры, найдите моего брата. Он гуляет в парке с ребенком. Граф раскланивается и быстрым шагом уходит. Я пытаюсь заговорить с Ариэль — так, ни о чем, просто чтобы словами успокоить ее. На мое счастье через пару минут к нам спешит Маттео и кладет ей на руки маленькую Брайони. Ариэль все еще бледна, как смерть. — Теперь можешь идти к себе в номер, — тихо говорю я. — Маттео тебя проводит, с тобой ничего не случится. Они уходят. Граф Скорбей протягивает мне визитную карточку. На ней выгравировано его имя — Леандро делла Роббиа — и замысловатый фамильный герб. — Мерзкий он человек, этот коротышка inglese, — говорит он. — Мне очень жаль. Люди за тем и приезжают на воды, чтобы их не беспокоили. Но война все переменила. Теперь здесь совсем мало гостей, только вульгарные иностранцы. — Боюсь, мы тоже вульгарные иностранцы. — Иностранцы — да. Вульгарные — нет, — говорит он. — Юная леди, которая приехала ко мне, тоже inglese, но я надеюсь уберечь ее от пристального внимания синьора Адлингтона. Не согласитесь ли поужинать с нами сегодня вечером? — С удовольствием, — отвечаю я ему. — Но не могу ничего обещать. В настоящее время мы мало общаемся с людьми. Я оставлю записку для вас на конторке портье. — Понимаю, — говорит он.* * *
Вскоре они надежно укрылись наверху. Ариэль сидит на балконе со спящей Брайони на руках — она могла просиживать так часами; Маттео стоит на страже и обводит взглядом широкие, залитые солнцем горизонты долины Адиджи, подернутые дымкой, благоухающей цветами абрикоса, просторы, где взгляду не преграждают путь ни стены, ни темнота. Убедившись, что с ними ничего не случится, я отправляюсь на поиски синьора Гольдини и за стаканом граппы прошу рассказать мне, что он знает о Леандро. Сдается мне, что дражайший синьор будет рад случаю посплетничать, и он меня не подводит. — Il conte? О, он настоящий джентльмен. Так любезно с его стороны нанести нам визит, — говорит синьор Гольдини. — Весть о приезде il Conte della Robbia пойдет по всему миру, люди начнут съезжаться сюда, как раньше. — Он просиял. — Многие богачи в войну покинули Италию, но только не il conte. И contadini он сохранил, и имущество в поместье спас — чудо! И сколько у него денег — больше, чем у Медичи! Морские перевозки, знаете ли. У греков разве корабли? По сравнению с нашим il conte — корыта! О, он один из самых богатых людей в Италии. Потому что никому не доверяет. Те, кто доверил свои деньги другим, — где они? Пуф-ф! Arrivederci! Конечно, дуче пытался — как это говорится? — конфисковать все, что смог найти, но il conte этому бабуину не по зубам. Слишком умен. Он отправил свои корабли прочь. Они разрушили два его дома, но самый большой, в Тоскане, остался. Он называется Са’ d'Oro. Золотой дом. — Не пытайтесь отнять у итальянца его деньги и его макароны, si? — продолжает он. — И его l'amore. О, такой позор. Такая трагедия. Его первая жена умерла в войну, у них была всего одна дочка, Беатриче. Мне нравится, как итальянцы произносят это имя — Бе-а-три-че. Похоже на экзотический цветок. — Но нет сына, некому продолжить фамилию. — Гольдини глубоко вздыхает. Его коробит такое оскорбление исконной итальянской мужественности. Не хотелось бы мне рассказывать ему, что произошло со мной и моим братом. — Его Беатриче умерла в войну, когда рожала bambino. — Он снова глубоко вздыхает. — Bambino был — как это говорится — не дышал, когда родился. Che tragedia! Та юная леди, что здесь с ним, это подруга покойной Беатриче. Я благодарю его за интересную беседу, и он гордо улыбается, радуясь, что сумел быть полезным. Я пишу Леандро записку, приглашая выпить после ужина. Мне любопытно. Хорошо, признаюсь: обожаю совать нос не в свои дела. Это всегда полезно. Немножко любопытства поможет мне решить ряд щекотливых вопросов касательно некоего Джаспера Джеймса Адлингтона, нашего драгоценного мистера Дрябли. Через несколько часов, когда Леандро встречает меня у источника, я замечаю у него на пальце кольцо с большим камнем необычного зеленовато-желтого оттенка, цвета густого свежего меда. Не понимаю, как я мог не заметить его раньше. Наверно, слишком волновался. — Хризоберилл, — поясняет он в ответ на мой вопрос. — Иначе называется «кошачий глаз». В самых лучших из этих камней есть как бы глаз, расположенный идеально по центру — вот, посмотрите. Когда свет падает под определенным углом, он напоминает кошачий зрачок в ярких солнечных лучах, то расширяется, то сужается, как живой. Их добывают на Цейлоне, там эти камни считаются могущественным талисманом против злых духов; люди также верят, что кошачий глаз сохраняет богатство и крепкое здоровье. В этом качестве он надежно охраняет меня от симпатий Джаспера Адлингтона. — Мы прозвали его мистер Дрябли, — добавляю я. — Мы еще не придумали животное, с которым его можно сравнить. — Очень подходящее прозвище. — Сдается мне, что он обожает блестящие вещички. Вы не заметили? Следите за своими драгоценностями. Камень такой величины и прозрачности, наверное, очень редок. — Да, очень. Но я уверен, что сумею защитить себя. — Он стукает тростью, увенчанной львиной головой, по твердым кафельным плиткам на террасе, и из нее выскальзывает тонкое, острое лезвие. Ударяет еще раз — лезвие исчезает. На это уходит не больше секунды. Я понимаю, что этот человек нравится мне все больше и больше. Да, дорогой Томазино, всегда доверяй своим предчувствиям. От Леандро, старика с негнущейся спиной, определенно веет чрезвычайной настороженностью. И эти губы, тонкие, плотно сжатые губы, они его выдают. Я уверен, он, если надо, может стать безжалостным, с молчаливого согласия своего хитрого сердца, но, тем не менее, с нами он держится, как безупречный джентльмен. Вряд ли человек сможет управлять судовладельческой империей, если не разовьет в себе инстинктов барракуды. — Очень полезная вещь, — говорю я. — Надо всегда быть начеку, — замечает он. — Надо, — соглашаюсь я. — Нет, — говорит он, глядя на источник. — От судьбы не защититься. Или от старости. Мало кто умеет стареть. Если волосы побелели, а лицо покрылось морщинами, означает ли это, что мы стали немощны или не способны быть самими собой? Я еще не устал, хоть сердце мое и поизносилось. — Он смотрит на меня и вздыхает. — Простите меня, пожалуйста. С самого приезда сюда я не испытывал потребности поговорить. Почти как ваш брат. — Вы очень наблюдательны. — Если молчишь, приходится наблюдать — ничего другого не остается. Мы сидим в дружелюбном молчании, прислушиваясь к журчанию воды и смеху гостей. Вокруг нас вино льется рекой. Может, вода и полезна для телесного здоровья, но немного вина еще полезнее. Ого, вскоре для нас многое может измениться. Я это чувствую. У меня приятно подергивается колено. — Вы, наверное, заметили юную леди, которая приехала ко мне, — говорит Леандро. — Ее зовут Лора Гарнетт, она близкая подруга моей дочери Беатриче, которая умерла несколько лет назад. Школьная подруга, вместе учились в Швейцарии. Ей сейчас приходится нелегко. Она просит совета, но не желает ничего слушать. Она так молода. Рядом с ней я в полной мере ощущаю свой возраст. — Но вы еще совсем не так стары. — Что ж, ноги у меня крепкие. И то слава Богу. Я хорошо сплю и передвигаюсь на своих двоих. Секрет вечной молодости — в вечном движении. Я смеюсь. — Надеюсь, вы правы. — Сомневаюсь, но тоже надеюсь. К сожалению, после смерти моей бедной Беатриче я растерял волю к жизни. Что может быть хуже для мужчины, чем растерять свою силу, свои ожидания, лишиться всего, что он любил. Теперь у меня можно отнять только одно — мое настоящее, хотя человек не может потерять то, что ему не принадлежит. Нас прерывает взрыв хриплого смеха из-за столика Мадам Двадцать Каратов. Я с удивлением замечаю, что там сидит Лора с мистером Дрябли, оба потягивают мартини. Леандро тоже замечает их, но выдает свое недовольство лишь тем, что слегка поводит плечами. — Как печально, что Мерано стал притягательным местом для придурков, — говорит он, не сводя глаз с мистера Дрябли. — В прежние времена здесь было куда больше роскоши. Мы с моей женой Алессандрой обычно приезжали сюда летом, когда дуют прохладные бризы. Но это было в другой жизни, еще до войны, до того, как она умерла. Интересно, как историки назовут эту войну? — Шедевр разрушенной цивилизации, — улыбаюсь я. — Так называет меня Ариэль. — Ваша Ариэль, она очень напугана, верно? — Это так заметно? — Нет, совсем не заметно. Просто, как вы сказали, я наблюдателен, хотя бы потому, что я здесь и вы тоже здесь, а она очень одинока и очень боится. La bella donna, pazzo di terrore. Где-то далеко в горах залаяли собаки. — Она bella donna, правда? — говорю я. — И, сказать по правде, я тоже боюсь. За нее. Это ужасная история, и, к сожалению, я не имею права ее обсуждать. — Разрешите спросить, почему вы решили, что Мерано вам поможет? — Мы подумали, что здесь он нас не найдет, — говорю я и только потом прикусываю язык: неразумно даже намеком упоминать о Его Светлости. — Но теперь я уже не уверен в этом. Думаю, нам пора уезжать. — Понимаю. — Но дело в том, что я не знаю, куда нам ехать, где Ариэль будет чувствовать себя в безопасности. Может быть, вы посоветуете? До нас донесся еще один взрыв смеха. Мы видим, как Лора встает из-за стола вместе с мистером Дрябли, он держит ее за руку. Леандро достает изящную золотую зажигалку, украшенную, как я замечаю, еще одним хризобериллом, и закуривает сигару «Монте-Кристо». Его глаза прищуриваются — не от дыма, а потому, что он искоса смотрит вслед уходящей Лоре. Он тоже предлагает мне «Монте», но я отказываюсь. Я изредка не прочь немного подымить, но сигара — слишком фаллический предмет для моих пухлых вялых пальцев. Итак, я лишился еще одного своего излюбленного развлечения. — Понимаете, она не хочет возвращаться к мужу, — поясняет Леандро. — У нее двое детей… к сожалению. Ей кажется, что она наказывает меня, потому что я отговаривал ее выходить за него замуж, но на самом деле она причиняет боль только себе. — Вы имеете в виду мартини и мистера Дрябли, — говорю я. — Без помощи первого трудно выносить последнего. — Почти все мужчины — потрясающие негодяи. — Да. Даже я. А меня называли и худшими словами. — Он выпускает дым идеальными колечками. — Нет, разумеется, это было давно. Видите ли, возраст сказывается, да и конец войны. Я передал большую часть своих деловых обязанностей в руки других, чтобы иметь свободу путешествовать с курорта на курорт. Стабиане, Аньяно, Сибарите, Монтекатини, Сатурния, Рекоаро. Воды излечивают мое тело, а мой приезд всегда вызывает массу сплетен. Ничего не могу поделать, но это полезно для местного населения. А теперь я устал. Я хочу домой. Может быть… Я сижу и жду. Мое сердце начинает колотиться в такт подергиваниям в колене, подтверждая предчувствие. Может, это тот самый случай, какого мы ждем. Мне придется оценить ситуацию, побольше узнать о нем, о расположении его дома, о доступности, об уединении, но, возможно, это то самое место, где Ариэль сможет подлечить свои расшатанные нервы, где она будет вдоволь нежиться на жарком солнце, вдали от всех мистеров Дрябли на свете. — Простите, если мое гостеприимство покажется вам навязчивым, — продолжает Леандро. — Лора вернется в Англию, несмотря на то, что в семейной жизни она несчастна, а своей семьи у меня нет. Мой палаццо в Тоскане слишком велик для меня, в пустых комнатах гуляет эхо. Вокруг стоит несколько домов для гостей, и прислуга живет у меня круглый год. Они будут рады услышать в доме детский смех. И я тоже буду рад. Да, — добавил он как бы про себя. — Это порадует мое сердце. Вы окажете мне большую любезность. — Это вы оказываете нам любезность. Он протестующе машет сигарой и встает. — Мне нужно повидаться с Лорой, — говорит он. — Спасибо, — говорю я. — Завтра же побеседую с Маттео и Ариэль. Он откланивается и уходит, оставляя за собой едва уловимый шлейф дыма.* * *
На следующее утро за завтраком, когда мы ели дыню, я рассказал о вчерашнем разговоре. — Ты с ума сошел? — говорит Ариэль. Ее колючие глаза сверкают, как изумруды. — Что ты хочешь со мной сделать? Чтобы я жила в доме у незнакомого человека? Ни за что! — Он не незнакомец. Его знает вся Италия. Он один из самых богатых людей в стране. Спроси кого угодно в деревне, они расскажут о нем массу легенд. — Беспокоиться надо о том, чего они не договаривают, — вставляет Маттео. — Жаль, что вы не слышали нашего разговора. — Я не собираюсь сдаваться без боя. — Я знаю, все будет хорошо. Просто знаю, и все. — Избавь меня от своих предчувствий. Я пропускаю эти слова мимо ушей. — Он стареет, — говорю я. — Ему грустно, одиноко, хочется общества. — Значит, после первого же разговора он стал твоим новым лучшим другом, — язвительно говорит Ариэль. — Не думала, что ты такой глупец. — У него несколько домов для гостей и большой штат прислуги, — настаиваю я. — Плевать мне на прислугу. Особенно на большой штат. — Вот фотография, которую мне дал синьор Гольдини. Посмотрите. Это из брошюры для туристов. В сам дворец посетителей не пускают, но им разрешается осмотреть часть сада. Взгляните, какая красота. Он ничего не скрывает. — Как ты можешь быть таким наивным? — Не знаю. Просто доверяю ему и все. Не могу объяснить, почему. У меня чувство такое. — Такое же чувство было у меня, когда я впервые встретила Хогарта. Я удивляюсь, как у нее хватает сил произнести это имя. Может быть, она понемногу начинает оживать. — Это было очень давно, — говорю я ей. — Ты уже не та наивная девочка. У тебя есть мы. У нас есть деньги. Мы никому ничем не обязаны и можем ехать, куда хотим. Но этот мистер Дрябли мне не нравится, и, я думаю, нам нужно как можно скорее уехать подальше отсюда. Мы слишком долго прожили на одном месте. Если останемся, здесь вскорости появится еще один мистер Дрябли. Я бы предпочел местечко, где поменьше публики. Поселимся там и посмотрим, что будет дальше. — Я не поеду в незнакомый дом. В частных домах всегда есть запертые двери и потайные комнаты. Я их ненавижу. Ты знаешь. — Мы можем все тщательно проверить и только потом решать, остаться или нет. Я спрашивал синьора Гольдини, знает ли он что-нибудь об этом доме, и он сказал, что двоюродная сестра лучшей подруги его жены работает там на кухне, и, по ее отзывам, граф очень добрый хозяин. А служанки обычно не стесняются пожаловаться, если что не так. Я поговорю с ней самой. — И уж наверняка у него нет никаких скрытых побуждений. — Послушай, он очень богат. У него есть связи. Он может нам помочь. — Помочь? Откуда ты знаешь? — спрашивает она. — Ну, он может быть знаком с нужными людьми. С другими богачами, не только в Италии. Он занимается морскими грузоперевозками, значит, у него есть контакты по всему миру. Владельцы компаний, бизнесмены, дипломаты, даже шпионы — они все общаются между собой. Кто знает? — Но с какой стати он хочет помогать нам? Она колеблется, пусть даже чуть-чуть. Ничего, я проложу дорогу к ее сердцу. Продолжай, Томазино, не сдавайся. — Вы оба можете друг другу помочь, — говорю я. — Его жена умерла более тридцати лет назад, сразу после войны, во время эпидемии инфлюэнцы. Он так и не женился во второй раз. А его единственная дочь скончалась от родов несколько лет назад, вместе с ней погиб младенец. Наконец-то я вижу, что холодный зеленый блеск в ее глазах хоть немного смягчается. Только потому, что я упомянул о ребенке. — Кто эта женщина с ним? — спрашивает она. — Давняя школьная подруга его дочери. У нее нелады с мужем, она приехала отдохнуть от него. Вскоре она уезжает домой, в Англию, к семье. Сам факт, что он заботится о подруге своей покойной дочери, многое говорит о его характере. — Может быть, тут дело не только в характере, — цедит она. — Не каждый богач непременно плох, — говорит Маттео. — Если мы хотим получить помощь, мы должны для начала хоть кому-то поверить, — продолжаю я. — Как ты поверила нам. Там нас никто не найдет. — Если только он не один из них. — Он не из них. Поговори с ним. Он не похож на них. — Я опустился на колени у ее ног, в позе униженного просителя, каков я и есть. — Послушай меня, милая. Если ты хочешь начать жизнь заново, тебе нужно подлечиться в таком месте, где ты будешь чувствовать себя в безопасности. Понимаю, как тяжело думать об этом и тем более говорить, но на свете существуют люди, которые щедры, великодушны и не желают другим зла. Он хочет помочь тебе. Дозволь ему это, прошу тебя. Если ты сделаешь ему добро, оно вернется в виде помощи как раз тогда, когда ты будешь в ней нуждаться. — Я не желаю никого прощать, — сухо говорит она. — Я не нуждаюсь в жалости. И во мне ее нет. — Да, но в Леандро есть. Я знаю, что могу многому научиться у него, если он согласится учить меня. И Маттео тоже. Кроме того, если нам не понравится в его палаццо, мы всегда можем уехать. Просто поговори с ним, и все. Мы оба будем с тобой. Послушай, что он скажет. Посмотри, понравится ли он тебе. Потом будем решать. Она отталкивает меня и в сердцах хлопает по руке. — Встань, — говорит она. — Пока я не передумала.* * *
На следующий день мы все сидим у источника, потягиваем горьковатую минеральную воду и всем телом впитываем тепло. Лоры нигде не видно, и, когда к нам подходит Леандро, я боюсь спросить, виделся ли он с мистером Дрябли. Я машу ему, он, как обычно, раскланивается и присаживается рядом со мной. Он достает из кармана большое кольцо из желтой резины и протягивает ей. — Подарок от жены деревенского механика, — сообщает он. — Говорит, это полезно, когда режутся зубки. Ариэль удивленно смотрит на него, я беру у него кольцо, чтобы ей не пришлось касаться его пальцев. Не забыть бы сказать графу наедине, чтобы не делал неожиданных жестов. Она кивает с благодарностью. — Не стоит, — говорит он. — Как только рождается ребенок, вам никогда уже не избавиться от бремени любви, царящей в вашем сердце, даже если у него режутся зубки и он плачет всю ночь напролет. Она прочищает горло, но не может произнести ни звука. — Расскажите о вашей дочери. Если вы не против, — быстро подсказываю я. Я знаю, именно это сказала бы Ариэль, будь она способна говорить. — Если вам угодно, — отвечает он и искоса смотрит на Ариэль. Она кажется очень маленькой и жалкой, как потерянное дитя, и мое сердце трепещет от сострадания. Леандро откидывается на спинку и прикрывает глаза. — Ее волосы были почти такого же цвета, как у вас, но глаза — темно-карие, почти черные, — говорит он. — Она тоже любила отдыхать на водах. Ее любимым курортом был Стабиане, потому что это ближе всего к Помпее. Она была очарована руинами древнего города и верила, что наша семья происходит от рода Менандра, потому что, когда я достиг совершеннолетия, мой отец подарил мне золотые монеты и небольшие статуэтки. А ему эти вещи передал его отец. Она любила историю, моя Беатриче. Больше всего ей нравились греческие легенды об оракулах. Благодаря им она и познакомилась с Лорой, хотя та была на пять лет младше. Они жили в школе-интернате в Швейцарии, и моя Беатриче пожалела эту девочку, потому что та была такой застенчивой, одинокой, все время плакала, скучала по маме. Каждый вечер Беатриче садилась у постели маленькой белокурой Лоры и рассказывала легенды. Они вселяли в нее мужество. Она была удивительным ребенком. Вдруг Ариэль встает, подходит к Леандро и, не говоря ни слова, протягивает ему маленькую Брайони. От изумления я теряю дар речи. Она никогда не разрешала брать своего ребенка на руки никому, кроме Маттео и меня. Он поднимает на нее глаза, молча берет Брайони на руки и нежно целует мягкую прядь белокурых, чуть рыжеватых волос на голове малышки. Та уютно устраивается у него на коленях. Не будь этот джентльмен таким сдержанным, я уверен, у него на глазах выступили бы слезы. Ариэль ошибалась. У нее все еще хватает сил пожалеть мужчину.* * *
Маттео с Брайони, как всегда, ушли искать бабочек в парке, а мы сидим на нашем обычном месте. — Оракулы никогда ничего не объясняли, — говорит ей Леандро. — Они говорили загадками. А уж слушатель должен был сам расшифровать смысл их слов и поступать так, как сочтет нужным. Мои предчувствия тоже никогда ничего не объясняют. Если я доверяюсь им, они меня не подводят. Наверное, во мне воплотилась древняя мудрая жрица. Вот так посчастливилось — приютить в себе душу девственницы-весталки. — В коридоре у меня стоит мраморный барельеф — Ахилл на пути в Трою. В одном городе произошла большая битва, и Ахилл ранил копьем местного царя. Рана никак не заживала, и Ахилл спросил совета у оракула. Жрица сказала, что он достигнет Трои только в том случае, если царь, которого он чуть не убил, согласится его туда отвести. — Леандро пробежался пальцами по тросточке. — Царь тоже посоветовался с оракулом, и ему сообщили, что он, раненый, должен исцелить того, кто его ранил. В этом вся суть легенды. Раненый может исцелить врага, который его ранил. — Кажется, я понимаю, — медленно произносит Ариэль. В ярких лучах солнца я замечаю, что она бледнеет. — Неужели на этой проклятой земле еще сохранились оракулы? — добавляет она, обращаясь не столько к Леандро, сколько к себе самой. — У меня нет ответа, — говорит Леандро, — но моя экономка, Катерина, она strega, вы в Америке назвали бы ее ведьмой. Я прошу у нее совета во всех духовных делах. Теперь я понимаю, что большинство людей смутились бы от такого разговора, но нам он почему-то кажется совершенно естественным. Он должен происходить именно здесь — где журчит источник, ветер шелестит в кронах кипарисов, а наша жизнь принимает такой причудливый оборот. По правде говоря, я думаю, это именно те слова, в каких нуждается сейчас Ариэль. Но все нарушается с внезапным приходом Лоры. Раскрасневшаяся и запыхавшаяся, укрывшись от солнца под широкими полями соломенной шляпы, она приносит шезлонг и плюхается в него с мелодраматическим вздохом. У нее типичный английский цвет лица — кремово-белый, не испорченный веснушками; щеки раскраснелись от жары, большие голубые глаза полны застенчивого лицемерия, волнистые светлые волосы стянуты на затылке в простой хвост. В ушах поблескивают превосходные жемчужные серьги в обрамлении бриллиантов. Она скидывает сандалии, расстегивает верхнюю пуговицу на блузке и красивым жестом расправляет пышную юбку. Проклятье. От этого узора в красно-белый горошек у меня сразу разболелась голова. Впрочем, и от нее тоже. Она замечает, что я поморщился, и недовольно жмурится. — Пялиться невежливо, — говорит она. Ариэль и Маттео переглядываются. Иногда мне кажется, будто эти двое владеют телепатией, и я им чуть-чуть завидую. Я устраиваю все дела, веду переговоры, а ему достается благодарность за то, что он улавливает ее малейшее желание. Но для того Бог и создал братьев, чтобы испытывать ваше терпение! Они оба встают, вежливо раскланиваются с Леандро и уходят. Ариэль держит Брайони на руках. Поделом этой гордячке Лоре. — Вижу, я помешала, — говорит она Леандро. — Но мне нужно с вами поговорить. Сейчас же. Это очень важно и срочно. — Ты в самом деле помешала, — спокойно отвечает он. — И, думаю, ты должна извиниться перед моими друзьями. — Простите. — Она пожимает плечами. — Теперь, будьте добры… Я понимаю намек, но мне почему-то не хочется вставать. С того дня, как мы покинули дом в Бельгии, никто еще не пытался мною командовать, и уж не этой сопливой британке указывать мне, что делать. Но у Леандро манеры лучше, чем у меня. — Мы обсудим это наверху, — говорит он и уходит в парк. Лора, надув губки, сует ноги в сандалии. Она была бы очень хорошенькая, если бы не эта капризная гримаса. — Полагаю, он рассказывал вам печальную историю о своей Беатриче, — говорит она. — Почему же вы не спросили его, кто отец ребенка? Леди Беатриче была не таким уж оплотом добродетели. Ничего подобного. Совсем не такая милая душечка, какой ее представляет дражайший папаша. — Мне казалось, она была вашей лучшей подругой. — Была. — Не хотел бы я быть вашим врагом, — говорю ей я. — Пошел ты к черту, — бросает она и удаляется.* * *
— Полагаю, я должен принести вам извинения, — говорит мне Леандро немного позже, когда мы встречаемся, чтобы пропустить по маленькой на ночь. — Полагаю, вы ничего не должны, — отвечаю я. — Вы не виноваты, что она такая стерва. — Да, это так. Наверное, самое простое объяснение в том, что многие из тех, кого она любила, покинули ее. Ей легче быть злючкой, чем остаться один на один со своим горем. — Вы очень проницательны. — Да. Но нелегко слушаться суррогатного отца, особенно теперь, когда Беатриче с нами нет. Лора вышла замуж за первого же человека, кто сказал, что любит ее, хотя в глубине души понимала, что его больше интересуют ее деньги. А когда появился наследник, Эндрю, ее муж, стал еще заносчивее и высокомернее. Дети еще совсем малы, и, боюсь, бедняжке некуда деваться. — Сколько лет ее детям? — Руперту три года, Кассандре два. — Почему она не взяла их с собой сюда? — Они дома, с няньками, там им хорошо. Таковы уж английские обычаи. — Он спокойно развернул «Монте-Кристо» и закурил. Мы взглянули на дальний столик, туда, где сидела Лора с мистером Дрябли. Заметив, что мы обратили на них внимание, они в шутливом приветствии приподняли бокалы с мартини. — Мужчины такого сорта легко предсказуемы, — говорит Леандро. — Цепляются за свои ритуалы, мнят себя особенной породой, выдумывают манеру поведения и возводят ее в ранг закона. Можно предположить, что человек, получивший хорошее образование и обладающий всеми мыслимыми преимуществами, должен обладать и представлением о том, что хорошо, а что плохо, но в одиночку у них никогда не хватает сил на серьезные дела. Им постоянно нужна публика, хотя бы для того, чтобы выслушивать их ничтожное мнение. — Вы хотите сказать, им нужна проверенная, тайная групка «посвященных». — К счастью, у меня слишком мало опыта общения с ними nel gruppo. Я предпочитаю иметь дело с каждым в отдельности. В душе я испускаю огромный вздох облегчения. Ариэль будет рада слышать это, в особенности его последнее замечание. Нет, он не один из них, он не член Клуба. Не может быть. Он слишком замкнут. Слишком заботится о женщинах, которых любит. В море он, может быть, и акула, но в нем слишком много сострадания. Поэтому он никак не подходит на роль одного из них. Я всегда это знал. А теперь и Ариэль мне поверит. — Но самое худшее в том, что они ведут грязную игру и ничего не понимают в женщинах, — продолжает он. Естественно, в этот самый миг Лоре и мистеру Дрябли вздумалось к нам подойти. — Чудесный сегодня вечер, — говорит мистер Дрябли и щелкает пальцами официанту, чтобы тот принес еще коктейль. Этот обрюзгший толстяк действует мне на нервы. До отъезда из Мерано непременно проверю свое предчувствие о том, что у него очень хрупкие пальцы, и полюбуюсь, как он корчится от боли. — Да, — говорю я. — Небо цвета молочного сапфира. Мистер Дрябли улыбается сам себе. — Это напоминает мне историю об одной знаменитой куртизанке, — продолжаю я. — У нее был любовник — гнусный мазохист и в придачу импотент. Вы, без сомнения, понимаете, о ком я говорю; это один английский граф. И каждый раз, когда ей удавалось возбудить его, он одаривал ее драгоценностями, любыми, какие она выберет. Так вот, однажды он был особенно доволен ею — кто знает, на что ей пришлось пойти ради этого. И он позвал ювелира к себе домой. Предприимчивый ювелир не стал показывать простые нитки жемчуга или колечки одно за другим, а взял и высыпал ей на кровать все содержимое своего сейфа. Она сидела в шелковом неглиже и, ослепленная, перебирала пальцами сокровища — сверкающие тиары, нити драгоценных камней, бирюзу и аквамарины величиной с гусиные яйца — все что угодно. Будто пират над удачной добычей. «О, милый, я никак не могу решить! — сказала она своему отвратительному любовнику. — Выбери ты для меня». — Ее любовник подошел к кровати, толчком уложил ее, привязал руки в спинке двумя длинными бриллиантовыми цепочками и сказал: «Это все твое. Все до единого». Ювелир же, не моргнув глазом, собрал опустевшие футляры и поспешно удалился. Вот это королевская щедрость! Настоящий джентльмен! Может, конечно, он и был немного мошенник, но только представьте себе, какой счет ему пришлось оплатить! Мистер Дрябли уже не улыбается. — Нет, я не слышал этой истории, — бормочет он. Конечно, не слышал. Ведь я ее только что сочинил. — Дорогой сэр, не стоит меня стесняться, — говорю я. — Человек с вашим опытом не мог не слышать этой легенды. Спустя шесть месяцев щедрый любовник разорился и бросился вниз с Биг-Бена. — Хотите сигару? — предлагает Леандро. Кажется, он понял, что я жульничаю. — Кстати, о драгоценностях, — обращаюсь я к Лоре. — Совсем недавно я выразил восхищение вашими жемчужными сережками. Надеюсь, вы не потеряли их в спешке, когда удалялись. Она инстинктивно касается рукой уха и окидывает меня взглядом, полным холодного презрения. Сегодня на ней серьги из хрусталя, не особенно дорогие. Но не говорите, что я вас не предупреждал. — Не хотите ли прогуляться при лунном свете? — приглашает ее мистер Дрябли, встает и протягивает ей руку. — Когда Лора возвращается домой? — спрашиваю я у Леандро. — Через два дня. — Тогда, помяните мое слово, завтра здесь будет красивая сцена, — говорю я. — Погодите — увидите. Разумеется, на следующий день, когда я сидел в саду, ко мне подбежала разгневанная Лора. — Признавайтесь, — кричит она, — где они? Я улыбаюсь сладчайшей непонимающей улыбкой. — Что? — Мои жемчужные сережки. Вчера вечером вы специально сочинили эту историю, чтобы скрыть, что вы их украли. — Если я вас правильно понял, — медленно произношу я, — дело обстоит так. Мы с вами побеседовали всего пару кратких минут, а потом вы смеете обвинять меня в том, что я украл ваши дурацкие жемчуга. Там, откуда я прибыл, а именно — в Бенсонхерсте, Бруклин, за такое оскорбление вешают. — Мне плевать, откуда вы прибыли. Я хочу получить обратно мои сережки. — Тогда советую вам перемолвиться словом с вашим дражайшим Джаспером Джеймсом. Он куда более вероятный подозреваемый. Может быть, вы уронили свои серьги, когда гуляли при луне. — Негодяй! — шипит она. — Он настоящий джентльмен. Я обращусь в полицию. — Ради бога, милости просим. С удовольствием обсужу с ними ваше недостойное поведение и ложные обвинения против меня. — Как вы смеете! — визжит она и упархивает прочь. Весьма довольный собой, я решаю, что пора нанести визит любезнейшему мистеру Дрябли. Еще один из моих многочисленных талантов — умение бесшумно вскрыть любой замок, поэтому, заметив, что этот комок грязи утешает Лору на террасе, я проскальзываю вверх по лестнице и быстро проникаю в его номер. Какой сюрприз — в ногах его кровати стоят аккуратно упакованные чемоданы. Ну и удивляется же он, когда через несколько минут входит к себе в номер и видит, что я сижу в кресле и обмахиваюсь его паспортом и билетами на поезд. — Никак уезжаете? Что ж так скоро? — спрашиваю я. — Ах, вы… — брызжет он слюной, задыхаясь от злости. — Убирайтесь, пока я вас не вышвырнул. Пусть я немного растолстел, но, честно скажу, фигура у меня до сих пор внушительная и драться я не разучился. Это умение у меня в крови, оно сверкает в моих угольно-черных глазах. Пусть не обманывает вас ангельский каскад черных локонов, за которые так любит дергать Брайони. Во мне нет ничего ангельского. — Сначала немного побеседуем, — говорю я. — Нам не о чем говорить. — Я так не думаю, — парирую я и достаю из кармана жемчужные серьги Лоры. — Где вы их взяли? — изумленно спрашивает он. — Значит, вы их все-таки украли. И пришли меня шантажировать. Я знал это с самого начала… — Ох, прошу вас. Я сыт вашими излияниями по горло. — Я вытаскиваю из другого кармана черный бархатный футляр для драгоценностей, и глаза у него вылезают на лоб. — У вас есть выбор, — говорю я, помахивая футляром с великолепной коллекцией дамских сережек. — Я могу пойти в полицию и сообщить, какие у вас легкие пальчики. Но, с другой стороны, я могу передать эти серьги Леандро, и пусть он сам разбирается с вами. Оба этих варианта приведут — как бы это помягче выразиться? — к боли и огорчениям. Или я могу отдать эти драгоценности синьору Гольдини и сказать, что нашел их на гравиевой дорожке у источника. В этом случае вы сядете в ближайший поезд до любого забытого Богом места и в придачу, смею добавить, окажете мне весьма значительную услугу. — Я так и знал. — Он мелодраматически вздыхает, но тем не менее немного успокаивается. — А какую… — Ответите на один вопрос. Он озадаченно смотрит на меня. — Ответить на вопрос? И все? — И все. И пообещать, что никогда за всю вашу никому не нужную жизнь вы и на пушечный выстрел не приблизитесь к Лоре Гарнетт или к кому-нибудь из нас, иначе я буду первым в длинной череде желающих свернуть вам шею. Я знаю, где вы живете, знаю, кто вы такой и, если вы будете продолжать вести себя дурно, то — мой вам совет — осторожнее разгуливайте по вечерам. Надеюсь, вы меня понимаете. Он не колеблется. — Будьте вы прокляты. Ладно, даю слово. — Много ли оно стоит? — А теперь задавайте ваш вопрос и проваливайте. Мне надо успеть на поезд. — Хорошо, — говорю я. — Почему вы спросили у миссис Хантер: «Кто вы такая? Зачем вы здесь?» — О чем вы? — В тот день, когда вы впервые сели с нами, вы произнесли именно эти слова. Она огорчилась. Я хотел бы знать, почему вы это спросили. — Понятия не имею. Вопросы совершенно невинные. — Значит, это было простое любопытство? И все? — Конечно, все. — Он, кажется, искренне озадачен. — А что же еще? Мой бедный мистер Дрябли, спасибо, что ты так глуп. Я тебе верю. Ты слишком туп, чтобы быть одним из них. Какое счастье, что мне больше не придется иметь дело с этим коротышкой. — Ничего, — говорю я. — Ничего.* * *
В тот вечер Лора остается у себя в номере, горюя о безвременном отъезде своего курортного ухажера, а Леандро, успокоив ее, выходит прогуляться с нами. — Что она будет делать дальше? — спрашиваю я его. — Надеюсь, приедет в августе с детьми навестить меня, — отвечает он. — Она всегда бывает благодарна мне за приглашение. Оно означает, что ей есть, куда пойти, есть, где отдохнуть от домашних неприятностей. Надеюсь, при этих словах у Ариэль стало спокойнее на душе. — Почему она не попросит вашу ведьму, чтобы та прогнала ее мужа? — спрашивает Ариэль. — Это не в обычаях стреги, — отвечает он. — А чем же тогда занимается ваша стрега? — спрашивает Ариэль, чуть ли не про себя. — Как вы думаете, она сможет мне помочь? — Да. Она помогает тем, кто попал в беду, но не каждый, кто обращается к ней, находит ее советы приятными. — Может она найти пропавшего? Леандро бросает на нее озадаченный взгляд. — Мне нужно найти одного человека, — говорит Ариэль. Нет, нет, нет, только не это. Не сейчас. — Моего ребенка. Леандро смотрит еще более озадаченно. — Он похитил моего ребенка. У Брайони был брат-близнец. Его имя Тристан. — Ариэль стиснула руки так сильно, что костяшки пальцев побелели. — Мне сказали, что он умер, но я знаю, он жив. Я знаю это. И хочу вернуть моего ребенка. — Мне очень жаль… — Я не могу объяснить, — говорит она с таким жаром, какого я никогда не слышал в ее голосе. — Но он исчез. Я хочу найти их. Моего ребенка и человека, который его похитил. Я хочу вернуть свои силы и не остановлюсь, пока не найду их. — Понимаю, — говорит Леандро. — Мне надо идти. — Ариэль встает, берет на руки Брайони и уходит. Маттео, встревоженный, следует за ней. От удивления я не нахожу слов — она раскрыла свою тайну человеку, о котором всего несколько дней назад говорила, что ему нельзя доверять. — Да, — говорю я. — Она полна сюрпризов. — Una sorpresa della bella donna. Да. Величайший сюрприз. Не знаю, что и сказать. — Нам бы очень пригодился ваш адрес. Леандро едва заметно улыбается. — Своими словами вы помогли ей, хотя сами этого не знаете, — говорю я ему. — Надеюсь, мы сможем прибыть к вам через неделю или две. Я все улажу. На всякий случай мы поедем кружным путем. Я скажу синьору Гольдини, что мы уезжаем в Америку, и мы снова исчезнем. — Буду ждать. Мы видимся в Мерано последний раз. Он раскланивается и уходит; я смотрю ему вслед и, клянусь, вижу, как подмигивает кошачий глаз.2 Золотой дом
— Искренние стремления должны идти от самого сердца, — говорит Леандро, беседуя с Ариэль. — Вы знаете, я буду рад вам помочь всем, чем могу, — продолжает он. — Но это не значит, что я расскажу вам во всех подробностях, что вы должны делать и как. — Он отпивает глоток граппы из винограда нового урожая. — Если вы искренни, то вам предстоит большая работа. Но, начав ее, вы должны будете подавить инстинктивное стремление к немедленным результатам, научиться выжидать благоприятного случая. Даже если на это уйдут годы. — На это уже ушли годы. — Уйдет и еще много лет. У вас очень много времени. Жажда мести сидит в вас, моя дорогая, гораздо глубже, чем вы думаете. Я чувствую, что внутри вас кроется накопившаяся ярость, и она готова взорваться. — Да. Я хочу вырваться, — говорит она. — Однажды я уже говорила это Томазино. Я хочу вырваться из самой себя. Хочу стать кем-то другим. La bella donna. Я хочу стать той Белладонной, какой вы меня считаете. — Хорошо. Это поддержит в вас волю к борьбе. — Он с силой уперся тростью в кафель террасы и встал. — Пожалуйста, пойдемте со мной, вы все. Я хочу кое-что вам показать. Леандро исчезает в павильоне, но вскоре появляется, неся в одной руке крошечный флакон, чайное полотенце и глубокую чашу. В другой руке у него большой карманный фонарь. Сделав знак следовать за ним, он ведет нас сквозь сгущающиеся сумерки и подводит к дереву, под ветвями которого скрывается сцена открытого театра. Он светит лучом фонарика вверх, и мы видим, что на коре дерева вырезана сова. При свете дня я бы ни за что ее не заметил. Видимо, она и вырезана не для того, чтобы ее легко замечали. — Но почему сова? — спрашивает Ариэль. — Как вы думаете? — откликается Леандро. — Символ мудрости всего живого, — отвечаю я. — Немигающая и неумолимая. — Да, — говорил он. — И еще… — Ночной хищник, инстинкт убийцы, — подсказывает Ариэль. — Выжидает и обрушивается. Леандро широко улыбается. Мы редко видим его таким довольным. Он отводит фонарь от дерева и ведет нас обратно к источнику, где стоит смеющийся Дионис. Достает несколько носовых платков, откупоривает флакон, высыпает на запястье немного порошка и быстро вдыхает его. Я озадачен: что это — нюхательный табак или неизвестный наркотик? Это не в характере Леандро. Даже в темноте я замечаю, как побледнела Ариэль. Она делает шаг назад, готовая сорваться и бежать прочь. Леандро видит наши лица и опять улыбается. — Это всего лишь порошок, который готовит для меня Катерина, — поясняет он. — Видите ли, боги любят, когда их ублажают ритуалами. Мы должны умиротворить их, чтобы они поверили в нашу искренность. Этот ритуал описан Казановой, мне о нем рассказал мой дед. Чтобы правильно выполнить его, любовница Казановы дала ему понюхать порошка, сходного с тем, который вам предлагаю я. У обоих из носа пошла кровь. Они сдвинули головы над чашей, чтобы кровь смешалась. Он протягивает нам флакон. — Вот так. Он высыпает немного порошка мне на руку, и я вдыхаю. То же самое делает Маттео. От едкого снадобья у меня щекочет в носу до самого горла, и я еле сдерживаюсь, чтобы не чихнуть. Ариэль медленно протягивает руку. Пожалуйста, моя дорогая, поверь ему. Это не наркотик. Этот человек не причинит тебе вреда. Как только она и Маттео вдыхают порошок, мы следуем примеру Леандро и склоняем головы. Через несколько секунд течет кровь. Леандро передает нам чашу, и капли нашей крови смешиваются с его. Он зачерпывает из источника пригоршню воды и выливает ее в чашу. — А теперь пойдем к Катерине, — говорит он и протягивает Ариэль полотенце — вытереть нос. Мне не хочется знать, что будет делать Катерина. Это неважно. Теперь мы — товарищи по заговору — готовы к битве, связаны кровью.* * *
У домов есть души; едва войдя в дом, можно сразу сказать, каково ему — счастлив он, горюет или позаброшен. А может быть, в нем даже гуляют привидения. С первой же минуты, едва увидев длинные ряды потрепанных соломенных шляп, висящих на мраморных крюках в коридоре возле кухни Леандро, я понял — этот дом, несмотря на грозную историю и пугающее величие, надежен и спокоен. И сейчас, полтора года спустя, я ощущаю это спокойствие. Лунный свет заливает широкую террасу возле библиотеки, мы ждем, когда к нам выйдет Леандро, и готовим тост для встречи нового, 1950 года. По китайским верованиям — год Тигра. Да, надо сказать, наместь за что благодарить судьбу: надежно защищенный палаццо, где мы укрылись от мира, прелестное дитя, слуги нас обожают, и мы ежедневно проводим время в обществе самого обаятельного, самого нелюбопытного и самого благоразумного человека — графа делла Роббиа. Наступающий год будет совсем иным. Мы слишком давно живем в тиши. Грядут перемены. Я их чувствую. Можете называть это интуицией, только моя чуткая коленная чашечка тут ни при чем. — Задумай желание, — говорю я, наполняя бокал Ариэль пряным «Брунелло» лучшего урожая. Она отказывается пить шампанское. — Очень просто, — говорит она. — Я хотела бы быть мужчиной. — А я желаю, чтобы после смерти я снова возродился мужчиной, — говорю я. — Полноценным мужчиной. Маттео криво улыбается. — А я бы хотел возродиться собакой, — говорит он. — В самом деле? — удивляюсь я. — А какой породы? — Пожалуй, неаполитанский мастиф. Или ирландский волкодав. — Когда-нибудь у тебя будут собаки, — говорит Ариэль. — Защитники. А пока что мои защитники — вы. Поэтому я поднимаю тост за тебя, мой Маттео. На ее лице мелькает странное выражение. Я закрываю глаза и представляю ее личинкой, спящей внутри куколки. Окутанная темнотой, она набирается сил. Будь эта куколка прозрачной, я бы увидел, как она лежит внутри, свернувшись калачиком, и твердеет, закладывает фундамент крепости в своей душе; запуганная, дрожащая женщина, какой она была в Мерано, исчезает, капля за каплей вытесненная новой сущностью. Но смотреть на это не так-то легко, верно? На то, чего желаешь, всегда трудно смотреть. Это потому, что где-то глубоко внутри, в черноте, гложут мелкие червячки. Но моя милая с ними справится. Она сумела подружиться со всеми ползучими тварями тьмы, чтобы впоследствии завоевать их и подчинить своей воле. Вскоре куколка лопнет, и новая Белладонна выпорхнет, как бабочка, что вьется над кустами жимолости под кухонным окном. И тогда вы снова захотите, чтобы вернулась прежняя, милая, тихая Ариэль. Когда узнаете всю правду. На это требуется время? Что ж, тем хуже. Ее нельзя торопить; ни одно существо не появляется на свет без борьбы. Смотреть на это не менее утомительно, чем слушать болтовню избалованных богатых юнцов с соседних вилл, которые проматывают родительское наследство, покрывая золотом рулевые колеса своих машин, и целыми месяцами болтаются без дела в Сардинии. Но уж кому бы говорить о деле, только не мне. Я превратился в изнеженного слизняка. Но, по крайней мере, у меня превосходный вкус. Меня обучает сам Леандро. Каждый день мы целыми часами беседуем о жизни, о любви, об искусстве, об истории, о том, какую макиавеллевскую хитрость нужно проявлять, чтобы править судовладельческой империей и всегда идти на один шаг впереди Ниархоса и Онассиса. Мы, конечно, говорим и о страдании, а иногда — об Ариэль. Он всегда называет ее Белладонной, поэтому мы с Маттео тоже привыкаем звать ее так. Она больше не Ариэль. Однажды я, правда, совершил глупую ошибку и назвал ее Беллой. — Никогда не зови меня Беллой! — завизжала она. — Почему? — Ее ярость застала меня врасплох. — Потому что таково было мое прежнее имя, — прошипела она. — Изабелла. Маленькая жалкая Изабелла Ариэль Никерсон. Хрупкая нежная дурочка. Она исчезла с лица земли. Разве ты уже забыл? — Нет, не забыл. Просто оговорка. Извини. Больше не буду. — Изабелла мертва. Умерла много лет назад. А имя Ариэль действует мне на нервы. Ариэль — это звучит так приятно, так воздушно. Так угодливо. Оно мне тоже не нравится. Не желаю никому угождать. — Ты ничего не имеешь против имени «Белладонна»? — осторожно спрашиваю я. — Нет, когда это произносит Леандро, — бормочет она. Не пытайся сбить меня со следа, дорогая моя. Я не раз замечал, как ты все чаще украдкой беседуешь с Катериной Мариани, поварихой и стрегой, чьи макароны столь же приятны на вкус, как и ее снадобья. Но всему свое время.* * *
Еще до того, как был произнесен этот новогодний тост, Белладонна начала чаще появляться в большом хозяйском доме, куда мы заходили по воскресеньям на традиционные завтраки с Леандро. Он сидит во главе огромного деревянного стола в обеденном зале, и мы болтаем о всякой приятной чепухе — о красоте садов, о видах на урожай. Леандро не заглядывал на нашу половину; месяц шел за месяцем, и Белладонна начала понемногу выходить из безопасного укрытия своей комнаты. Из моего сердца постепенно улетучивалась тревога. Когда мы приехали, Леандро поместил нас в одном из коттеджей для гостей, и Белладонна закрылась там в состоянии, близком к кататонии. Она сильно сдала в эмоциональном отношении, возможно, потому, что теперь ей не приходилось беспокоиться о внешней стороне жизни, и поначалу ее состояние было гораздо хуже, чем в Мерано. Она не желала слушать утешений, не допускала к себе никого, кроме Маттео, который общался с ней на собственном языке знаков и слогов, да еще Брайони — для дочери она пыталась взвинтить себя до какого-то исступленного материнства. И еще слушала радио. Она просила самые мощные радиоприемники, слушала их день и ночь. Частенько, в любое время суток, я слышал, как она тихо разговаривает с диктором. По ночам до меня доносился тихий плач Белладонны — она приглушала радио и рыдала под его негромкие звуки. Но она ни разу не впустила меня утереть ее слезы. А днем, когда я, как когда-то в Бельгии, приносил ей еду на подносе, я заставал ее в беспокойстве — она расхаживала по комнате, торопливо писала что-то в блокнотах, которыми меня снабжал для нее Леандро, и разговаривала с голосами по радио. Видимо, строила какие-то планы, чтобы не сойти с ума окончательно. Так она оплакивает то, что утрачено, говорил я себе, оплакивает по-своему. Пусть. По крайней мере, в своей комнате она чувствовала себя в безопасности: окна расположены высоко, они такие узкие, что влезть в них невозможно. Попасть к ней можно было только через потайной ход, скрытый за гобеленами в комнате, которую занимали мы с Маттео, а балконная дверь выходила на небольшую террасу, обрамленную со всех сторон отвесными обрывами. Террасу ограждали высокие колючие кусты, высаженные в больших, глубоких терракотовых горшках. Мы специально постарались, чтобы жилище стало надежным укрытием для Белладонны, безопасной игровой площадкой для Брайони, неприступной крепостью для незваных гостей. Здесь она и затворилась от мира. Нам оставалось только смотреть и ждать. Давным-давно, когда Ка-д-Оро был монастырем, наш маленький коттедж служил приютом для монахов. Он располагается на вершине высокого холма, террасы широкими уступами спускаются к деревне в долине, вокруг на многие акры тянутся виноградники, поля подсолнухов, оливковые рощи. Попасть в обширные угодья роскошного палаццо можно только по узкой, извилистой дороге. При взгляде снизу дворец напоминает неприступную крепость, но всякий раз возвращаясь после похода на рынок, я поздравляю себя с тем, что мы, наконец, можем назвать это место нашим домом. Вероятно, дворец кажется нам таким уютным, потому что нам спокойно в нем, за кольцом толстых каменных стен, где деревянные потолки в гостиной расписаны знаками Зодиака; где разноцветные кафельные плитки на полу приятно холодят ноги в летний зной; где в длинном коридоре на третьем этаже, возле превращенных в спальни монашеских келий, выстроились в нишах каменные бюсты из Помпеи; где стены спальни Леандро расписаны фантастическими фресками с изображением танцующих нимф и сатиров. Меня, естественно, больше всего тянет в кухню, где над мраморными раковинами развешаны медные горшки, у плиты хлопочет Катерина, а ее муж, Роберто, помогает нарезать помидоры, но еще больше я люблю уединяться в читальном зале на втором этаже колокольни, близ крыла для прислуги, откуда открывается великолепный вид на центральный двор, или в плавательном бассейне с бирюзовой водой, словно выкопанном прямо в склоне холма. Оттуда кажется, что даже земля в усадьбе имеет тот же цвет, что и камни в кольце Леандро. Но где мы больше всего чувствуем себя как дома — это, конечно же, в библиотеке. Пусть она не такая роскошная, как та, что осталась в Бельгии; о том доме мы никогда не говорим. Я часто застаю там Леандро, в те дни, когда он не уезжает по делам в Рим или Флоренцию, что случается редко. Его судовладельческая империя умело управляется хорошо подобранными заместителями, и он доверяет им улаживать все сложные вопросы. Подозреваю, что он выискивает нити, которые могли бы помочь нам в наших поисках, однако до сих пор ничего не нашел. Мы никогда не разговариваем о его поездках, и я никогда не заикаюсь о своих догадках Белладонне. Если уже сейчас эти поиски окажутся бесплодными, то она может отказаться от своей идеи еще до того, как найдет в себе силы покинуть убежище и выйти на охоту всерьез. В конце дня мы с Леандро часто прогуливаемся возле пруда с золотыми рыбками, где на темную воду падает крапчатая тень кипарисов. Дорога туда лежит мимо источника Диониса, из которого вместо вина бьет вода, мимо часовни и семейного склепа, по извилистой тропе, мимо затаившейся совы, к театру с открытой сценой, спрятанному в тени раскидистых деревьев, чьи ветви переплетаются над скамьями для зрителей. Там мы часто находим Белладонну — она сидит на резных гранитных ступенях, смотрит, как гоняются друг за другом по древним каменным плитам яркие солнечные зайчики. Иногда мы отдыхаем на террасе библиотеки и любуемся, как она покачивается в гамаке, привязанном между двумя узловатыми абрикосовыми деревьями, и потягивает сок водяного кресса, который Катерина приправляет бодрящими травами из своего огорода, чтобы улучшить кровообращение. Леандро терпелив, он ждет, пока она окрепнет. Он знает, что она, когда будет готова, придет к нему сама, как пришел я. А тем временем он охотно обучает меня нравам и обычаям света. И его прислуга тоже меня учит. Естественно, они все любят меня, потому что я говорю на их родном языке, приправляя его для остроты самыми яркими бруклинскими перлами. И еще потому, что я очень обаятелен. Каждое утро начинается с жаркого спора — кому сегодня будет дозволено присматривать за Брайони. Ее любимец — толстяк Роберто; он подкупает малышку печеньем, которое печет специально для нее. За это на него беззлобно дуются Дино и Ринальдо, которые ухаживают за лошадьми, Паскуале и Гвидо — шоферы, старший садовник Бруно, а также все горничные. Карла Фантуччи, главная экономка, напевает Брайони колыбельные. Даже ее неразговорчивый муж, мясник Марио, был замечен в том, что выдавил улыбку, когда Брайони, учась ходить, ухватилась за его ногу. Как и надеялся Леандро, эта маленькая хохотушка с колечками светлых рыжеватых волос и огромными зелено-голубыми глазами вдохнула в суровый дом новую жизнь. Теперь слуги целыми днями распевают: веселые детские песенки для Брайони, народные песни и арии для вашего покорного слуги. Я тоже учусь петь, внимательно прислушиваясь к указаниям Карлы, которая не замечает неестественной трещинки в моем голосе. Белладонна усердно осваивает пианино и клавесин, а изредка я даже слышу, как Маттео пыхтит над этюдами и гаммами. Он считает, это полезно, чтобы сохранить гибкость пальцев, но вообще-то предпочитает упражняться в карточных трюках и жонглировании, показывает фокусы, доставая из высокого цилиндра кроликов. Он устраивает представления для детей прислуги, они хохочут от восторга и совсем перестали бояться его. Сдается мне, он решил стать первым в мире молчаливым фокусником. Если бы он мог своей магией вернуть утраченные части наших тел. Главная его помощница — маленькая Брайони. Она в восторге ковыляет вокруг, вытаскивает из цилиндра цветные платки и римские монеты; Роберто дает ей листики салата, и она идет кормить своих любимых кроликов, которых держат в садке возле огорода. Ее первым словом было neelio, сокращение от coniglio, что по-итальянски значит «кролик». Я ничуть не удивился. Услышав его, Белладонна прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Брайони никак не хотела говорить «мама», и, мне кажется, Белладонна обрадовалась, что первым словом ее дочери было не puttanesca. Вся прислуга охотно поверила в легенду, которую рассказал Леандро. Для них Белладонна была всего лишь его давней знакомой, которая долго болела, а теперь восстанавливает силы на свежем тосканском воздухе. Им и в голову не приходит следить за нами, тем более осуждать нас; они только надеятся, что с каждым днем она чувствует себя хоть немного лучше. Их волнуют более серьезные заботы — например, ухаживать за безбрежными садами, виноградниками, холить лошадей, чинить трубы в фонтанах, раскрашивать арки просцениума в театре перед концертом местного духового оркестра. Мы с Маттео никогда не отказываемся помочь, чем можем, и дни протекают в приятной дымке.* * *
В данный момент меня больше всего тревожит мое седло. Для верховой езды. Дело в том, что я учусь кататься верхом. Я решил стать заправским наездником, и Дино взялся меня обучать. Я совершенно безнадежен: никак не могу найти равновесие. — Это потому, что ты неуравновешен, — сказала Белладонна, когда я пожаловался. — Неужели? Попробуй-ка сама, посмотрим. Она нахмурилась и не сказала больше ни слова, но через несколько дней разбудила меня ни свет ни заря. — Вставай, — велела она. — Я хочу сесть на лошадь. Я застонал. Меня никак нельзя назвать «жаворонком». — Дай поспать. — Нет. Пойдем со мной. Я не хочу оставаться наедине с Дино. Дино, к вашему сведению, давно перевалило за семьдесят пять, и он уже несколько раз прадедушка. Ринальдо не намного моложе. В наши дни никто больше не ездит верхом, и я подозреваю, что Леандро держит лошадей и конюхов только потому, что не желает увольнять стариков. В том, что касается прислуги, он сентиментальный тип старой закалки. Для него слуги — та же семья, и ему невыносимо расстаться с кем-то из них. Пока я надеваю снаряжение для верховой езды, Белладонна присаживается на край кровати. Маттео все еще тихо похрапывает. — Я хочу стать сильной. Мне нужно быть сильной, — шепчет она. — Я хочу превзойти самое себя. Я так давно мечтал услышать эти слова, что прощаю ее за ранний подъем. И как только мы входим в конюшню, лошади начинают громко ржать. Будь они прокляты. Я уже отказался от своих притязаний стать искусным наездником. А Белладонна как раз начала находить удовольствие в том, чтобы ухаживать за животными, разговаривать с ними, ей нравится учиться у Дино. По утрам, когда он видит ее, морщинистое лицо старика оживает, он счастлив оказать услугу близкой подруге Леандро. Он полон тихого терпения, а она мгновенно все перенимает. Белладонна превосходная ученица, на удивление бесстрашная; когда она правит огромной лошадью, это дает ей ощущение силы, которого она никогда прежде не испытывала. Не знаю, как у нее это получается, но ее обожают даже самые норовистые кобылы. Ее тонкая фигурка вскоре налилась твердыми мускулами и покрылась ровным загаром цвета жженого сахара. И тогда Леандро привел нам Орландо Питти, огромного мускулистого венецианца с перебитым носом и кривыми зубами. Я никогда не думал, что у человека на голове может быть такая масса волос. Он часто улыбается, но темно-карие глаза смотрят внимательно, как у Леандро. Он имеет черный пояс по карате и специализируется в охранных делах. Он будет жить в большом доме и учить нас всем боевым искусствам, какие мы пожелаем освоить. Наш распорядок дня очень прост. Мы встаем, и примерно час Белладонна занимается верховой ездой. На завтрак мы едим дыню и мягкий тосканский хлеб, потом, пока жара не стала невыносимой и мы еще способны сосредоточиться, Орландо тренирует нас в стрельбе по мишеням. Мы попеременно стреляем из винтовок, дробовиков, пистолетов, даже из лука. — Стреляйте спокойно, — говорит Орландо. — Дышите равномерно. Цельтесь в сердце. Через день он дает нам уроки самозащиты, отрабатывает падения и броски на сладко пахнущих охапках сена в конюшне. Брайони подражает нам, бегает вокруг, дергает лошадей за хвосты, глядит, как мы, обливаясь потом, швыряем друг друга, и вместе с нами радостно кричит: «Ки-йа!» После обеда каждый занимается своими делами: я читаю в библиотеке, Маттео репетирует фокусы или гуляет по усадьбе. Он подружился с таким же молчаливым Марчелло Роланди, смотрителем фонтанов, и они часто возятся с механикой или вместе с Орландо наведываются в деревню пропустить стаканчик вина. Белладонна учит итальянский или французский, тренируясь в разговоре со слугами, или идет побродить по садам, останавливается выполоть пригоршню сорняков или подрезать розовый куст. На шее у нее висит фотоаппарат, старая видавшая виды «Лейка», которую я нашел в ящике стола в библиотеке. Когда из Лукки приезжает Мариза Колумбо — она специалист по фрескам и заглядывает к Леандро раз в несколько месяцев, чтобы проверить состояние росписей на стенах — Белладонна берет у нее уроки светотени и композиции. Фотолабораторию для нас Леандро устроил в нижнем этаже, возле подвала. Обязанность проявлять пленку лежит на мне, потому что, когда Белладонна впервые зашла в темную комнату, с ней случился приступ паники. Глупый, бестолковый Томазино! Разве можно было пускать ее в темноту? Вечером, когда меркнет свет дня, мы с Леандро встречаемся на террасе и беседуем до самой ночи. Мне стоит огромных трудов не отставать от них. Особенно смотреть, как Белладонна без всяких усилий скачет на своей лошади Артемиде. Если уж ей удалось объездить эту скотину, значит, она может ехать верхом на любой живой твари. Она доказала это, когда однажды Леандро в шутку подарил нам страуса. Когда птица прибыла в поместье, Дино накинул ему на шею веревку, Белладонна вскочила в «седло» — и они быстрее ветра помчались по полю. Белладонна подскакивала, изо всех сил цеплялась за длинную шею, а страус нес ее зигзагами по грядкам помидоров и зеленого перца. Катерина едва не рыдала от отчаяния, а все остальные покатывались со смеху. Брайони назвала мерзкую птицу Пушистиком, Паскуале и Гвидо построили для него загончик с подветренной стороны от лошадей, и экзотический жилец стал притчей во языцех для всей деревни. Мы пытаемся приручить его, чтобы он катал на себе местную детвору, но Пушистик с первого взгляда втюрился в Белладонну и остался верен ей навеки. Это был страус-однолюб. О, магическое прикосновение!* * *
Каждый день мы поднимаемся в дом, садимся в тени виноградных лоз и, обмахиваясь веерами, слушаем, как Леандро рассказывает одну из своих бесчисленных историй. Мне приходится быть очень осторожным с солнцем — я больше не загораю, я покрываюсь пятнами. Леандро, как Шахерезада, чарует нас и наставляет. Он ничего не говорит напрямик, всегда ходит вокруг избранной темы, и таким образом мы гораздо лучше запоминаем его слова. — Я больше не стремлюсь повелевать людьми, указывать им, что и как делать, — сказал Леандро однажды знойным днем, незадолго до сумерек. — Я занимался этим много лет и заплатил высокую цену. Теперь я довольствуюсь тем, что наблюдаю за другими. Они сами должны находить ответы. Он заставляет нас думать. Белладонна наблюдает за ним, впитывает его манеры, его мудрость, огромный запас знаний, очаровательную внешность, за которой скрывается железный стержень. Вбирает в себя его боль. И, конечно же, его безжалостность. Время от времени он делится с нами мелкими уловками из своего обширного каталога грязных трюков. Лично я только ради этих минут и живу. И не ждите, чтобы я вам что-нибудь открыл. Неужели вы считаете меня таким глупцом? Кроме того, думаю, вы вскоре сами поймете, какие из уловок я перенял от него. — Расскажите о своем детстве, — говорит Леандро Белладонне в один прекрасный день. — Это поможет мне понять вас. Мне и самому любопытно. Она никогда не заикалась о своей семье. — Я выросла в Америке, в маленьком городке неподалеку от Сент-Луиса, — говорит она после долгой паузы, глядя на подсолнухи, поникшие от жары. — Уэбстер-Гроувз, штат Миссури. В миллионе миль отсюда. Моя мать целыми днями только пила да ссорилась с отцом. Она любила его до безумия. Он был банкир, значит — большая шишка в нашем тесном мирке, и чуть не лопался от важности. Уильям и Мария, печально знаменитые Никерсоны, из тех, что не пропускают ни одной вечеринки. Я была их единственным ребенком. Вот почему я иногда завидую вам с Маттео, — добавляет она, обращаясь к мне. — Завидуешь? Нам? — Я оторопел. — Завидую тому, что вы близнецы, — поясняет она. — Завидую, что каждый из вас рос рядом с родной душой. — Ну, и много ли это нам принесло счастья? Она пропускает мое замечание мимо ушей. — Моя мать только и делала, что ходила на вечеринки, где играют в бридж, пропадала в окружном клубе, исполняла каждый каприз отца. А я страдала без родительского внимания. Меня отдали в интернат, но я постоянно попадала в беду, потому что мне страстно хотелось, чтобы хоть кто-нибудь заметил меня. — Она сокрушенно усмехнулась. — Я всегда вступалась за проигравших. Меня выгнали из школы за то, что я отрезала косички Салли Симпсон и сунула ее головой в унитаз. Она всегда задирала малышей, за это я ее терпеть не могла. — Она наверняка этого заслуживала, — говорю я. — Конечно, заслуживала, но мои родители разъярились. Они были страшные снобы, только и заботились о хороших манерах. Стремились произвести впечатление, затмить всех в своем клубе. Чем угодно — самой большой машиной, самым сухим мартини, самым модным декоратором, который расставил по всему дому туго набитые диваны. А мне хотелось только одного — порадовать их. Каждый ребенок стремится порадовать своих родителей. Мне хотелось угодить всем. Но я не знала, как. А потом моя мать стала пить все больше и больше, — продолжала она. Ее лицо замкнулось, голос стал далеким. — И с головой ушла в азартные игры. Как только отец уходил на работу, она брала программы скачек и украдкой выбиралась из дома. Она шла к букмекерам — пешком, дабы никто в городе не видел, что она едет на машине, и не спросил, куда она направляется. Наверное, благодаря этому ей и удавалось сохранять стройную фигуру. Она прятала пустые бутылки в саду, под розовыми кустами. Для пьяницы у нее был превосходный стиль. Белладонна вздыхает и долго молчит. — Где они сейчас? — отваживаюсь спросить я. — На кладбище Святого Духа. Бок о бок навсегда, — отвечает Белладонна. — Разбились в автокатастрофе, когда мне было пятнадцать лет. Возвращались домой из клуба, вдребезги пьяные. Хорошо, что они хотя бы умерли вместе. — А что потом случилось с вами? — Я переехала жить в Миннеаполис, к дяде Полу, тете Блэр и кузине Джун. Точнее, жила у них летом. Мне было легче оставаться в интернате, там все сочувствовали мне, бедной сиротке. Прекратила свои выходки и стала невыносимо вежливой. Учителя меня любили, но я пряталась от них за своими безукоризненными манерами, потому что так, мне казалось, я сохраняю в душе нечто, очень важное для моих родителей. А потом, окончив среднюю школу, я уехала к Джун. Она жила в Лондоне, делала вид, что изучает искусство. — А на самом деле подыскивала себе мужа. — Вот именно. Впервые в жизни я смогла свободно вздохнуть. Я как раз начала прикидывать, чего я смогла бы достичь, когда… точнее, куда… — Ее лицо темнеет, становится суровым, на щеках залегают жестокие тени. — Вот куда завели меня безупречные манеры. Туда, где меня обманули. Леандро вздыхает. — Простите, — говорит он. — Где теперь Джун? — спрашиваю я. — Понятия не имею, — голос Белладонны полон горечи. — Когда мы жили в Лондоне, она была занята только собой, искала женихов. Не знаю, где она с ним познакомилась, но именно она представила меня Хогарту, с этого все и началось. — Никто не может предсказать будущего, сказать, куда приведут нас знакомства, дети, жизнь, друзья, дом, — говорит, помолчав, Леандро. — Можно только гадать. Нас всегда подстерегают катастрофы и бедствия. Но нельзя им поддаваться. Надо идти вперед. Вы, моя сладкая Белладонна, вы должны сражаться, несмотря на все, что произошло с вами, должны создать собственный мир с собственными правилами. Куда бы ни привела вас дорога, вы не должны отступать. — Вы хотите сказать, что я должна найти Джун, — говорит Белладонна. — Хотя бы для того, чтобы удовлетворить любопытство. — Что движет миром? Напряжение, — говорит Леандро. — Напряжение между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, между матерью и ребенком, между влюбленным и возлюбленной. Между хозяином и рабом. Белладонна вздрагивает. — Подчинение — вот стержень всех человеческих взаимоотношений. — Леандро поворачивает кольцо на пальце, и я вижу яркий цветной блик. — Подчинение и сопротивление ему. Кто-то или что-то хочет повелевать нами, мы ищем такого повелителя или боремся с ним. Но теперь, мое дорогое дитя, ваша собственная воля подчиняется только вам. Ничто не может вас остановить, если вы сами не захотите. — Ничто меня не остановит, — повторяет Белладонна. И мы все ей верим.* * *
— Эта история, скорее всего, вымышленная, — говорит нам Леандро на следующий день, — как и все истории о порочных женщинах. Нинон де Ланкло была самой прославленной куртизанкой Франции; она держала салон, среди ее любовников были короли, герцоги, принцы, она была подругой Мольера, Расина и множества других знаменитостей. Говорят, что, когда она была уже не первой молодости, в нее влюбился юноша. Несмотря на то, что их разделяли десятилетия, он видел в ней только желанную, привлекательную женщину. Но она, оказывается, была его матерью, чего бедный юноша не знал. Он был рожден от связи с герцогом более двадцати лет назад и, как многие дворянские дети той эпохи, получил образование вдалеке от Парижа. Когда она отвергла его заверения в вечной страсти и открыла мальчику страшную правду, он бросился на шпагу. Прямо у нее на глазах. Чересчур мелодраматично, даже для меня. — Человек должен уметь проигрывать. Вот чего не понимал сын Нинон, — говорит Леандро. — Я умею проигрывать, — с жаром заявляет Белладонна. — И никогда больше не проиграю. — Тогда поговорим вот о чем. Вы создаете свой мир, когда думаете о нем. Естественно, вы не можете изменить физических обстоятельств того, что с вами произошло, но можете изменить свое отношение к этому. Для ваших нынешних целей важно не то, что произошло или происходит с вами, а то, как вы позволяете себе реагировать на это. Вы, моя Белладонна, должны научиться думать сосредоточенно и дисциплинированно. Думать не о прощении, о мести. Но вы должны понимать: если вы позволите мести взять над собой верх, станете одержимы ею, то навсегда останетесь ее рабыней. — Я не хочу быть свободной, — говорит она. — Быть в плену — мне это хорошо знакомо. Я стану свободной только тогда, когда найду своего сына. И человека, который его похитил. И всех остальных членов Клуба. Я хочу, чтобы они проснулись во тьме. Хочу почуять запах их ужаса, прочитать ужас у них в глазах. Хочу услышать их мольбу о пощаде. — Очень хорошо, — говорит он. — Вижу, мы делаем успехи. — Верно, — соглашается она. — Я каждый день чувствую, что меняюсь. — Перемены не в тягость, если вы научитесь пользоваться возможностями, которые они открывают. И результат часто бывает не таким, какого вы ожидаете. Мы сидим в сгущающихся сумерках и смотрим, как на небе зажигаются звезды. Под легким ветерком шелестит листва, до нас легкой волной доносится запах базилика.* * *
На следующий день, когда мы опять расселись на веранде, Леандро показывает нам конверт. — Это от Лоры Гарнетт, — сообщает он. — Скоро приезжает. Одна. Дети останутся с Эндрю и его родными. Говорит, ей не терпится повидать вас всех. — Надо думать, — ворчу я. — Не судите ее так строго. — Леандро укоризненно качает головой. — Бедная Лора до сих пор сгорает со стыда за то, что была так глупа с вашим мистером Дрябли. Она часто пишет, и из ее писем я вижу, что она до сих пор несчастна. Но мне бы хотелось еще разок повидать ее детей. — Он вздыхает. — Что вы хотите сказать этим «еще разок»? — спрашиваю я. У меня сосет под ложечкой от ужасной мысли. Мы с Белладонной переглядываемся. На вид Леандро такой же, как всегда, но меня беспокоит его здоровье. В этом году ему исполняется семьдесят один; он старается не показывать нам обуревающие его горе и ярость, но от этого бремя его забот не становится легче. Иногда мне кажется, что он усилием воли заставляет себя не расставаться с жизнью, пока не убедится своими глазами, что Белладонна окрепла и готова покинуть его кров. — Я хочу сказать всего лишь то, что у меня иногда болят кости, а с Лориными детьми мне всегда становится легче, — отвечает он. — И для Брайони будет полезно завести товарищей по играм ее возраста. — Но у Брайони уйма товарищей ее возраста, — возражаю я. — Дети Карлы, дети Катерины, дети Бруно, вся здешняя ребятня. И у нее есть Сэм. Сэм — это ее кукла, мальчик, которого она упрямо наряжает в девичьи платьица. У него на голове нет волос, в стеклянных глазах застыл глупый блеск. Брайони запрещает ему надевать под кружевные платья нижнее белье и настырно обсуждает это с каждым встречным. Бедный Сэм, он, наверное, трансвестит. В нашей разношерстной компании не могли не возникнуть вопросы пола. — Но это не английские дети, — говорит Леандро. — Вы правы, — говорю я. — И я изо всех сил стараюсь не испытывать к Лоре ничего, кроме жалости. Честное слово. — Она смеется и валяет дурака только для того, чтобы укрыться от боли, — говорит он. — Вы, наверное, это понимаете. — Еще бы. — Да, конечно. — Леандро вздыхает. — Никто не может понять отношений и причудливых связей между влюбленными. Но у меня на глазах Лора, очаровательная и любопытная, превращалась в покорного щенка. Да, нас ждет потрясающе интересный визит. Кроме того, Лора никогда не казалась мне такой уж покорной. — Зависимость — это не любовь, — говорит Леандро, откидываясь на спинку кресла, и закрывает глаза. — Эту ошибку и я когда-то сделал. — Я такой ошибки никогда не сделаю, — горячо заявляет Белладонна. — Я никогда не стану ни от кого зависеть. Никогда. Леандро открывает глаза и мягко улыбается ей. — Попросите Лору спеть для вас, — говорит он, подавляя зевок. — Это ей очень польстит. Ее голос может растопить льдину. — Если это польстит вам, — тихо отвечает Белладонна, — и только вам. Я попрошу. Он хорошо обучает ее.3 Водопад графини
Будь он немного осмотрительнее… Осмотрительность — не то слово, которое вы часто встретите в этой саге. Леандро рассказывает о муже Лоры, объясняет, почему она все-таки не приехала. Какие-то неотложные семейные дела, говорилось в телеграмме. Наверное, одна из любовниц Эндрю закатила истерику. Или что-нибудь столь же серьезное. Честно говоря, я рад, что она не приехала. Кому она здесь нужна? Уж наверное не нам. И не мне. И, конечно, не Белладонне. Мы гуляем по садам, проходим мимо аккуратных клумб с розмарином и лавандой. Ветер напоен их ароматом, и толстые шмели, опьянев от нектара, наполняют воздух тихим гулом. — Почему она его не бросит? — спрашивает Белладонна у Леандро. — Бросить — это не просто. Может быть, эта жизнь, хоть и не нравится ей, стала привычной. — Леандро испускает неуловимый вздох. — Но, боюсь, пока она остается с Эндрю, ей никогда не узнать, что такое любовь мужчины. — Я тоже этого не знаю. И никогда не узнаю. — Дражайшая моя Белладонна, — говорит Леандро и останавливается, чтобы поцеловать ей руку. Даже после стольких месяцев, проведенных здесь, это единственный жест, какой она может выносить, не поморщившись. — Я не позволю вам думать так. Существует греческое слово — метанойя. Оно означает, если можно так выразиться, перемены в разуме. Когда человек перестает двигаться по накатанному пути, его ум меняет направление, и он уже не думает так, как прежде. Древние считали, что это дар, способность открыть себя милосердию. — Не хочу этого слушать. — Человек может злиться, бушевать, кипеть от ярости, а потом все-таки переменить образ мыслей. — Может быть, для вас этот способ и подходит, — в бешенстве говорит Белладонна, — но не для меня. Я буду кипеть, бушевать от ярости и никогда не остановлюсь. Никогда не прощу. И вы меня не заставите. — Нет, милая, для меня этот способ тоже не подходит. И я не могу заставить вас что-то сделать. Не могу даже пожелать. Напротив. Вдумайтесь: на протяжении всей человеческой истории мужчины, полные ярости, почитались героями, воинами, пророками. Но женщины, полные ярости, были только демоницами или ведьмами. Как вакханки: впадая в безумие, они рвали тело мужчины на куски. — Значит, вы хотите сказать, что нашему миру нужно побольше разъяренных женщин, — добавляю я. — Я понимаю, — говорит Белладонна. — Да, но я слишком хорошо усвоил одну вещь: чтобы жизнь не была такой невыносимой, ее нужно рассматривать как нечто малозначительное, — говорит ей Леандро. — Я не отступлю. Никогда не отступлю. Я стар и лучше вас умею скрывать свои мысли, вот и все. Это не значит, что их не существует. С ними нужно считаться и жить дальше, не позволяя им взять верх и помыкать вами. Этому научила меня смерть моей любви. Белладонна смотрит на него, и ее глаза смягчаются. — Умение прощать — это дар, — говорит он. — Это единственное средство, которое может освободить нас от груза ненависти. — Но вы предпочли не освобождаться от него. И вы меня не слушаете, — запротестовала она. — Я тоже не хочу от него освобождаться. — Тогда вы должны признать: пока мы не способны простить, мы держимся за руку своего обидчика. И эта рука вечно будет тянуть нас назад. — Мне все равно. Пусть тянет, я должна отомстить. Только не знаю, с чего начать. — Начните с самого начала. — С начала. Иными словами, с человека, который меня во все это вовлек. — Ее глаза прищуриваются. — Вы имеете в виду Джун, мою кузину. Значит, вы все это время говорили о ней. — Я говорил только о том, что вы сами считаете началом. Никаких правил не существует. Доверьтесь своему чутью, и вы будете знать, что делать. Скажу вам только одно: вы можете стать всем, чем угодно, если твердо знаете, чего хотите; большинство людей этого не знают. Если вы скажете себе, что не можете проиграть, то всегда окажетесь победителем. А если станете думать, что вам грозит поражение, непременно проиграете. Если будете чураться правды, дорого заплатите за ложь. Ложь больнее всего бьет того, кто солгал. — Я не нуждаюсь во лжи, чтобы отыскать правду. — Может быть, и нет, но вы должны смириться с возможностью того, что ваши планы закончатся не тем, к чему вы стремитесь. Вы должны сосредоточиться и стоять на своем. Вас всегда будут посещать мелкие искры сомнений, крошечные змейки, которые заползают в самые темные щели вашей души. Вы должны отвернуться от них. — Я это знаю, — шепчет Белладонна. — На поверхности остается только одно: фасад. Вот почему ваш замысел должен строиться очень тщательно. Чтобы найти сокровище — или убедиться в его отсутствии — нужно очень много копать. Вот почему зависть и ревность часто оказываются бесплодными. Они — всего лишь реакция на фасад. Да, но как приятно бывает отпускать издевки в адрес тех, кто безобразен и глуп! Никакая мудрость не удержит меня от стремления ворваться в такие уголки, куда побоится ступить осторожная Белладонна. — Ни один разумный человек не бывает до конца разумен; и ни один злодей не бывает всецело зол, — продолжает Леандро небрежным тоном, как будто речь идет о само собой разумеющихся вещах. — Даже у чудовища бывают моменты, когда он забывает об ужасах собственной души. В этом его оружие — он взывает к вашей слабости. В таких ситуациях отбросьте колебания. Белладонна бледнеет, но ее губы плотно стиснуты. — Я не стану колебаться, — говорит она. — Не поддамся слабости. Не отвернусь от них. Слишком часто я просыпалась среди ночи и чувствовала рядом с собой его, чувствовала, как его глаза сверлят меня даже через темноту, но никогда не видела его. Он до сих пор смотрит на меня, не отпускает. Я его найду. И всех остальных тоже. Я заставлю их страдать. — Per amore о per forza. Тогда вы должны начать с самого начала. Найти Джун Никерсон, где бы она ни жила и как бы ее ни звали, и сделать то, что подскажет вам сердце. А потом посмотрим. Готовьтесь тщательнее. Помните, на это может уйти больше времени, чем вы думаете. Мне кажется, что вот так, окольным путем, Леандро сказал нам: на этой злополучной кузине вы будете отрабатывать и оттачивать свои методы. А потом посмотрим. И постараемся заглянуть как можно дальше. — Я уже сказала, — говорит Белладонна. — У меня нет ничего, кроме времени. Я умею ждать. Как вы думаете, удовольствие найти их стоит того, чтобы ждать очень долго? На этот вопрос у Леандро нет ответа.* * *
— Знаете, мир — очень жестокое место, — говорит мне Белладонна несколько месяцев спустя, протягивая письмо от мистера Джека Уинслоу, Ч. Д. Это сокращение, вероятно, должно означать «частный детектив», но, по мне, куда лучше подошли бы слова «чрезвычайный дурак». Может быть, я, как всегда, слишком нетерпелив, но до сих пор ему не удалось откопать ничего интересного, поэтому я уверен, что от него нет никакого толку. Леандро дал нам адрес своего знакомого, бывшего старшего детектива из Скотланд-Ярда по имени Гаррис Притчард. Когда-то он был большой шишкой в политической полиции, слыл отчаянным сорвиголовой и помог Леандро раскрыть контрабандную сеть. Но, к сожалению, вскоре после этого наш пострел обнаружил, как много витаминов содержится в кружке пива «Гиннесс». В свой первый визит в Ка-д-Оро наш Притч, как я к его неудовольствию прозвал этого толстяка, сообщил, что он часто работает с неким американцем из Нью-Йорка, единственным и неповторимым Джеком Уинслоу. Он величал этого Джека дотошным, упорным, сильным и решительным. Бывший шпион и бывший полисмен, не поддастся ни на уговоры, ни на подкуп. Прелестно, сказали мы, он просто святой. Делайте, что хотите. Летите куда угодно, бродите по любым переулкам. Вы, Притч, зовете себя агентом-следователем, вот и следуйте. Нагружайте свой пивной животик сотнями кружек, надвигайте поглубже котелок, чтобы прикрыть редеющие рыжие волосы, копайтесь в пыльных углах складным зонтиком, щурьте слезящиеся карие глаза, пускайте в дело старину Джека — полная свобода действий. Но до сих пор он не выяснил ничего. Проклятье. Мы впервые поставили целью найти конкретного человека и страшно тревожимся, хотя и не подаем вида. Мы прячем свою тревогу даже от Леандро, но он, как обычно, не задает никаких вопросов. Дни пролетают в туманной дымке. Брайони растет просто красавицей, ее светло-рыжие волосы завиваются мягкими колечками, зелено-голубые глаза смотрят так же проницательно, как у матери. Пока что Брайони предпочитает Маттео вашему покорному слуге. Не понимаю, как это возможно, если я так неотразимо очарователен, и говорю себе, что это не имеет значения, но, тем не менее, меня это задевает. Наверное, дело в том, что я провожу очень много времени с Леандро. А еще, может быть, потому, что дети часто не могут выразить, чего они хотят. А молчаливый Маттео ее понимает. Он чрезвычайно трогателен в своем искусстве общаться почти без слов; в веселой игривости, с которой выполняет свои незатейливые фокусы — теперь они получаются у него без сучка без задоринки; в том, с каким изяществом он достает из воздуха веточку розмарина прямо под носом у Катерины и щекочет ее. Для такого неуклюжего великана он на удивление нежен с Брайони, особенно когда она перед сном начинает капризничать, хочет подольше посидеть со взрослыми на веранде. «Сэм зевает, — говорит он ей. — Пойдем, наденем ему ночную рубашечку». Эти слова действуют, как заклинание. Брайони тотчас же начинает зевать и вскоре засыпает, гаснет, как свечка. Сэм, как и его хозяйка, соглашается носить только самые изысканные кружевные рубашки. Но, едва проснувшись, Брайони спозаранку носится по всей усадьбе, играет с детьми слуг, смеется и болтает по-итальянски. Дино учит девочку кататься на пони, которого подарил Леандро на ее четырехлетие две недели назад, а Роберто до сих пор балует сладким печеньем. Как и мать, малышка способна очаровать кого угодно, даже Пушистика; правда, наш долговязый страус отдал концы с месяц назад. Мы все, кроме Брайони, втайне радовались, даже Леандро. Глупая птица вырвалась из своего загона, помяла все помидоры, вытоптала базилик, потом вторглась в личный травяной огород Катерины и выкопала из земли драгоценную мандрагору. Если бы страуса не отравил волшебный корень, то непременно придушила бы Катерина. Она выращивала эти кривобокие корешки годами. Сурово стиснув губы, Катерина сшила из перьев Пушистика маску — своеобразное напоминание о том, во что обходятся пустые прихоти. А тем временем мы стараемся не слишком тревожиться, дожидаясь почты или телефонного звонка. Мы даже не уверены, звонит ли здесь телефон — все-таки Италия. Не думаю, что найти Джун Никерсон будет очень трудно. Если только она жива. Поэтому можно представить, с какой радостью мы, проснувшись однажды утром, видим на террасе черный котелок Притча, а под ним — самого великого сыщика. Он обмахивает цветущие щеки свернутым номером лондонской «Таймс» и обмакивает в чашку кофе кренделек, поднесенный Катериной. — Доброе утро, Притч, — приветствую я его. — Чудесный сегодня денек, правда? — Гм, — бурчит он. — Чертовски жарко. — Да, и мы тоже рады вас видеть. Надеюсь, что все клиенты столь же рады видеть вас, если учесть характер вашей деятельности. Он не обращает на меня внимания. Умный парень. Не понимаю, почему я все время цепляюсь к нему. Наверное, просто не люблю британцев. И бывших полицейских. Или проныр с лицензией. Я, конечно, тоже любитель совать нос не в свои дела, но без лицензии, в высшей степени непрофессиональный. Наверное, я просто завидую. Томазино, попытайся хоть раз в жизни помолчать. — Однажды я упрятал в тюрьму человека, которого бросила любовница. Он совсем слетел с катушек. Никак не хотел оставить ее в покое. Прикинулся почтальоном, доставлял ей заказные письма и требовал, чтобы она за них расписывалась. Тогда она и обратилась ко мне, — говорит Притч, залпом проглатывает кофе и запивает его стаканчиком граппы. Может, в конце концов я заставлю себя относиться к нему с большей симпатией. — Он был типичный зануда, — продолжает он. — Названивал мне —кстати, он считал, что беседует со Скотланд-Ярдом — и сообщал, что она страдает от опиомании и вообще крайне беспокойная особа. Опиум… а насчет беспокойства — совершенно верно. Я не думал об этом черт знает сколько лет, пока вы не напомнили. — Я напомнил? — Она всегда была рада меня видеть. — Он улыбнулся, потом с неожиданной утонченностью вытер губы и пригладил редкие рыжие волосы. — Может быть, перейдем к делу? — Разрешите, я схожу за Белладонной. — Я поднимаю глаза. Она стоит на краю террасы и ждет. Интересно, много ли она слышала. Притч хочет встать, но она торопливо машет и садится сама. — Пожалуйста, — говорит она. — Завтракайте, не буду мешать. — Да, мэм, — кивает он, внезапно становясь утонченно-обходительным. Дело не в том, что она его наняла на работу, просто таково ее мгновенное влияние на людей. Вокруг нее есть неземная аура, она похожа на кобру, которая свернулась кольцами и спокойно лежит, выжидая момент для решающего броска. Даже такой закаленный профессионал, как Притч, с легкостью подпадает под чары Белладонны. Если бы я сумел выделить этот ее аромат и собрать в бутылку, я стал бы самым богатым и счастливым человеком. — Одним словом, — Притч прочищает горло, я наливаю ему еще стаканчик граппы, — мистер Уинслоу нашел вашу мисс Джун Никерсон, — сообщает он и достает из портфеля конверт. — В настоящее время ее зовут миссис Джордж Хокстон, она вышла замуж в… дайте-ка посмотреть… в мае 1936 года. — Через год, — едва слышно произносит Белладонна. — Проживает в доме 2665 по Сидерхерст-Лейн в Канзас-Сити, штат Миссури, с вышеупомянутым мужем Джорджем, дочерьми Хелен четырнадцати лет и Кэролайн тринадцати лет. У них есть собака Ровер, кошка Сэнди и служанка Таллула. — Притч продолжает читать. — Джордж Хокстон владеет фирмой «Хокстон Энтерпрайзиз», основанной его отцом, занимается торговлей скотом и другими высокоприбыльными операциями, и так далее, и так далее. Неудивительно, что «Хокстон Энтерпрайзиз», по выражению мистера Уинслоу, «набита заемными средствами под завязку». — Он морщится, этот жаргон ему претит, затем вытирает лицо и продолжает читать: — Мистер Джордж Хокстон — убежденный пресвитерианин, республиканец, член Ротари-Клуба, казначей окружного клуба Гроувсайд — клуба, который, по словам мистера Уинслоу, можно назвать элитарным. — Шустрый малый, — говорю я. — Угу, — хмыкает Притч. — Миссис Джун Хокстон любит играть в гольф и бридж, входит в комитет окружного клуба Гроувсайд. И так далее. — Шустрая особа, — не могу удержаться я. — А чем занимаются ее родители? Притч пролистал записи. — Родители… родители… ага, вот. Отец и мать. Пол и Блэр Никерсон, проживают в доме 115 по Миллер-Лейн, Миннеаполис, штат Миннесота. Он вышел в отставку в 1949 году — предполагают, перебои с сердцем… Внуки обычно проводят каникулы в Миннесоте… здесь сказано — в летнем лагере Миннетонка. Ни ветерка. Я боюсь поднять глаза на Белладонну. Притч взглядывает на нее, потом быстро отводит глаза. Снова прочищает горло, вытирает ладони льняной салфеткой и продолжает читать. — Мистер Уинслоу решил представиться предпринимателем, который желает вложить деньги в торговлю скотом. На это он использовал средства, которые вы выделили в его распоряжение. В этом качестве он много раз встречался с мистером и миссис Джордж Хокстон в вышеупомянутом окружном клубе Гроувсайд. В ходе бесед ему удалось выяснить, что Джун Никерсон помнит, как в юности, весной 1935 года, действительно жила в Лондоне и помнит об исчезновении своей кузины Изабеллы Никерсон. — Никогда не произносите этого имени, — предупреждаю я его. Он кивает, не поднимая глаз. — Миссис Джордж Хокстон утверждает, что ее кузина сбежала с привлекательным джентльменом, с которым ее познакомил на костюмированном сельском балу некий знакомый по имени… ага, Генри Хогарт. Получив от кузины несколько писем, в которых сообщалось, что она живет и благоденствует с мужем в отдаленном уголке Северной Шотландии, миссис Хокстон вернулась к родителям в Миннеаполис и больше не вспоминала о своей кузине. — Письма были подделаны, — говорю я. Притч на миг впивается в меня взглядом, потом продолжает: — Собственно говоря, мистер Уинслоу отмечает, что миссис Джордж Хокстон заметно раздражалась, когда разговор заходил о ее кузине. Она до сих пор злится на нее за то, что та нашла себе «видного», по ее выражению, мужчину из среды дворян-землевладельцев и растворилась в свежем деревенском воздухе, даже не попрощавшись и не пригласив в гости на выходные. Мистер Уинслоу добавляет, что Джун до сих пор обвиняет кузину в том, что та — я цитирую — «отравила ее чем-то, чтобы она, Джун, не могла поехать на костюмированный бал за город и получить свою тиару». — Вот, значит, в чем дело? — спрашиваю я. — Да, боюсь, дело именно в этом. Прежде всего в этом. — Она никогда не обращалась в полицию, не интересовалась, почему кузина не дает о себе знать? — Видимо, тут вмешались девичья зависть и ревность. — Прошло почти двадцать лет, а она все еще дуется из-за тиары. — Выходит, так. — Итак, они живут в Канзас-Сити и воплотили американскую мечту. Вскоре она превратится в американский кошмар, уж я-то знаю. — Мистер Уинслоу ждет дальнейших указаний, мэм, — говорит Притч. — Дайте бумаги, — говорит Белладонна. Он протягивает ей папку. — Благодарю вас и мистера Уинслоу за усердие. Когда ваши услуги понадобятся снова, мы непременно дадим вам знать. Она встает, шепчет кое-что мне на ухо, кивает на прощание Притчу и исчезает в утреннем мареве. Притч все понимает, он не задает лишних вопросов. Он опрокидывает бокал граппы и удовлетворенно причмокивает. — Одну минутку, — извиняюсь я и иду в читальный зал. Там в стенном шкафу есть сейф, где хранится запас наличной валюты. Белладонна велела мне удвоить их гонорар. Они это заслужили, а в следующий раз, когда нам понадобятся их услуги, с готовностью бросят все остальные дела и придут к нам на помощь. Когда я протягиваю Притчу туго набитый конверт, он смотрит на меня, как обычно, без всякого выражения. Если он еще раз произнесет «вышеупомянутые», я его придушу. — Мы не ожидаем ничего сверх заранее оговоренного гонорара, — говорит он. — Возьмите, — говорю я. — Вы это заработали. — Очень хорошо. — А он не дурак. — Весьма благодарен. — И поблагодарите от меня мистера Уинслоу. Не сомневаюсь, когда-нибудь мы будем иметь удовольствие познакомиться с ним лично. — Как я полагаю, довольно скоро. Как я уже сказал, он не дурак.* * *
— Они ее нашли. Нашли Джун, — говорит Белладонна в тот же день, гуляя с Леандро по лавандовым садам. — Что мне делать дальше? — Если вы не знаете, что делать, значит, вы еще не готовы, — резонно замечает Леандро. Белладонна прикусывает губу. Сколько она ни строила планы в тиши, теперь, когда пришло время действовать, она, как выяснилось, еще не готова. — Мне нужно поговорить с Катериной, — бормочет она. — Вы уже много говорили с Катериной. О корнях, о травах, о медицинских снадобьях. Она научила вас всему, что нужно. Он имеет в виду снадобья, навеки избавляющие от дыхания. — Я не хочу в Канзас-Сити, — произносит она наконец. — Вас трудно винить, — говорит он. — Вы не покидали моего дома три с половиной года. А до тех пор скрывались в Мерано. А до того… За стенами этого дворца — целый мир, а вы предпочитаете вычеркнуть его из своей жизни. Дорогая моя, первое ваше путешествие назад к жизни должно вести не в Канзас. — А куда же? — Ее голос прерывается. — В небольшую деревушку неподалеку отсюда. Если хотите, поедем туда послезавтра. Брайони наверняка останется довольна. А потом, если не возражаете, съездим во Флоренцию. Он хочет взять нас в Сатурнию, на водопад Каската-дей-Горелло. Всю семью и еще Орландо, чтобы Белладонна не боялась появиться в людном месте. Паскуале и Гвидо повезут нас в двух машинах. Я уже слышал об этом месте. Ручей, вытекая из источника, петляет среди полей подсолнухов, а потом обрушивается бешеным водопадом со скал, испещренных зелеными пятнами меди. Там пахнет серой. Местные жители просиживают под водопадом часами, купают в нем малышей, лечат внутренности и все остальное, что у них болит. Может быть, это исцелит и нас. Воды уже однажды помогли нам, свели с Леандро. Помогут и еще раз.* * *
— Этот источник открыли этруски, — говорит Леандро, когда мы обедаем на площади перед гостиницей в деревне Сатурния. — А римляне ввели закон — эти воды доступны для всех воинов. Даже злейшие враги опускали мечи, чтобы бок о бок залечивать раны. — А потом идти и снова убивать друг друга, — отваживаюсь вставить я. — Не без этого. — Я никогда не смогу опустить меч перед врагом, — говорит Маттео. — Я тоже, — соглашается Белладонна. — Они сами придут к вам, если не будут знать, кто вы такая, — говорит Леандро. — Кроме того, Римской империи больше не существует. Как всегда, с его логикой трудно спорить. Я и не пытаюсь. Он выглядит усталым, я за него тревожусь. Может быть, воды ослабят боль, которая таится за его фасадом, за маской неколебимой уверенности и силы. Я испытываю самое теплое чувство к этому человеку, который вернул нас к жизни, вырвал из бездны, полной горечи и смятения. Впрочем, Белладонна до сих пор полна горечи и смятения, но под умелым наставничеством Леандро она преображает и свою жизнь, и самое себя. Она учится, как с искусным совершенством использовать себе во благо свою — как бы это назвать — эмоциональную недостаточность. Той ночью Орландо и Маттео остаются с Брайони, а я сопровождаю Леандро и Белладонну к водопаду. До него можно дойти пешком от дороги, совсем недалеко, вниз по склону холма. Ночь тиха, до нас доносятся только журчание падающей воды да стрекот цикад. На теплом летнем небе весело подмигивают звезды. Мы сидим на камнях, впитывая всем телом дымящиеся потоки водопада, и эти жалящие струи кажутся мне водами крещения, они изгоняют из моего тела ярость и страх, очищают душу Белладонны, смывают и уносят прочь все страхи, все сомнения, всю боль добровольной пытки, на которую она себя обрекла. Запах серы так силен, словно эта вода струится прямиком из ада. Ее посылает сам дьявол, чтобы укрепить решимость, сжимающую ее сердце. Мы остается в деревне еще несколько дней, лечимся водами. Лечение идет нелегко, и мы ничем себя не утруждаем, только читаем да лениво прогуливаемся, а изредка катаемся на машине по окрестностям, по дороге на Монтемерано. Белладонна, кажется, не возражает, что мы так надолго уехали из дома; наверное, потому, что мы почти не общаемся с местными жителями. Она не замечает, с какой мрачной обходительностью они приветствуют и ее, и Леандро, не слышит, что они называют ее la fata — «фея». Молчаливая колдунья с пронизывающими зелеными глазами, с волной каштановых волос, рассыпавшихся по спине, как у Рапунцель, окутанная загадочной отрешенностью, она словно создана воображением старенькой бабушки, рассказывающей внукам сказку на ночь. Она так долго прожила вдали от реального мира, что, кажется, больше не принадлежит ему. Когда сгущается ночная тьма, мы идем к водопаду, сидим в молчании под звездами, прислушиваемся, как колотят по нашим плечам струи воды. Этот курорт не похож на Мерано, он грубее, в нем больше жизненных сил. Через несколько дней наша кожа начинает светиться здоровьем, и, клянусь, волосы у меня отросли на целый дюйм. Сколько бы мы ни отмывались в ванне, наши тела все равно источают слабый запах серы. Мне никогда не было так хорошо, я истощен и при этом полон радостного возбуждения, но в то же время внимательно присматриваюсь к Леандро. Надо сказать, его цвет лица улучшился, поэтому, когда он спросил, не хотим ли мы съездить на день-другой во Флоренцию — у него там дела — я отбросил опасения и охотно согласился. Белладонна старалась не показывать, что ей не хочется ехать, но Орландо сказал, что глаз с нее не спустит и не потерпит, чтобы с ней что-нибудь случилось, и тогда она уже не смогла отказаться. Я рад, что она наконец сумела преодолеть страхи. Ей нужно побывать в настоящем шумном городе, нужно побродить среди людей. Понять, что для случайных встречных она — просто незнакомая женщина, которая гуляет по улицам и не имеет никакого отношения к их жизни. Укрывшись под широкополой соломенной шляпой, спрятав лицо за большими солнечными очками в черепаховой оправе, она идет, разглядывая витрины на Виа Торнабуони, вслед за Маттео и Брайони, а мы с Орландо вышагиваем по бокам. Никто ее не ищет, никто на нее не обращает внимания. Никому нет до нее дела. Никто не увидит ее лица, даже если захочет. Я с радостью замечаю, что плечи ее расправились. Она вежливо беседует с продавцами, а я тем временем с головой окунаюсь в магазинную лихорадку — я всегда был франтом. Я выбираю самую лучшую, самую тонкую кожу — лайковые перчатки, бумажники, блокноты, ботинки. Я нахожу крошечную лавочку, где предлагают богатейший выбор ароматизированных чернил самых невероятных оттенков и толстые, под мрамор, лаковые перьевые ручки, покупаю горы писчей бумаги ручной выделки, просто потому, что она такая красивая. Я заставляю Белладонну считать деньги, расплачиваться, останавливать такси, заказывать блюда в ресторанах — делать все, что делает каждый нормальный человек. Она не занималась этим шестнадцать лет. Думаю, нелегко ей стоять на бетонном тротуаре и смотреть, как мимо со свистом проносятся машины. Но Флоренция — городок небольшой, очень красивый, не слишком утомительный. Местные жители приветливы, она понимает их язык. Она уже нашла себе любимый уголок — сады Боболи, большой фонтан Океанус посреди парка, окруженного рвом, он стоит в конце аллеи, которую Брайони прозвала «кипарисовой улицей». — Смотри, Маттео, — говорит Брайони, бегая по аллее. Ее светлые кудряшки весело развеваются за спиной. — Это наша звезда. Встань посередине, вот сюда. Встань и загадай желание. — Она пляшет возле танцующих струй, потом подзывает меня — ей хочется побегать наперегонки с Маттео вокруг пруда, а я должен засекать время. Он всегда дает ей выиграть. Умный парень. Научился обращаться с женщинами. — Это звезда желаний, — сообщает Брайони матери, подбегая к ней. В ту же ночь, немного позже, мы сидим на верхней террасе нашего отеля и надеемся, что повеет прохладным ветерком. Весь город спит, разумеется, кроме Леандро, Белладонны и меня. Я чувствую, что он хочет поговорить с ней. — Брайони только и говорит что о своей звезде желаний, — нарушает молчание Белладонна. Она тоже чувствует, что Леандро хочет ей что-то сказать, но не догадывается, о чем пойдет речь. — У меня тоже есть желание, — говорит он и достает маленькую коробочку из темно-красного бархата. — Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж. Белладонна поднимает на него изумленные глаза. — Не может быть. — Я говорю совершенно серьезно. Она бледнеет. В ее глазах появляется страх, которого я не видел уже много месяцев. У меня рвутся на язык слова: нет, нет, нет, милая моя, не надо. Сделай так, как он просит. Ему можно доверять. — Зачем вам это? — спрашивает она. — Вы меня не любите. Я и не хочу, чтобы вы меня любили — любили вот так. — Вы меня неправильно поняли, — говорит он, сохраняя полнейшее спокойствие. — Я вас очень люблю. Мне нравится видеть вас возле себя каждое утро, каждый день. Нравится смотреть на ваше лицо, когда я беседую с вами, о чем бы я ни говорил. Мне нравится цвет ваших волос, форма пальцев, нравится, как вы держите свою дочь, как вы сутулите плечи, если вам тревожно. Я не жду от вас ответной любви. Мои желания очень просты. Я не стремился полюбить вас, просто эта любовь пришла сама, вот и все. Что бы вы ни говорили, я в вас верю. — Верите в меня? Но почему? — спрашивает она. Ее глаза заблестели. — Посмотрите на меня. Кто я такая? Никто. И уж конечно, не женщина. Я никому не сделала ни добра, ни зла, я ничто и всегда была ничем, с того дня, как вы меня встретили. Я не знаю, как жить на свете. В душе у меня нет ничего, кроме ненависти. — В этом вы тоже ошибаетесь, — отвечает он. — Вы прекрасная женщина. И в вашей душе множество разных чувств. Я и слушать не стану, если вы начнете отрицать, что любите свою дочь, своих друзей, что беспокоитесь о тех, кто вас окружает, сострадаете им. — Это не одно и то же. — Совершенно одно и то же. Вы можете сгорать от ненависти к одному человеку и в то же время горячо любить другого. — Но зачем? — восклицает она. — Зачем все менять? Почему вы просите меня именно сейчас? Милая моя Белладонна, прошу тебя, посмотри на него. Он умирает у тебя на глазах, а ты не хочешь этого замечать. — Я устал, — говорит он. — Но мое сердце еще не истрепалось. Он говорил нечто подобное и прежде, в Мерано. Но тогда все было совсем по-другому. — Но я не смогу прикоснуться к вам, — говорит она. — Я никогда в жизни не позволю мужчине коснуться меня. Вы это знаете. Я никогда не смогу стать вам настоящей женой. Так для чего все это? Честное слово, иногда мне хочется схватить ее за плечи и встряхнуть, до того она бывает упряма. — Дорогая моя, это не имеет значения. Сомневаюсь, что когда-нибудь в этом возникнет необходимость, даже если вы очень захотите. Вот оно что, импотенция. Извечная спутница супружеской верности. — Вы не должны сомневаться в том, что мои намерения честны, — добавляет он. На ее лице написано смятение. — Тогда чего же вы хотите? Мне такого никогда не говорил ни один мужчина. — Ваш жизненный опыт с мужчинами нельзя назвать типичным. Она бросает на меня пристальный взгляд. — Что еще вам рассказывал Томазино? — Ничего сверх того, что вы сами сообщили. Вот почему я и хочу защитить вас. У меня нет прямых наследников, и я хочу, чтобы у Брайони было имя и отец. Никто никогда не узнает, откуда вы появились, если вы сами не расскажете. Для меня вы всегда останетесь la bella donna, но для всего света станете графиней делла Роббиа. Они придут к тебе, если не будут знать, кто ты такая. — Если вы согласитесь стать моей женой, — добавляет он, — после моей смерти будет гораздо меньше хлопот с завещанием. — Перестаньте, прошу вас. Не надо. Вы же не собираетесь умирать. — Мой двоюродный дед незадолго до смерти жаловался, что саркофаг слишком короток для его ног. Allungare! Он велел переделать его, удлинить. И отказывался умирать, пока каменотес не сделает ему новый. — Это не смешно. — Я не собираюсь умирать прямо сию минуту, — сказал Леандро с легчайшей улыбкой и встал, отправляясь спать. — Но рано или поздно это неизбежно. — Леандро, — говорит она. — Прошу вас. Он не слушает. Он знает ее лучше, чем она сама знает себя. — Как только вы согласитесь, я составлю все необходимые бумаги. Так вам будет спокойнее, — говорит он ей. — Когда мы вернемся домой, ничего не изменится. Сама церемония, по вашему желанию, может быть обставлена с максимальной скромностью. Это простая формальность. До моей смерти никто ничего не узнает. — Он кладет на стол бархатную коробочку. — Это кольцо, точно такое же, какое я в свое время подарил Алессандре. То кольцо я ношу на шее, чтобы частичка моей первой жены всегда находилась возле моего сердца. — Он кланяется и исчезает в доме. Наступает долгое молчание. — Надеюсь, ты поступишь правильно, — наконец говорю я. — Это ты придумал, верно? — накидывается она на меня. — Al contrario, дорогая. Я ошеломлен не меньше тебя. — Не строй из себя скромника. — Дуреха. Вряд ли я был бы скромником, если бы уговаривал его жениться на тебе. Это же только ради твоей дочери. У нее будет отец, которым она сможет гордиться. — Ты хочешь сказать, вместо Его Светлости. Вместо этого чудовища. От одного звука этих слов я невольно вздрагиваю. Я не слышал их уже много, много месяцев. Им здесь не место, в теплом ночном воздухе они повисают, как проклятие. — Брайони в этом не виновата, — говорю я. — Я тоже. — И Джун не виновата. Дело не в Джун Никерсон, не в том, чья тут вина. Дело в Леандро. Он твой друг. Мой друг. Наш друг. И он не вечен. Он просит так немного, и нельзя за его щедрость платить страхом и неблагодарностью. — На меня накатил прилив красноречия, но Леандро слишком много для меня значит. — Честное слово, — продолжаю я, — иногда мне кажется, что только желание увидеть тебя излечившейся, вернуть тебя в мир поддерживает в нем жизнь. Ты ему нужна. Просто ты слишком себялюбива, чтобы заметить это. Кроме того, что плохого может случиться? Покажи ему. — Что показать? — То, что ты написала, а я скопировал. Давным-давно, в страшные времена. Ту книгу. Дневник. Ту книгу. В ней описано все, до самых чудовищных подробностей, и я знаю, она его где-то скрывает. Я обыскал все кругом, но она надежно припрятала эту тетрадь. Умная девочка. Знает, какой я проныра. — Не могу, — отвечает она после долгого молчания. — Почему? — Ты прекрасно знаешь, почему. — Что он тебе сделает? Прогонит из дому? Тебе не кажется, что он и без чтения о многом догадывается? — Я не хочу, чтобы он знал самое худшее. — Она обхватывает себя руками и дрожит, хотя на улице по-прежнему стоит удушающая жара. — Не говори глупостей. За кого ты его принимаешь? Он так давно заботится о нас. Скажем прямо — он нас спас. Он догадывается, что спас нас от чего-то ужасного. Но в первую очередь — от самих себя. — Но что, если он один из них? — Да брось ты! — Приходится быть грубым. — Ты прекрасно знаешь, что это не так. Он прочитает дневник, все поймет — не догадается, а поймет! — и поможет нам. Может быть, строчки из дневника напомнят ему о чем-нибудь. Она горько смеется. — Иногда ты злишь меня до безумия. — Вот и хорошо. Постарайся это исправить.* * *
К счастью, она сумела побороть страхи и действительно исправила положение. Белладонна вышла замуж за Леандро. Они обвенчались во Флоренции несколько дней спустя. Церемонию провел его друг, судья в отставке. Не пригласили никого. Ни Маттео, ни Орландо, ни Брайони, хотя она с удовольствием держала бы букет. Никто не знает, кроме меня. Когда мы вернулись домой, ничего не изменилось. Она вручила Леандро дневник, но он наотрез отказался читать его, и Белладонна вернула книгу в прежнее укрытие; я даже не успел подсмотреть, где она ее прячет. Изменилось только одно: Белладонна носит на шее, на тонкой золотой цепочке, обручальное кольцо с большим сапфиром, ярко-голубым, как тосканское небо. И, слава Богу, Белладонна стала охотно проводить целые дни с Леандро. Она гуляет с ним по саду, сидит долгими часами в тишине и покое на резных каменных ступенях театра, любуясь, как танцуют в солнечных лучах бабочки. В тот же год, ближе к осени, когда созревал и наливался соками виноград, Леандро простудился и слег. Мы навещаем его каждый день, стараясь не выдавать свою тревогу за него. Ему всего лишь семьдесят два, он, по крайней мере на мой взгляд, слишком молод, слишком бодр, чтобы умирать. Я ему не позволю. И, сказать по правде, мне думается, что он чуть ли не радуется своей болезни, потому что она приближает к нему Белладонну. Она целыми днями хлопочет над ним, поправляет одеяла, кричит на Катерину за то, что травяной настой слишком горяч, читает ему, или же они просто сидят и разговаривают — обо всем и ни о чем. Однажды поздно вечером, когда Брайони поцеловала старика и легла спать, Белладонна велела мне уйти. Я, естественно, сел на террасе, откуда мне было слышно каждое слово. Она читает ему последнюю часть «Сна в летнюю ночь», потом со стуком кладет книгу на стол. — «Давайте руку мне на том. Коль мы расстанемся друзьями», — повторил Леандро. — Так-то лучше. У вас холодные руки. — Мне холодно, — говорит она, хотя в ночном воздухе тихо и тепло. Она говорит так тихо, что мне приходится придвинуться ближе к двери, чтобы расслышать ее. — Леандро, я хочу дать вам больше, гораздо больше. Вы так много сделали для меня, научили меня всему, разрешили жить здесь, укрыли от всего мира, заботились о Брайони. Я хочу… я просто… не могу. Не думайте обо мне плохо, я каждый день думаю об этом, спрашиваю себя — что со мной не так? Но не могу. И, наверное, никогда не смогу. — Тс-с, — говорит он. — Лягте возле меня. Просто лежите тихо, и все. — Я не хочу жить без вас, — говорит она после долгого молчания. — Никогда не думала, что скажу такое мужчине, но это правда. Я не хочу быть такой, какая я есть, но другого пути не знаю. Это слишком глубоко сидит во мне, не вытравить. Я никогда не слышал в ее голосе такой нежности. Мои глаза наполняются слезами, я всегда был сентиментален. За ее железным фасадом все-таки бьется живое женское сердце. — Это не имеет значения, моя дорогая, — говорит он. — Честное слово. Вы сейчас здесь, со мной, и больше мне ничего не надо. — Но… — Тс-с, — повторяет он. — Спите. Нам надо поспать. После этого она читает ему каждый вечер, а потом ложится рядом с ним, он обнимает ее, и они засыпают. Их сон чист и утешителен, словно отец обнимает свое дитя. Такой способ укрыться от бед не похож на все то, что она знала в жизни, и, если учесть характер моего рассказа, не продлится долго. Однажды жарким утром, в конце августа, я ставлю поднос с завтраком для них на стол в углу террасы и открываю дверь. Белладонна сидит на кровати, обхватив руками колени, и раскачивается взад-вперед. Нет, нет, нет. Ее лицо залито смертельной бледностью, глаза смотрят в пустоту, и у меня стынет кровь в жилах. Леандро спокоен и красив как никогда, словно прикосновение к небесам мгновенно стерло с его лица морщины прожитых лет. Наверное, перед тем, как его глаза закрылись в последний раз, он увидел перед собой Алессандру и Беатриче. Я выбегаю в кухню. Катерина бросает на меня один-единственный взгляд и роняет ложку на пол. Она падает со стуком громче пушечного выстрела. Катерина рыдает. Она все поняла. Теперь не помогут все ее снадобья. В кухню вбегает Роберто, и внезапно весь дом начинает ходить ходуном. — Приведи Маттео, скорее, — говорю я ему. — И Орландо. Я бегу обратно в комнату Леандро — там ничего не изменилось. Белладонна все так же раскачивается взад-вперед и глядит в пустоту невидящими глазами. В комнату врывается Маттео. Он берет ее на руки и поднимает, как будто она весит не больше Брайони. Она даже не моргнула. Мне хочется, чтобы она завизжала, забилась в истерике, как Катерина и остальные служанки, чьи вопли слышны на другом конце дома. Шок приглушил ее чувства и опять превратил сердце в камень. Белладонна отказывается выходить из своей комнаты, даже на похороны. Приглашены кое-кто из коллег Леандро по бизнесу; проводить его в последний путь пришли слуги и их семьи, да почти все население городка. С громким плачем они обмахивают гроб лавровыми ветвями, потом помещают его в саркофаг в семейном склепе. После похорон я иду в открытый театр, долго смотрю на сову, скрытую в ветвях дерева, и вспоминаю тот вечер, когда он впервые показал ее нам. Мне хочется снова увидеть его спокойный взгляд, услышать полные скрытого смысла замечания, и это жгучее желание наполняет меня такой болью, что я бросаюсь на каменные плиты и долго рыдаю. Наконец Маттео находит меня и уводит в дом. Он сидит возле меня, пока мои плечи не перестают содрогаться, а потом протягивает полотняный носовой платок. Я беру его, вытираю нос и только тогда замечаю, что это платок Леандро. Рыдания охватывают меня с новой силой. — Смотри, на кого ты похож, — говорит он. — Успокойся. Ты нам нужен. Это замечание лестно действует на мою необычайно щедрую натуру и всегда достигает цели. Кроме того, у меня опухли глаза, а рубашка намокла и помялась. Несколько дней спустя, когда прочитали завещание, Белладонна все еще находится в оцепенении. Не стану описывать вам сцену всеобщего изумления, когда из завещания все узнают, что Белладонна и Леандро были женаты. Сдается мне, что я видел, как многозначительно скривился на миг уголок губ Катерины, но, конечно, это могло просто показаться. Как я и ожидал, Белладонна унаследовала его огромное поместье; немалая доля отписана Брайони, и такая же гигантская сумма выделяется Лоре и ее детям. Всем слугам причитается щедрая плата, и Леандро выразил волю, чтобы их семьи, если пожелают, на всю жизнь остались в поместье и хозяйствовали в Ка-д-Оро, как это было заведено много лет. Мне он завещал коллекцию тростей с львиными головами и скрытыми лезвиями и любые книги из библиотеки, какие я пожелаю. И кошачий глаз, хоть мне и не хочется носить его, потому что для меня этот камень стал частью самого Леандро. Но этот жест наполняет мои глаза слезами. Затем юрист вручает мне письмо, запечатанное пурпурно-красным воском. Мое имя надписано размашистым почерком Леандро, сине-черными чернилами, которые я нашел для него во Флоренции. Внутри лежит открытка. «Спасибо, Томазино, — только и сказано в ней. — Perduto ú tutto tempo che in amore non si spende». Время, не отданное любви, потеряно зря. Еще он завещает мне и моему брату некую сумму; мы с Маттео, услышав цифру, изумленно переглядываемся. Но никакие деньги не могут купить нам того, что у нас отнято.* * *
Итак, графиня делла Роббиа сказочно богата. Даже в самых буйных своих фантазиях я не могу представить, как велико ее состояние. Но ей дела нет. Целыми днями она в молчании смотрит вниз с террасы. Почти ничего не ест; увидев дочь, лишь слегка кивает. Я замечаю, что теперь она носит сапфир, подаренный Леандро, на правой руке и без конца крутит и крутит его. От этого у нее воспалилась кожа под кольцом, и Катерина шепотом просит ее прекратить. Денег Леандро для нее будто не существует. А что существует — так это круглая сумма, которую мы сняли с номерного счета после бегства из Бельгии. Я вам еще об этом не рассказывал, но не потому, что забыл. Просто наберитесь терпения и немного подождите. Имейте хоть каплю уважения к покойным.* * *
С месяц спустя Белладонна выходит на террасу возле комнаты Леандро и садится возле меня. Она держит в руке кожаную папку, которую я купил ей во Флоренции, открывает ее, и внутри я вижу стопку бумаги, исписанную ее мелким наклонным почерком. — Вот, — говорит она, достает запечатанный конверт и протягивает мне. Я узнаю почерк Леандро и те же сине-черные чернила. Не могу себе представить, как она выдержала целый месяц и не прочитала этого письма. Я бы сгорел от любопытства. — Оно предназначалось тебе, — говорю я. Белладонна качает головой. — Прочитай. — Хорошо. — Я аккуратно разрываю конверт, прочищаю горло и читаю:«Моя дорогая Белладонна! Вы созданы для того, чтобы разорвать цепи, налагаемые светом, и я верю, что вы не отклонитесь от избранного пути. Помните, что я вам говорил: если вы скажете себе, что не можете проиграть, то победите. Уверен, вы это усвоили. Держитесь своего пути, ибо жажда мести одолеет вас, если вы не одолеете ее. Они придут к вам, если не будут знать, кто вы такая. Да. И вы их найдете. Я никогда не думал, что кому-нибудь удастся разбить камень, сковавший мое сердце, но вы, мой ангел, сумели освободить меня. Не забывайте об этом, когда ночи черны и душу гложут темные мысли. Не забывайте, моя милая, и о том, как любит вас Брайони, как она нуждается в вас. И не забывайте о своих верных Томазино и Маттео. Пусть печаль не перерастает в горе. Молю вас, не дайте одиночеству заморозить вашу душу. Благословляю вас, дражайшая моя Белладонна, за всю любовь, какой вы одарили меня. Ваш Леандро».
Щеки Белладонны мокры от слез, но глаза блестят, как остро ограненные изумруды. Я внимательно всматриваюсь в нее и замечаю, что ее лицо снова превратилось в прежнюю непроницаемую маску. Моя коленная чашечка подергивается от дурного предчувствия. Эта маска вырезана из несокрушимого камня. — Больше мне нечего терять, — хриплым голосом говорит она. — О чем ты? — Разве не понимаешь? Он был моим последним шансом. Я не хочу быть такой, какая я есть, — сказала она ему, — но другого пути не знаю. Она хотела сказать, что он был ее последним шансом полюбить, шансом на жизнь, не изуродованную червями, которые копошатся глубоко в сумрачных норах ненависти и мести. — Но у тебя есть я, и Маттео, и Брайони, — говорю я, стараясь придерживаться тона светской беседы. — И все остальные, кто тебя любит. — Не напоминай мне о любви. Я не знаю, что это такое. — Не говори глупостей. Ты любишь свою дочь. — Это не в счет. — Не этого ждал бы от тебя Леандро. — Говори все, что хочешь, Томазино. Ты все равно скажешь. Но это не имеет значения. Мои слова застревают в горле. Я понимаю тщетность нашего разговора. — Я готова уехать отсюда, — продолжает она. — Это дом Леандро, и без него мне здесь не место. Нет, нет, не надо, думаю я. Меня слишком избаловала здешняя роскошная жизнь. — Куда ты хочешь поехать? — Туда, где я смогу отыскать членов Клуба, — с яростным жаром отвечает она. — Хочу найти их всех, заставлю их страдать, гнить заживо, хочу смотреть, как они умоляют меня о пощаде, а потом покончить с ними. — В Италии ты их не найдешь. — Не в Италии. — Тогда куда же? — В Нью-Йорк. Ты сейчас же поедешь в Нью-Йорк, подыщешь нам подходящее место. Сколько бы это ни стоило. Он говорил это раньше, повторил и сейчас. Надо сделать так, чтобы они сами пришли ко мне. Значит, я должна создать место такое привлекательное, чтобы туда потянулся весь свет. Вот, — она протянула мне стопку бумаг, — здесь я описала свои идеи. Мы создадим ночной клуб. Клуб «Белладонна». Я раскрыл рот от изумления. Эта женщина шестнадцать лет пряталась от света, а теперь готова распахнуть ему свои объятия. Она спокойно встречает мой взгляд, и я собираю все силы, чтобы не содрогнуться — такой решимостью горят ее глаза. — Не волнуйся, — говорит она. — Я не открою им своего лица. Я все еще изумлен, но перед глазами начинает вырисовываться призрачная картина. Да, теперь я это вижу. Я знаю, что делать. Я поеду в Нью-Йорк и подыщу самое лучшее место. Мы расставим западню и в нужный момент захлопнем ее. Снова, в самый последний раз, Леандро спас ее, показал цель, к которой нужно стремиться. Никому не придет в голову, что графиня делла Роббиа — это Белладонна. Никому. И уж точно, не членам Клуба. Мы найдем их и раздавим всех до единого. О, Белладонна, сладкий, сладкий яд!
Дневник (1935 г.)
Лондон и где-то в его окрестностях, май 1935 года
Хогарт спросил ее точные мерки, чтобы сшить маскарадный костюм. Она запротестовала, но он был настойчив. Это, мол, его подарок, чтобы она стала первой красавицей бала. — Только не говорите Джун, — сказал он. — Она и так ревнует. После этих слов он понравился ей даже больше. Хогарт велел ей собрать побольше одежды, чтобы хватило на долгие выходные дни, потом сесть в поезд до Йорка. Там он ее и встретит. Надо будет немного проехаться на машине, сказал он, но это очень весело. Ваш костюм будет ждать вас в доме. Это сюрприз. Ему не терпится увидеть ее в новом наряде. Однако в машине Хогарт был не так разговорчив, как обычно. — Вас что-то беспокоит, — заметила она. — О, просто задумался о своем двоюродном дедушке, — сказал он. — Старик любил лежать в своей огромной резной кровати, естественно, с похмелья, и сжимать в руке элегантный длинный пистолет. Он расстреливал мух, слетавшихся на варенье, которым слуги специально мазали потолок. Лакеи стояли у дверей, держа наготове крепкий черный кофе и бутылку шампанского на случай, если дедушке захочется выпить, обоймы с патронами и горшки с апельсиновым джемом и клубничным вареньем. Она рассмеялась. — Почему вы мне это рассказываете? Хогарт нежно улыбнулся. — Потому что, дорогая моя, должен признаться, что я происхожу от варваров. Гонкуры сказали, что жестокость непременно должна появляться на свет каждые четыреста-пятьсот лет, чтобы мир встряхнулся и начал жить. А иначе мы все задохнемся от цивилизации. Я искренне верю, что в глубине души мы все язычники, происходим от бешеных маньяков, которые рыскали бесчисленными ордами по лесам, поклонялись камням друидов и вырывали сердца из груди девственниц, чтобы принести их в жертву. — В жертву чему? — спросила она. — Не понимаю. Своим собственным желаниям? Или своим страхам? — Моя милая девочка, вы меня изумляете. Я еще не решил. Но уверен: какие бы невероятные события и приключения ни выпали на долю человека, на какие бы жертвы ему ни пришлось пойти, он способен сохранить себя, остаться тем, кем он был. Несмотря ни на что. Он вытащил из кармана безукоризненный носовой платок и вытер нос, хотя и не страдал насморком. — Простите, — сказал он. — Мне немного нездоровится. Уверяю, когда мы доедем, все пройдет. Давайте лучше выпьем. Он открыл корзину для пикника и протянул ей сэндвичи с огурцом, завернутые в бумагу. — Ешьте, дорогая, до ужина еще далеко. Потом вытащил два бокала и бутылку шампанского, откупорил ее. — Выпьем за то, чтобы сегодняшний вечер прошел весело, — с серьезным видом сказал он. — Я рад, что со мной вы и только вы. — Спасибо, Хогарт, — ответила она. — Наверное, Джун больше никогда не будет со мной разговаривать. — Честно говоря, милая моя, это не будет большой потерей. Она рассмеялась. — Я рада, что вы так думаете. Бедная Джун. — Почему, разрешите спросить, вы обязаны находиться рядом с ней? — Меня послали ее родители, мои дядя и тетя, чтобы я составила ей компанию. Мне ничего другого не оставалось. — А где же ваши собственные родители? — Он не сказал ей, что давным-давно знает все о ее семье. Что очень рад повстречать сиротку — это делает ее как нельзя более желанной гостьей на костюмированном балу. — Они погибли три года назад, в автокатастрофе. Меня взяли к себе тетя и дядя, хотя почти весь год я жила в интернате, чтобы не быть для них обузой. — Полагаю, Джун очень похожа на своих родителей. — Он содрогнулся. — Не надо ничего говорить, дорогая моя. Родители иногда бывают просто чудовищами. Так же, как и дети. Он осушил бокал шампанского и налил еще один. — Произведение потомства — не самое любимое мое занятие, — мелодраматично произнес он. — Знаете ли вы, что Бальзак так высоко ценил свою сперму, что терпеть не мог тратить ее зря. Он всегда прерывался незадолго до, ну, вы сами понимаете, чего. Он считал, что в каждой частичке семени находятся крошечные копии его мозговых клеток; следовательно, растрачивая себя, он понапрасну теряет творческие силы. Если ему ненароком случалось увлечься и в пылу страсти забыть о своем правиле, он становился неутешен. «Сегодня утром я потерял целую книгу», — рыдал он перед друзьями. — Хогарт, вы заходите слишком далеко. Они с улыбкой переглянулись, и машина поехала дальше по темным полям. Она откинулась на спинку сиденья и задремала. Она понятия не имела, где они находятся, куда едут, но ей это нравилось. Ее ждет великолепное приключение. Наконец, машина повернула и покатила по ухабистому, извилистому проселку. — Почти приехали, — сказал Хогарт. — Подъедем по боковой дороге. Дом был пугающе темен и тих. — Где же все? — спросила она. — О, праздник будет не здесь, — ответил Хогарт. — Это соседский дом. Тихий и симпатичный, здесь мы переоденемся и отдохнем. Думаю, все гости уже собрались в большом доме. Начнут без нас, с шампанского, мерзавцы эдакие. Он провел ее в кухню, где их встретила суровая, тяжеловесная кухарка. Она помешивала какое-то остро пахнущее варево в горшочке. — Это Матильда, — шепнул Хогарт. — Дьявольски неприятная особа. Но работает хорошо. Крестьянская косточка. Никакого воображения. Они прошли в вестибюль, поднялись по лестнице для слуг, толкнули дверь и попали в широкий, тускло освещенный коридор. — Чертовы лампы, — проворчал Хогарт. — Никакого от них толку. Наконец, он распахнул дверь в спальню и включил свет. Там на кровати был аккуратно разложен роскошнейший маскарадный костюм — такого красивого она никогда в жизни не видела. Она восхищенно ахнула. — Я пришлю Матильду зашнуровать вам корсет, — сказал Хогарт. — Если, конечно, вы не пожелаете, чтобы вам помог я. — Он лукаво подмигнул. — А вам разве не нужно переодеться? — игриво спросила она. — Конечно, нужно. Я буду в соседней комнате, чуть дальше по коридору. Если что-нибудь понадобится, заходите. Я велю нашей мрачной Матильде, чтобы пришла к вам минут через сорок пять. За это время вы успеете принять ванну и начнете одеваться. Договорились? — Хорошо. Он чмокнул ее в щеку и удалился. Платье состояло из двух частей: лифа без рукавов из изумрудно-зеленого бархата, в цвет ее глаз, с узорами из листьев и цветов, вышитыми золотой нитью, и юбки зеленого же атласа, пышной и тяжелой, с золотыми и серебряными цветами по подолу. Под юбку надевалось несколько нижних юбочек из жесткой тафты. Она ощупала нежные кружева шелкового нижнего белья. Бледно-розовый корсет, завязывающийся толстым золотым шнуром. Она приложила его к телу — он охватывал талию от груди до бедер. Она никогда не надевала такого красивого белья. Никогда не видела таких нарядов. Прозрачные шелковые чулки, золотые подвязки, туфельки из зеленого вышитого шелка — они сидели идеально. Какой сегодня будет чудесный вечер! Она прошла в ванную, вымылась, мурлыча от наслаждения. На полочке специально для нее лежал целый арсенал косметики — все, что нужно для лица. Флакон умопомрачительных духов и лосьон с таким же запахом. Аккуратная вязаная шапочка, чтобы убрать волосы под парик. И сам парик — блестящие светлые кудри, уложенные в хитроумную высокую прическу и усыпанные жемчужинами. Как в сказке. Она надела белье и с трудом натянула корсет. В эту минуту в дверь постучала Матильда. Не говоря ни слова, жестом велела повернуться. Потом стянула шнурки корсета так туго, что девушка вскрикнула. Но служанка стянула их еще крепче. — Я не могу дышать, — пролепетала она. Матильда ничего не сказала, только нахмурилась еще суровее, взяла лиф и надела на нее. Потом застегнула юбку. Аккуратно надела на шапочку парик, приладила пышные локоны. Затем Матильда заглянула в ванную, забрала мокрые полотенца и удалилась. Она с трудом перевела дыхание и сунула ноги в туфельки. Тут в дверь постучал Хогарт. — Можно войти? — спросил он. — Войдите, — ответила она. — Боже мой, как вы великолепны, — воскликнул он. — Просто дух захватывает. Он былнаряжен в костюм придворного щеголя XVII века — сюртук ослепительно-белого атласа с серебряными пуговицами вдоль борта, такие же атласные панталоны до колен. Чулки тоже сверкали безукоризненной белизной. Ботинки были расшиты витиеватыми серебряными узорами, на плечи ниспадали кудри серебристо-белого парика. Он нарумянил щеки, подкрасил губы, наклеил на щеку черную мушку. В одной руке он держал тросточку с серебряной рукояткой, другую прятал за спиной. — Мне трудно дышать, — пожаловалась она. — Матильда — просто чудовище, — сказал он. — Но ваш наряд сидит превосходно. Если хотите, могу немного ослабить корсет. С удовольствием. — Я бы рассмеялась, если бы смогла вздохнуть. — Привыкнете, — успокоил он. — А теперь закройте глаза и протяните руки. — И что будет? — Закройте глаза. Она закрыла глаза, он положил ей на ладонь небольшую длинную коробочку. Она открыла глаза, потом раскрыла коробку. Внутри лежало самое роскошное ожерелье, какое она могла себе представить, широкое колье, усыпанное сотнями изумрудов и бриллиантов. — Я не могу этого надеть, — прошептала она. — Почему же? — Хогарт застегнул колье у нее на шее. — Оно божественно, как и вы. — Я чувствую себя сказочной принцессой, — сказала она. — А вы и есть принцесса, дорогая моя. Сказочная принцесса этого вечера. Самое чарующее создание в нашем королевстве. — Он отступил на шаг и окинул ее оценивающим взглядом. — Да, думаю, у вас все получится. Получится просто на славу. А теперь пойдемте со мной. Он взял ее за руку и вывел в коридор, потом по лестнице они спустились обратно в кухню — Матильды нигде не было видно — и оттуда вышли в другой коридор. Он распахнул дверь, и она вскрикнула от восторга. Перед ними раскинулся огромный бальный зал, залитый светом сотен свечей, расставленных в канделябрах вдоль зеркальных стен. Зеркала отражали свет, сплетали его в причудливые узоры, и ей показалось, что она вступила в зачарованный сказочный мир. Хогарт подошел к небольшому столику в углу и включил фонограф. Зазвучал вальс, она рассмеялась. Потом он взял два бокала шампанского и поманил ее. У него за спиной высился огромный мраморный камин. — Выпейте залпом, — сказал он. Потом бросил бокал через плечо, в камин. — Закройте глаза и загадайте желание. Она выпила шампанское, закрыла глаза и тоже бросила бокал. Он со звоном разбился, она рассмеялась от удовольствия — ей понравился этот звук. — Разрешите пригласить вас на танец, миледи, — сказал Хогарт, предложил ей руку, и они начали вальсировать. В огромном пустом зале они казались карликами. Поначалу Хогарт кружил ее медленно, осторожно, как хрустальную статуэтку, хрупкую, как бокалы, которые они только что разбили. Потом все быстрее и быстрее. Хогарт оказался прекрасным танцором. А как же иначе — он ведь такой щеголь. У нее кружилась голова от счастья, веселья, от чистой радости бытия. Это будет самая чудесная ночь в ее жизни. Они кружились по залу, все быстрее и быстрее. Комната завертелась у нее перед глазами, она внезапно остановилась, не в силах перевести дыхание. Юбка, страшно тяжелая, тянула ее к земле. Ноги отнялись. Онемели колени. Хогарт обеспокоенно взглянул на нее. — Что с вами, дорогая? Она озадаченно посмотрела на него, но не ответила, а потом вдруг упала в глубокий обморок.Часть II Красные когти Андромеды (1951 — 1954)
Белладонна сладко спит.Улыбается, молчит.Улыбается, как кошка,Что сметану лижет с ложки,Месть заветную тая.Белладонна — смерть твоя.
4 Маска из черного кружева
— Ты видела ее ногти? — Чьи ногти? — Андромеды, чьи же еще. — А что в них такого? — Они ярко-красные, вот что, дуреха. Цвета крови. Какое бесстыдство. — Но, милочка, я не понимаю. У меня ногти тоже ярко-красные, и что тут такого? — Да не эти. Ногти на ногах. — У меня ногти на ногах тоже красные. — Ничего-то ты не понимаешь. Я о собаке. У ее собаки на лапах красные когти. И напиток тоже красный. — Что за напиток? — «Белладонна», что же еще. Тот, что подают у них. Кроваво-красный мартини. — Разве в мартини добавляют кровь? — Ну что за дуреха! Нет, конечно. Они красят мартини в красный цвет, как собачьи когти. — Какой еще собаки? — Собаки Белладонны. — Значит, Андромеда — это собака? — Ну кто же еще? — Но зачем собаке лак для ногтей? — Невероятно. Ты безнадежна. Андромеда — это собака, которая сторожит у дверей клуба «Белладонна». Того самого клуба, о котором все кругом говорят. Самого элитарного, самого восхитительного клуба на свете, и им заправляет этот чертов пес. — А какой породы пес? — Откуда я знаю? Громадная, лохматая, слюнявая псина. Говорят, у нее в ошейнике настоящие бриллианты. Представляешь — настоящие бриллианты в собачьем ошейнике, но его никто не посмеет украсть, потому что этот пес запросто откусит руку. Если прежде не растерзают эти жуткие швейцары у дверей. — Не может быть. — Собака всегда там, на страже, вместе с этими жуткими швейцарами, а они не снимают масок. И она сама ходит только в маске, поэтому швейцары — это что-то вроде разминки, чтобы подготовить тебя. Надеюсь, ты меня понимаешь. У них, этих жутких швейцаров, видны только глаза да чуть-чуть губы. Они никогда ни с кем словом не перемолвятся, наверное, из-за своей собаки. Особенно тот, круглолицый. У меня от него мурашки по коже: смотрит и смотрит на тебя из-под своей маски, будто ты — идиотка слабоумная, и слова не произнесет. Только глядит. Андерсон говорил, у него только половина языка. — Бедняжка. — Андерсон говорит, ему отрезали язык по приказу какого-то герцога. Однажды он вернулся домой неожиданно, а там его жена и этот тип… ну, ты понимаешь… — Какой ужас. — Он стоит в дверях вместе с собакой день и ночь, под дождем и под солнцем. А если пес залает, тебя не впустят. Представляешь, однажды она залаяла на герцога и герцогиню Виндзорских! Чуть ли не на короля Англии! И мало того, вчера вечером у этой сучки хватило наглости залаять на нас! Я была с Андерсоном и Дигби, и это самое обидное. Вечер был испорчен. — Попробуй подарить ей флакон розового лака для ногтей. Может, она станет лучше к тебе относиться. — Кто? — Собака. — Невероятно. Нет, ты безнадежна.* * *
Как я люблю досужие сплетни! Нежнейшими испарениями они проникают в каждую клеточку моего тела. Бедняжка Андромеда! На самом деле она верная, хорошо воспитанная псина, проницательная и терпеливая. Лает она только в ответ на едва заметные сигналы, которые рукой подает Маттео; я уверен, ни у кого из наших социально озабоченных покровителей не хватит ума их распознать, даже когда они кусают руку, которая их кормит. Их занимает только одно — устроить у наших дверей свалку пошумнее. А дверь наша ничем не отличается от остальных; нигде на Гейнсворт-Стрит вы не обнаружите ярко светящейся вывески, которая гласила бы: «Эй, все сюда, вот оно, это место!». Два молчаливых привратника: один высокий, другой низенький. Один ирландский волкодав с громким лаем. И несколько сотен людей на улице, безнадежно мечтающих попасть внутрь. Дорогие мои, ну как же это! Почему нас не пускают? Как смеет полиция нас разгонять? Их уму непостижимо, что они не смогут попасть в клуб с помощью подкупа; они привыкли покупать все, что захочется. А еще этот проклятый пес разлаялся, учуяв какой-то неуловимый запах. Вот сучка! Естественно, каждый, кто хоть что-нибудь собой представляет, уже переступал порог клуба «Белладонна» и попадал в наше зачарованное королевство. А если человек что-нибудь собой представляет и ни разу у нас не бывал — значит, с ним просто скучно иметь дело. Меня забавляет в каждом из них чувство причастности к миру титулованных особ. Иногда я подглядываю за ними в специальные отверстия и хохочу до упаду. Лишите их ожидаемого вечернего развлечения, и их языки захлопают, как крылья Петунии, нашей попугаихи, когда она пугается. Ради ее же блага я обучаю ее говорить несколько тщательно подобранных фраз. Но прежде всего, разумеется, они должны проскочить мимо нашей божественной Андромеды. Я уверен, в Нью-Йорке больше нет ни одного волкодава с лаком «Вишни в снегу» на когтях. Но такова уж собачья жизнь. Скоро все встречные сучки на улицах будут щеголять алым лаком и лаять на прохожих, если уже не щеголяют. А почему бы и нет? Им это очень даже идет.* * *
Я нашел место для клуба через три дня после прибытия в Нью-Йорк. Точнее, нашел целый квартал. Вдали от центра, там, где не бродят веселые ночные пропойцы и не прогуливаются респектабельные графини; лишь дюжие грузчики в заляпанных кровью фартуках перекрикиваются, пожевывая сигары, когда тащат огромные коровьи туши из холодных подвалов к поджидающим грузовикам. А если свернуть с унылых мощеных улиц мясницкого квартала, то увидишь, что на бывшей кондитерской фабрике «Чмок-чмок» красуется вывеска «Продается». Эта фабрика занимает целый квартал на Гейнсворт-Стрит, между Гринвич-Стрит и Вашингтон-Стрит. А что еще лучше, за углом, на Горацио-Стрит, стоит целая вереница заброшенных аристократических особняков. Их задние окна выходят на фабрику и, без сомнения, до сих пор заляпаны коричневыми брызгами жженого сахара. Мы улаживаем формальности и покупаем все эти дома — целый квартал. Немногочисленные обитатели особняков на Горацио-Стрит с радостью принимают щедрые отступные и компенсацию расходов на переезд. На всякий случай мы выкупаем также дома по другую сторону улицы. Мы, как всегда, умны и очень осторожны. Мы выжидаем. Леандро хорошо обучил меня, уроки продолжаются и после его смерти. Он учредил для нас несколько офшорных корпораций — я обнаружил это лишь через несколько месяцев после того, как было прочитано его завещание, когда душеприказчики привели в порядок все бумаги. Он предусмотрел налоговые льготы, продумал систему капиталовложений и счетов, заготовил целые папки с письмами и именами своих коллег в Нью-Йорке. Я навещаю их шикарные конторы, прохожу, задрав нос, мимо секретарш и прочей мелкой сошки, мимоходом упоминаю имя графа делла Роббиа, показываю рекомендательные письма и заговариваю о характере некоторых моих капиталовложений, а потом с наслаждением любуюсь, как у них отвисает челюсть. Я стал уважаемым членом денежной публики. Мне не задают вопросов, оказывают невероятное почтение. Это игра, и она мне нравится. Уложив Брайони и рассказав ей сказку на ночь, мы с Маттео и Белладонной читаем финансовые журналы, биржевые проспекты, акционерные отчеты, а потом обсуждаем, что купить и что продать. Просто страшно делается от мысли, насколько богата Белладонна. Нам принадлежит так много компаний, что даже фирма, которая оформляет контракты и совершает для нас покупки самой лучшей недвижимости, не имеет понятия, на кого же именно она работает. Мы собираемся внести кое-какие изменения — соединить «Чмок-чмок» с обшарпанными особняками, — но вряд ли они будут замечены. Эта часть города, где обитают только мясники да проститутки, никого не интересует. Надеюсь, вы догадались, ради чего затевается вся эта таинственность. Естественно. Чтобы, когда клуб начнет действовать, никто не сумел связать его с истинной хозяйкой — графиней делла Роббиа. Она решила до поры до времени не показывать Нью-Йорку своего лица. В этом нет нужды. Мы записали Брайони в детский сад при школе Литл-Брик, самой лучшей частной школе, какую нашли в пределах досягаемости пешком, и никому из родителей или детей не приходит в голову, что пухленькая девочка Брайони Роз Роббиа, бойко болтающая на двух языках, приходится дочерью таинственной красавице в маске. Кто бы мог подумать, что знаменитая Белладонна, которой вскоре предстоит покорить весь Нью-Йорк, обитает на расстоянии «чмок-чмок» от гнездилища своей славы? Кто догадается, что в конце вечера ей достаточно пройти в одну из потайных дверей и свернуть в узкий коридор, соединяющий клуб с особняками, и она уже дома? А если верить метрическим записям, ее вообще не существует.* * *
Из Италии прибыл один из архитекторов Леандро со всей своей командой, и вокруг зданий возводятся леса. Мы платим ему так щедро, что он не задает вопросов о некоторых наших весьма причудливых пожеланиях, следя только, чтобы все было крепко и надежно. Подрядчик хорошо владеет искусством подмазывать нужные руки и получает все необходимые разрешения. К счастью, нью-йоркские бюрократы еще не оправились после отставки мэра О’Дуайера, случившейся год назад, и встряски, устроенной им комитетом Кифовера, поэтому не обращают на нас никакого внимания. Рабочих для сноса зданий и для черной работы нанимают в Китайском квартале, они работают круглыми сутками и сменяются каждые несколько дней, и никто из них не имеет ни малейшего понятия, как все это будет выглядеть в конечном итоге. Человеку, который умеет говорить по-английски, здесь не доверят даже забить гвоздя. После нескольких недель лихорадочной работы обширное пространство посреди квартала начинает напоминать клуб. Мариза Колумбо, художница, которая реставрировала фрески Леандро в Ка-д-Оро, привозит целую команду живописцев, и те украшают внутренние стены картинами венецианского карнавала. А за углом, в веренице особняков, мы сносим стены первого этажа, разделяющие здания, и соединяем пять домов в один, хотя при взгляде с улицы вы ни за что об этом не догадаетесь. Мы такие параноики, что даже получаем письма на имя подставных жильцов в каждом особняке, чтобы досужие местные почтальоны ничего не заподозрили. Полы перестелены заново, стены выкрашены нежной зеленой краской, в цвет только что распустившихся весенних листьев. Мы покупаем удобную мягкую мебель, пестрые восточные ковры, на стенах развешиваем картины и фотографии, сделанные Белладонной в Италии, закрываем окна тяжелыми бархатными шторами, ставим пианино и клавесин. Терракотовые плитки и горшки с цветами на кухонном подоконнике напоминают мне о Катерине. Теперь я начинаю чувствовать себя как дома. Белладонна и Брайони поселились в среднем доме, хотя Белладонна всегда входит через дверь, расположенную ближе к Вашингтон-Стрит, самую дальнюю от входа в клуб, за углом. Этажом выше живет няня Брайони, Розалинда, вдовствующая тетка Маризы. Я занимаю весь третий этаж дома справа от Белладонны, а Маттео — слева. Дальше Орландо возле своих апартаментов устроил тренировочный зал, а в самом конце следит за кухней его кузина Бьянка, наша повариха. На следующей неделе приедут ее дальние родственницы, Фабия и Донателла, они будут служить горничными. Все они не могут двух слов связать по-английски и так благодарны нам за работу и за возможность жить рядом со своей семьей, что я не тревожусь за их верность. Когда по всему дому звенят нежные итальянские песни, мне кажется, что где-то рядом витает душа Леандро. Особенно сильно мы ощущаем его присутствие, когда поднимаемся на крышу. Мы переоборудовали крышу второго слева дома, устроили на ней террасу, обильно засадили ее цветами и превратили в тихую гавань. Разложили травяной ковер, уставили по краям цветочными горшками, подключили небольшой фонтан и повесили огромную кованую клетку, откуда Петуния радостными криками приветствует солнышко. Даже поставили декоративный мраморный камин, где обожает прятаться Брайони, и повесили над ним роскошное зеркало в резной позолоченной раме. Получилось смешно и театрально, но нам нравится. Да, мы приближаемся к завязке. Клуб прорисовывается из развалин в лучшем виде. Теперь надо только населить его соответствующими людьми. Иными словами, пора перекинуться парой слов с любезнейшим Джеком Уинслоу.* * *
Мы встречаемся в кофейне средней руки. На вид Джек Уинслоу оказался совсем не таким, как я себе представлял. Мне думалось, он должен быть тощ, как палка, и взвинчен, как натянутая струна, но наш старина Джек среднего сложения, ни толст, ни худ, двигается с продуманной уверенностью. Он снимает фетровую шляпу, и я вижу, что его темные волосы густо напомажены и зачесаны назад, ни единый волосок не выбивается из аккуратной прически. Белая рубашка накрахмалена так жестко, что поставь ее — будет стоять. Галстук темно-коричневый, в тонкую красную полоску, мешковатые брюки с манжетами, запонки в виде гладких золотых дисков. Обыкновенный, приятного вида американец неполных сорока лет, неопределенной этнической принадлежности. Глаза у него карие, нос прямой, скулы слабо выражены. Наверное, таким и должен быть хороший детектив — внешне незаметным, чтобы смешаться с любой толпой и нигде не привлекать внимания. Я замечаю у него на пальце масонское кольцо, и он ловит мой взгляд. Да, этот малый ничего не упускает. Леандро тоже умел смотреть внимательно, и я догадываюсь, что Джек ему не уступает. Он почти не моргает, не двигается, но умеет впитывать всю витающую в воздухе информацию до единой молекулы, чтобы потом составить из них сложную картину. — Сигарету? — предлагаю я. Он отрицательно качает головой. — При моей работе, — говорит он, — нужно сохранять острое чутье. — Разумеется, — говорю я. — Как вы познакомились с Притчем? То есть, я хотел сказать, с мистером Притчардом. — Во время войны. — Разведка, наверное? Если бы у него во рту была сигарета, он поспешил бы выпустить облачко дыма. — Где вы воевали? — спрашивает он вместо ответа. — Откуда вы знаете, что я воевал? — Догадался. — В Италии. В Сопротивлении. До сорок третьего года. — Что с вами случилось? Я стараюсь не краснеть. Откуда ему знать, что со мной произошло? — Нас предали, — отвечаю я, пожав плечами — хочется надеяться, небрежно. — Пытали. Обычное дело. Он кивает. Сейчас ему бы загасить воображаемую сигарету. Я с удовольствием все бы ему рассказал, решаю я, но время еще не пришло. — Кто направил вас к мистеру Притчарду? — спрашивает он. — Леандро, граф делла Роббиа. Он заботился о нас в Италии до самой своей смерти. Я уверен, Притч рассказывал вам кое-какие подробности. — Да, Гаррис говорил, граф — человек, полный скрытых талантов. — Можно сказать и так. Он был очень добр к нам. Собственно говоря, спас нас. Научил нас — меня, моего брата Маттео, графиню — строить планы, терпеливо выжидать. Это и привело нас к вам. — Я ослепляю его своей самой очаровательной улыбкой, но на него она не действует. Какой скучный тип. Весь в делах. С его губ не сорвется ни одного ненужного слова. Но, тем не менее, я упорно продвигаюсь дальше. — Мы хотим предложить вам одно довольно необычное дело. Нам кажется, вы прекрасно подходите. По рассказам Притча, вы человек без страха и упрека, заслуживающий полнейшего доверия. Это правда? Он серьезно глядит на меня. — Да, сэр, — отвечает он. — Это так. Мне можно доверять. За остальное не поручусь, пока не услышу существа вашего дела. — Можете называть меня Томазино, — говорю я. — Я не из благородных. — Он кивает. — Эта задача, — продолжаю я, — потребует всего вашего времени без остатка, вам придется пустить в ход многие свои контакты. За оплатой, как вы уже догадались, мы не постоим. Дело только за вашей предельной осмотрительностью. — Продолжайте. — Мы хотим найти людей, с которыми графиню познакомили в 1935 году. Почти семнадцать лет назад. Все они из Англии — во всяком случае, мы почти уверены, что это была Англия. Члены одного своеобразного Клуба довольно предосудительного толка. Я вздыхаю. Задача оказывается не такой простой, как мне хотелось бы. — Тогда почему вы ищете их отсюда, а не оттуда? — спрашивает он. — Графиня не хочет ехать в Англию. Ей тяжело вспоминать о том, что было, — поясняю я. — Притч, разумеется, тоже работает над этим делом, распутывает его со своего конца, но поиски затруднены одним обстоятельством: мы не знаем их имен. Она ни разу не видела их лиц. Они носили маски. Она знает только их голоса, руки. Надеюсь, вы меня понимаете. Большего я пока не могу рассказать. Он опять кивает. Теперь я рад, что он так немногословен. Он не из тех, кто станет совать нос куда не надо, хотя любой другой на его месте взорвался бы кучей вопросов. — Значит, вы понятия не имеете, кто из них жив, а кто нет, — уточняет он. — Совершенно верно. Но уверен, большинство из них живы. Они слишком гнусные типы, такие не скоро умирают. Особенно самый худший из них. Она знает его только под прозвищем — Его Светлость. При одной мысли о нем я содрогаюсь даже среди бела дня, потом набираю полную грудь воздуха и продолжаю. — Найти их — прежде всего Его Светлость — а потом… Как бы то ни было, это главная задача нашей жизни. Только этим она и живет. Я имею в виду графиню. Она приехала сюда потому, что ее вдохновили некие слова Леандро о том, что мы сумеем поймать их на удочку. Поэтому мы решили создать клуб, такой необычайный и знаменитый, чтобы к нам пришли все, кто хоть что-то собой представляет. Назовем его «Белладонна» — такое имя Леандро дал графине. Создадим его здесь, в Нью-Йорке, где проще всего затеряться в толпе. И где мы можем полностью контролировать свое окружение. — Понимаю. — Теперь переходим к вашей задаче. Поскольку Притч характеризовал вас с самой лучшей стороны, и вы сказали, что вам можно доверять, я хочу, чтобы вы увидели наше помещение, пока оно еще строится. Уверен, вы сможете внести много ценных предложений. — Поясните. — Понимаете, — продолжаю я, мне не терпится поскорее все выложить, — весь клуб и каждый, кто в него приходит, должны быть как на ладони. Мы хотим оснастить его по последнему слову техники: особые, прозрачные с одной стороны зеркала, скрытые камеры и микрофоны, самые современные записывающие устройства, смотровые скважины во фресках — все, что назовете, вам лучше знать. Чтобы графиня, даже когда ее нет в клубе, могла впоследствии прослушать голоса. И мы хотим, чтобы весь, или почти весь персонал состоял из профессионалов вашего профиля. Людей, которые умеют профессионально следить. Из тех, кого вы знаете и кому доверяете: полицейские, подрабатывающие вечерами, отставные шпионы, которым скучно на покое… Те, кто любит подслушивать чужие разговоры и докладывать о них. Он почти улыбается. Видимо, если эта затея и кажется ему нелепой, то только совсем чуточку. — И как долго, по вашим предположениям, продлился такое наблюдение? — Пока мы не найдем хотя бы одного из членов Клуба. А он, возможно, сумеет привести нас к остальным. — И что потом? — Поживем — увидим. Скорее всего, быстро снимемся с якоря. Уходи, как только начинается самое интересное — вот мой девиз. Джек задумчиво разглядывает меня. Я его явно заинтриговал. — Мне нужно время, чтобы продумать все возможные ходы, — говорит он, — и я хочу увидеть клуб в таком виде, каков он сейчас. — Никаких проблем. — И мне нужно встретиться с графиней. Я хмурюсь. — Это посложнее. В данное время она не расположена ни с кем встречаться. Джек пожимает плечами и встает. — Как вам угодно. — Сядьте, — говорю я. — Разрешите, я сначала с ней переговорю. Она не слишком общительна. — Тогда как же она собирается вести клуб? — Во-первых, она не будет присутствовать там ежедневно. Никто не будет знать, появится она там сегодня или нет, поэтому каждый вечер будет для них полон ожидания. И она всегда будет в маскарадных костюмах. Скрыв лицо под маской. Естественно, это сделает ее еще более экзотичной и недосягаемой. Не мне вам рассказывать, что больше всего на свете мужчин притягивает неизвестность, которую можно попробовать покорить. Что ж, приходится рассказывать ему и это. — Графиня станет притягательной и недоступной, как Эверест. Сейчас мы прорабатываем детали, готовим платья, парики и маски. Украшаем клуб, — продолжаю я бодрым, доверительным тоном. — Он будет оформлен в стиле итальянского карнавала. Вскоре сами увидите. И мы планируем устраивать маскарады. Тематические вечера, так сказать. Будем притягивать сброд со всего света. И шпионить за всеми. — Я широко улыбаюсь. — Честно говоря, мне не терпится поскорее начать. Кроме всего прочего, это еще и весело, правда? — Договоритесь с графиней о встрече, — говорит он. — Если она сомневается, можно ли мне доверять, с удовольствием подпишу предварительное соглашение о конфиденциальности. Я внимательно рассматриваю его. — Вам кажется, я вам не доверяю? — Я знаю, что могу доверять самому себе, — отвечает он. — И больше никому. — Тогда что бы вы сделали на моем месте? — говорю я. — Нанял бы меня.* * *
Мы встречаемся за чаем в «Уолдорф-Астории» — если Джек откажется с нами работать, он не будет знать, где мы живем, хотя вскоре адрес клуба все равно появится во всех газетах. Мы садимся за столик у задней стены, откуда хорошо виден весь зал. Охранять нас пришли Маттео с Орландо. Мы представляем их. — Благодарю вас за то, что нашли время встретиться со мной, — говорит Белладонна. — Думаю, вам хочется задать очень много вопросов. Джек кивает. — В том числе — о доверии, — добавляет она. Он смотрит на нее. Должен сказать, она просто восхитительна — в черном креповом костюме, с осиной талией, крупные красные пуговицы на лифе и такие же красные кожаные перчатки. Она надела каблуки, чтобы выглядеть выше, но сидит так прямо, что, кажется, возвышается надо всеми в этом зале. Губы ее накрашены такой же ярко-алой помадой, которая подчеркивает пронзительную зелень глаз. Точнее, подчеркивала бы, если бы глаза были видны. Ее волосы, собранные в аккуратный пучок, венчает маленькая бархатная шляпка с вуалью, скрывающей лицо. О, как мне нравятся женщины с налетом таинственности! — Хотя мне кажется, — продолжает она, ее голос низок и сладкозвучен, — это мне скорее пристало задавать вопросы о доверии. — В каком же отношении? — В том, которое мне нужно. — Объяснитесь. — Надежны ли вы как детектив и как человек. Он хмурится. — Как детектив — уверяю вас, графиня. — Зовите меня Белладонной. Он кивает. Он еще не знает, что такая привилегия дарована немногим. И верно, мало кто разговаривает с ней как с Белладонной. Ну и что? Им же хуже. — И как человек, — повторяет она. — Как человек? Я вас не понимаю. — Женщины. Это ваша слабость? Его лицо тускнеет. — Нет. В настоящее время — нет. Больше нет. — Хорошо. — Она отпивает глоточек чая «Лапсанг сучжонг». — Томазино говорит, он объяснил вам сущность нашего замысла. — Вкратце. — Вам предстоит работать по ночам. Но даже в нерабочее время вы должны всегда быть наготове, в пределах досягаемости. Если у вас есть семья или иные обязательства подобного рода, они, несомненно, осложнят вам жизнь. — Я работаю в одиночку, — отозвался он чересчур поспешно. Так-то, старина Джек, знай наших, радостно подумал я. Она безошибочно нащупала его единственную слабую точку. Значит, он все-таки человек. Вот и хорошо. Кому нужен ворчливый брюзга в ночном клубе? Интересно, если мы не завалим его работой по горло, вдруг он заинтересуется Маризой? Пора бы ей ненадолго оторваться от своих фресок, пока не отравилась парами краски. — Я надеялась, что вы скажете именно так, — продолжает Белладонна. — Вы будете отвечать за большой штат людей, которые должны уметь держать рот на замке. Они должны быть неподкупными. — Неподкупных не бывает, — говорю я. — Джек, вы неподкупны? — спрашивает она, бросая на меня суровый взгляд. — Если наш замысел воплотится в жизнь, то найдется много, очень много желающих подкупить наших сотрудников, чтобы те выдали кое-какие секреты. Даже сейчас, беседуя с вами, мы идем на хорошо рассчитанный риск. Но нам нужно найти подходящего человека. Мистер Притчард представлял вас с самой лучшей стороны, а мой муж говорил, что на слово мистера Притчарда можно положиться. Поэтому мы можем надеяться только на вас, больше нам обратиться не к кому. — Надеюсь быть полезен в меру моих скромных способностей, — говорит Джек. — Если вы имеете в виду подкуп, я на это не поддамся. Даю слово. Вдруг Белладонна встает. Я догадываюсь, что она хочет сесть рядом с Джеком, и мы меняемся местами. Меня окатывает волна едва уловимого запаха ее духов — причудливая смесь желтого жасмина, ландыша и других экзотических цветов. Я улыбаюсь, мне нравится этот аромат. У Джека не дрогнул ни один мускул, но я вижу, что он уже подпал под ее очарование. Да, наш друг до смерти любопытен, но настоящий профессионал. Вот и сейчас он сгорает от любопытства; я это чувствую по запаху. Без чутья, как он и сказал, в такой работе не обойтись. — Дайте ладонь, — велит ему Белладонна. — Что? — Вашу руку. — Она изо всех сил старается не поморщиться при его прикосновении. — Гм, — говорит она, прослеживая линии на его ладони пальцем, затянутым в красную кожу. Этому ее научила Катерина. Джек, вопреки своим принципам, заворожен и ничего не может с собой поделать. — У вас аналитический ум, но кончики пальцев выдают заметный творческий настрой. — Она переворачивает его руку. — Костяшки пальцев тяжелые; это значит, что вы любите идти напрямик. И постоянно нуждаетесь в разнообразии. — Она снова переворачивает его руку. — Ага, треугольник на холме Сатурна. Вы задумываетесь о своем месте во Вселенной, и вам непросто усмирить свой разум. Вы задаете вопросы, пока не получите нужных ответов. Хорошо. Он чуть ли не вспыхивает и начинает беспокоиться, как бы ладонь не вспотела. Что она с ним сотворила? Как ей удается сохранять этот взгляд — такой прозрачный и в то же время такой сосредоточенный? — Холм Луны обыкновенный, — продолжает она. — Значит, вы находчивы и честолюбивы. А холм Венеры указывает на сильную, цельную натуру. Да, и двойная линия ума. Двойственность характера. Редкое явление. Она роняет его руку и садится обратно на стул, который я поспешно освобождаю. — Я прошел испытание? — спрашивает он. — Вы мне подходите. — Вы мне тоже. Она застывает. Маттео и Орландо бросают на меня озабоченные взгляды. — Что вы хотите сказать? — Вы были очень хороши. — Прошу прощения? — На днях я следил за вами. — Следили за мной? — Вы гуляли с дочерью. Свернули за угол, туда, где кончаются строительные леса. Она бегала туда и сюда по улице, а вы ей пели. Вы обе смеялись. Великолепное зрелище. — Откуда вы узнали, кто я такая и где живу? Вот вам и чай в «Уолдорф-Астории»! — Я хорошо знаю свое дело. Ее лицо бледнеет даже под вуалью. — К тому же, — спешит добавить он, — вы немного похожи на Джун. Совсем немного. Она чуть выше вас, но вряд ли красивее. Белладонна все еще в оцепенении, эти слова ничуть не смягчают ее. Это самый жуткий ее кошмар — когда за ней незаметно следит незнакомый человек. Джек, слава Богу, замечает, что она расстроена, хоть она ничем не выдала себя, и поспешно старается загладить вину. Да, он именно тот человек, который нужен для такой работы. Надо будет послать Притчу самый большой бочонок пива «Гиннесс». Он его заслужил. — Простите, — говорит Джек. — Напрасно я так поступил. — Почему вы решили проследить за мной? — Из чистого любопытства. Хотел узнать, куда вы пойдете. — И куда же я пошла? — В «Мейси». По крайней мере, там я вас потерял. Я замечаю, что она испускает еле уловимый вздох облегчения. — Я не знала, что вы следите за мной. Вы не догадываетесь, как мне это неприятно. — Но вы шли так, как будто знаете. — Знаю что? — Что за вами следят. Я никогда еще не видел, чтобы женщина шла так, будто старается от кого-то ускользнуть. Вы шагали быстро, целеустремленно. Огибали машины. Срезали углы, поворачивали обратно. Замедляли шаг, делая вид, что хотите поглазеть на витрину, потом снова прибавляли ходу. Заходили в универмаги, где легко затеряться среди сотен людей и десятков укромных уголков. Я был уверен, что вы знаете о моей слежке и пытаетесь оторваться. — Мне нравится путешествовать инкогнито, — медленно произносит она. — Я тренируюсь в этом с того дня, как приехала сюда. — Вот оно что. Тогда кто же он? — Кто — он? — Человек, от которого вы прячетесь. Я подумал, что вопрос ее встревожит, но она все-таки отвечает. — Я не знаю точно, кто он такой, — говорит она. — В этом-то все и дело. Гоняемся за тенью. — Скорее, за самим дьяволом, — бормочу я, вспомнив о Его Светлости. — Что если он мертв? — Не может быть. Я в это никогда не поверю. Будем работать, исходя из этой предпосылки. — Она смотрит на меня и кивает, давая разрешение открыть кое-какие необходимые детали, говорить о которых у нее нет сил. — Его лицо всегда было в маске, — говорю я. Нет нужды усложнять дело, объяснять Джеку, что глаза Белладонны тоже были завязаны всякий раз, когда Его Светлость подходил к ней. Всегда, за исключением самого первого раза. — Однажды она видела его руки. На нем было очень своеобразное кольцо — переплетенные змеи и рубин. Мы полагаем, что такие кольца есть у всех членов Клуба. Хотя нам кажется, что они не носят их на людях; по крайней мере, надевают не часто. У них строгие правила. Джек сидит, ожидая, что я расскажу больше. Он не сводит глаз с ее рук. Она так и не сняла перчаток. — И, конечно, она слышала его голос. Маттео и я тоже слышали. Он не мог его скрыть. И другие голоса мы тоже слышали. — Я вздыхаю. Белладонна бледна, как смерть. — Как только вы подберете персонал, я покажу вам рисунок кольца. — Значит, вы не знаете никаких имен? — переспрашивает Джек. — Лица? Приметы? — Ничего, — отвечаю я. — Только голоса и акцент. — Мне вспоминается кольцо на пальце Хогарта, залитое кровью. Я тогда подумал, не взять ли его с собой, чтобы иметь хоть одно доказательство, но решил, что оно может навести на наш след… Нет, нет, нет, пусть кровь Хогарта не пятнает нашу беседу. Не здесь, в «Уолдорфе». Не за чаем. Хогарту место во мраке. — Понимаю, — говорит Джек, хотя я вижу, что он ничего не понимает. Я бы на его месте точно ничего не понял. — А какова, разрешите спросить, роль Джун Хокстон? — Она кузина Белладонны. Девушки вместе жили в Лондоне много лет назад, когда познакомились с человеком, который отвел Белладонну к Его Светлости, — говорю я ему. — Вы хотите сказать, заманил в западню, — уточняет он. — Это был Хогарт? Джун упоминала его имя. — Да. А теперь мы собираемся расставить ловушку для него самого и всех прочих. Как я вам уже говорил, нам будет достаточно одного, а он уже приведет к остальным. — Я оставлю вас с Томазино и Маттео, вы обсудите все частности, а также ваше жалованье, — говорит Белладонна. Краска отчасти вернулась на ее лицо, но я вижу, что ей не терпится уйти. — Отшлифуйте все детали: сколько персонала нам понадобится, какое требуется обучение, специальное оборудование. В первую очередь, как вы сами понимаете, необходимо, чтобы как можно меньше наших служащих знали о том, чем мы занимаемся на самом деле. Томазино отведет вас в помещение клуба, когда вы сочтете нужным, и там вы выскажете свои предложения. Мы учтем их, когда будет производиться окончательная отделка. И подпишите контракт. Полагаю, это для вас очень существенно. — А как же. Будь на нашем месте другие клиенты, он бы, наверное, улыбнулся. Но она — не из обычных клиентов. — Совершенно верно, — говорит она. — Другие вопросы есть? — В чем еще виновата Джун? Белладонна неподвижна, как статуя Афродиты, которую мы установили в заднем саду. — Она бросила меня там, — тихо говорит она и взмахивает рукой на прощание, но потом любопытство все же берет верх. — Расскажите немного о ней. Она сильно изменилась с возрастом? О, пошли девчоночьи пересуды. Красит ли она волосы, сильно ли растолстела, стервозна ли она, как заставить ее расплатиться? — Джун можно охарактеризовать одним словом — скучная, — отвечает Джек. — Она немного толще, чем ей самой хотелось бы, и мечтает сбросить фунтов десять. Я попытался представить себе, как она, морщась от боли, стягивает на себе поясок. Она все еще одевается по моде «новый взгляд». Дочери такие же толстушки, как она, такие же избалованные и скучные. Муж шумноват и становится шумнее с каждым выпитым стаканом виски. Вот их фотографии. — Он достает из кармана запечатанный конверт. — Да, теперь это скорее можно назвать «старым взглядом», — говорю я, просматривая снимки. Конечно, Канзас-Сити не Манхэттен. И не Лондон. Белладонна слегка встряхивает головой. Ей не хочется их видеть. Не здесь, не сейчас. Может быть, и никогда. — Интересно, приехала бы она сюда? — Думаю, приедет, когда дойдет молва, — признает он. — Чтобы похвастаться в своем бридж-клубе. Я бы на ее месте не устоял. Пригласите ее на свой костюмированный бал. Может быть, с родителями, если вы способны это вынести. Может быть, без них. Она не сможет устоять. Постарайтесь, чтобы все прошло гладко. Потому что, — осторожно добавляет он, — вы сами не можете предугадать, как поступите, когда увидите их. — Что вы хотите сказать? — спрашивает Белладонна. — Хочу сказать, что, увидев Джун во плоти, вы перенесетесь туда, где вам не слишком хочется оказаться. Это неизбежно. Она будет для вас чем-то вроде тренировки, подопытной морской свинкой. После этого, когда вы найдете остальных, вам будет легче держаться в их присутствии. Умный он парень, наш старина Джек. Температура вокруг Белладонны падает еще градусов на десять. — Благодарю вас, мистер Уинслоу, — говорит она, опускает вуаль на подбородок и удаляется, а вслед за ней — Орландо и Маттео. Весь зал провожает ее глазами, задаваясь вопросом — кто же эта таинственная незнакомка под вуалью? Проклятье. Нравятся ей его слова или нет, однако она не может не признать, что он прав.* * *
Мы шьем венецианские карнавальные маски из алого шелка, отделываем их черным кружевом, прикладываем по большому букету кроваво-красных роз и рассылаем лучшим репортерам самых крупных газет, редакторам журналов, театральным актрисам и кинозвездам, самым видным светским сплетникам, а также избранным политикам и выдающимся бизнесменам. К этим посылкам прилагаются самые простые карточки:Клуб «Белладонна» Гейнсворт-Стрит. 11 июня 1952 года, девять часов вечера. Праздничные платья.Никто до тех пор не слышал о клубе «Белладонна», а тем паче о Гейнсворт-Стрит. Нигде ни словом не упоминаются владельцы клуба, поэтому вскоре к нам, донельзя возмущенные, являются с визитами два главных обозревателя городских сплетен — Л. Л. Мегалополис из «Дейли Геральд» и Долли Даффенберг, его конкурент из «Нью-Йорк Репортер». Они находят под строительными лесами вход в клуб, стучат и требуют провести их на экскурсию. При виде нашего заброшенного окружения эти снобы задирают носы так высоко, что у дельфинов они сошли бы за дыхательные отверстия. Мы не обращаем на них внимания, поэтому они, еще не войдя в дверь, решают, что мы никчемные выскочки. Такое пренебрежение от никому не известных новичков — безобразие, как мы посмели! В отчаянии они изводят на нас тонны бумаги — полная чушь, но читатели им верят. Потом я стряпаю пару баек о таинственной хозяйке клуба. — Белладонна, — говорю я. — Вы наверняка о ней слышали. В Европе она давно уже знаменита. Очаровательная женщина. Нежнейший яд. Белладонна — сладкий сон. — И я цитирую несколько припевок, которые якобы «слышал» о ней. Все остальное вы легко можете себе представить. Хотя все их выдумки не могут идти ни в какое сравнение с реальностью. Пусть собственная ложь настигнет их и задушит. Чем ближе день открытия, тем громче шум. Они гудят, как стая цикад, разбуженных после семнадцатилетней спячки. Мы готовы встретить их. Все до единого готовы. Когда пришло время набирать персонал, у Джека не возникло никаких трудностей. Он переговорил со своими доверенными лицами и привел избранных счастливчиков на переговоры с нами. Мы не мешали ему делать свою работу и неплохо ладили. Мы с Маттео изучили рекомендации кандидатов, задали несколько продуманных вопросов, потом вкратце познакомили с обязанностями. По большей части это были вышедшие в отставку полицейские и бывшие агенты, покинувшие ФБР из отвращения к «черным спискам» и к делу Розенбергов. Один из них, бывший пожарный по имени Джеффри, был довольно хлипкого сложения, однако так хорошо владел карате, что мог бы в одиночку заменить Орландо и Маттео, вместе взятых. Он чуть более женственен, чем можно ожидать от пожарного; поэтому, наверное, ему и пришлось оставить службу, однако мы не стали задавать лишних вопросов и взяли его на работу помощником швейцара. Что еще лучше, у него были огромные зеленые глаза, почти такого же оттенка, как у Белладонны. «Наверное, мы разлученные в детстве близнецы», — сказала она ему, тем самым завоевав его вечную преданность. А потом Джек нашел нам руководителя музыкального ансамбля по имени Ричард Ласколт, с которым несколько лет назад работал в разведке. Это была редкая удача, потому что он, без сомнения, сумеет держать музыкантов в узде. Мы платим им весьма щедро; к тому же возможность окунуться в блестящий мир знаменитостей так соблазнительна, что с лихвой перевешивает все недостатки работы по ночам и утомительные часы, проведенные на тесной сцене ночного клуба. Мы уверены — они не поддадутся ни на какие подкупы, ни на какие тайные авансы со стороны Л. Л., Долли и прочих искателей сплетен. Если только мы сами не захотим запустить какую-нибудь сплетню. Для этих честных натур неподкупность стала своего рода игрой. В нее включилась даже Вивьен, прелестная юная жена Ричарда. Она должна была разносить сигареты — прогуливаться по клубу с крохотной кинокамерой, спрятанной в коробке, которая висела у нее на плече. Честное слово, будь я профессионалом, работа в таком заведении была бы просто розовой мечтой. А я, разумеется, в высшей степени непрофессионален. Но всегда довожу дело до конца.
* * *
— Представляешь, что творится внутри этого клуба?! — Какого клуба? — «Белладонна», какого же еще. Того, которым заправляет собака. — Ну, о собаке-то все уже слышали. А вот чего никто не знает — так это что ты увидишь внутри, когда пройдешь мимо собаки. — Хочешь, расскажу? Если Андромеда тебя одобрит — а понравиться ей дело нелегкое — ты заплатишь двадцать долларов за вход. Представляешь, и никаких исключений! Они заставили заплатить даже Кларка Гейбла! И Риту Хейворт! Никто не может попастьтуда бесплатно — ни голливудские знаменитости, ни репортеры, ни особы королевской крови. А потом проверяют тебя сверху донизу — и пальто, и шляпы, и зонтики, и сумочки величиной больше ладони. Их обыскивает эта гнусная тетка, квадратная, как кирпичный сортир, извини за выражение. Держу пари, прежде она работала на КГБ. Заставляет тебя перетряхнуть все содержимое сумочки и карманов и выдает за это кроваво-красный билетик. Страшно подумать, что будет, если ты не дашь этой старой перечнице чаевых! На самом деле наша так называемая «русская» гардеробщица — добропорядочная уроженка Бронкса, жена нашего бухгалтера, но она этого никому не расскажет. Наша славная Джози — воплощенная предусмотрительность. Она призналась, что работа у нас — самое интересное, что случалось с ней в жизни. Ей занятно любоваться на знатных лордов, леди, звезд и прочих прихлебателей, которые вваливаются к нам, не помня себя от радости, что их допустили в святая святых. Джози окидывает каждого вошедшего орлиным взглядом. Едва заслышав безупречный английский акцент, она нажимает незаметную кнопочку, предупреждая нас, и подозрительного гостя усадят за тот столик, где за ним легко наблюдать. Затем гостей обшаривают облаченные в смокинги полицейские, подрабатывающие у нас в свободное от дежурств время. Каждого без исключения. В этот клуб нельзя пронести ни скрытую камеру, ни блокнот. За снимок интерьера нашего клуба или его хозяйки любая газета отвалила бы целое состояние. Обыскивать знаменитостей — работа такая занятная, что наши полисмены умоляют допустить их к ней. Это куда интереснее, чем патрулировать улицы или следить за порядком в толпе, но мы не позволяем никому задерживаться на этом месте дольше недели подряд. Избавленные от всего лишнего, обшаренные и обескураженные, наши гости быстро восстанавливают силы и проходят внутрь. В душе у них все бурлит от радостных предвкушений. Долгожданное приглашение в клуб «Белладонна» — словно падение Алисы в кроличью нору, ведущую в зачарованную Страну Чудес. Через тяжелые занавеси пурпурного бархата, мимо стоической Джози в гардеробной, вниз по длинному извилистому коридору, где ковер так толст, что гасит звуки шагов… кстати, это хорошо помогает приглушить посторонние шумы, чтобы они не перебивали запись на магнитофонной ленте. Стены этого коридора увешаны зеркалами: дамы поправляют перед ними прически, подкрашивают губы, одергивают платья, мужчины важно пыжатся, а мы сидим по ту сторону стекла, зеркального с одной стороны и прозрачного с другой, и стараемся не расхохотаться при виде их ужимок. Они ничего не могут с собой поделать, и мы этому рады. Мы, разумеется, устроили это преднамеренно. Чтобы сделать их фотографии на память и поместить в каталог, где все снимки подписаны и аккуратно датированы. Издавая нервные смешки, наши гости проходят через две пары звуконепроницаемых дверей, каждый раз продвигаясь все дальше по изгибам сужающегося коридора, обрамленного сверкающими зеркалами. Этот клуб — словно сама Белладонна, экзотический фасад, созданный специально для того, чтобы заманить вас внутрь и высосать досуха. Они видят только то, что мы хотим им показать. Великолепная иллюзия веселья и радости. Наконец, они толкают последнюю дверь и оказываются в самом клубе. Наконец-то. Клуб невелик, всего мест на триста. Зал представляет собой большой квадрат с высоким потолком; его поддерживают толстые расписные колонны, украшенные гипсовыми барельефами, где танцующие сатиры гоняются за перепуганными нимфами. На стенах мерцают фрески с другими мифологическими сюжетами — боги и богини, неправдоподобно наряженные в венецианские карнавальные костюмы, словно оживают, когда по ним пробегает со сцены луч прожектора. Вдоль одной стены тянется длинная стойка бара, на эстраде напротив играет оркестр, под широким потолочным окном поблескивает начищенный пол танцевальной площадки. Что может быть романтичнее, чем танцевать в клубе «Белладонна», когда по стеклянной крыше барабанит теплый летний ливень? Но кому нужны эти танцы? Все другие развлечения бледнеют перед возможностью занять местечко на полукруглых диванчиках возле задней стены. И все потому, что посередине восседает сама Белладонна. Если, разумеется, она соизволит показаться на людях в тот вечер, когда вам выпало счастье попасть в число избранных. Никто не знает, появится она или нет. Не существует никакой закономерности. Иногда она приходит в клуб каждый вечер на протяжении двух недель, иногда опять исчезает на много дней. Потом покажется на час и быстро уходит снова. Иногда и сам клуб закрывается на неделю-другую, просто потому, что нам так захотелось. Но сегодня гостей волнует не это. Прошу вас, пусть, о, пусть, о, пусть она появится. Умоляю. Только на один вечер. Только ради меня. Это заклинание повторяют вполголоса, танцуя и потягивая выпивку, все наши полные надежд посетители, страшно довольные тем, что им удалось преодолеть все преграды на улице, однако вскоре им предстоит горькое разочарование — узнать, что в этот вечер она опять не придет. Вечер пропал зря. Они стараются не высказывать своих жалоб Рингеру. Это метрдотель, который разводит гостей к столикам. На самом деле его имя Филипп Рингбурн, он очень высок, донельзя тощ и совершенно не стремится угодить клиентам. Рингером[1] прозвал его я, потому что за его невозмутимой внешностью бьется самое беспокойное на свете сердце. Он хочет, чтобы все было как нельзя лучше: цветы свежайшие, оркестр играет точно в тон, напитки поданы по всем правилам искусства, гости рассажены именно так, как хочет Белладонна. Я это понял в один из первых дней, когда застал его в кухне заламывающим руки от отчаяния. Я заикнулся об этом Джеку, но тот сказал, чтобы я не тревожился, просто война немного потрепала ему нервы; зато, сообщил он, Филипп обладает фотографической памятью, он может вспомнить, как выглядела блоха, которая укусила его 8 марта 1945 года на бивуаке где-то в германской глуши, когда его батальон наступал на Берлин. И не только та, но и другие блохи, которые кусали всех его товарищей. К счастью, он не обижается на это прозвище. Нам с ним здорово повезло. Он знает в лицо всех клиентов, всех английских снобов, кто хоть раз появлялся у нас, и безошибочно вытаскивает из папок их фотографии, чтобы Маттео и Джеффри на входе были начеку и не преминули впустить их. Да, волнение внутри нарастает, становится физически ощутимым, гости стараются не поглядывать на часы, которые неумолимо отсчитывают секунды, протекающие без Белладонны. Они не голодны, да у нас и не подается обильного угощения. Днем, незадолго до открытия, разносчик из кулинарной фирмы приносит нам подносы холодных закусок, изысканных сэндвичей, разнообразных десертов. Нам нет нужды держать полноценную кухню. Она занимает слишком много места, с ней хлопотно, придется нанимать множество персонала, за которым трудно уследить. Гости приходят в клуб «Белладонна» не для того, чтобы поесть. Они сидят за столиками, нервно подергивая бахрому кроваво-красной, в цвет фирменного коктейля, бархатной скатерти. Коктейль, естественно, называется «Белладонна», он багровый, как когти на лапах Андромеды. На самом деле это простой мартини из рома да двух капель горькой настойки вместо вермута, подкрашенный пищевыми красителями. Ничтожные тупицы. Сидите и прихлебывайте свое дурманящее зелье. Вам никогда не приблизиться к ней. Настоящая Белладонна не доступна никому. Никому.* * *
— Ты видела, как она выглядит? — Кто? — Кто же еще? Единственная женщина, которую жаждет увидеть весь Нью-Йорк. Та, о которой только и говорят. Белладонна, дуреха ты эдакая. — А, я думала, ты о собаке. — Нет, честное слово, не понимаю, почему я трачу на тебя время? — У нее что, тоже бриллиантовое ожерелье? — У кого? — У Белладонны. Про собаку я уже знаю. — Нет, у нее бриллианты на туфлях. Клянусь тебе. Она носит высокие каблуки, усыпанные бриллиантами. Если смотреть сзади, они сверкают. Их трудно не заметить, потому что она еще обвязывает щиколотку очень тоненькой бриллиантовой ниткой. А в придачу у нее еще самое большое на свете жемчужное колье. Жемчужин целые сотни, я сама видела. А кольца! Она их носит поверх перчаток. Даже на мизинцах и больших пальцах. Громадные жемчужины, рубины, перевитые тоненькими цепочками. Невероятно. Но и это еще не все. — Что же может сравниться с бриллиантами на туфлях и нитками жемчуга по всему телу? — Прежде всего, ее платье. Даже не платье — это целый карнавальный костюм. Она, наверное, к каждому вечеру заказывает новый. Что-то неземное, как у Марии-Антуанетты. Грудь — видела бы ты ее! Наверное, снизу ее корсет приподнимает. Высока на грани непристойности. А на нитке жемчугов подвешен рубин, он как раз попадает в ложбинку между грудей. Но даже и этот камень не так велик. Еще крупнее был аквамарин, который она надела дня три назад. Андерсон говорит, он был с яйцо малиновки. Представляешь? Все мужчины прямо истекают слюной. Но она их даже поздороваться не подпускает. — Я, пожалуй, тоже сошью себе корсет и платье с вышитым лифом. Хорошо бы из парчи. — Тебе когда-нибудь приходят в голову более оригинальные мысли? Именно так она и была одета. Парчовый лиф, красный с золотом, плотно зашнурованный сзади. И длинная парчовая юбка, а под ней — множество нижних юбочек, но не до пят, а покороче, чтобы были видны туфли и бриллиантовая нить на щиколотке. Но самое потрясающее в ней — даже не платье. — А что же? Расскажи. — Понимаешь, весь ее вид. Во-первых, глаза. Ронда однажды набралась храбрости и спросила у нее, чем она подводит веки. И она сказала, что пользуется каллиграфическим пером с очень тонким кончиком, а обмакивает его в чертежную тушь. — Вот не думала, что чертежной тушью можно подводить глаза. — Да не может этого быть, дуреха. Как ее потом смоешь? — А может, это просто старый добрый «Макс-Фактор»? — Нет, ты меня с ума сведешь! В Белладонне все — чересчур. Слишком нарядное платье, слишком много драгоценностей, слишком яркая подводка, слишком пышные парики… — Правда? Какого цвета? — Медового. Локоны медового цвета, и в них вплетены жемчужные нити. — Весит, наверно, тонну. — Не говори глупостей. Ну сколько может весить парик? Но ее, видно, это не волнует. По ее лицу ничего нельзя сказать, она вечно носит эту дурацкую маску. Поэтому никто не знает, как она выглядит на самом деле. — Из черного бархата? — Нет, бестолочь, маска кружевная, из того же золотого кружева, что и платье. Наверное, как-то пристегнута под париком. Она не хочет, чтобы люди видели ее лицо. — Может, у нее носа нет или еще что-нибудь. — Ну что ты за дура! Все у нее на месте. А разглядеть можно только яркие зеленые глаза. И еще губы — такого же цвета, как ее рубины. — Ты хочешь сказать, как когти у ее собаки. — Нет, ты безнадежна.* * *
С легкой руки Белладонны мгновенно вспыхивает мода носить кольца поверх лайковых перчаток из тончайшей окрашенной кожи. Однако мало кто из постоянных посетителей клуба «Белладонна» может позволить себе такие рубины. Поэтому они копируют жемчужины со вделанными в них цепочками и хитроумные кольца, которые она любит больше всего, где вместо камня вставлены крохотные коробочки в золотой оправе, а в крышках просверлены миниатюрные дырочки; взмахнув рукой с таким кольцом, Белладонна наслаждается нежнейшим ароматом. Но я больше всего люблю кольцо-фонтан. Если кто-нибудь рискнет поцеловать ей руку, оно выпускает тонкую струйку духов. Эта хитроумная вещица заправляется, подобно чернильной авторучке. Вскоре подобные кольца появятся во всех бутиках Нью-Йорка. Но ни одно из них не сможет сравниться с оригиналом. Она любит подшучивать. Потому мы и решили создать уникальные духи, составленные из экстрактов растений, которые ядовиты, если их проглотить. Это дурманящий коктейль из ландыша, азалии, ириса, белой акации, желтого жасмина и гиацинта, с легким налетом олеандра. Мы назвали эту смесь «Профумо Б», разливаем в бутылочки из темно-багрового стекла в форме многогранной пирамидки с крошечным золотым «Б» — Белладонна — на пробке. Суровая Джози продает их гостям на выходе, когда им так не хочется покидать волшебную страну и забирать свои пальто. Только по одному флакону в руки, цена сто долларов, наличными, пожалуйста, больше спасибо, до свидания. Их покупают практически все, независимо от того, нравится им этот крайне необычный аромат или нет. Они просто не могут не выставить их дома на столиках для коктейля, чтобы доказать, что они заслужили приобщение к волшебному миру и им выпало счастье дышать одним воздухом с несравненной Белладонной. О, Белладонна излучает некую странную смесь льда и пламени. Она поражает каждого, восхищает, заставляет гостей терять дар речи от восхищения и зависти. Она не снимает маски, полная утонченной грусти, как будто восстала из могилы, где пролежала много лет; щеки ее припудрены белесой плесенью разложения, душа недоступна земным чувствам. Да, Белладонна внушает не симпатию, а благоговейный восторг. Она восседает за столиком, подобно разбитой мраморной статуе, неуловимо прекрасная издалека, пугающая в каменной неподвижности вблизи, высеченная из холодного мрамора, немигающая, нереальная, но все же живая. Она одновременно страстная и холодная. Никто не может растопить лед, сковавший ее сердце, потому что она вас не подпустит. Но, исчезая из виду, Белладонна больше никогда ни на миг не вспомнит клубных гуляк, сияющих самодовольной радостью оттого, что им все-таки удалось проникнуть внутрь. Для нее они больше не существуют. Она ждет. Она терпелива. Продумывай все, так учил нас Леандро. Будь хитрее, будь искуснее. Строй планы, рассчитывай каждый шаг, иди к цели. Не отступай от избранного пути. Мы их найдем. Рано или поздно один из них приползет на коленях, и тогда она раскроет прелестную золоченую крышечку на своем кольце, в лицо ему пахнет ароматом сладчайшего яда, он лишится чувств в порыве восхитительного наслаждения. Сладкий яд в ее устах.5 Ночь всеобщей нежности
Теперь, я думаю, вас интересуют некоторые организационные моменты. Например, почему никому не удается выяснить, где живет Белладонна? Неужели любопытные зеваки не бродят часами около клуба, не поджидают ночами, после закрытия, надеясь увидеть ее хоть уголком глаза? Естественно, поджидают. Поэтому мы наняли двойника, женщину с очень похожей фигурой, она носит точно такие же костюмы, парики и маски. Эта работа неплохо оплачивается, а трудиться приходится меньше часа, да и то в те вечера, когда Белладонна покажется на публике. Женщина-двойник одевается и идет в поджидающий автомобиль. Машина каждый раз другая, чтобы никто не записал номера. За рулем сидит профессионал, дирижер нашего оркестра Ричард, в Манхэттене он умеет избавиться от любого «хвоста». Вот почему Белладонну обычно играет Вивьен, наша разносчица сигарет, жена Ричарда. А если она занята, ее место охотно занимает Джеффри, второй швейцар с прелестными зелеными глазами, дежурящий с Маттео у дверей. Неужели любопытные не шастают вокруг клуба среди дня? Нет. Музыкантам и персоналу велено приходить не раньше чем за час до открытия. Разносчиков допускают лишь ближе к вечеру, и они недовольны, что приходится таскать тяжелые подносы через сужающийся парадный коридор. Когда ровно в девять часов вечера Маттео распахивает темно-багровую дверь, возле нее всегда стоит полная надежд толпа. Но среди дня мало кто приходит. Когда ветер дует со стороны Гудзона, праздным зевакам достаточно хоть разок набрать полную грудь воздуха, благоухающего тухлым мясом и прогорклым жиром, и их буквально тем же ветром и сдувает. Но правда заключается в том, что на самом деле никому не хочется знать, кто же такая Белладонна. Куда более интересно без конца разгадывать ее тайну. По всему городу входит в моду устраивать вечера в стиле Белладонны, приглашать гостей в масках и карнавальных костюмах, сажать экзотических собак на украшенные драгоценными камнями поводки. Что же можно сказать о наших собственных экзотических собаках? Все очень просто. Мы отвели для них площадку на соединенных задних дворах наших особняков, поэтому их не приходится выгуливать. А когда они начинают буянить и нуждаются в серьезной прогулке, мы сажаем их в фургон, который подкатывает к бывшим погрузочным воротам кондитерской фабрики, и везем в парк в Вестстере или на другой берег реки, в Хобокен. Дома мы называем Андромеду «Дромеди» — так Брайони укоротила ее имя. Когда на Андромеде нет бриллиантового ошейника и лака на когтях — а вне стен клуба мы всегда снимаем их, чтобы Брайони не заметила и ненароком не проболталась одноклассницам — она превращается в самого обыкновенного ирландского волкодава. А что сказать о кольце Белладонны? Нет, не о том горячо любимом сапфире, который подарил Леандро, а о другом, где большой изумруд обрамлен двумя желтыми бриллиантами, том самом, которое так туго сжимает палец, что Белладонна годами не могла его снять. Однажды она признается, что ей невыносимо видеть его еще хоть минуту. Джек находит ей в Китайском квартале надежного ювелира. Тот, не задавая лишних вопросов, берет какой-то причудливый инструмент и ловко распиливает кольцо. Стоит страшный скрежет, взметается сноп ярких искр. Она всегда ненавидела это кольцо, ей ненавистен и вид камней без оправы, поблескивающих у меня на ладони, и она берет с меня слово, что я выброшу их в Гудзон. В них кроется зло, говорит она. Я, конечно, делаю, как она просит. Она никогда не спрашивала меня, что стало с изумрудным колье. Тем самым, которое… Проклятье. Я опять отвлекаюсь. При виде собственного пальца, освобожденного от кольца, ее лицо становится таким, что я пугаюсь. Невидящими глазами Белладонна смотрит на кружок мертвенно-белой кожи — семнадцать лет она не видела солнечного света. Но тушь на татуировке зловеще черна, как всегда. Белладонна содрогается, надевает на татуировку кольцо Леандро и больше не заговаривает об этом. Но, конечно, это не имеет большого значения, потому что в клубе «Белладонна» она всегда носит перчатки. Облегающие, из ярко окрашенной лайки, цвета фуксии, или серебристо-синие, как ласточкино крыло, или лимонно-желтые, или аквамариновые, в тон ее нарядов, с жемчужными или золотыми кольцами поверх тонкой кожи. Ее пальцы невидимы для всего клуба — и для гостей, и для персонала. Никто к ней не прикасается, и она не прикасается ни к кому. Наш персонал хорошо это знает. Поверьте, нелегко было набрать оркестр, состоящий только из бывших и нынешних шпионов, но у Ричарда хорошие связи, особенно среди европейцев, обосновавшихся после войны в Нью-Йорке. Музыкантам из оркестра отведена лишь небольшая гримерная, но они не жалуются. Их запросы скромны. Подобно всем наемным сотрудникам, они отрабатывают положенные часы — и все. Клуб открывается в девять, закрывается в два часа ночи, поэтому у нас нет трений с законом, запрещающим увеселения после трех часов утра. По воскресеньям и понедельникам мы никогда не открываемся. Пять дней в неделю, пять часов в день. Никаких исключений. Иногда, как я уже говорил, мы закрываемся, когда нам заблагорассудится, но, естественно, продолжаем платить персоналу положенное жалованье. Всем сотрудникам велено входить и уходить только через парадную дверь. Когда они приходят, им выдается большая тарелка холодных закусок и напитки — любые, какие пожелают. Они получают заоблачные суммы и за это дали клятву не распускать сплетен и немедленно сообщать нам о любых попытках подкупить их. Как я уже говорил, работа у нас так хороша, что никому из музыкантов не приходит в голову распустить язык или переметнуться. Официантам тоже. Они получают хорошие деньги в виде чаевых, к тому же гордятся возможностью каждый вечер вращаться в компании сильных мира сего, самых ослепительных, самых ярких и самых тупых сливок общества. И все мы ходим в масках. Не забывайте об этом. И музыканты, и официанты, и даже те, кто убирает со столов грязную посуду. У нас простые маски из накрахмаленного багрового шелка. Они прикрывают только глаза и нос, чтобы под ними было не так жарко, и мы быстро привыкаем к ним. Вскоре я понимаю: ничто не уравнивает людей так, как маски, недаром они были так популярны в ушедшие века. Они позволяли дворянству смешиваться с чернью. Этим мы и занимаемся в клубе «Белладонна». Точнее, чернь лезет из кожи вон, чтобы приблизиться к ней. Они готовы на все, лишь бы глотнуть ее безмятежного величия. Я говорю это потому, что те, у кого не хватает воображения, сравнивают Белладонну с гнусной мегерой из Аргентины — Эвой Перон. Чтобы моя дражайшая Белладонна осветлила волосы? Никогда. Когда на улице стоит пронизывающий холод, Маттео и Джеффри надевают плащи из багровой шерсти, с капюшонами, закрывающими лица. Белладонна старается не видеть их, когда они одеты так. Когда я показал ей эскиз костюмов, она чуть не упала в обморок. Они слишком напоминают ей Его Светлость. Понимаете, мы боимся, как бы по нелепой случайности кто-нибудь не узнал нас у дверей. Но, как выяснилось, мы напрасно тревожимся. Привратники в маскарадных костюмах и собака в бриллиантовом ошейнике стали неотъемлемой частью загадки клуба «Белладонна». Эта загадка начинается с того мгновения, когда вы видите и слышите толпу на улице, жаждущую получить пропуск в рай. Вы подходите ближе, надеясь не оказаться среди отверженных, и таинственность нарастает. А если вам все же отказывают, вы бесцельно околачиваетесь вокруг, не в силах поверить в такое невезение. Но если Андромеда сидит молча и, невероятным чудом, вас все же допускают в заветный мир волшебства, ощущение тайны пропитывает каждую клеточку вашего тела. — Вы что, не знаете, кто я такой? — вопят они, если пес залает. — Я прекрасно знаю, кто вы такой, — спокойно отвечает Джеффри, а неповоротливый Маттео стоит и держит на поводке собаку. — По мнению Андромеды, вы капризный грубиян и невоспитанный кретин. Андромеда никогда не ошибается. — Я вам покажу, — визжат они. — И вам, и вашему псу! Вы еще узнаете, кто я такой! Джеффри поводит глазами, и из темноты, словно по мановению волшебной палочки, выныривает один из свободных от дежурства полицейских — мы зовем их «теневыми вышибалами». Он препровождает крикунов за угол, где их вежливо швыряют в такси. Теневые вышибалы щедро подмазывают таксиста, чтобы тот не обижался на бессвязные воинственные выкрики на заднем сиденье. Таксисты обожают дежурить за углом клуба «Белладонна». Однажды ночью один из отверженных так разозлился на Андромеду, что забился в истерике с пеной на губах. — Вы что, не знаете, кто я такой? — Знакомая старая песня. Никакой оригинальности. — Да я вас в порошок сотру! С грязью смешаю! Вы и понятия не имеете, кто я такой! Джеффри берет в руки микрофон, который мы держим по требованию полиции для усмирения разбушевавшейся толпы, и мощный фонарь, припрятанный до поры до времени в незаметном темном углу. — Леди и джентльмены, минуточку внимания, — произносит он, постучав по микрофону, и обводит лучом фонаря выжидающие лица. Толпа тут же встревоженно замолкает. Что это значит? Может быть, их, в виде исключения, пропустят всем скопом? Или сама Белладонна выйдет на улицу утешить их? Или… Нет, нет и нет. Напрасно ждете. Дураки. — Минуточку внимания, — повторяет Джеффри. — Вот тут один джентльмен настолько потрясен нашим клубом, что напрочь забыл, кто он такой. — Луч обегает толпу и останавливается на лице воинственного кандидата в гости. Его глаза болезненно жмурятся. — Если кто-нибудь сумеет помочь установить его личность, просьба подойти сюда. По толпе прокатывается волна громкого смеха. Человек что-то выкрикивает, но его не слышно в буре всеобщего веселья, и он бочком ускользает. Луч прожектора провожает его до угла, где он поспешно ныряет в такси. Скоро он объявится у какого-нибудь менее утонченного водопоя, где персонал более восприимчив к пачкам его денег, и там будет долго жаловаться на жизнь и лепетать о кризисе личности. О, в клубе «Белладонна» начинается очередной вечер!* * *
Когда открываешь ночной клуб, начинаешь многое замечать в человеческой натуре. Например, светское общество иногда могло бы показаться просто восхитительным, если бы люди внимательно выслушивали друг друга. Или если бы им было что сказать. Или еще: у одних еды куда больше, чем аппетита, а у других аппетита больше, чем еды. Они поглощают все подряд, хотя у нас подаются только холодные закуски, чтобы у любителей выпить не было пусто в животе. Можете представить себе, что вытворяет с этими идиотами Белладонна. Когда она хочет взбудоражить их, то заказывает роскошную корзину фруктов — истекающие соком гроздья винограда, пухлые нежные вишни, лоснящуюся чернобокую ежевику. Сначала подкрепляется сама, с убийственной точностью аккуратно разрезая каждую ягодку ровно надвое маленьким фруктовым ножиком с рукояткой, усыпанной изумрудами. Потом, посверкивая глазами, встает, берет в одну руку тарелку, в другую — нож и не торопясь идет по залу — там уронит в бокал виноградину, тут положит на блюдце землянику. Или проводит мерцающей рукояткой ножа по плечу гостя. Иногда она при этом не произносит ни слова, иногда тихо приветствует или отпускает комплимент изысканным драгоценностям, или платью от Баленсиаги, или цвету перчаток. Она подходит так близко, что вас пробирает дрожь. Эта изысканнейшая утонченность вошла в моду на званых вечерах по всему городу: подавать холодный ужин, столовые приборы — ножи, инкрустированные драгоценными камнями, и вилки с тоненькими зубчиками. Вы, надеюсь, понимаете, какие вечера я имею в виду. Те, где гости ведут бесконечные пересуды о клубе, куда их сегодня не пустили. А в иные вечера Белладонна прогуливается между столиков, томно помахивая веером. Иногда она присаживается сыграть в покер или в криббедж за одним из столов, отведенных для игры. Гости сидят, затаив дыхание, всей душой надеясь, что она остановится и заговорит с ними. Но в своих шагах и движениях она столь же непредсказуема, как Андромеда в своем лае у дверей. Как внутри, так и снаружи клуба происходит одно и то же: богачи и знаменитости, кинозвезды и промышленные магнаты отвергаются, предпочтение отдается робким продавщицам из магазинов и сельским простушкам, нервно потряхивающим сережками из фальшивых бриллиантов и поправляющим слишком тугие пояски на талии. В тех редких случаях, когда она оделяет гостей неподдельной улыбкой, им кажется, что их чела коснулся поцелуй небес. Однако чаще всего Белладонна сидит на своем месте, на диванчике у задней стены, и смотрит. Если у нее есть настроение, официант кладет на стол перед ней стопку кроваво-красных фишек, и она указывает веером на счастливого гостя. Тот, блаженно улыбаясь, спешит сыграть с ней партию в покер или криббедж. Быть избранным для игры с богиней — явление само по себе просто божественное. Но и обескураживающее: ошалевшие от счастья гости делают один ошибочный ход за другим. Однако ни у кого не повернется язык сказать, что игра с Белладонной не стоит свеч. Ради нее они готовы на все: на любые проигрыши, на долгое ожидание в толпе таких же отчаявшихся мечтателей, на пронизывающий до костей взгляд грозного великана в дверях. Через несколько месяцев после открытия, наши вечера стали приобретать изысканное, не лишенное приятности, однообразие. Как-то вечером мэр Импеллиттери играет в триктрак с комиссаром полиции, и вдруг к его столику подпархивает стайка веселых танцовщиц из Нью-йоркского балета, еще разгоряченных после вечернего представления. Танцовщицы начинают флиртовать с окрестными кавалерами, не подозревая, что они — мясники с ближайшего рынка за углом; по залу слоняются кинозвезды, ожидая, что их заметят, они смешиваются с музыкантами из джаза, с кондукторами, продающими билеты в метро, с прочими светскими шишками, художниками и артистами, среди которых затесались наследный принц и парочка-другая священников. Белладонна ни на кого не обращает внимания. На ней бриллиантовый гарнитур хитроумной огранки — «мои драгоценности для коктейля», как называет их она. Браслет, серьги и кольца усеяны бриллиантами оттенка самых благородных коктейлей: «реми мартен», «дюбонне», «лилле», «шартрез». И, конечно же, «Белладонна». Кроваво-красного, цвета мести. Мы сидим за нашим обычным столиком и молча мечтаем, чтобы вошел человек, который нам нужен. За соседний столик уселась большая компания европейцев, разгоряченных восхитительной близостью к Белладонне. Мужчины пьют слишком много, дамы стараются не пялиться в открытую. Они болтают нарочито громко, специально стараются, чтобы мы их услышали. Так они пытаются осуществить свою мечту: если они как следует блеснут остроумием, Белладонна склонится к ним и скажет: «Дорогие, прошу, присаживайтесь к моему столу. Расскажите о себе, и мы навеки станем лучшими друзьями». Жди-пожди! Наконец, один из мужчин не выдерживает. Он склоняется к нам и доверительно произносит: — Как я счастлив познакомиться с вами, о прелестная Белладонна. Это такое удовольствие — наконец увидеть вас. — Он оглядывается на приятелей, ища моральной поддержки, те ухмыляются и кивают. — Скажите, — продолжает он, — что я могу сделать, чтобы, в свою очередь, доставить вам удовольствие? — Доставить мне удовольствие, — медленно повторяет она. Компания чуть не визжит от восторга — как же, божественная Белладонна обращается лично к ним! — Вы искренне этого хотите? — Да, — отвечает он, немного удивляясь странному тону ее вопроса. — В самом деле? — настаивает она. — Вы сделаете все, о чем я попрошу? — Конечно же. — Он облизывает губы в предвкушении. Она подает знак Рингеру, оркестр перестает играть, и луч прожектора со сцены перемещается на соседний стол. — Дорогие гости, леди и джентльмены, — громко произносит Белладонна, вставая. — Рада познакомить вас с одним из самых уважаемых постоянных клиентов нашего клуба «Белладонна». Этот джентльмен любезно предлагает сделать все, чтобы доставить мне удовольствие. Точнее говоря, он предложил доставить мне огромное удовольствие в эту самую минуту. Она смеется, все остальные гости вздыхают, опьяненные счастьем, потом начинают аплодировать и приветственно свистеть. Она поднимает руку и указывает веером на человека, который заговорил с ней. Толпа мгновенно затихает. — О, удовольствие, — произносит она. — Как это приятно. А этот джентльмен — воплощенная доброта, он предлагает доставить удовольствие мне. Обещает сделать все, о чем я попрошу. Все, что угодно. — Она снова смеется. Хвастливый посетитель сияет льстивой улыбкой, купается в лучах славы. — Все, что угодно, дорогая моя, — восклицает он. — Вы сделаете все, о чем я попрошу? — повторяет она. — Чтобы доставить мне удовольствие? — Все что угодно. Только назовите. Все, что скажете. — Очень хорошо. — Она выдерживает эффектную паузу, жаркий луч света трепещет, и ее драгоценности будто вспыхивают скрытым внутренним огнем. — Покиньте мой клуб. Она со щелчком захлопывает веер и садится. Луч прожектора остается на лице хвастуна, тот вмиг заливается краской, медленно встает и, изгнанный из рая, бредет через притихший зал. Вскоре за ним следуют и приятели. Как только гаснет луч прожектора, все начинают разом говорить, не помня себя от восторга, что им довелось увидеть такую сцену в клубе «Белладонна». Приятели обиженного хвастуна тоже не остались внакладе: им выпало счастье распространять по городу сплетни о таком утонченном унижении. Слухи растут и множатся, пока наконец не доходят до того, что Белладонна якобы чуть ли не влила яд прямо им в горло, после чего они в панике бежали с поля битвы.* * *
Нет, нет, скука и клуб «Белладонна» — понятия несовместимые. Правда, наш распорядок дня кажется чрезмерно… упорядоченным, что ли. Розалинда встает рано утром, когда мы еще крепко спим, и провожает Брайони в школу. Все остальные валяются в постели до полудня, потом съедают легкий завтрак, читают газеты. Белладонна слушает радио; она не выключает его ни днем, ни ночью. Мы смотрим, как резвятся собаки. Теперь у нас три обученных волкодава, хотя в клубе мы называем их всех Андромеда. Брайони прозвала двух других псов Лягушонок и Будильничек. Легко догадаться, за что получил свою кличку Будильничек. Независимо от погоды, самочувствия и настроения, Белладонна повязывает вокруг шеи шарф, надевает огромные солнечные очки и идет в школу за Брайони. До школы всего несколько кварталов, Белладонна гордится этой прогулкой и считает ее своей почетной обязанностью. Остальные матери знают лишь, что она — миссис Роббиа, недавно овдовела, дама тихая и приятная, но малообщительная. У толстых стекол солнечных очков коричневатый оттенок, поэтому знаменитые зеленые глаза Белладонны кажутся карими. Но ей не о чем беспокоиться — ни одна черточка в ее облике не дает оснований заподозрить, что она хоть раз переступала порог клуба «Белладонна». Брайони очень нравится в школе, у нее множество подружек, с которыми она играет по выходным. Два раза в неделю она занимается в балетном классе и часто демонстрирует свои достижения дома, скользя по гладко натертым полам. Дома, в окружении знакомых лиц, среди людей, с которыми можно поболтать и по-английски, и по-итальянски, она чувствует себя в любви и уюте. Наш причудливый режим дня не вызывает у нее удивления, поскольку другого она не знает, и, как это свойственно маленьким детям, не находит в нашем образе жизни ничего необычного. Орландо дает всем нам уроки дзюдо и карате, а из кухни, где хозяйничает Бьянка, доносится аромат базилика. Конечно, Бьянке далеко до Катерины, но семейство у нас и без того чудаковатое, не хватает только волшебных заклинаний да колдовских снадобий. До поры до времени. Когда у нас есть время и появляется желание прогуляться, мы с Маттео отправляемся обследовать город. От знакомых нам с детства улиц в Бенстонхерсте, на другом берегу Ист-Ривер, не осталось ничего, нынешний Нью-Йорк известен нам не больше, чем Сибирь. Мы наугад бродим по Гейнсворт-Стрит и набережной Гудзона, где неумело играют в баскетбол студенты колледжа, направляемся позавтракать в «Льюис» — до него совсем недалеко пешком через Шеридан-Сквер. Там мы едим фирменное блюдо — спагетти с тефтелями и салатом за шестьдесят пять центов — и слушаем, как предтечи будущих битников обсуждают Дж. Д. Сэлинджера, Джексона Поллока, свободную любовь, ядерные испытания и судачат о том, какое они потерянное поколение. Мы дремлем на солнышке под неописуемо плохие стихи в исполнении неряшливых, бородатых вечных студентов на Вашингтон-Сквер или прислушиваемся к разговорам юных фрейдистов, одурманенных чепухой, которую им внушают психоаналитики. Когда удается, мы ходим на дневные спектакли в захудалые окраинные театры. Вечерами, если клуб по нашей прихоти закрыт, я люблю заглядывать в другие бары Гринвич-Виллидж. По большей части это дешевые винные погребки — «Сан-Ремо», «Минеттас», «Белая Лошадь», «Мэриз Крайзис» — хотя певицу оттуда я бы с удовольствием пригласил поработать к нам в клуб. Одно из моих любимых местечек — «Чимли» на Бедфорд-Стрит, недалеко от школы Брайони, темное и пыльное заведение, где раньше подпольно торговали спиртным. Мне нравится там потому, что на дверях у них нет вывески, как и у нас, и там любит проводить время местный народ. Маттео и Орландо любят заглянуть в джаз-клуб Эдди Кондона, или в «Виллидж Вангуард», или в «Файв Спот» на Купер-Сквер — послушать Чарли Мингуса, Майлзи Дэвиса и Джона Колтрейна. Когда они приходят домой, их одежда воняет дешевым табаком, а глаза блестят, они очарованы музыкой и счастливы проводить долгие часы среди завсегдатаев этих баров — ушлого простонародья, такого непохожего на самодовольных, напомаженных гостей клуба «Белладонна». Но, к сожалению, те, кого мы ищем, не ходят в джаз-клубы. Все спокойно, слишком спокойно. Щелкают фотокамеры, жужжат магнитофоны, толстеют пухлые папки. Клуб «Белладонна» популярен как никогда. Мы работаем уже несколько месяцев, но еще ни разу не встретили человека, который зажег бы искру памяти в Белладонне. Мы с Маттео замечаем, что она начала беспокоиться, но не выдает своих тревог ни единым вздохом. Вместо этого она заявляет нам, что пора устраивать тематические костюмированные балы, и представляет целый список идей. Какой же я болван: совсем забыл, что она уже говорила об этом Джеку, когда мы пили чай в «Уолдорфе»! В те вечера, когда будут устраиваться балы, наши правила немного изменятся. Мы отпечатаем пригласительные билеты на лимонно-желтых карточках, с рубиновой эмблемой клуба «Белладонна» в верхнем углу, составим список избранных — тщательно продуманный, всего несколько дюжин, куда войдут счастливцы со всего мира, всех профессий, из всех слоев общества. Особенно высшего общества Англии. Наверняка кто-нибудь из них окажется связан с Клубом. А тем временем мы поразвлекаемся, продумывая, как украсить клуб для каждого бала, кого пригласить. Каждый из наших сотрудников добавляет в список Белладонны новые идеи. А наградой за лучший костюм — обязательно дополненный маской — будет разрешение посидеть рядом с Белладонной, поэтому гости будут из кожи лезть вон. Так и получается. На Цирковой Бал мы посыпаем пол опилками, приглашаем дрессированных пуделей и клоунов. Гостей в костюмах жонглеров и воздушных гимнасток в балетных пачках приходит столько, что впору открывать собственную труппу. Еще забавнее получается Карнавал на Кони-Айленде, куда мы приглашаем глотателей огня, татуированных бородатых женщин и устраиваем на танцплощадке миниатюрную карусель. Приз за лучший костюм достается господину, который нарядился владельцем пип-шоу. Он надел на себя картонную коробку, обтянутую черным шелком, и предлагает всем желающим заглянуть внутрь через маленькую дырочку; вашему взгляду предстают две резные фигурки из слоновой кости, сплетенные в тесном объятии. На Балу Зодиака гости надевают маски фантастических существ, соответствующих каждому из двенадцати знаков зодиака. Устраивая Садовый Бал, мы раскладываем на полу дерн, расставляем огромные фикусы в горшках, где среди ветвей воркуют прирученные голуби, натягиваем под потолком раскрашенное сумеречное синее небо с мерцающими звездами. Каждый столик украшен миниатюрным пейзажем из папоротников и мхов, будто земля в первобытном лесу. Сильнее всего мы веселимся на Балу Животных. Белладонна надевает маску, которую Катерина соорудила из перьев бедного покойного Пушистика, и дополняет ее искусно сплетенными браслетами. Больше всего нравится ей дама, которая выкрасила лицо в красный цвет, прикрепила к перчаткам красные когти и накрутила на голову красный тюрбан. В этом наряде она стала похожа на высокомерного вареного рака. Гостям было велено принести домашних животных, и самые занудные из них приводят маленьких комнатных собачек, наряженных по примеру Андромеды в бриллиантовые ошейники. (Ей, бедняжке, пришлось в тот вечер остаться дома, иначе лай у дверей не смолкал бы.) Те, у кого фантазии побольше, приносят наряженных в маскарадные костюмы плюшевых мишек, а также игуан на поводках. Я выпускаю Петунию, попугаиху, которую я долго и усердно учил говорить. Не забывайте, она произносит только несколько тщательно подобранных фраз. Когда я угощаю ее любимым крекером с арахисовым маслом, она выдает свой коронный номер. Понимаете, мы давно уже сыты по горло нашими репортерами — Долли и Л. Л. Мегалополисом; мы прозвали его «Губошлеп». Мы, конечно, не имеем ничего против статей в их колонках, но нам надоела их бесконечная ложь, смутные грязные намеки, клевета на людей, которые не сделали нам ничего плохого. И они всегда делают вид, будто они — завсегдатаи клуба, хотя Андромеда их и на порог не пустит, если мы не разрешим. Долли даже хуже, чем Губошлеп. Маттео уподобляет ее гигантской улитке, которая оставляет за собой слизистый след. Злобная болтунья, она считает, что Гедда Хоппер и Луэлла Парсонс — просто высший класс. В светских кругах ее боятся как огня, никто не смеет рта раскрыть против нее. Разумеется, никто, кроме нас. В ночь Бала Животных Долли Даффенберг наконец-то получает полный ушат той грязи, которой она поливает других. Я спокойно выжидаю идеального момента, когда публика замолчит, насмеявшись над пронзительными криками Петунии. Месть подобна комедии; главное — выбрать момент. И тогда Петуния заявляет притихшему залу: «Долли — шлюха, хуже своей матери. Долли — шлюха, хуже своей матери!» Она повторяет это снова и снова; зрители покатываются от хохота. Кто посмеет обвинить попугая в клевете? Долли не посмела.* * *
Однажды вечером наши гости напиваются сильнее обычного. Они будто принуждают себя веселиться. Может, дело в том, что стоит лето, в городе знойно и душно. Может, им наскучил свет, хочется поворчать. А может, они чувствуют, что Белладонна сегодня не в своей тарелке; бродя между столиками, она щелкает веером на редкость громко и сердито. Ее угрюмое настроение заражает весь клуб. Она возвращается на свое место на центральном диванчике, и мы начинаем прислушиваться к обрывкам разговора, доносящимся с соседнего столика. Не от любопытства, а просто потому, что нам лень заниматься чем-то другим. — Ах, она, — говорит один из гостей. — Клодия. Он затащил ее в постель, на свои знаменитые черные простыни, а потом рассказывал, что она жирная, будто выброшенная на берег дохлая рыба. — Он просто кошмарен, — говорит другой гость. — Кто, Люка? Нет! Он — как шампанское. — Скорее — как джин. — Джанни, ты знаешь Клодию? — спрашивает его подруга, жеманно улыбаясь. — Конечно, знаю, Сильванна. Неужели не помнишь, какие гадости мы говорили о ней вчера? — отвечает тот, кого назвали Джанни. — Бедная маленькая Клодия, целыми днями болтает и болтает без умолку. Она не та женщина, какая нужна мужчине. Ничего не понимает, не умеет услужить ему, развлечь. Только и знает, что утомлять. Этот Джанни сразу же начинает меня раздражать. Многословный итальянец, он совсем не похож на Леандро. Его глаза, серые, как португальские устрицы, отливают тусклым блеском, будто помада на его волосах. Но все-таки при звуках его голоса меня переполняет мучительное желание услышать Леандро; мне кажется, Белладонна скучает пографу еще сильнее. Она редко говорит о нем, как, впрочем, и обо всем, что случилось прежде. И каждую ночь мы надеемся. Ждем. И уходим с головной болью от этого шума, от пустой болтовни, от тщетного ожидания. — Стоит мне поговорить с женщиной двадцать минут — и я перестаю ее желать, — хвастает Джанни. — Кроме того, все женщины бесстыжи, бессердечны и глупы. — Джанни, ты невыносим, — хихикает Сильванна. — Баста, — отвечает он, надувая губы. — Ну почему все кругом только и говорят, какой я ужасный тип и как много женщин я соблазнил? Почему никто не скажет, как я хорош в постели? Весь столик покатывается от хохота. Все, кроме его незадачливой подруги — с каждой минутой она все меньше очарована своим галантным кавалером. Он просовывает язык ей в ухо, потом берет ее руку и тянет под стол. Какие утонченные ухаживания. Я переглядываюсь с Белладонной. От ее взгляда не ускользает ни одна мелочь, губы плотно стиснуты. И вдруг я понимаю, кого он мне напоминает — мистера Дрябли. Вот уж не думал, что мои мысли когда-нибудь вернутся к этому мерзкому комку теста, и где — в клубе «Белладонна»! — Сэр, — окликает его Белладонна, — постучав веером по бокалу. На этом веере изображена сцена с троянским конем; прекрасная Елена глядит с городских стен на толпы мужчин, приехавших с единственной целью — похитить ее. Какое совпадение — Елена как две капли воды похожа на Белладонну. Разговор за соседним столиком тотчас же смолкает, Джанни вскидывает голову. Ему лестно, что он сумел привлечь внимание таинственной хозяйки. Будь он канарейкой, он бы залился трелью. — Будьте добры, поведайте нам всем те несомненно приятнейшие слова, которые вы только что прошептали на ухо своей спутнице, — говорит она ему. Бедная девушка вспыхивает от смущения. Она похожа на мелкую рыбешку, запертую в одном аквариуме с неуклюжим китом. — Только ради вас, синьора, — говорит он. — Я всего лишь отмечал, какие у нее восхитительные… — Его голос неуверенно смолк. — Восхитительные что? — переспрашивает Белладонна, ее глаза темнеют, наливаются грозным зеленым оттенком, будто цветущий пруд. — Восхитительные мочки ушей, — лепечет бедный Джанни. — Понимаю, — говорит Белладонна. — Как утонченно и романтично. Джанни осушает бокал шампанского, потом смотрит на друзей, ища поддержки, и смеется. — Да, у всех американок восхитительные мочки ушей, — говорит он, простирая руки, как будто пытается заключить в объятия весь зал. — Но они ничего не понимают в нежности. — Вы так полагаете. Американские женщины ничего не понимают в нежности. — Ее голос гремит, будто захлопывающийся стальной капкан. — И что же привело вас к такому заключению? — Потому что, дорогая моя, они совершенно не умеют угодить мужчине. — Вот оно что. Над их столиком повисает испуганное молчание. В нашу сторону поворачиваются головы всех гостей. Один из официантов, да благословит Бог его хитрую душу, делает знак оркестру замолчать. Сейчас в клубе «Белладонна» произойдет нечто знаменательное. Еще одна сцена. Великолепно! Белладонна шепчет мне. Я иду к бару, приношу бокал нашего фирменного коктейля и протягиваю его Джанни. — С наилучшими пожеланиями, — говорю я. — От нашей неповторимой Белладонны — бокал, полный нежности. Моя чарующая улыбка не обманывает его. Он не раз слыхал эти припевки. Сладкий яд в ее устах. — Мой милый Джанни, — говорит Белладонна. Ее голос тих, но полон жестокого очарования. Все в клубе напрягают слух, но ее слова предназначены только для Джанни. — Поскольку мы взяли на себя труд приготовить для вас совершенно особенный коктейль, насыщенный нежностью, вы нас крайне обидите, если не поднимете со мной этот бокал. Предлагаю тост за нежность. Джанни неохотно подносит напиток к губам и отхлебывает маленький глоток. Белладонна улыбается еще шире и отпивает из своего бокала. — Хотела бы попросить вас об одном одолжении, мой дорогой Джанни. Не объясните ли вы мне разницу между нежным куском бифштекса и женским телом? — продолжает Белладонна, ее голос становится еще тише. Она склоняется к нему. Повезло парню, думают остальные мужчины, глядя на эту сцену. Он так близок к Белладонне. Интересно, о чем они говорят? — Если женщина не принимает ваших ухаживаний, значит, она лишена нежности? Джанни еще не понял, куда она клонит. Он дрожит от страха. Ему кажется, что он вот-вот упадет замертво. И на прощание, грубиян, машет всем рукой. Испорченный мальчишка. — Джанни, дорогой, что вы сами понимаете в нежности? Что вы знаете о нежности женского тела, об удовлетворении ее самых нежных желаний? А? — продолжает Белладонна, обмахиваясь веером, словно этот разговор ее ничуть не занимает. — Бывало ли, чтобы удовольствие женщины значило для вас больше своего собственного? — Я не думаю… — Совершенно верно. Вы не думаете, — яростно шепчет она. Джанни стискивает губы. Он зол, но при этом и паникует. Впервые в жизни он не знает, что сказать. Да и кто из мужчин может знать, что сказать в такую минуту разгневанной Белладонне? Наступает такая тишина, что, кажется, упади булавка — будет слышно. Белладонна внезапно встает, с сердитым щелчком захлопывает веер и направляется к эстраде. Ее парчовая юбка персикового цвета мягко колышется. Сегодня на ней высокий парик медового цвета, переплетенный нитями жемчугов и опалов в тон ожерелью. Перчатки ее тоже персиковые, большие опалы на каждом пальце радужно поблескивают в лучах прожектора, будто волшебные капли молока. Все, как зачарованные, затаили дыхание и ждут, что же будет дальше. Бывало и раньше, что Белладонна говорила с публикой, но со сцены — никогда. Кое-кто из женщин изо всех сил пытается наклониться и разглядеть ее знаменитые туфли с бриллиантовыми каблуками. — Добрый вечер, леди и джентльмены, — говорит она, взяв у музыкантов микрофон. — Рада приветствовать вас в клубе «Белладонна». Зал взрывается аплодисментами. — Мне кажется, вы тоже рады прийти сюда. — Аплодисменты становятся еще громче. — Спасибо за то, что посетили мой клуб, — продолжает она, взмахом руки поблагодарив публику. — Я бы хотела сегодня положить начало тому, что, может быть, впоследствии станет традицией. Понимаете ли, мне нередко приходится слышать от гостей замечания, которые — как бы это сказать? — приводят меня в недоумение. — Ну уж кого-кого, только не вас, — выкрикивает чей-то голос. Если бы они видели ее лицо под маской! Они бы узнали, что она улыбается. Белладоннами не рождаются, ими становятся. Она снова раскрывает веер и лениво обмахивается. — Да, даже меня, — повторяет она. — Например, сегодня некий джентльмен заявил мне, что американские женщины ничего не понимают в нежности. — Все головы поворачиваются к Джанни, тот с трудом держит себя в руках. — Леди и джентльмены, предоставляю слово вам. Как вы думаете, понимают ли американские женщины что-нибудь в нежности? На несколько секунд наступает мертвая тишина. Все так ошарашены, что не могут произнести ни слова. Потом одна рослая дама восклицает: — Мы понимаем в нежности даже слишком много. — Браво, — говорит Белладонна. И тут в зале словно прорывается плотина. — Это мужчины ничего не понимают… — Но она бывает нежна со мной только тогда, когда хочет соболью шубку. — Нежности мы учимся от детей. — Мой пес может научить, что такое нежность. — Да та собака, что караулит в дверях, больше понимает в нежности, чем мужчины, особенно мой муж. Воцаряется всеобщее веселье. — Мы были бы нежными, если бы получали нежность в ответ, — говорит одна из дам. — Но мужчины тоже нуждаются в нежности, — возражает Белладонна. Совершенно верно. Посмотрите, например, на меня. Чувствительнейшая душа! Посмотрите на моего робкого молчаливого брата — как он страдает! Посмотрите на Джека, на Рингера, на Джеффри. Вспомните Леандро. — Правильно! — кричит мужчина, упившийся до потери пульса. — Не понимаю, на что вы все время жалуетесь. Вот здесь содержится вся нежность, какая вам нужна! — Он поднимает хрустальный бокал с кроваво-красным коктейлем «Белладонна». — Интересное мнение, — говорит Белладонна и смеется. О, какой у нее обольстительный смех, какое в нем божественное очарование! Его не улавливают только несчастный пьяница да, разумеется, Джанни. Его как раз в этот миг пронзила резкая боль в животе, и на лбу выступили крупные капли пота. Белладонна спускается со сцены, прожектор следует за ней. В глазах зрителей вспыхивают ослепительные искры отраженного света. Она приближается к пьянице. — Поделитесь же со мной своей нежностью, любезный сэр, — говорит она, указывая на его коктейль. Он озадаченно взирает на него. Она склоняется, берет бокал, отпивает маленький глоток и мелодраматично вздыхает. — Вы совершенно правы, любезный, совершенно правы, — говорит она ему. — Этот напиток просто кипит от нежности. Но все-таки, мне кажется, его можно сделать еще нежнее. — Она отвинчивает опал с одного из колец, оно открывается. Внутри оказывается какой-то белый порошок. Белладонна высыпает щепотку в бокал и крутит темно-багровую жидкость. Она шипит и слегка пенится. Белладонна отпивает глоток и опять заливается смехом. — Гораздо лучше, — замечает она. — Гораздо больше нежности. Попробуйте же, сэр, и расскажите мне. Вся кровь отливает от лица бедного тупицы. Он мгновенно трезвеет и отрицательно качает головой. — Я сказала — попробуйте, — спокойно повторяет Белладонна, но ее голос меняется. В нем больше не слышится веселья. В клубе воцаряется мертвая тишина. Джанни готов закричать несчастному глупцу, чтобы тот не пил, но его скручивает очередная судорога. Уверяю вас, чисто психосоматический эффект. Сильнодействующий порошок в кольцах Белладонны — не что иное, как старая добрая питьевая сода. Маленькая шутка для тесного круга друзей. Белладонна застыла в неподвижности, мужчина не сводит с нее глаз. Медленно, очень медленно он протягивает дрожащую руку и берет бокал. Для него страшнее ослушаться ее, чем проглотить приготовленный ею коктейль, поэтому он подносит бокал к губам и отпивает крохотный глоток. Его рука трясется. Он ставит бокал так быстро, что жидкость выплескивается. До самого последнего вздоха он будет считать, что его отравили. А последний вздох он испустит не скоро. Та красотка — смерть твоя! Белладонна медленно складывает ладони, как будто собирается молиться, но вместо этого начинает хлопать в ладоши. Этот звук приглушается тонкой кожей перчаток. — Поздравляю, любезный сэр, — говорит она своей жертве. Тот бледен, как полотняный платок, которым он вытирает губы. — Теперь вы понимаете истинную природу нежности. Она возвращается на сцену, из-под маски видна ее широкая улыбка. — Мы пришли сюда развлекаться, верно? Никто не произносит ни слова. Все боятся, что это очередная ловушка. — Да, конечно, для чего же еще? — отвечает сама себе Белладонна, нимало не смутившись. — Поскольку этот клуб — мой, я, как вы уже успели узнать, строго требую выполнения правил моего клуба. Поэтому ставлю вас в известность о новом правиле. Гости встревоженно заерзали. Неужели она заставит всех выпить коктейля, приправленного таинственным порошком? Или им навеки закроют доступ в клуб за то, что они нарушили какой-то неведомый, неписаный закон? — С этой минуты, — торжественно объявляет Белладонна, — в моем клубе запрещается отпускать пренебрежительные замечания о нежности. По залу прокатывается дружный вздох облегчения, с публики спадают зловещие чары. Раздаются бурные аплодисменты, громкий смех, все разом начинают говорить. Белладонна ждет, пока стихнет нервная болтовня, потом поднимает руку. — Хочет ли кто-нибудь из вас, дорогие гости, что-нибудь сказать мне? Естественно, хотят! Вы в самом деле отравили этого человека? А о чем вы шептались с тем, другим? Пожалуйста, покажите свое лицо! Не могли бы вы присесть со мной, хотя бы на одно блаженное мгновение? Может ли ваш пес впускать меня, когда я захочу? Можно ли подружиться с вами? Откуда вы приехали? Кто вы такая? Кто вы такая? Зачем вы здесь? Никогда не задавайте ей этих вопросов. Да, дорогие гости хотят спросить Белладонну о миллионе разных вещей. Но не осмеливаются. — Напитки за счет заведения. Веселого вам вечера, — объявляет Белладонна, и каждый присутствующий считает себя самым счастливым человеком на свете, хотя никто не собирается выпить ни глотка из предложенных напитков. Кроме Джанни, который до сих пор корчится от боли в животе, и давешнего пьяницы — тот, дрожа всем телом, собирается уйти. Как трагично. Что ж, я желаю каждому из них того, чего они заслуживают, и ни капли больше. Мы еще этого не знаем, но сегодняшнее представление Белладонны — лишь разминка перед куда более ярким событием, которое Губошлеп Мегалополис прозовет «Праздником Бриллиантового Ожерелья». Это будет Бал Всех Стихий.6 Бал Всех Стихий
Иногда все идет не так, как задумано по плану. И тогда ваш план превращается в нечто совершенно иное. Но после всех трудов, каких нам стоила организация клуба «Белладонна», разве могло нас обрадовать полное отсутствие неожиданностей? Позвольте рассказать вам о Бале Всех Стихий. Он состоялся 23 октября 1952 года. Гостям было предписано одеться в костюмы Огня, Воздуха, Воды, Земли. Собственно говоря, события, благодаря которым этот бал получился таким необычным, начались на несколько дней раньше. Тот вечер проходил как обычно, ничем не отличался от других. Мы уже допивали коктейль, как вдруг у нашего стола материализовался Маттео. Он не оставил бы свой пост, не случись чего-то чрезвычайного, и мы с Белладонной без промедления последовали за ним на кухню. Из кухни мы прошли через запертую дверь (открыв ее, разумеется) в коридор, потом через другую запертую дверь попали в кабинет Белладонны. По одну сторону, опять-таки за запертой дверью, располагалась ее гардеробная. Там тянулись вешалки, полные нарядных разноцветных костюмов, сотворенных для нас швеями из Гонконга, стояли коробки расшитых драгоценными камнями туфель, на крюках вдоль стены висели десятки париков; высокими грудами лежали лайковые перчатки и кружевные маски; на столике возле подсвеченного, как в театре, зеркала выстроились ряды баночек с губной помадой и тенями для век, хотя их глубокие тона едва угадывались под маской; в углу стояло большое трехстворчатое зеркало, в котором Белладонна могла перед выходом в зал проверить, хорошо ли зашнурованы на спине ее корсеты и лифы. А кольца она хранила в темно-синих бархатных шкатулках на письменном столе. Это ее тайное прибежище, тронный зал султана в гареме. Стены обтянуты бледно-зеленым шелком; длинный, удобный шезлонг застелен темно-розовым бархатом, по бокам от него в высоких кованых подсвечниках стоят толстые церковные свечи кремового цвета; вдоль стены тянется огромный прямоугольный диван, задрапированный роскошным бархатом, на нем высится гора мягких подушек, расшитых теми же причудливыми узорами, что и ее средневековые платья. Под потолком лениво вертится позолоченный деревянный вентилятор. У стола в стиле Людовика XIV, за которым она разбирает бумаги, стоят позолоченные стулья с толстыми мягкими сиденьями, а на полу аккуратно сложены стопки книг. На стенах развешаны фотографии, сделанные ею в Тоскане. Эта комната задумана как тихая уютная гавань, место, куда не проникает ни один звук, где она может спокойно растянуться на диване и отдохнуть, когда наскучит бесконечная болтовня гостей в клубе. Белладонна села за стол и, нервно поигрывая авторучкой, ждала, пока Маттео заговорит. — В дверях стоит женщина, — сказал он. — Тебе нужно поговорить с ней. — Почему? — спросил я. — Предчувствие. Проклятье. Это совсем не в характере Маттео. Видимо, случилось нечто из ряда вон выходящее. Предчувствия обычно посещают меня, но именно поэтому я склонен относиться к интуиции Маттео очень серьезно. — Можно ли привести ее сюда? — спросил я. У нас, конечно, есть пожарные выходы и множество боковых коридоров, но никто из гостей и даже из персонала до сих пор не был допущен за сцену. Доступ в этот кабинет строго ограничен. — Не думаю. И не потому, Маттео, что я не доверяю тебе, — сказала ему Белладонна, чуть-чуть сдвинув брови. — Просто я не хочу, чтобы ко мне в кабинет заходила незнакомая женщина. — Понимаю, — сказал Маттео. Я видел, что он очень разочарован. — Может быть, я сам поговорю с ней? — спросил я брата, и он немного воспрял духом. Белладонна вздохнула и отпустила меня. Маттео вернулся на свой пост, я снял маску, пошел к себе в гардеробную и переоделся. В обычном уличном костюме никто не обратит на меня внимания. Для них я всего лишь чуть полноватый мужчина с удивительно гладкой для своего возраста кожей и копной волнистых, черных как смоль волос. Я выскользнул на улицу через окутанный сумраком боковой вход — старую погрузочную платформу кондитерской фабрики «Чмок-чмок» — и попал на Вашингтон-Стрит, за углом от парадных дверей. Меня поджидал один из теневых вышибал, его прислал Маттео. Он отвел меня к свободной от дежурства полицейской машине; там на заднем сиденье ждала женщина. Я надел маску, какие носили официанты — мне пока что не хотелось, чтобы она узнала во мне того самого мужчину, который в клубе всегда рядом с Белладонной — потом открыл дверцу и сел рядом с дамой. На ней бежевый плащ, чуть мешковатый для ее худощавой фигурки. Светло-каштановые волосы небрежно собраны сзади в пучок, на лице никакой косметики. Бледно-голубые глаза были бы красивы, если бы не опухли от слез. Она и сама казалась бы красивой, если бы не была так растрепана и заревана. Она мне кого-то напоминала. Дважды проклятье. Кого же? Лору, вот кого. Лору Гарнетт, напыщенную куклу, которая болталась по Мерано с мистером Дрябли. Лору, подругу Леандро, которая после его смерти так ни разу и не навестила нас. В суете клуба «Белладонна» я почти забыл о ней. Теперь я понимаю, почему у моего брата возникло предчувствие. В этот самый миг Маттео постучал и сел на переднее сиденье. Мы были в масках, поэтому женщина не могла разглядеть, что мы с Маттео — близнецы. Он взглянул на меня. Я прочитал его мысли: мы оба думали о Лоре. И о Леандро. О том, как Леандро помог нам, когда мы в нем нуждались. Моя коленная чашечка приятно задергалась. Эту женщину привела к нам какая-то причина, очень веская. Куда более серьезная, чем та история, что она собирается нам поведать. И вскоре я вычислю, что это за причина. — Как вас зовут? — осторожно спросил я. — Аннабет, — чуть слышным шепотом произнесла она. — Аннабет Саймон. — Вы хотели поговорить с Белладонной. Она кивнула. — Спасибо вам, кто бы вы ни были, — произнесла она. — Спасибо за то, что встретились со мной. Не знаю, с чего мне взбрело в голову, что у дверей меня заметят. По правде сказать, это чистое безумие, я никогда прежде здесь не была. Но я не знаю, куда еще пойти, к кому обратиться, а он… — Ее глаза снова наполнились слезами. — Не знаю, что бы я делала, если бы ваш швейцар меня не заметил. Она нервно вертела пуговицы на плаще, и я видел, что ее пальцы дрожат. Чисто инстинктивно, потому что я от природы полон сочувствия, я взял ее руки в свои и погладил. — Холодные, как лед, — заметил я. На улице совсем не было холодно, напротив, для октября вечер был на удивление теплый и ласковый. Я достал носовой платок и протянул ей. Она высморкалась и вытерла глаза. — Вы так добры. Я просто с ума схожу, — произнесла она. — Понимаете, дело в моем муже. Он придет сюда через несколько дней. Точнее, ночей. На Бал Всех Стихий. Со своей любовницей. — Откуда вы знаете? — спросил я. — Туда приглашены и его друзья, он хвастался им, что приведет ее, рассказывает всем и каждому, во что она оденется. Он убежден, что ее костюм будет признан самым лучшим и она удостоится чести сидеть с Белладонной. — Женщина глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. — Вы, наверно, считаете, что я чокнутая. Обманутая жена, которая пала так низко, что выслеживает мужа, когда того пригласили на праздник. — Ничего подобного мне и в голову не пришло, — успокоил ее я. — Продолжайте. — Я бы не пришла к вам, честное слово, не пришла бы, но мой муж, Уэсли, он… — Из ее глаз снова хлынули слезы. Мы терпеливо ждали. — Понимаете, дело сейчас не в муже и не в его измене, — добавила она. — Дело в бриллиантовом колье. Он его взял. — Что именно он взял? — поинтересовался я. — Старинное колье, которое подарила мне мать. А к ней оно перешло от ее матери. Это фамильное достояние. У меня больше ничего не осталось в память о ней. Я собиралась передать его своей дочери, Шарлотте. — Он украл колье вашей матери? — уточнил Маттео. Она опять кивнула. — Украл его, чтобы подарить любовнице, с которой пойдет на бал? — спросил я. — Чтобы поразить ее? Потому что слишком жаден, чтобы купить ей новое? Аннабет попыталась выдавить улыбку. — Совершенно верно. Я бы и не обнаружила пропажи, но приближался срок выплаты по страховкам, и я хотела показать его оценщику. Понимаете, это колье — семейная реликвия, оно очень дорогое, поздней викторианской эпохи. Все, кто его видел, говорят, что оно такое нежное, будто соткано из воздуха. Наверное, эта фраза и засела у него в голове, когда он услышал название «Бал Всех Стихий». Смотрите. — Она раскрыла сумочку, торопливо порылась и достала фотографию. Семейный портрет. — Видите, здесь я снята в нем. Это Уэсли, а это мои дети, Маршалл и Шарлотта. Я принесла эту фотографию, чтобы вы, когда увидите его с ней, не подумали, что я все сочинила. — Разрешите спросить, каким образом он получил приглашение? — спросил я. Вопрос был очень важным. Если на наши вечера удается проникать таким подонкам, как этот Уэсли, значит, пора серьезно пересмотреть принцип составления списков. — Уэсли? Он видный юрист, — пояснила Аннабет. — И у него широкие связи в обществе. Наверное, приглашение получил кто-нибудь из его фирмы или жена его коллеги, потому что она знакома с нужными людьми, а им самим пришлось срочно уехать из города. Вот они и оказали любезность моему мужу. — Но почему он не захотел пойти со своей собственной женой? — спросил я. — Не знаю, — ответила она, покусывая губы. — Наверное, во мне не хватает шика для роскошных балов. — Ничего подобного! — возмущенно откликнулся я. — Вы до сих пор живете вместе? — Да. Точнее, мне так кажется. Ночует он чаще всего дома, хотя, когда работает над крупным делом, часто остается в клубе недалеко от своей конторы. Так он всегда говорит. — Ему не приходит в голову, что вы знаете о его любовнице? — Ее зовут Линда. Линда Джером. Нет. Он считает, что я слишком глупа и не догадываюсь об очевидных вещах. Когда я сказала ему, что подозреваю его в связи на стороне, он страшно рассердился. Угрожал мне, говорил, что наймет частного детектива следить за мной, чтобы я поняла, каково это — находиться под подозрением. — Значит, вы полагаете, что он лжет вам довольно давно. — Да, — ответила она. — Но мне не хотелось ставить под удар детей. Не забывайте, он видный юрист, а у меня нет ничего. Мы поженились еще в студенческие годы, мне пришлось работать секретаршей, чтобы семье было на что жить, пока он заканчивал юридическую школу, но с тех пор, как он получил адвокатское звание, а у меня родились дети, я оставила работу… Не знаю, что и делать. Самой не верится, что я сижу у вас в машине и рассказываю такие вещи совершенно незнакомым людям. — Она горько усмехнулась. — Наверное, когда я увидела, что колье исчезло, во мне что-то сломалось. Я оставила детей с няней и выбежала из дома куда глаза глядят. Спасибо вашему швейцару, — она указала на Маттео. — Он меня выслушал. Не знаю, почему он вообще заметил меня. — Маттео перегнулся через спинку сиденья и поцеловал ей руку. При этой галантности столь внушительного незнакомца в маске она так смутилась, что у меня вдруг кольнуло сердце. В отличие от других сотрудников, Маттео почти никогда не общается с гостями клуба; он предпочитает роль молчаливого стража, верного часового у дверей. Но власть новообретенной роли не вскружила ему голову, нет, нет и нет. Чаще всего, мне кажется, он умирает от скуки или с презрением взирает на жалких представителей рода человеческого, еженощно пресмыкающихся перед ним. Со дня нашего переезда в Нью-Йорк он ни разу не проявлял интереса ни к одному человеку, тем более к женщине. Я не мог понять, почему Аннабет пробудила в нем такое живое участие, но был рад этому. Слишком уж мой брат углубился в себя. Мы уже начинали слегка подталкивать его в нужном направлении; надеюсь, теперь это не понадобится. Ситуация совершенно невероятная. Нам полагается сидеть, отстранившись от суеты, и выжидать. Ждать одного человека, одного-единственного. Одного из них. Но в эту минуту мы с братом подчиняемся только внутреннему чутью. Предчувствие, инстинкт — называйте как хотите. Но мы ему доверяем. Маттео взял у Аннабет фотографию, и мы внимательно рассмотрели ее. — Почему вы решили, что мы сумеем вам помочь? — спросил я. У нас еще будет время разобраться в глубинных корнях необычного поведения Маттео. Аннабет подняла на меня удивленные глаза. — Потому что… потому что она — Белладонна. Она может все. Откуда вам знать? Белладонна — сладкий звук. Аннабет опустила глаза и принялась разглядывать свои руки. Они опять задрожали, и меня захлестнула волна жалости к этой женщине, напуганной и полной отчаяния. Она плачет от бессилия, а тем временем ее гнусный муж смакует предстоящий вечер и купается в волнах собственного превосходства, которое открыло ему двери на бал в клубе «Белладонна». Держу пари, он спит и видит, как после бала будет трахать свою мисс Линду Джером всю ночь напролет, не снимая с ее шеи бриллиантового ожерелья, такого нежного, будто оно соткано из воздуха. Белладонна будет недовольна, но мое колено буквально кричит, что мы должны помочь Аннабет. Один взгляд на лицо Маттео — и я понял, что он думает о том же самом. — Простите, что пришла к вам с этим. Я никогда прежде здесь не была, — снова сказала Аннабет. — Я боялась, что собака залает на меня. — Вряд ли, — ответил Маттео. — Она разбирается, на кого лаять, а на кого — нет. Отличает достойных. Я снова подумал о Леандро. Он был достойным человеком. Мне вспомнилось, как я приходил к нему со своими невзгодами и просил о помощи. Он никогда не давал прямого совета. Доводил меня до безумия, потому что я был нетерпелив и ждал ответа сейчас же, в ту же минуту. А он вместо этого ходил вокруг да около, и все. — Вы знаете легенду о Медузе? — спросил я у Аннабет. Она посмотрела на меня, как на тронутого, и покачала головой. — В нее влюбился бог моря Посейдон. На что он только ни шел, чтобы соблазнить ее, невинную, прелестную девственницу. Но она боялась его и отказала, — начал я. — Но он все равно ее изнасиловал, в храме богини Афины. Афина пришла в такую ярость, что обвинила во всем несчастную жертву и превратила Медузу в страшное чудовище. На голове ее вместо волос извивались ядовитые змеи, а злобный горящий взгляд превращал человека в камень. Как же страдала бедная Медуза, запертая в это безобразное тело, покинутая и несчастная. Спаслась она только тогда, когда храбрый Персей отрубил ей голову. Аннабет сидела, озадаченная, и не понимала, что в этом мифе отразилась история мой дорогой Белладонны. Значит, вот что спасло Медузу — смерть? — Отрубив ей голову, он выпустил ее на свободу, — пояснил я. Мне страстно хотелось, чтобы Леандро остался мною доволен, чтобы Белладонна гордилась мною, когда я немного позже перескажу ей этот разговор. — Даже в смерти Медуза сохранила свою силу. Рассказывают, что, если коснуться крови с правой стороны ее тела, она приносит печаль и смерть, а кровь с ее левой стороны возвращает жизнь. — Вы хотите сказать, что я могу избрать печаль, а могу вернуться к жизни, — осторожно произнесла Аннабет. — Вы этого хотите? — спросил я. — Мы расскажем Белладонне вашу историю, и уверяю вас, — я понимал, что перехожу все границы своих полномочий, и горячо надеялся, что Белладонна не оторвет голову мне, а заодно и моему брату, — она вам поможет. Но только вы сами сумеете найти нужные слова. Я пошарил в кармане, нащупывая одну из золотых монет Белладонны, которые всегда беру с собой в клуб как талисман на счастье. — Бросим жребий? — предложил я. — Это монета из Помпеи. Она прошла через огонь, была засыпана пеплом и пролежала много веков вдали от людских глаз. Так что в случае неудачи свалим все на Везувий. Как я и надеялся, выпал «орел». Значит, Белладонна точно рассчитает все нужные ходы, и Уэсли получит по заслугам.* * *
Мы обтягиваем стены в клубе сотнями ярдов золотого ламе, застилаем им столы, печатаем памятные карточки с именами гостей в виде золотых листьев. В медных ведрах разложены куски сухого льда, они окутывают пол клубами серебристого тумана. На всем персонале, для разнообразия, надеты маски из блестящего золота и серебра, перчатки и галстуки-бабочки из бронзовой кожи. Естественно, такой бал предполагает множество самых лучших драгоценностей. Белладонна появляется в сверкании бриллиантов и льда: ее платье словно соткано из серебра, увешано тысячами блестящих пластинок, которые сверкают отраженными лучами, ослепляя каждого, кто осмелится взглянуть на нее. На парике цвета расплавленной меди поблескивают серебряные капли росы, а драгоценные камни в ее кольцах так велики, что ими можно, как пробками, закрывать флаконы духов. По одному кольцу на каждом пальце, и еще два бриллианта покачиваются в ушах, как миниатюрные канделябры; по лифу платья сбегают черные жемчужины. Белладонна — неземное видение. Она, конечно, всегда неземная. Но сегодня она превзошла саму себя. Постепенно собираются гости, представление начинается. Тела и платья женщин раскрашены в цвета бронзы, золота, меди; другие, изображающие воздух — в прозрачных одеждах со струящимися шлейфами из белого и голубого газа. Феи огня наряжены в красное и оранжевое; одна пламенная леди покрыла кожаный ковбойский костюм подпалинами, будто свихнувшийся Дейл Эванс. Кое-кто из водяной стихии принес аквариумы с золотыми рыбками в цвет своих нарядов; один не в меру рьяный болван нацепил маску с трубкой для ныряния. Один джентльмен, вообразив себя крестьянином, напялил под белый смокинг деревенскую рубаху и заправил грубые плисовые штаны в поношенные сапоги да в придачу еще и заляпал лацканы глиной. Видимо, он никогда не приближался к земле теснее, чем сегодня. Хорошее дополнение к костюму — вилы, но мы все же заставляем его сдать их при входе. Мне так нравится его хитроумная простота, что я занимаю место за соседним столиком, а Белладонна на время удаляется к себе в кабинет поправить парик. Он называет себя — Пиригрин Бэррелл — и представляет нам своих друзей: Селеста Люкейр, редактор журнала моды «А-ля Мод»; другой редактор, Беттина Баррон; их главный фотограф Джонни Минк и его приятель Скотти Таннахилл, у обоих на лице застыли высокомерные ухмылки. И еще один друг, Гай Линделл. Крестьян среди них нет. Проклятье. Типы из мира моды всегда действовали мне на нервы. Самодовольные ханжи, они свято верят в правильность линии юбок, которую строго-настрого велят своим читателям ежемесячно менять. Но кому до них есть дело? Мы привыкли иметь собственных портных и швей, они могут воплотить в жизнь все, чего только ни пожелает наше сердце, поэтому я даже не знаю, как войти в универсальный магазин, и уж тем более не стану покупать наряды из тех, что навязывают мне дурацкие журналы. Не могу отказать в добром слове Селесте, хоть она и невероятная худышка. Ее платье очень красиво — наряд в крестьянском стиле от Жака Фата. Она похожа на Марию-Антуанетту в день сельского пикника, лиф ее платья зашнурован золотыми лентами, широченная юбка сшита из разноцветных лент, скрепленных вместе. И что еще занятнее, ее ожерелье сделано из крохотных зажигалок, связанных между собою простой суровой ниткой. От такого наряда Брайони пришла бы в восторг, но все-таки я с трудом сдерживаю желание измазать очаровательные белые чулочки Селесты грязью с костюма Пиригрина, хоть за это она и пнет меня свой балетной туфелькой. Беттина далеко не так элегантна: она, по примеру мазохисток наполеоновской эпохи, пропитала почти прозрачное платье водой и наверняка схватит жестокую простуду. Джонни и Скотти изо всех сил стараются не потеть в одинаковых меховых куртках. Наверняка они долго обдумывали свои наряды. Не зря приятели прозвали Джонни Хорьком. Придется напомнить ему, что хорьки — близкие родственники грызунов. Потом я замечаю, что они беседуют о каком-то человеке, которого они называют социопатическим сквайром, и настораживаюсь. Может быть, это и есть та самая ниточка. Только британец, страдающий наследственным садизмом, способен наградить своего отпрыска нечеловеческим именем Пиригрин. У Гая тоже заметен английский акцент. Поэтому я подзываю официанта, велю ему привести Джека и прошу того передать Белладонне, чтобы она поскорее присоединилась к нам. — А на прощание он подарил ей кожаную куртку ручной работы от Ригби и Пеллета, расшитую бриллиантами, — рассказывает Пиригрин. — Все говорили, что это долго не протянется, — самодовольно улыбается Беттина. — А все потому, что она, Микаэла, просто не хотела ничего замечать. Например, однажды она вернулась домой и обнаружила в спальне молодую женщину, привязанную к кровати. Та билась в истерике. Оказывается, он оставил ее там, пошел выпить, да и забыл про нее. — А Микаэле это нравится, — замечает Селеста. — Она сама купила наручники и пользуется ими вместо колец для салфеток. — Она изящно отпивает глоток коктейля «Белладонна». — Но, Перри, милый, честное слово, не понимаю, как ты их выносишь. Иногда мне кажется, что твои друзья для тебя глуповаты. — Ничуть не глуповаты, — возражает Перри. — Кто-кто, но не сквайр Саймон. Он просто немного эксцентричен. — Как это? — спрашивает Хорек. — Например, — поясняет Перри, — он ни разу в жизни не был в Германии, но почему-то требует, чтобы его называли Шульце. Клянется, что его любимый фильм — «Хайди». — Скорее уж «Триумф воли», — ворчит Гай. Его единственная уступка теме нашего бала — маска из бронзовой кожи, галстук-бабочка из яркого бронзового шелка да кушак. — Шульце обожает кожаные штаны, — продолжает Беттина. — И, привязывая своих злополучных любовниц к кровати, он всегда напевает «Эдельвейс». А потом заставляет несчастную девушку любоваться на альпийский пейзаж, который он собственноручно нарисовал на оконных шторах. Гай, ты, наверное, слышал об этом. — Нет, не слышал, — отзывается Гай. — О Шульце я могу сказать только то, что его пустые глаза напоминают мне сливное отверстие в раковине. Я едва удерживаюсь от смеха. — Но со мной он всегда бывал крайне мил, — говорит Беттина. — А с чего бы ему не быть милым после всего, что ты — точнее, твой журнал, сделал для него? — спрашивает Гай. — Но разве богачи бывают милы? Тем более с собственными женами? Если она умна, она понимает, что должна проявлять к нему гораздо больше гнусности, чем он способен проявить к ней. Оставаясь при этом милой и нежной. В этом ее единственный способ отомстить, когда он подчинил себе все остальное. Например, отобрал ее драгоценности, — добавляет он, достает серебряный портсигар с монограммой, щелчком вытряхивает сигарету на стол и вставляет ее в перламутровый мундштук. Потом склоняется к Селесте и прикуривает от зажигалки на ее ожерелье. — Она всегда должна требовать самого лучшего. Разве станет мужчина покупать своей женщине настоящие драгоценности, если она даст понять, что ее устроит и подделка? — Носить подделку допустимо только в том случае, если настоящие драгоценности надежно припрятаны, а копия намного красивее оригинала, — вставляет Беттина. — Копия не бывает красивее оригинала, — возражает Гай. — Но бывает почти так же хороша, — говорит Беттина. — Хороша, как бывает хорош человек? — сардонически спрашивает Гай. — Ничего не бывает хуже для женщины, чем мужчина, который заявляет, что он хороший человек. — Уж кому и знать, как не вам, — парирует Селеста. — После всего, что рассказывают о вас. — Да, — произносит он, медленно выпуская в нашу сторону кольца дыма. Он понимает, что мы слушаем, и я восхищаюсь его самообладанием. Он ни разу не поднял на нас глаз. — Я прекрасно знаю, что обо мне говорят. Что я гнусный тип. Страшно гнусный. До невозможности. Я понимаю, почему он так самоуверен. Держу пари, половина женщин в зале готова броситься на шею этому Гаю. Его осанка невероятно соблазнительна, манеры полны небрежной легкости, вечерний костюм так ладно прилегает к телу, что приводит на ум скорее Ноэля Кауарда, чем Натана Детройта. Он любит, когда на него смотрят, и знает, что достоин внимания. Вот почему он и приподнимает маску на лоб. Волосы у него черные, гладко зачесаны, как у Джека, темно-синие глаза глубоко посажены, нос на любом другом лице казался бы чуть великоватым, губы очень выразительны. Кожа покрыта темным загаром, фигура стройна и подтянута. От него за версту разит сексом. Гнусным, сладким сексом. О, те дни давно миновали. Теперь мне осталось только смотреть на Гая и размышлять о его победах. На диван возле меня присаживается Белладонна, я чувствую ее внимательный взгляд. Потом на краткий миг ощущаю на рукаве легчайшее прикосновение ее пальцев. Иногда, честное слово, она умеет читать мои мысли. Я стираю с лица печаль и лучезарно улыбаюсь, снова возвращаясь вниманием к обрывкам разговора, витающим в воздухе подобно сигаретному дыму, и мне чуть ли не жаль, что печально знаменитого Шульце сегодня нет среди посетителей. Мы умеем обхаживать наших гостей совершенно особенным образом. Неподалеку от центра зала за столом сидит счастливая парочка. Они воркуют, как голубки. Уэсли одет продавцом воздушных шаров, а на Линде пеньюар из тонкого атласа в стиле Джин Харлоу, сверху которого накинуто ниспадающее платье из множества прозрачных слоев шифона. Замысел вряд ли можно назвать оригинальным. Она похожа на шарик из розового пуха. На шее поблескивает очаровательное колье из сотен бриллиантов, нанизанных на прозрачные нити. Оно великолепно получится на фотографии, которую в этот самый миг проявляют наши люди. Белладонна встает и идет по клубу, задерживается возле столика одной пары, отпускает комплимент их костюмам и приглашает к себе за стол. Они одеты Железным Дровосеком и Страшилой из «Волшебника страны Оз». Металл и солома вполне вписываются в концепцию Всех Стихий, и костюмы эти гораздо проще, чем вычурные наряды остальных гостей. Избранная пара сияет восторгом. Уэсли наклоняется к Линде и что-то шепчет ей на ухо, она пожимает плечами. Белладонна выходит на сцену, стучит веером, усыпанным хрустальной крошкой, по микрофону и объявляет: — Леди и джентльмены! Она похожа на ожившее видение, сверкает и искрится, мимолетная и неуловимая, как морская пена. В клубе мгновенно наступает тишина. — Спасибо за то, что пришли ко мне сегодня на Бал Всех Стихий. Публика взрывается аплодисментами. — Праздник этот очень необычный, — продолжает она, — потому что перед нами разворачивается настоящая сага. Сага эта земная и тем самым хорошо вписывается в нашу тему четырех стихий. — Толпа разражается охами и вздохами. — Здесь, у меня в клубе, сидит один человек, чрезвычайно ранимый, и его очаровательная спутница. Другими словами, этот джентльмен, — она произносит это слово с подчеркнутым сарказмом, — привел сюда свою любовницу. Я, конечно же, знаю, кто он такой, но он и не догадывается, откуда. Следовательно, будем называть его мистером Джоном. Вы согласны? Аплодисменты становятся значительно реже, потому что большинство наших дорогих избранных гостей пришли сюда с любовницами, и им становится очень неуютно. — Да, — продолжает она, ее голос нежен и сладкозвучен. — Мистер Джон пришел сюда с… назовем ее мадам Икс. На ней, кроме всего прочего, надето очаровательнейшее колье. — Руки всех любовниц инстинктивно тянутся к драгоценностям, и до нас доносятся нервные смешки. Они не могут сдержаться. — Но дело в том, что это очаровательнейшее колье принадлежит супруге мистера Джона. Более того, оно досталось преданной жене мистера Джона в наследство от покойного члена ее семьи. Другими словами, это память об очень близком человеке, и, следовательно, оно вдвойне бесценно. — Она раскрывает веер и томно обмахивается. — Спешу заверить вас, что супруга мистера Джона в данную минуту находится дома и крепко спит. Она даже не догадывается, что я здесь произношу эту речь от ее имени. Так оно и есть, если взглянуть на это с точки зрения Белладонны. Но затем ее голос становится мрачнее, и даже я содрогаюсь. — Сейчас не время обсуждать вопросы морали. Не будем говорить о том, чем следует заниматься ее мужу — лежать рядом с ней в супружеской постели или попирать данные обеты у меня в клубе. Наступает мертвая тишина. Белладонна захлопывает веер, и этот щелчок звучит так резко, что все вздрагивают. — Кажется, я чую запах угрызений совести? — спрашивает она, спускаясь со сцены. Прожектор, как обычно, следует за ней. Она твердым шагом обходит клуб, останавливается возле каждой дамы, на шее у которой блестит колье. — Прелестно, — отпускает она, разглядывая бриллиантовый кулон. Потом указывает веером на жемчужное ожерелье. — Промойте их в морской воде, — советует она. — Это оживит блеск. Она движется по залу, без всякой очередности переходя от столика к столику, и, наконец, приближается к нашей счастливой паре. Губы Уэсли кривятся от ярости, на щеках Линды пламенеют багровые пятна. Вот уж буйство стихий! — Великолепно, — замечает Белладонна, проводя веером по лопатке Линды. Та вздрагивает и невольно морщится. Затем Белладонна переходит к соседнему столику, и Уэсли облегченно вздыхает. Линда так боится, что у нее даже нет сил встать и выйти в дамскую комнату. Белладонна возвращается на сцену. — Дражайшие мои гости, хочу спросить вас вот о чем, — говорит она сахарным голоском. — Имеет ли право мадам Икс оставить у себя это колье, память о бессильном желании своего любовника? Или она должна вернуть эту вещь — втайне, разумеется — ее законной владелице и взаменпотребовать от любовника в доказательство преданности куда более роскошное украшение? Я спрошу еще раз, а вы аплодисментами выразите свое мнение. Оставить ей колье? Ни звука. — Или вернуть? Зал разражается оглушительными аплодисментами. — Благодарю вас, — говорит Белладонна, ее голос все так же сладок. — Я очень рада, что вы поддержали во мне веру в моральные качества тех, кого я сочла достойными переступить порог моего клуба. Приговор вынесен. Чтобы совсем уж не позорить провинившуюся пару, мы притушим свет. Тогда под покровом темноты мадам Икс сможет расстегнуть свое колье. В гардеробной при выходе будет стоять небольшая шкатулка, туда она и опустит это колье. Мы не зададим никаких вопросов. Заверяю вас, что колье будет возвращено его законной владелице, и мы больше не заикнемся об этой истории. А теперь оркестр под руководством Ричарда исполнит песню, посвященную всем двуличным, всем покинутым в любви, всем утомленным, вам, роскошные лжецы среди нас. Леди и джентльмены, «Любовь останется с нами». Напитки за счет заведения. Приятного вечера! Она кланяется, и свет внезапно гаснет. По залу пробегает нервный шелест, а когда через мгновение свет вспыхивает, Белладонны нигде не видно. И вдруг по всему залу вспыхивают шумные разговоры. Некоторые пары встают и уходят, но Уэсли и Линда остаются с нами. Его лицо окаменело от ярости, она дрожит от унижения. Мне ее чуть ли не жалко, бедную девочку, на шее у которой больше не красуется колье Аннабет. Вот уж не думала она, что ее пылкий любовник на самом деле такая дешевка. Наши официанты не спускают с этой пары орлиных глаз, а когда они встают и собираются уйти, их провожают до гардероба. Пока Джози приносит пальто, Линда оглядывается, проверяя, не подсматривают ли за ней, потом достает из кармана Уэсли колье и поспешно опускает его в шкатулку. — Убью сучку, — цедит Уэсли, подавая Линде пальто. Они выходят. — Это она во всем виновата. Они торопливо шагают к одному из поджидающих такси. Уэсли распахивает дверь, Линда в пушистом платье втискивается на заднее сиденье, и тут ему на плечо опускается чья-то рука. Это Джек. Без единого слова он протягивает Уэсли коричневатый конверт. На нем адрес юридической фирмы, где работает Уэсли. Тот разрывает конверт и достает свежеотпечатанные доказательства своего двуличия. На них он получился даже лучше, чем в жизни, хотя сам он так не думает. Если раньше его лицо кривилось от ярости, то теперь оно наливается кровью, и я опасаюсь, как бы его не хватил удар. — Мерзавцы, — шипит он и замахивается на Джека. Тот быстро отступает в сторону. В мгновение ока Уэсли лежит на асфальте. Джеффри сбил его с ног приемом каратэ и теперь стоит, опираясь ботинком на шею Уэсли. К нам спешит один из дежурящих на улице полицейских. — Все в порядке? — осведомляется он. — Может, арестовать его? Джек пожимает плечами и отходит в сторону. Полицейский кивает и возвращается на свой пост, а Линда выскакивает из такси, помогает Уэсли подняться на ноги и отряхивает ему пальто. Оба садятся в машину и мгновенно укатывают. У Джеффри по лицу расплывается широкая бестолковая ухмылка. — Я мечтал об этом с самого первого дня, — удовлетворенно сообщает он Джеку. А когда вечер заканчивается, мы забираем шкатулку из гардеробной и вытряхиваем ее содержимое на стол в кабинете Белладонны. Каково же наше изумление, когда мы видим, что на столе искрящейся горкой поблескивает не менее дюжины бриллиантовых колье.7 Оракул у себя в кабинете
Вот так это все и началось. Слухи распространяются, как ползучие сорняки на поле для гольфа. Сплетни в колонке Губошлепа нас не обижают, и впервые в жизни ему не приходится сильно преувеличивать. Сначала мы получаем одно закапанное слезами письмо на адрес клуба, потом — еще и еще одно. Женщины просят о помощи, они так запуганы, что боятся даже подписать письмо и поставить на конверте обратный адрес. Только номера телефонов. «Я готова на все, только позвоните мне, молю вас, Белладонна, и, пожалуйста, строго в дневное время. Я не знаю, что делать, — пишут они нервным почерком, крупными наклонными буквами. — Прошу вас, помогите мне». «Вы же Белладонна, — пишут они. — Вы все можете». Белладонна, отомсти! Отлучаясь вечерами отдохнуть к себе в кабинет, Белладонна читает письма. Их груда растет все выше, и тогда она дает их почитать нам — так сказать, кругу посвященных. Потом однажды днем она сзывает нас на совет. Когда Брайони уходит поиграть к подруге, и мы можем не тревожиться, что она ненароком подслушает, Белладонна приглашает на чай Маттео, Джека и Орландо. Бьянка печет огромный поднос булочек, мы щедро намазываем их свежим маслом и имбирным джемом. Наши лохматые часовые, Андромеда, Лягушонок и Будильничек, дремлют в лужицах солнечного света на лоснящемся паркетном полу. Петуния клюет семечки и время от времени издает пронзительные крики. Тяжелые бархатные шторы приглушают уличный шум, и внешний мир уплывает куда-то далеко-предалеко. В этой саге внешний мир всегда будет находиться очень далеко. Корейская война идет на спад, но начинается возня в Индокитае; Маккарти вопит о коммунистах, и многие из гостей нашего клуба внезапно обнаруживают себя в «черных списках». Диор вот-вот поднимет подолы юбок и вызовет ожесточенные споры; в полном разгаре атомная истерия; в школах проводятся учебные тренировки по воздушной тревоге. Нам до них нет дела. У нас своя задача — искать. Все остальное нас не интересует. С той минуты, как мы открыли клуб «Белладонна», все прочие дела ушли на задний план. — Что нам делать с этими письмами? — спрашивает Белладонна, когда мы основательно подкрепились. — Их поток не иссякает. Наоборот — только растет. — А может быть, будем приглашать к себе тех, кто их написал? — предлагаю я. Я давно размышляю над этим. Белладонне нужно найти какое-то дело, чтобы занять себя, пока тянется ожидание. Я боюсь, что она, как хорошо смазанная машина, сломается только потому, что ей нечего будет делать. Наш бизнес процветает. Белладонна раздает массу денег на благотворительные цели. Не стану утомлять вас перечислением наших дочерних фирм и фондов, которые учреждает Джек благодаря своим обширным связям. Все пожертвования, естественно, анонимны, часто получатели их не ожидают и поражаются щедрости неведомого друга. Однако, сколько бы Белладонна ни раздавала, это никогда не пробьет брешь в ее неисчерпаемом состоянии. Мне кажется, ей стоит заняться благодеяниями для отдельных лиц; может быть, это каким-то образом приблизит нас к цели наших поисков. А может быть, мне не следует так усердно заботиться о Белладонне. Я не хочу, чтобы моя безволосая, младенчески нежная кожа от беспокойства покрылась морщинами. Лучше сосредоточить мысли на приятных вещах. На том, как люблю я сладчайшее наслаждение вендеттой! — Это даст нам возможность занять себя чем-то определенным, пока мы ожидаем нужных нам людей. Энергии у нас хватит, — продолжаю я, — денег и знаний тоже. Дела в клубе идут гладко, а этим мы заполним свободное время. Да и занятно будет. — Нам придется установить строгую систему проверки, — предлагает Джек, — дабы удостовериться, что их требования не противоречат закону. После того как они встретятся с вами в первый раз — если, конечно, вы захотите с ними встречаться — им уже не будет нужды приходить сюда. Мы можем организовать еще один офис, в другом месте, с телефонным номером, записанным на имя одной из наших подставных компаний. А до тех пор, — добавляет он, — можно впускать тех, с кем вам захочется поговорить, через погрузочный вход фабрики «Чмок-чмок» на Вашингтон-Стрит. Там никого не бывает. А никого не бывает там потому, что мы расставили на всех углах вокруг клуба внештатных полицейских, переодетых проститутками. Эта затея радует блюстителей порядка со всего околотка даже больше, чем наши ежемесячные взносы на ремонт здания участка и в пользу Добровольной Ассоциации Патрульных. У нас всегда имеется список из дюжин полисменов, ожидающих своей очереди подзаработать. Неплохое занятие — прогуливаться в боа из перьев на каблуках-шпильках, жалуясь на то, как жмет корсет. Эти парни так уродливы, что подойти к ним близко может только слепой в порыве горького отчаяния. — Это пойдет тебе на пользу, — замечает Маттео. Он единственный из нас, кто может сказать Белладонне нечто подобное и ему это сойдет с рук. — Это пойдет на пользу всем нам, — добавляю я, видя, как она нахмурилась. — Кое-кто из моих людей не прочь подзаработать, — говорит Джек. — У нас с избытком опытных детективов, которые с удовольствием займутся расследованием жалоб. Они могут приступать к работе сразу после того, как мы свяжемся с этими дамами. Займутся черновой работой, бумажными делами, проследят за кем надо, сделают все нужные звонки. Таким образом, ваше участие будет сведено к минимуму. Пара пустяков. Белладонна глядит обеспокоенно. Ей не нравится сама мысль встречаться с посторонними, даже для того, чтобы помочь им. История с Аннабет Саймон была просто счастливой случайностью, она занялась этим в первую очередь ради Маттео. На следующий день Маттео, как мы и думали, отнес Аннабет ее колье. Уэсли, тоже на следующий день, переселился с Линдой в небольшую, укрытую от посторонних глаз гостиницу. Это, пожалуй, станет наилучшим выходом для всех. Он сразу же пустил в дело своих адвокатов, но мы заверили Аннабет, что наши лучше. К тому же ей нечего бояться. Джек установил круглосуточное наблюдение за гостиницей и за конторой, где работает Уэсли, а фотографии в его папке — не из тех, что я на его месте охотно показал бы сослуживцам. Если мы кое-что смыслим в бракоразводных делах, то банковский счет Уэсли очень скоро исчерпается. Все это мы знаем потому, что Маттео внезапно заделался частым гостем в доме Саймонов. Если бы события не приняли такой поразительный оборот, я бы сказал, что он влюбился. Вот уж не думал, что такое возможно. Сами понимаете, гормональная недостаточность, наша с ним общая проблема, о которой не принято говорить. Но Аннабет не спрашивала ни о чем, об этом еще даже разговор не заходил. И больше всего она благодарна ему за то, что он охотно уделяет внимание ее сыну Маршаллу. Мальчуган очарован этим молчаливым великаном, который приходит к ним в гости после обеда и учит его карточным фокусам. Естественно, только после того, как Маршалл выучит все уроки. Должен признать, я слишком мало рассказывал о моем любимом старшем брате. Брайони его обожает, особенно когда он играет с ней или, после школы, берет на прогулку поглазеть на витрины. Без него мы бы не управились с клубом. Он — живое воплощение всех наших теневых вышибал: он здесь, но не показывается на ярком свету, а прячется во тьме. Он очень подружился с Орландо — тот по натуре мало разговорчив, и часто они уходят в долгие прогулки по городу, навещают свой любимый джаз-клуб. Оба они из тех, на кого можно положиться, и ничего не просят. Я всегда волновался за Маттео гораздо сильнее, чем показываю, потому что он очень мало говорит. Мы никогда не обсуждаем наших трудностей. Я же, напротив, научился занимать себя излишней общительностью и, как вы знаете, обожаю совать свой хлопотливый нос куда не следует. Я смешиваюсь с толпой в клубе и купаюсь в их досужей болтовне. Иногда Белладонна посмеивается надо мной, говорит, что я чувствую себя среди толпы как дома, но она знает, что моя непоседливость и болтливость — это броня, которой я отгораживаюсь от боли и одиночества, хотя все-таки они нет-нет да и вползают по ночам в наш уютный дом. Каково же приходится Маттео? Его жизнь куда более одинока, чем моя. Он избрал для себя долю часового, стоящего на страже в любую погоду, и в дождь и в ветер, в компании только Джеффри да собаки. Он не жалуется. Но между ним и Белладонной пролегла какая-то внутренняя связь, которой я, по правде сказать, очень завидую. Они нашли общий язык — язык боли. Маттео просто есть, и все. Он не говорит о своих нуждах, о мечтах, о страхах. И все мы не говорим. Если бы хоть один из нас об этом заикнулся, мы, наверное, сошли бы с ума. Но кто сказал, что мы и без того не сумасшедшие? И кто мы такие, чтобы удивляться, если Маттео нашел в своем сердце мужество искать любви? Конечно, если их отношения зайдут далеко, бедную Аннабет ждет небольшой сюрприз, но я не думаю, что Маттео созрел для такого разговора. Эта беседа окажется нелегкой. — Мне надо подумать, — говорит в конце концов Белладонна и обводит нас взглядом. Но ответ, который она читает на наших лицах, ей не нравится. Она вздыхает. — Давайте подождем, что будет дальше, и начнем действовать постепенно, — говорит ей Джек. — Может быть, окажется, что мы занимается не тем, чем надо, напрасно тратим время и силы. В таком случае сразу же прекратим. Подготовиться нужно очень тщательно, примерно так же, как мы готовились к открытию клуба. Я вижу, он завелся. Тот, кто любит совать нос не в свои дела, никогда не упустит случая. И еще внутренний голос говорит мне, что Джек рад любой возможности оказаться поближе к Белладонне.* * *
Начинаем мы с женщин, чьи проблемы сравнительно просты, с тех, кто чем-то привлек внимание Белладонны. Я называю их «разминкой» — мы оттачиваем на них мастерство и репетируем возможные сценарии. Сначала с ними связывается Джек или кто-нибудь из его помощников; если они успешно проходят проверку на Феодору — что это такое, я расскажу чуть позже — то мы назначаем им встречу в конце дня на углу Вашингтон-Стрит и Гейнсворт-Стрит, а оттуда проводим по лабиринту темных коридоров в кабинет к Белладонне. Ожидая ее, они сжимаются в комок, будто боятся, что она бросится на них и прогонит с глаз, нервными движениями одергивают платье, ставят сумочки сбоку, кладут перчатки на колени, сидят прямо, не снимая шляп, и украдкой стреляют глазами, разглядывая роскошную обстановку. Им отчаянно хочется достать пудреницы и в последний разок оглядеть себя, смахнуть в носа пот, стать такими же неотразимыми, как Белладонна. Она неслышно входит в кабинет через потайную дверь, скрытую за расписной ширмой сзади от посетительниц, и они неизменно вздрагивают от неожиданности. Атмосфера неуловимо меняется. Бедняжки, они едва не падают в обморок от страха, видя ее при полном параде, в маске. Она не проявляет ни дружелюбия, ни заботы, вообще говорит очень мало. Женщины, если их запугать, всегда болтают без умолку, иногда у них с языка срываются тайны, которых они не намеревались разглашать, и благодаря этому наша задача облегчается. Тяжелая атмосфера насыщена ароматами, женщины заворожены и изрядно напуганы видом живой, настоящей Белладонны, она стоит перед ними, слушает их, и они не могут поверить в свое счастье. Она будто не настоящая; добрая, но смутно зловещая фея, колдунья из сказки, сотворенная их растревоженным подсознанием. Белладонна идет к боковому столику, зажигает на серебряном подносе ароматическую палочку, ставит поверх нее небольшую керамическую пагоду, чтобы благоуханный дым выходил из окон, потом садится за стол и кладет веер около чернильницы. Я сижу на позолоченном стуле у дверей и стараюсь не привлекать внимания, что нелегко, если учесть мою впечатляющую внешность; но дамы меня словно не замечают, и я этому не удивляюсь. Белладонна куда более интересная личность. Она берет письмо от гостьи, которая пришла сегодня, и пробегает его глазами еще раз. Потом откладывает его и смотрит на зардевшуюся даму, которая едва сдерживает слезы — то ли от волнения, то ли оттого, что ей самой не верится в такую удачу — попасть на прием к Белладонне. А может, от обеих этих причин вместе, не знаю. — Чем могу быть полезна? — спрашивает Белладонна. Ее голос тих и мелодичен, но страшно отчужден. За маской женщина не может прочитать выражения ее лица. — Ну… — начинает она, прочищая горло. — Спасибо за то, что встретились со мной. Белладонна кивает. — Я слышала… — Дама не может собраться с мыслями. — Я слышала, что вы… — Что я? — Что вы помогаете женщинам, — тихо шепчет она. — И кто же вам это сказал? — спрашивает Белладонна. Вопрос, честно говоря, совершенно нелепый, потому что дама написала ей, с ней связались, проверили с ног до головы и провели в святая святых клуба, где она сейчас и находится. Наступает молчание, невыносимое для посетительницы и желанное для нас. Как часто люди болтают, болтают без умолку, и при этом им нечего сказать. — Все зависит от того, какого рода помощь вам требуется, — говорит наконец Белладонна, чтобы женщина наконец смогла перевести дыхание. — И еще кое от чего. — От чего же? — лепечет несчастная. — Это зависит от самой женщины. — Сверкая огромными зелеными глазами, Белладонна смотрит прямо ей в лицо. — Если вы хотите получить мою помощь, вы должны быть готовы пойти на все, — говорит она. — Неудача — такого слова я не знаю. Проницательность, ловкость, коварство — вот мои понятия. Месть. Но неудача? Никогда. О, хитроумная Белладонна! Грозная богиня, восседающая над огнем, современный оракул, говорящий загадками. Оракулы — загадочные личности; они заводят в тупик своими двусмысленными пророчествами. Иногда я спрашиваю себя, понимает ли сама Белладонна, какую игру затеяла. Белладонна встает из-за стола. Я слежу за ее собеседницей — та вздрагивает и внутренне напрягается. Чего она ждет, бедняжка? Что на Гейнсворт-Стрит ее заточат в заколдованный замок? — Дайте руку, — велит Белладонна, берет ладонь просительницы, переворачивает ее. — Вижу, вы сильны в любви, — говорит она, прослеживая линии затянутым в перчатку пальцем. — Вы сильнее, чем сами полагаете. Гостья удивленно разглядывает свою ладонь. Белладонна отходит и садится обратно за свой стол, а на пальцах, кажется, надолго задерживается еле уловимый аромат ее духов. — Слушаю, — говорит она. — Мой муж. Как тот человек на Балу Всех Стихий. Тот, с колье. Именно это мы и ожидаем услышать от наших «леди для разминки». Сейчас в Нью-Йорке столько двуличных мужчин, что я диву даюсь, почему кто-то вообще берет на себя смелость выходить замуж, а уж тем более хранить верность. — Любовная связь? — Да. — Дама кивает, к глазам подступают нешуточные слезы. — С моей лучшей подругой. — Бывшей подругой, вы хотите сказать. Я вручаю даме прелестный носовой платок из тончайшего полотна, окантованный кружевом. В уголке вышита темно-багровая буква «Б». Дама вытирает нос и смахивает слезы. — Ни один мужчина не имеет права обращаться с женщиной как со своей собственной шлюхой, — говорит Белладонна, ее голос становится хриплым. Она вздыхает, и я вижу, что посетительница начинает набираться уверенности. Белладонна не превратит ее в жабу. «Может быть, она все-таки на моей стороне», — думает несчастная. — Все женщины легко поддаются обману, — продолжает Белладонна. — Обман лишает нас воли к борьбе, заставляет сдаться, потому что нам хочется лечь и умереть. Нам кажется, что это легче всего. Пламя ее взгляда способно прожечь дырку в веере. Ни одна из просительниц, какие приходили к нам, не понимает, что Белладонна говорит о самой себе. Они не могут представить себе эту неуязвимую женщину беспомощной, не догадываются, что когда-то ей тоже хотелось лечь и умереть. — Но так бывает только с теми, кто позволил мужчине убить их дух. Если он с вами жесток, то и вы должны отбросить жалость. Пусть научится ползать. Вы понимаете? Женщина с жаром кивает — да. — Лично я, — добавляет Белладонна, — никогда не цепляюсь за ошибки. — Она медленно снимает кольца с затянутых в перчатки пальцев, раскладывает их по иссиня-черному бархату на столе, потом открывает бархатную шкатулку и тщательны выбирает другой гарнитур из своей обширной коллекции. — Как вам нравится? — спрашивает она, надевая большой сапфир, или изумруд квадратной огранки, или топаз, или перидот, обрамленный знаменитыми жемчужными нитями, и примеряет их. Дама смотрит на меня, озадаченная тем, что Белладонна спрашивает у нее совета. — Некогда жил в Фивах один военачальник. Однажды он пошел за советом к дельфийскому оракулу, — говорит она, все еще перебирая драгоценности. — «Слушай внимательно, — сказал ему оракул. — Опасайся Моря». Высокомерный военачальник решил, что прекрасно понимает совет. Он соблюдал осторожность. Самолично проверил все корабли в своем флоте. Но умер он не на море. Нет, конечно. Он умер, потому что невнимательно слушал оракула. Он погиб, заблудившись в заколдованной дубраве, которую называли Морем. Через несколько минут женщина, окончательно сбитая с толку, говорит, будто понимает, о чем хотела сказать Белладонна. — Оракулы никогда не лгут, — продолжает Белладонна. Я закрываю глаза, и перед моим взором появляется Леандро, он сидит на террасе, и вокруг золотистым маревом переливается жара. — Все дело в истолковании. В том, чтобы увидеть скрытый смысл, дойти до предела восприятия. Надеяться, что у вас хватит мужества. — Она берет веер и томно помахивает. — Вы готовы? Женщина снова кивает. — Очень хорошо, — говорит Белладонна. С громким щелчком она захлопывает синюю бархатную шкатулку с кольцами, встает и подходит к сидящей даме. Потом указывает веером на меня. Дама оглядывается, видит мою чарующую улыбку, а когда оборачивается снова, Белладонны уже нет. — Прежде чем уйти, оставьте мне номера телефонов и адреса, по которым можно вас разыскать, а также всю необходимую информацию о заинтересованных лицах и соответствующих событиях, — бодро говорю я. — Мы свяжемся с вами, обсудим методы, наиболее пригодные для вашего случая, и сообщим, что вы должны сделать. Вы, и только вы. Не волнуйтесь. — Я обезоруживающе подмигиваю. — Вы справитесь. И не вина Белладонны, если женщина вдруг свалится в пропасть. — Роль оракула — отдушина для тех, кто не любит говорить напрямик, — говорит мне однажды Белладонна после долгого удрученного молчания. — И только так я могу отвести от себя обвинения, если что-то пойдет не так. — Она вздыхает. — Я стараюсь помочь им, чем могу, я хочу, чтобы они нашли мужество внутри себя. Честное слово, Томазино. И еще я, наверное, пытаюсь найти у себя в сердце уголок, где мгновенно пробуждалась бы жалость к этим женщинам, потому что они тоже, как и я, прижаты к стенке. — Она достает несколько пар перчаток и раздумывает, какие надеть. — Мне нравятся сине-зеленые, — предлагаю я. — Цвет глаз Брайони. — Я не знаю, что еще добавить. Она редко хоть намеком выдает свою слабость. Ничего не сказав, она натягивает сине-зеленые перчатки и пролистывает груду бумаг на столе, достает папку и протягивает мне. — Что это такое? — спрашиваю я. — Информация о землях на продажу. Когда в следующий раз мы закроемся на несколько дней, я хочу, чтобы ты слетал в Виргинию и взглянул на них. Большое поместье может быть хорошим вложением капитала. И нам нужно место, куда мы сможем скрыться. — Ну, скрыться всегда можно в Италии, — осторожно говорю я. — Я не могу скрыться в прошлом, — говорит она. — Не могу убежать от своей жизни, от большого периода в ней. Мне нужно думать о чем-то новом. Томазино, я полагаюсь на тебя. Расскажи, стоит ли это поместье того, чтобы его купить. Если оно тебе понравится, покупай. Если это такое место, какое нам нужно. Это потому, что я безошибочно разбираюсь в домах, а также в характерах. — Мне нужно чувствовать, что дело, которым я занимаюсь, чего-нибудь да стоит, — говорит Белладонна, прерывая мои самодовольные размышления о том, как я украшу новый дом. — Не просто развлекать народ в клубе, пока мы ждем. Не сдаваться — это высшее проявление воли и дисциплины. А иначе, для чего я живу? — Помнишь, что сказал Леандро? — говорю я. — Тренируй разум сосредоточением и дисциплиной. Освободи его от всех других мыслей, кроме мысли о возмездии. Прощения не существует. — Помню, — тусклым голосом говорит она. Разве может она забыть?* * *
Белладонна протягивает мне письмо. — Прочти начало вслух, — велит она. — «Дорогая Белладонна, — читаю я. — Спасибо за то, что нашли время прочитать это письмо. Надеюсь, вы нам поможете. Я пишу от имени всех женщин нашей конторы. Мы обращаемся к вам, потому что больше нам некуда идти». — Я хмурюсь. Так начинаются почти все письма. — Что в этом необычного? — спрашиваю я. — Читай дальше, — нетерпеливо перебивает она. — «Одна знакомая рассказывала нам, как интересно в вашем клубе, хотя мы сами ни разу не пытались попасть. Она говорит, это единственное место, где официант спросил ее, что она будет пить. Мы все хотели бы вам сказать, что в Нью-Йорке нет больше ни одного клуба или ресторана, где официанты разговаривают с дамой, если с ней за столом мужчина. Мужчины делают заказ, а нам положено сидеть молча. Вот почему мы надеемся, что вы нам поможете…» — Это верно? — спрашивает Белладонна. — Понятия не имею, — отвечаю я. — Я не хожу на свидания. И не обращаю внимания на официантов, когда они… — Ох, Томазино, — говорит она. Перебивая, она своеобразно извиняется, и мне на глаза наворачиваются слезы. — Что это за мир? — продолжает Белладонна. — Как ты думаешь, изменится он когда-нибудь? Когда женщина приходит в ресторан с мужчиной, ей не разрешают говорить самой за себя, не разрешают даже такой мелочи, как заказать себе коктейль… — Наверное, так и есть, — говорю я. — Но официанты наверняка спрашивают у Мэрилин Монро, что она хотела бы выпить. — Я не Мэрилин Монро. — И слава Богу, — смеюсь я. — Ты видела ее волосы в «Ниагаре»? Полное уродство. Белладонна одаривает меня едва заметной улыбкой, которая для меня дороже, чем все бриллианты на ошейнике Андромеды. — Приведи ее, — велит она. — Великолепно. Всегда мечтал пригласить Мэрилин на наши скромные вечеринки, — говорю я, прекрасно понимая, что она имеет в виду автора письма, а не кинозвезду. Автора зовут Элисон Дженкинс. Она приходит в кабинет к Белладонне и вместе со мной ждет ее появления. Она спокойна и собрана, в отличие от всех других просительниц, которые от волнения сидят как на иголках. Она мне сразу же нравится, поэтому я решаю начать с проверки на Феодору. — Я как раз недавно читал книгу про темницы, — начинаю я небрежным тоном светской беседы. Лицо Элисон бледнеет. — Они воскресили в моей памяти историю императрицы Феодоры, печально знаменитой bella donna Босфора. Эта история не вымышлена. Вы ее слышали? Элисон озадаченно качает головой. — Феодора происходила из бедной, но очень честолюбивой константинопольской семьи. Они заставляли девочку зарабатывать себе на жизнь, прочили ей карьеру актрисы. — Я откидываюсь на спинку стула и наслаждаюсь звуком собственного голоса. — Но она не умела ни петь, ни танцевать, и первый большой успех пришел к ней, когда она начала раздеваться на сцене. В конце концов она влюбилась в мужчину, который ее бросил, оставил без денег с маленьким сыном на руках. Для бедной бесталанной девочки оставалась только одна профессия. Уверен, вы понимаете, какая. В те горестные дни, докатившись до самой низшей ступени, Феодора пошла к прорицательнице. У той было видение. «Готовься, моя девочка, — сказала вещая старуха. — Вскоре высохнут твои слезы, закончится бедность, исчезнут из твоей постели грязные свиньи. Да, дитя мое, ты станешь женой монарха». Ее слова обрадовали Феодору; она отправила ребенка на воспитание к кормилице, собрала скудные пожитки и вернулась в Константинополь. Она еще оставалась пусть средненькой, но все же актрисой, поэтому сумела притвориться чистой переродившейся девственницей, сидела у окна в светелке и пряла шерсть. И кто же увидел ее, проходя мимо? Не кто иной, как сенатор Юстиниан, правивший империей от имени престарелого дяди. Он безумно влюбился в Феодору. Она действительно была актрисой, но, надо сказать, искренне полюбила его в ответ. Да и как же ей не любить его, хитрой лисичке, изнемогающей от жажды власти? Влюбленный Юстиниан, который мог бы заполучить в жены любую девственницу в стране, твердо решил жениться на этой шлюхе и дать ей честное имя, но докучные римские законы запрещали сенаторам жениться на дамах подобного толка. Мало того, даже Люпицина, родная тетушка Юстиниана, императрица, почему-то отказалась принимать проститутку к себе в племянницы. Плохо дело, сказал наш пострел. Он понимал, что Люпицина стара и скоро отдаст Богу душу, вот однажды она по несчастью и откусила кусочек отравленной фиги, а он сумел без лишних хлопот принять нужный закон. Итак, Феодора и Юстиниан поженились. Он усадил ее на трон как равную себе и велел губернаторам всех провинций присягнуть на верность им обоим. Да здравствует шлюха на троне! Элисон слегка улыбается. — Феодора напоминает мне Эву Перон, жену диктатора, которая недавно скончалась, — говорит она. Мое колено приятно гудит, я улыбаюсь. Да, в этой даме я не ошибся. — На время Феодора исчезла. Лично я склонен думать, что она злорадствовала в уединении и строила замыслы о том, как упрочить свое состояние, — продолжаю я. — Разве могла она не тревожиться о том, что станет с нею, если Юстиниан вдруг преставится? Только тонны золота спасут ее семью от гибели. Она созвала астрологов, прорицательниц и волшебников, к ней в тайные покои приходили только самые доверенные фавориты и евнухи. Элисон внимательно слушает, хоть и не понимает, чем ее привлекла эта императрица. Да, признаю, история занимательная, но и я очень талантливый рассказчик. Я умудряюсь не моргнув глазом произнести слово «евнух» и не выдать того, что для меня оно не пустой звук. — И шпионы. Шпионы Феодоры докладывали ей обо всем: о каждом слове, о каждом шаге, о каждом косом взгляде. Тех, на кого падало подозрение, справедливое или нет, в том, что они злоумышляют против императрицы, неизменно бросали в дворцовую темницу, куда не проникали ни справедливость, ни надежда, и они исчезали навеки. Феодора была не так уж плоха, — продолжаю я. — Может, немного тороплива, но она всегда была добросердечна к своим менее удачливым сестрам, которых жизнь вынудила пойти в проститутки. Она построила на берегу Босфора дворец и превратила его в монастырь, собрала с улиц и из борделей пять сотен женщин и поселила их там. Приняв монашество, эти удачливые дамы стали всей душой преданы Феодоре. Трогательная история. Из этого монастыря был только один путь — в море, ногами вперед. Да, Феодора была великой императрицей. Она стойко терпела вечное двуличие придворных, была благоразумной советчицей своему мужу. Она была чиста и верна Юстиниану — не хотела из-за глупой похоти терять все, чего достигла. Но у них не было сына, не было наследника. Только дочь, которая умерла в младенчестве. Но все-таки они были вполне счастливы. Их брак просуществовал двадцать четыре года, до самой ее смерти. Я откидываюсь на спинку кресла и улыбаюсь. — Ну, как? — спрашиваю я у Элисон. — Очаровательная история, правда? Как вам нравится? Вас ничто конкретно не заинтересовало? — Что случилось с ее первым ребенком? — спрашивает Элисон. — Ах, да. С прелестным мальчуганом. — Я так и знал. Она прошла испытание Феодорой на «ура», инстинктивно задав нужный вопрос. — Он вырос где-то в Аравии, и однажды его отец совершил большую ошибку, рассказав мальчику, что тот сын императрицы. Естественно, юноша с самыми радужными надеждами поспешил в Константинополь. Он рассчитывал получить корону, богатство, может быть, даже собственный гарем. Мать приняла его, своего родного сына, очень приветливо. Но больше никто его не видел, даже после ее смерти. — Никто не знает, что с ним случилось? — И никто никогда не узнает, — медленно произношу я. — Может быть, он скончался от лихорадки после столь долгого пути. — А может быть, его засунули в мешок, привязали к ногам камень и бросили в море, как многих до него, — говорит Белладонна, появляясь, как всегда, бесшумно, так что Элисон подскакивает от неожиданности. — В конце концов, он был живым воплощением грехов ее юности. Она жестом велит Элисон придвинуть позолоченный стул поближе к столу. — Человек ожидает одних перемен, а с ним, зачастую, происходят другие, — говорит она. — Чем могу вам помочь? — Дело в моем начальнике, — говорит Элисон. — Точнее, в нашем начальнике — нас девять человек. В основном секретарши. Наша фирма занимается импортом и экспортом. Много бумажной работы. — И вы пришли сюда от имени всех девятерых? — спрашиваю я. — Да, — отвечает она, покусывая губу. — Мы вытягивали соломинки, и я… — Вам выпало счастье достать короткую, — говорю я, и она вопросительно поднимает глаза, удивленная тем, что я ее подбадриваю. — А в чем он провинился, ваш начальник? — Одна из нас, Норма, уже забеременела от него. Он велел ей избавиться от этого — от ребенка — и дал денег на аборт, но она не захотела. Ей пришлось насочинять массу всяких историй, поселиться в доме для незамужних матерей и потом отдать ребенка на усыновление. Это разбило ей сердце. Сломало ее. — Элисон вздернула подбородок, гнев, кипевший в душе, придал ей сил. — Но самое страшное в том, что он грозится уволить всех нас и рассказать родителям Нормы о том, что натворила дочь. Он рассчитывает, что они ее убьют. И, наверное, он прав. Наш начальник — важная шишка и любит запугивать. Его зовут мистер Болдуин. Пол Болдуин из «Болдуин Импорт-Экспорт». «Зовите меня Поли», — говорит он. А теперь он положил глаз на новую девушку, Джоани. Она в панике. Ей нужна эта работа; она всем нам нужна. А компания принадлежит ему. Точнее, его жене. — Скажите, — спрашиваю я, — он хорошо вам платит? — Платит он хорошо, — отвечает Элисон. — В этом все и дело, без работы нам не прожить. Мы не можем уйти. — Быть в подчинении у такого негодяя, как ваш Поли, это разновидность рабства, как бы хорошо он вам ни платил, — говорит Белладонна. В ее голосе ни тени волнения. О, как она умеет владеть собой! — Вы, кажется, говорили о его жене? — напоминаю я. — У таких типов всегда бывают жены. — Да, ее зовут Сьюзи-Энн. Она толстая, как он, и такая же злющая. Временами даже хуже, потому что деньги принадлежат ей. Нам полагается приносить ее вещи из химчистки, выгуливать собак, быть на побегушках. И все это после работы, чтобы она могла всласть поиздеваться над нами. — Глаза Элисон вспыхивают. — Иногда Сьюзи-Энн приходит в контору, чтобы проверить, чем занимается Поли. Показать ему, кто настоящий хозяин. Она давно уже вычислила, что он за тип, но, естественно, обращается с нами так, будто во всем виноваты мы. — Она содрогается. — Стоит нам услышать, как на лестнице звякают ее браслеты и стучат каблуки, и мы не знаем, куда деваться. К тому же она носит мерзкую накидку из лисьего меха с висячими головами и хлещет нас этими головами по лицу. — Неплохо бы их обоих задушить этой накидкой, — говорю я, придвигая к себе блокнот. — Нам нужно побольше узнать об этом Поли, чтобы ответить ударом на удар. Отплатить ему той же монетой. — Понимаете, — говорит она, — когда на него находит стих, он начинает называть нас «милыми крошками». «Милая крошка, пойди сюда. Ты мне нужна», — передразнивает она. — Потом начинает: «Видишь, что ты со мной сделала?» И указывает на свой пах. «Я бы тебе показал, на что способен настоящий мужчина». И если ему удается зажать одну из нас в уголок в коридоре, то… — Она вздыхает. — Мало ему того, что он сделал с Нормой. Теперь это может случиться и с Джоани. Остальные тоже боятся. Я не знаю, что делать. Я не могу взять отгул и поискать другую работу, а у моей мамы слабое здоровье. Она присматривает за моим сыном, Тоби. Ему девять лет. — Не хочу показаться излишне любопытным, но ваш муж… — осторожно спрашиваю я. — Он погиб в Гвадалканале, — отвечает Элисон. — Простите, — говорит Белладонна. — Не стоит, — откликается она. Ее коллеги правильно выбрали представительницу: эта женщина — настоящий боец. Она нравится мне все больше и больше. Не будь Белладонна такой одинокой душой, я бы хотел, чтобы они подружились. — Мало того, он еще просверлил дырки в стене нашего туалета. Честное слово, — клянется Элисон. — Мы не знаем точно, где они, но чувствуем, что он подглядывает. Может, прозрачное зеркало… — Ее передергивает. Мы с Белладонной быстро переглядываемся. Пока Элисон находится у нас в клубе, неплохо бы принять дополнительные меры предосторожности. — До поры до времени мы не станем рассказывать вам, каким именно образом мы с ним поступим, — поясняю я, получив тайный знак от Белладонны продолжать разговор. — Лучше, если вы не будете знать никаких подробностей, чтобы на вас не пали подозрения, если наши планы примут неожиданный оборот. — Я широко улыбаюсь. Дело попалось весьма занятное. — Вы узнаете все в должный срок, когда он получит приглашение в клуб «Белладонна». Не сомневаюсь, он будет хвастать направо и налево. Постарайтесь не смеяться и не подавайте вида, что вы что-то знаете. А вскоре после этого Поли и Сьюзи-Энн перестанут вас беспокоить. Обещаем. — Я бы хотела, чтобы в тот вечер, когда Поли и Сьюзи-Энн придут сюда, вы были моими гостями на костюмированном балу, — говорит Белладонна. Это не приглашение, а приказ. — Мы уведомим вас заблаговременно, — добавляю я, тотчас же вычисляя, что задумала Белладонна. — А если вы сообщите нам свои мерки, размеры обуви, перчаток, шляп и все остальное, мы подготовим и пришлем вам маскарадные костюмы. Таким образом, Болдуины вас не узнают, даже если вы будете сидеть за соседним столиком. И вы все услышите. Но чтобы с вами в тот вечер не было ни приятелей, ни мужей. Только вы, девять дам. Все остальное — наша забота. Вечер будет такой, какого вы никогда не забудете, обещаю. — И вы сделаете все это для нас? — спрашивает Элисон, и ее щеки вспыхивают. — Почему? — Потому что могу, — резко отвечает Белладонна, берет один из вееров, раскрывает его, видит на нем сцену веселого пикника, где гуляющие одеты в такие же костюмы эпохи барокко, как у нее самой, захлопывает его и выбирает другой веер. — Слишком много женщин попадает в зависимость от обстоятельств и не имеет возможности их изменить. Я не такая. Я сама создала себе все возможности. И пользовалась для этого любыми средствами. Она имеет в виду хитрость, ум, преданный и хорошо обученный персонал, который подобрал ей Джек. Замыслы и планы. И, конечно, подкупы. Найти юристов, сочувствующих женщинам, — в 1953 году это был подвиг, достойный Геракла. И решимость, твердая решимость никогда не проигрывать. — Кто вы? — спрашивает Элисон. На счастье, Белладонна не ударяется в панику, потому что чувствует — в этом вопросе нет подвоха. На лице Элисон написано простое любопытство. — Я Белладонна, — отвечает она. — Но я не всегда была такой. Могу только сказать, что на моем пути очень часто встречались разные Поли Болдуины. Вот все, что вам нужно знать. Она все еще поигрывает веером. Я изумлен. Она никогда и никому не открывала так много — хотя на самом деле открыла такую малость. Когда просительниц допускали к ней в кабинет, говорили в основном они. Но тем не менее, они уносили впечатление, что Белладонна вложила в их головы множество хитроумных идей, пусть даже на самом деле она всего лишь спросила: «Зачем вы пришли?» — Мы живем во времена, когда, как вы совершенно верно заметили, женщине не дозволяется иметь свой голос, даже чтобы заказать себе коктейль, — продолжает Белладонна. — Почему бы, например, такой женщине, как вы, с вашим умом и храбростью, не управлять экспортно-импортной компанией, такой же, как у Поли? — Я не могу… — разводит руками Элисон. — Еще как можете, — возражает Белладонна. — У вас хватило ума написать письмо, которое привлекло мое внимание, хватило храбрости вступить в мое королевство. Элисон улыбается, на этот раз по-настоящему. — Я уверена, каждая из вас знает об экспортно-импортном бизнесе столько же, сколько и Поли, если не больше, — добавляет Белладонна. — Но допускаете ли вы хоть на миг, что его коллеги по ремеслу примут вас с распростертыми объятиями, если он будет и дальше ежеминутно подрывать вашу уверенность в себе? Элисон качает головой. — Конечно, не примут. Но я не позволяю таким, как он, вставать у меня на пути. Мне плевать, одобрят они меня или нет. — Мне вспоминается одна дама, которая поквиталась с мужчиной наподобие Поли — со своим мужем, — говорит Элисон. — Расскажите, — требую я. — У каждого из них было по собственной машине, — говорит она, — и у каждого были ключи от обеих машин. Она знала, что у него есть любовница, хоть он и отрицал это и, как всегда, обвинял во всем ее. Однажды ей это так надоело, что она решила проследить за ним после работы. Естественно, он встречался со своей подружкой в мотеле, возле Айдлуайлда. Она подождала немного, вышла из своей машины, вывела его машину со стоянки и поставила на ее место свою, а потом уехала домой. Представляете, какое у него было лицо, когда он вышел из номера с подружкой и увидел вместо своего автомобиля машину жены? Я не выдерживаю и хохочу. Мне кажется, даже Белладонна улыбается. Она встает и выходит из комнаты так же беззвучно, как и появилась. — Вот анкеты, — говорю я Элисон, пока она пытается переварить все сказанное Белладонной. Кажется, она не расстроилась из-за того, что Белладонна ушла, не попрощавшись. — Все вы, все девять должны заполнить их как можно скорее и прислать нам. Инструкции прилагаются. — Спасибо. — Элисон берет папку и качает головой. — Мне кажется, я сплю. Можно задать один вопрос? — Задать, конечно, можно, — говорю я. — Но вы можете не получить ответа, который вам понравится. — Понимаю, — говорит Элисон. — Но все-таки попытаюсь. — Попытайтесь. — Я одариваю Элисон свой самой сияющей улыбкой. Непременно заставлю Джека самолично заняться делом Элисон. Я уже решил, что она идеально подходит для него. Да, я пытался свести его с Маризой, но ее больше интересуют резвящиеся нимфы на фресках, чем погруженный в раздумья детектив. Он ничего не говорит ни мне, ни другим, но мы знаем, что он тайно влюблен в Белладонну. И мы понимаем, что шансов на успех у него нет. Он очень хороший человек, работает для клуба не жалея сил. Но клуб не будет существовать вечно. Надо подумать о его будущем. — Скажите, Белладонна понимает, как много она значит для таких женщин, как я? — спрашивает Элисон, прерывая мои своднические мысли. — Нет, — отвечаю я. — Мне кажется, не понимает. — Вы передадите ей это от меня? — Конечно. А теперь один из наших шоферов отвезет вас домой. — Я провожаю ее к выходу, где в «кадиллаке»,растянувшемся чуть ли не на полквартала, нас ждет Дикки Дж., один из свободных от дежурства полицейских. — Как бы я хотела обнять вас, — говорит Элисон. — Тогда, наверное, я бы поверила, что все это происходит на самом деле. — У нас в клубе «Белладонна» объятия не в чести, — отвечаю я, не желая задеть ее чувства. Я понимаю, что в высшей степени достоин жарких объятий, но немного стесняюсь своего широкого обхвата. — Но признателен вам за такой порыв. Она улыбается, садится в машину и машет на прощание. Я знаю, она еще сильнее удивится, когда Дикки вручит ей три пакета. — Конверт — для вас и ваших коллег по работе, — скажет он. — Разделите поровну для покрытия предстоящих расходов. Сверток побольше — для вашей матушки, а поменьше — для вас. В багажнике у меня подарок для вашего сына. В конверте похрустывают восемнадцать новеньких стодолларовых купюр, в большом свертке лежит бледно-голубая кашемировая шаль, а в маленьком — лайковые перчатки медового оттенка, который идеально подойдет к волосам Элисон. А ее сын придет в восторг, получив электрическую железную дорогу. Коробок так много, что Дикки придется три раза подниматься по лестнице к квартире Элисон. Подобные маленькие жесты приносят большую пользу.* * *
Спустя несколько недель, на Сельском Балу, за одним из столиков собралось дивное видение — двенадцать пастушек в масках. Нет, я не ошибся в счете; чтобы отвести подозрения, мы для ровного счета добавили к девушкам из конторы Элисон еще трех наших «проституток» с Вашингтон-Стрит. Один из официантов по секрету сообщает Поли и Сьюзи-Энн, что пастушки за соседним столиком прибыли из Исландии, поэтому почтенной паре в голову не придет, что хоть одно из этих божественных созданий говорит по-английски. И голоса девушек не покажутся им знакомыми. Теперь нам нужно только несколько овечек. Поли одет сельским аукционистом, продающим скот, а Сьюзи-Энн нарядилась женой аукциониста. Это значит, что на ней вообще нет маскарадного костюма. Она до сих пор ворчит, что негодная гардеробщица заставила ее сдать драгоценную накидку с лисьими головами. «Ведь лисы — это из сельской жизни!» — протестует Сьюзи-Энн, но безрезультатно. Белладонна поднимается на сцену. Она одета розовой дрезденской пастушкой. Лиф из того же бледно-розового атласа, что и маска; юбка переливается всеми оттенками розового, под ней шелестят светло-вишневые нижние юбочки. Губная помада и перчатки ослепляют ярким малиновым цветом, в кольцах поблескивают розовые турмалины. — Добрый вечер, леди и джентльмены! — произносит она под бурные аплодисменты. — Благодарю вас за то, что вы пришли на мой Сельский Бал. — Она раскрывает веер, расписанный буколической сценой, где румяный Джек карабкается на холм, ведя за руку зардевшуюся Джилл, и начинает лениво обмахиваться. — Законом сельской жизни — точнее, законом природы — как известно, является естественный отбор. Он гласит: выживает сильнейший! Я не ошибаюсь? — нежным голосом спрашивает она. Ответа не следует, потому что гости озадачены — что она задумала? Что это — своеобразный вид риторического вопроса? А вдруг они дадут неверный ответ? Что она сделает — свинтит крышку с одного из своих колец и подсыплет им в бокал пузырящегося яда? — Только сильнейшим дозволено попасть в клуб «Белладонна», верно? — продолжает она. — Многие ли из вас считают себя самыми сильными и могучими существами в стране? Вы, сэр? — Она указывает на одного из гостей, и тот заливается пунцовой краской, в цвет туфелек Белладонны. — Или вы? — Она указывает на другого. — Или вы? Кто вы — охотник или лисица? Сильный или слабый? Она делает шаг к краю сцены. — Если законом сельской жизни является выживание сильнейших, что происходит со слабыми? Куда им податься? Кто их защитит? Всегда ли охотнику удается поймать лисицу? Она сходит со сцены; луч прожектора, как обычно, следует за ней. — Кто позаботится о самых слабых? — продолжает она, и нежная сладость ее голоса внезапно сменяется ледяной дрожью. — Кто накажет врага, нападающего на слабых? Кто будет охотиться за охотником, убивающим лису? Она медленно идет от столика к столику, останавливаясь возле каждой пары. — Кто силен, а кто слаб? — Иногда она медлит около компании перепуганных, но тем не менее восторженных гостей, и они чувствуют, что ее застывшая улыбка поддразнивает их. — Кто из вас охотник? — спрашивает она. — А кто — лисица? Кто вы такие? Зачем вы здесь? — Она у нас сильная, — отвечает один мужчина, указывая на жену с такой готовностью, что Белладонна смеется. От этого нежного звука по залу волной прокатывается вздох облегчения. Как быстро гости забыли, что всего мгновение назад ее голос леденил им кровь. Белладонна движется дальше, проводит веером по парику одной молочницы, вытягивает травинку из соломенной шляпы ее спутника и задумчиво жует. Все вокруг смеются, радуясь невинной шутке Белладонны. Она останавливается возле компании крестьян с женами, одетых для кадрили; с первого взгляда ясно, что их костюмы сшиты дома на скорую руку. — Охотники у нас они, — гордо заявляет одна из жен, беря мужа под руку. — Какая уж тут охота, когда обе ноги левые, — смеется другая жена, и весь зал хихикает. — Тогда вы должны станцевать для нас, — говорит им Белладонна, и они переглядываются со счастливым изумлением. А она тем временем шепчет указания одному из официантов. Она идет все дальше по залу, останавливается поговорить у каждого столика, а ее гости, под всеобщее веселье, вызываются быть кто охотниками, кто лисами. Оркестр начинает разогреваться для веселого хоровода с притоптыванием, а Белладонна останавливается между двумя столиками неподалеку от нашего. За одним из них собрались пастушки в ярких костюмах, их светлые косы перевязаны клетчатыми лентами; за другим восседает весьма представительная, очень самодовольная пара. — Вижу, вы сельские аукционисты, — говорит этой паре Белладонна. — Кто же из вас охотник, а кто — лисица? К счастью для Сьюзи-Энн, на ней нет ее любимой лисьей накидки. Но все равно она заливается краской. — Ага, значит, вы лисица? — обращается Белладонна к Сьюзи-Энн. Ее голос все так же низок и сладкозвучен. Потом она переводит взгляд на Поли. — А вы, наверное, охотник. Великолепно. Редкое зрелище в сельской глуши. Да, очень редкое зрелище: лисица и охотник мирно сидят бок о бок. Поли и Сьюзи-Энн не знают, что делать. На них никто не обращает внимания, скрипка звучит все громче, в ушах звенят хриплые, надтреснутые голоса, пронзительный смех, но Белладонна на удивление спокойна, и это лишает их присутствия духа. Они страстно желают, чтобы она ушла, хотя всего несколько минут назад радовались тому, что их усадили так близко к столику богини. — Скажите же мне, любезный сэр, на кого вы охотитесь? — спрашивает Белладонна у Поли. — Не знаю… — начинает он. — Нет, знаете, знаете, — отвечает Белладонна, склоняясь к нему, и утыкает веер острым концом в подбородок. — Очень хорошо знаете. Вы же сильный. Вы же охотник. — Она перемещает веер под многочисленные трясущиеся подбородки Сьюзи-Энн. — А вы, милая леди, вы тоже очень хорошо знаете. Вы лисичка, но какая вы — сильная или слабая? Белладонна быстро отдергивает веер и возвращается к столику танцоров кадрили. — Куда же исчез мой стожок сена? — вопрошает она. — Ему пора понаблюдать за танцем. — Все опять смеются. Кроме Поли и Сьюзи-Энн. — Хватит с меня этой ерунды, — говорит Поли. По его щекам идут красные пятна, ярче розовых лайковых перчаток Белладонны. Он хочет встать. — У этих негодяев… — Он застывает на полуслове — дорогу ему преграждает невесть откуда появившийся мой дражайший братец. Маттео делает обоим знак оставаться на месте, и им ничего не остается, кроме как повиноваться этому зловещему швейцару. Им видны только его глаза, горящие из-под маски, да насмешливый изгиб губ. — Если не ошибаюсь, Поли и Сьюзи-Энн Болдуин из «Болдуин Импорт-Экспорт»? — уточняет Маттео. — Верно, верно, лисичка и охотник. Поли, охотник за женщинами. Сьюзи-Энн, его верная ручная лисичка. — Маттео говорит вежливо, не повышая голоса, так, чтобы его слышали только за соседним столиком. Он так старается сыграть свою роль, что почти не шепелявит. — Я хочу дать тебе один совет, — продолжает он. — Если ты еще раз вздумаешь поохотиться за кем-нибудь из твоих сотрудниц, вообще за любой женщиной на свете, я лично объявлю охоту на тебя и своими руками отрежу тебе яйца. Эту специфическую тему предложил я, чтобы придать особую пикантность вечерним развлечениям. Маттео, разумеется, не хотелось заговаривать о подобных вещах, но я счел, что этот довод добавит его предостережениям удвоенную весомость. — А потом я возьму у мясника тяжелый нож и у тебя на глазах изрублю твои яйца в труху, — продолжает Маттео. — Потом раскрою тебе твой гнусный рот, который только и делает, что изрыгает ложь и причиняет боль, и кусочек за кусочком затолкаю твои яйца тебе в глотку. Все пастушки внимательно прислушиваются, но Поли их не замечает. Его щеки покрылись мертвенной бледностью. Маттео оборачивается к Сьюзи-Энн. — Рассказать вам, как я поступлю с лисицей? — спрашивает он. Она испуганно трясет головой, ее губы беззвучно шевелятся. — Очень хорошо. Я понятно выразился? — Оба с готовностью кивают. — Мы будем следить за вами, охотник и лисичка, и, уверяю вас, роль жертвы вам совсем не понравится. Вы всю жизнь будете бежать от охотника, ждать, когда же на вас обрушится решающий удар. Будьте спокойны, дорогие Болдуины, рано или поздно мы вас настигнем. Маттео с улыбкой выпрямляется и вежливо провожает их к выходу. На прощание он дарит им флакончик духов, от которого они не знают как отказаться. Джози галантно накидывает на плечи Сьюзи-Энн любимую лисью накидку. Но почему-то Джози забывает упомянуть, что весь вечер усердно зашивала в лисьи головы мелких замороженных креветок. Когда они оттают и начнут разлагаться, драгоценные меха Сьюзи-Энн начнут издавать непонятную вонь. Такую, по сравнению с которой сернистые воды источника в Сатурнии покажутся букетом летних роз. Когда я рассказываю об этом за столиком с пастушками, мы долго и весело смеемся. Смеются все, даже Норма. Остается только добавить, что спустя недолгое время после Сельского Бала все девять сотрудниц компании «Болдуин Импорт-Экспорт» дружно выходят из конторы и никогда больше в нее не возвращаются. Они перешли на выгодную работу с более высокой оплатой к злейшему конкуренту Поли Болдуина, а заодно прихватили с собой самых крупных клиентов. Не удивлюсь, если в конце концов управлять компанией станет Элисон. Смекалки у нее достаточно. Ей не хватало только одного — легкого толчка в нужном направлении. Скажу Джеку, пусть проследит за ее успехами. Кроме того, мне не составит труда попросить кое-кого в импорт-экспортном бизнесе о небольшой любезности. На свете немало людей, которые чувствуют себя в долгу перед неким судовладельческим магнатом по имени Леандро делла Роббиа. О, Леандро, одна мысль о тебе разбивает мне сердце. Видишь ли ты нас? Можешь ли подать знак? Что бы ты сказал, глядя, как весело смеются, празднуя победу, пастушки в белых париках? Как бы нам хотелось, чтобы на месте Болдуинов были люди, гораздо более важные для Белладонны. Кто угодно, хоть один из членов Клуба, любой. Как трудно сохранять терпение. Она до них доберется. В этом у меня нет сомнений. Просто поиски затянулись слишком надолго, и мы начали уставать.8 Голоса, от которых тает лед
Маттео, кажется, обрел дар речи. И произошло это благодаря Аннабет. Я рад за него, искренне рад. И Белладонна тоже рада. Не сомневайтесь. Мы не смели и мечтать, что кто-нибудь из нас хоть на шаг приблизится к нормальной жизни, будет окружен нежностью и заботой. Белладонна не настолько жестока, чтобы лишать моего брата права на любовь. Остается только одна небольшая загвоздка. Дело не в том, что Аннабет настаивает или хотя бы ожидает, когда же Маттео разделит с ней постель. Но рано или поздно их отношения дойдут и до этой стадии — или, точнее, не дойдут — и тогда объяснений не избежать. — Что мне делать? — спрашивает он меня однажды днем. — Она заслуживает полноценного мужчины. — У нее уже был полноценный мужчина, и посмотри, чем это кончилось, — возражаю я. — Кроме того, дети у нее уже есть, так что одной заботой меньше. — Я не о детях. Ты понимаешь, что я имею в виду. — У меня сохранились смутные воспоминания, что существуют и другие способы доставить женщине удовольствие. — Конечно, существуют. Просто я не знаю, как ей рассказать. Вдруг она меня прогонит? Мое сердце разрывается от нежности к моему дорогому старшему брату. — Как это — прогонит? — возмущенно заявляю я. — Да она в тебя влюблена по уши. Просто есть небольшие помехи. — Томазино, не говори глупостей. Это не помехи, это гораздо серьезнее. — Я не говорю глупостей. Если хочешь, я сам ей расскажу. Для меня это пара пустяков, — храбро заявляю я. Это бессовестная ложь. Но для Маттео — и для того, чтобы покончить с этим вопросом — я готов на все. Мне страшно надоела щекотливость нашего положения, таинственность, какой мы сами себя окутали; они особенно обременительны, когда человек нуждается в сочувствии и заботе, как я. — И знаешь что? Пора бы уже и Джеку услышать нашу историю. Говорить буду я. — Это еще что за новости? — спрашивает Маттео, и я понимаю, что таким образом он по-своему пытается утешить меня. Его утешение куда больше понадобится мне, когда я приступлю к рассказу. Через пару дней мы приходим в клуб за несколько часов до открытия, садимся на любимый диванчик Белладонны и пьем чай. Я заглядываю в стоические лица Аннабет и Джека. Они понимают — сейчас произойдет что-то очень важное. Я решил, что нам нужно встретиться на нейтральной территории, поскольку Белладонна еще не готова к тому, чтобы посторонняя женщина — даже такая дорогая для сердца Маттео — пришла в дом и нарушила нашу маскировку. Пусть разговор состоится в клубе. Аннабет, если захочет, сможет встать и уйти, а Маттео наденет маску, скроет под ней свое горе и встанет у парадных дверей. Сейчас он сидит на краю дивана и сосредоточенно смотрит в отполированный до блеска пол танцевальной площадки. Я стараюсь не смотреть на его лицо. Я вливаю в чай щедрую порцию рома, но даже добрый горячий пунш вряд ли поможет мне довести до конца мой рассказ. Сколько лет прошло с того промозглого дня, когда нас с братом пытали и оскопили? Десять? Да, десять. Стоял 1943 год, нас занесло высоко в горы близ итальянско-швейцарской границы. Какой был месяц? Не хочется вспоминать. Было холодно, этим все сказано. Я вычеркнул из памяти самое страшное, хотя мне всегда удавалось справляться с нашим положением лучше, чем Маттео. Может быть, дело в том, что у меня от природы более легковесный характер, а может быть, мне помогала моя злокозненная способность говорить, которую я, на счастье, сохранил. Устав от наших криков, они просто взяли и отрезали у Маттео кончик языка. Я никогда не видел столько крови. Но вскоре увидел. Они полоснули ножами там, где больнее всего, и швырнули нашу самую драгоценную плоть собакам, чтобы те прекратили лаять. Но потом они вдруг вышли из комнаты и больше не вернулись. Для меня навеки осталось тайной, каким образом Его Светлость наткнулся на нас. Как вообще англичанина занесло на занятую немцами территорию в этом районе Италии в разгар войны? Я решил, что, видимо, он пытался вести двойную игру с фашистами или еще с кем-то из высокопоставленных лиц, и они его предали. Тогда он нанес ответный удар, сам предал их, всех перебил, забрал себе их пленников, деньги, оружие и исчез. Услышав, как поворачивается ключ в замке нашей камеры, мы замерли и приготовились к смерти. После того, что с нами сделали, эта участь не слишком пугала вашего покорного слугу; я всегда был молодым жеребцом, помешанным на сексе. Распластанные на залитом кровью полу, мы подняли глаза и вместо палачей увидели лоснящийся блеск тяжелых кожаных ботинок, длинный подол серо-зеленого плаща. Завернувшись в этот плащ, над нами стоял человек с окладистой бородой, носивший, как ни странно, солнечные очки. Сверху его лицо прикрывала широкополая шляпа, снизу щеки утопали в толстом шарфе. Он поманил нас затянутым в перчатку пальцем, и мы поползли за ним. Все, что было дальше, утопает в багровой пелене. Я не хочу вспоминать. Подскакивая на ухабах, истекая кровью, стараясь не стонать слишком громко, мы тащились в хвосте длинного конвоя грузовиков с развевающимися флагами. Не знаю, каким чудом этот человек и его шайка умудрились провести целый караван машин через Швейцарию в оккупированную Францию, какие связи им пришлось пускать в ход, на какие подкупы и воровство идти, чтобы раздобыть бензин в разгар боев. Я не знал и не хотел спрашивать, понимал, что такое знание может оказаться смертельным. Но почему нас? — спрашивал я себя. Зачем мы ему? Может быть, нам помог американский акцент, а может быть — просто слепой случай. Может, он спас нас просто потому, что это ему ничего не стоило, а может, хотел насолить своим бывшим партнерам. Как бы то ни было, решил я, он, видимо, нуждался в верных солдатах для каких-то своих гнусных целей и рассудил, что мы будем благодарны ему по гроб жизни, станем всегда слепо повиноваться человеку, который избавил нас от верной смерти. Мы так и не узнали, кем он был и как выглядел — нам ни разу не удалось отчетливо разглядеть его лица. «Я освободил рабов, поэтому можете называть меня мистером Линкольном», — сказал он нам, когда путешествие подошло к концу. Нас поселили в заброшенном шато где-то в глубине бельгийских лесов, неподалеку от реки Мозель, в такой чащобе, что нам ни разу не удалось отойти далеко от дома. Я боялся, что стоит нам уйти подальше — и мы уже никогда не найдем обратной дороги. Впрочем, даже если бы мы захотели сбежать, нас бы все равно не выпустили. Когда мы смогли встать с постели и начали прогуливаться по заросшим садам, мистер Линкольн показал нам колючую проволоку, которая тянулась по верху высокого каменного забора, ограждавшего огромное, в десятки акров, поместье. Потом он познакомил нас с Маркусом, чья гримаса, долженствовавшая означать улыбку, повергла меня в трепет. С ним жила его жена Матильда, экономка, такая же отвратительная, как и он; они обитали в каменной сторожке, замыкавшей единственные ворота. Двоюродный брат Маркуса, Мориц, занимал комнату этажом выше нас, чуть дальше по коридору. Он оказался еще более гнусным типом. Мы ни о чем не спрашивали; мы ничего не хотели знать. Мистер Линкольн сказал, что под его защитой нам ничто не грозит. Он пожелал, чтобы мы набирались сил, сколько потребуется, а как только поправимся, взялись за ремонт и отделку комнат, разрушенных солдатами при отступлении. Предупредил, что Маркусу и Морицу велено обеспечивать нас всем необходимым, но они ребята вспыльчивые, особенно если не знают, куда мы отлучились. Мы быстро сообразили, что к чему, и время от времени вручали Маркусу список необходимых покупок. Тогда они с Матильдой садились на побитые велосипеды и уезжали по извилистой дороге в ближайшую деревню, а потом молча возвращались, привезя все, что им удавалось раздобыть на черном рынке. Самое главное, продолжал мистер Линкольн, нам запрещается задавать вопросы о гостях, которые останавливаются в доме. Поддерживать связь с внешним миром, сказал он, мы будем через человека по имени Генри Хогарт. И уехал, оставив нас года на три с половиной. Война закончилась, мир вздохнул с облегчением. Хогарт, щеголеватый коротышка с бегающими глазками, время от времени исчезал, никого не предупредив. Его почти лысая голова походила на крутое яйцо, он любил прикрывать лысину фетровыми шляпами цвета красного дерева или лихими малиновыми беретами. Но больше всего мне запомнились его плотно облегающие черные кожаные перчатки, шелковые носовые платки в крупный «огурец» и ослепительно белый шелковый шарф, залихватски перекинутый через плечо. Он следил, как мы обдираем штукатурку со стен, потом с деланным ужасом стряхивал воображаемую пылинку с рукава безукоризненного костюма и снова удалялся. Поскольку война окончилась, мы больше не боялись вторжения вражеских войск; продуктов на рынках прибавлялось, стряпня Матильды становилась все лучше. Мы медленно излечивались, по крайней мере — телесно. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему мы не пытались бежать, почему предпочли скрываться среди лесов и зализывать раны. Встаньте на наше место: унижение и стыд, двусмысленность нашего положения ранили нас гораздо глубже, чем само физическое уродство. Мы были еще не готовы столкнуться с реальным миром, поэтому решили оставаться слугами. Может быть, навсегда. Пока шестое чувство не подскажет мне, что пришла пора перемен. Время от времени я спрашивал себя, не исчезнут ли мои предчувствия вместе с мужским достоинством. Понимаете, нас оставила воля к борьбе. И воля к мечтам тоже. Итак, мы красили стены, покрывали позолотой перила, ухаживали за садом, читали. Я поглощал все до единой книги из обширной библиотеки, которую мы отыскали в подвале, и постепенно, стопка за стопкой, переносили наверх, на полки, которые сами сооружали. День шел за днем, месяц за месяцем. Пытаясь вознаградить себя за утрату, я заполнял свой мозг словами, фактами и выводами, которые никогда не пришли бы мне в голову в Бенсонхерсте. Мы старались не есть слишком много и поддерживать хорошую форму, но все же чувствовали, что начинаем полнеть. Нас замучили перепады настроения. Мы то хандрили, то впадали в ярость. Находили в винном погребе запыленные бутылки и напивались. Кровотечение давно остановилось, но осталась боль утраты и странное чувство того, что мы меняемся изнутри. Понимаю, в каждом мужчине есть хоть немного от женщины, и это хорошо, потому что обостряется способность к мимолетным тонким чувствам, но нельзя мужчину делать женщиной без его согласия. Маттео не был трусом, но всегда страдал от робости и неуверенности в себе; меня же, напротив, переполняла бравада молодости и мужского начала. Он воспринимал жизнь серьезнее, чем остальные парни в нашей компании. Я уже успел пресытиться женщинами — честно говоря, я всегда был неутомим, как молодой бычок, которого выпустили на поле к телкам, поэтому я нередко поддразнивал Маттео — дескать, он единственный американец в Италии, которого еще ни разу не уложили в постель. Он не был силен вести беседу ни на одном языке и стеснялся своего ломаного итальянского; я же, напротив, пускал в ход американский акцент для того, чтобы покорять сердца местных девиц, которые считали, что мы приехали не из Бенсонхерста, а чуть ли не из Голливуда. По горькой иронии судьбы мы выросли в Бруклине и были, наверное, единственными американцами, кого дурная голова занесла в Италию навестить родственников в конце 1939 года. Я не жалею о том, что моя воспитанная в уличных драках дерзость привела меня к партизанам — по крайней мере, не жалел, пока нас не поймали. Иногда, во сне, ко мне возвращаются обрывки воспоминаний о том, как нежна женская плоть, я ощущаю, как женщина извивается и стонет от наслаждения подо мной, испытываю животную радость физического пресыщения. Но у Маттео не осталось ничего, кроме боли и молчания, и в этом я виню себя. Тогда-то мы и встретили Белладонну. Мне больше нечего прибавить. Я уже рассказывал вам об этом, поэтому не заставляйте меня напрягаться снова. Нет, нет и нет, подождите еще немного. Я заканчиваю рассказ, и наступает долгое молчание. Маттео едва осмеливается дышать, он притих, и лицо у него, как у потерявшегося малыша. У Аннабет по щекам катятся слезы, и даже невозмутимый Джек страшно подавлен. Аннабет вытирает слезы, встает и подходит к Маттео. Опускается перед ним на колени и хочет взять его за руки, но он отдергивает их. — Не отталкивай меня, Маттео, прошу тебя, — молит она. — Мне все равно, что с тобой случилось. Честное слово, это не имеет значения. Ты самый храбрый, самый нежный, самый лучший мужчина на свете, и я люблю тебя таким, какой ты есть. Маршалл и Шарлотта тоже тебя любят. Ты давно стал частью нашей семьи. Ты нам нужен. Маттео упрямо смотрит на свои ботинки. По его щекам медленно скатываются две слезинки. Они чертят прямые мокрые следы. Я чувствую присутствие Белладонны, поднимаю глаза — и действительно, она стоит и смотрит на нас из тени. Она едва заметно качает головой, и я снова перевожу взгляд на брата. Аннабет склоняется и обнимает лицо Маттео ладонями, вытирает мокрые щеки. — Пойдем со мной домой, — тихо просит она. — Пожалуйста. Ты можешь взять выходной? Прошу тебя, милый. Сегодня мне необходимо побыть с тобой. — Иди, — говорю я. — Джеффри будет рад остаться за старшего. Аннабет встает и протягивает руки. Маттео смотрит в ее глаза, сияющие любовью и нежностью, и по его щекам скатываются еще две слезинки. Я, сентиментальный добряк, едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Я поднимаю глаза, смотрю в тень и вижу — Белладонна исчезла. Маттео переводит взгляд на меня, я пытаюсь улыбнуться ему. Он уходит с Аннабет. — Прости, Томазино, — говорит Джек после долгого молчания. — Спасибо, но не нужно ничего говорить, — останавливаю его я. — Можно спросить у тебя одну вещь? — говорит он, и я киваю. — Что случилось с твоей семьей? Они знают, что ты здесь? Хочешь, я разыщу их? — Это очень любезно, — отвечаю я и пытаюсь вытереть нос, сохраняя при этом хоть каплю достоинства. — Но им сообщили, что мы мертвы. Кроме того, наш отец умер в 1944 году, а мать скончалась два года назад. Мы наводили справки. А остальные… мне не хочется представать перед ними. После стольких лет. Да и для них так будет легче. — Хочешь увидеть их на фотографиях? Мне отчаянно хочется закричать «Да!», но я сдерживаюсь. Мне тяжело думать о них. И Маттео тоже. Мы вычеркнули из памяти все: и прошлое, и детство, и дом, братьев с сестрами, дальних родственников, все наше шумное семейство. Вычеркнули из памяти себя — таких, какими мы были раньше. — Теперь наша семья — Белладонна, — говорю я. — Понимаю, — отвечает Джек и уходит, оставляя меня в пустом зале наедине с призраками, которые создали меня.* * *
Еще одна жаркая ночь в клубе. Мы довольно уныло черпаем ложками из серебряных чашек фруктовое мороженое с джином и тоником — наше летнее фирменное блюдо. Никто вокруг не вызывает у нас ни малейшего интереса, и настроение у Белладонны хуже некуда. Я не могу ее винить. Ожидание перестало быть веселой игрой. Даже для меня, с моей неисчерпаемой способностью потешаться над глупостью тысяч зевак, прошедших сквозь зеркальные врата в клуб «Белладонна». — Я просыпаюсь по утрам и не могу вспомнить, что происходило вчера, не помню даже слов Брайони, — ворчит Белладонна. — Что можно после этого сказать обо мне? — Можно сказать только одно: вчерашние события не заслуживали того, чтобы их запомнить. Входит еще одна компания гостей; оживленно раскланявшись с нами, они начинают громко сплетничать. Пытаются убедить нас, что они — люди искушенные во всех жизненных проблемах, но им это не удается. — Охота за женатыми мужчинами никогда ничем не грозит, — говорит одна дама. — Но это страшно сердит их жен. — Это ничем не грозит только потому, что они уже женаты, — возражает ей мужчина. — Значит, вас минует ужас жить с ними бок о бок. «Истинная правда», — думаю я, глядя на этого мужчину. Его плечи так покаты, что фигура напоминает винную бутылку. Щеки пылают, как бокал каберне, а лицо его спутницы напудрено так, что напоминает бледный стебель спаржи, выращенной в подвале. Вместе они представляют собой чудовищную пародию на Белоснежку и Краснозорьку. — Если вдуматься, какая страшная вещь — секс на трезвую голову, — продолжает он. — Я уже успел забыть, как работают мои нервные окончания. Просто ужас! Честное слово, не знаю, сумею ли я совладать с этим занятием чаще чем раз в пять лет. Когда на людях нет одежды, они говорят самые неожиданные вещи. К тому же видишь все их недостатки невооруженным глазом. Но, по правде сказать, о лице не очень-то думаешь, если все остальное в порядке. Или у вас другое мнение? Белоснежка широко зевает. — Я вас утомляю? — спрашивает он. — Нет еще, дорогой Рональд, но осталось совсем недолго. Вы невероятно грубы, — отвечает Белоснежка, похлопывая его по щеке, пожалуй, слишком сильно, — но мне нравится животная грубость в мужчинах. Она так привлекательна. Не забудь рассказать всем о своей новой любовнице. — Белоснежка обводит глазами стол. — Она вдвое моложе его, вдвое выше и вдвое жизнерадостнее. Прелестно, правда? — Потом, извинившись, она удаляется в дамскую комнату. Рональд смотрит ей вслед и пожимает плечами. — Красивые у нее волосы, верно? Чудесный оттенок, и она их подкрашивает совсем чуть-чуть. — В детстве она была очаровательным ребенком, — говорит кто-то. — Дорогая моя Дороти, очаровательные дети остаются семнадцатилетними, пока им не стукнет двадцать пять, — отвечает Рональд. — Как Далси, — говорит Дороти. — Слышали, что сделал с ней один нефтяной магнат? — Нет, — отвечают за столом. — Расскажите. — Дело было так, — начинает Дороти и взмахивает накладными ресницами, проверяя, слушаю ли я. — Этот магнат пригласил ее на ужин, дворецкий впустил ее и провел в столовую, сказав, что магнат вот-вот появится. Он налил ей коктейля и вышел, а она начала ложкой уплетать икру. И вдруг из-под стола лает собака. Она заглядывает — и что же? Там сидит ее магнат! Раскрасил себе лицо, как собачью морду, надел ошейник и привязал поводок к ножке стола. Он опять залаял, потом заскулил, как голодный пес, требуя, чтобы она бросала ему еду под стол! — И что она сделала? — спрашивает Рональд. — Она не знала, что делать, поэтому просто встала и ушла! — восклицает Дороти. — Вот дура! Если бы она повела себя правильно, то получила бы от этого вечера гораздо больше, чем пару ложек икры. Дороти права. Надо было вывести магната на прогулку. А потом привязать его к дереву и оставить — путь лает на потеху соседям. — Такие мужчины не платят женщинам за секс. Они платят, чтобы те ушли, — говорит Рональд. — А к женщинам, которым они действительно платят, они питают гораздо больше уважения. — А что вы скажете о женщинах, которые платят мужчинам? — спрашивает Дороти. — Джине де Лоренцо стукнуло семьдесят восемь, а ее новому любовнику сорок один. Его мать говорит, что Джина должна его усыновить. — Джина — нимфоманка, — заявляет Рональд. — Дорогой Ронни, ты считаешь нимфоманкой каждую женщину, которая любит секс, — воркует Белоснежка, возвращаясь к столу. — И думаешь только о своих победах. Но я пришла к выводу, что самые великие завоеватели женских сердец чаще всего бывают несостоятельны. — Она широко улыбается. — Мне кажется, импотентов нужно сбрасывать со скалы. В этом случае мир стал бы гораздо уютнее для нас. Я бы никогда не смогла лечь в постель с мужчиной, у которого не стоит. Аморально не заниматься сексом, лежа рядом в постели. — Джулиус говорит, он занимается сексом всего раз в месяц, — говорит одна из женщин. — В полнолуние. Эта болтовня о сексе начинает меня раздражать. Честное слово, я уверен, что все эти умудренные знатоки сексуальной жизни, придя домой, либо с увлечением читают труды доктора Кинзи, либо повязывают фартук в стиле матушки Эйзенхауэр и ставят в духовку ужин для своего благоверного. — Я хочу, чтобы сюда пришла моя кузина Джун, — внезапно заявляет мне Белладонна. — Как можно скорее. Я должна хоть чем-нибудь заняться, должна почувствовать, что дело не стоит на месте. Естественно, как только она произносит это, к нам приближается Джек. — На улице возникли осложнения, — сообщает он и рассказывает. К дверям клуба, распугав уличную толпу, подкатил длинный черный «кадиллак». Из него вышли два головореза. Они демонстративно натянули на лбы фетровые шляпы и поправили галстуки. Этих красавчиков будто специально отобрали среди тюремной публики на роли образцовых гангстеров. Маттео был начеку, Андромеда тихо рычала. Маттео еле заметно кивнул Джеффри, и тот включил микрофон. Наши теневые вышибалы плотнее стянулись в кольцо, толпа, оцепенев от ужаса, застыла на месте. Громилы направились прямиком к дверям. Андромеда бешено залаяла. — Заткни пасть своему проклятому псу, — заявил один. — Прошу прощения? — переспросил Джеффри. — Я сказал, заткни пасть этому псу. Сюда идет мистер Бонавентура. — Если я правильно понял, — с ледяным спокойствием произносит Джеффри, — ни одного из вас не зовут мистер Бонавентура? — Убери пса, — вступил в разговор второй, откинул полу пиджака и показал кобуру под мышкой. — Мистер Бонавентура хочет войти, а мистер Бонавентура всегда получает то, что хочет. — Даже так? — Да, именно так. Они еще не поняли, что эта беседа, проводимая по всем правилам ораторского искусства, транслируется через громкоговоритель и ее слышит вся толпа на улице, в том числе полицейские, которые жуют сэндвичи в машинах на каждом углу. — Что вам сказать, сэр, — медленно протянул Джеффри. — Если я вас правильно понял, эта штуковина — пистолет, и вы целитесь из него в меня. У вас есть разрешение на владение столь грозным оружием или мне сегодня просто не повезло? По толпе прокатился нервный смешок. — Прочь с дороги, — зарычал первый громила. — Но Андромеда очень боится пистолетов, — возразил Джеффри. Головорезы даже не успели понять, откуда на них обрушились удары. В мгновение ока они лежали на спине, и ловкие пальцы Маттео и Джеффри покоились на курках их же пистолетов, нацеленных им в головы. Толпа зааплодировала, полицейские защелкнули на руках чертыхающихся головорезов наручники и увели их. Вряд ли вы поверите, если я скажу, что мистер Бонавентура был счастлив видеть, что случилось с его телохранителями. Но, ко всеобщему удивлению, он вылез из блестящей черной машины, бросил пару слов шоферу, который, казалось, возражал ему, и не торопясь направился к дверям. Он помахивал тросточкой, как Леандро, но в лице этого итальянца не было ни капли благородства. Джек вышел на улицу и быстро посовещался с верными часовыми. — Думаю, он нам пригодится, — сказал Маттео. — Будь он хоть сто раз Бонифасио Бонавентура, он не такой дурак, как его телохранители, иначе не добрался бы до вершины. К тому моменту, когда мистер Бонавентура подошел к двери, наступила такая тишина, что упади булавка — будет слышно. Даже полицейские, уводившие арестованных головорезов, остановились и удивленно смотрели. — Добрый вечер, — сказал мистер Бонавентура. — Добрый вечер, сэр, добро пожаловать в клуб «Белладонна», — как ни в чем не бывало ответил Джеффри. Андромеда, послушная крошка, как и велено, хранила молчание и виляла хвостом. — Входите, милости просим. Мистер Б. кивнул и вошел. Пока он, как и все простые смертные, платил за вход и сдавал в гардероб пальто и шляпу, Джек поспешил по коридору ко мне и Белладонне. Джози вопросительно взглянула на Маттео, тот кивнул, и мистеру Б. разрешили оставить тросточку. Джек встречает мистера Б. в конце зеркального коридора и приветствует его легким поклоном. — Белладонна просит оказать ей честь и сесть рядом с ней, — говорит он. Мистер Б. садится за наш стол. Он невелик и смугл, как окурок гаванской сигары, глаза у него тусклые, как у осетра. Малопривлекательный тип, но мне ли судить о мужской наружности? Кому же еще, как не мне. — Я очень рада, что вы смогли заглянуть к нам сегодня, — холодно говорит Белладонна мистеру Б. и машет веером одному из официантов. — Чем могу служить? Как сделать ваш визит наиболее приятным? Все гости в клубе притихли и насторожились, глядя на них. Все знают, кто такой мистер Б. И до смерти боятся, что он перестреляет их всех прямо в клубе «Белладонна». Они забыли, с кем он разговаривает. — Полагаю, вам известно, чего я хочу, — говорит он. — Нет, боюсь, что неизвестно, — отвечает Белладонна. Ее лицо под маской непроницаемо, как камень. — Я бы предпочел побеседовать с вами наедине, — говорит он. — Это мой личный столик. Считайте, что мы отрезаны от остального мира. — Потом, переходя на итальянский, добавляет, — если предпочитаете, можем говорить на этом языке. Потом она указывает веером на меня. — Это Томазино, мой личный управляющий, и Джек, он отвечает за безопасность. Джек не силен в итальянском, поэтому не сможет понять всего, о чем мы будем говорить. — Неважно, он достаточно умен, чтобы обо всем догадаться самому. Вот что бывает, когда вы нанимаете лучших из лучших. Осетровые глаза мистера Б. чуть прищуриваются. Ему этот поворот не нравится. — Итак, caro mio, — бодро заявляет Белладонна, — после столь впечатляющей сцены на улице я осмеливаюсь предположить, что просьба, с которой вы хотите ко мне обратиться, носит безотлагательный характер. Мистер Б. хмурится. Все идет не так, как он предполагал. Белладонна не вписывается в схему женщины, созданную ограниченным, весьма однобоким воображением мистера Б. Официант приносит бутылку «Дом Периньон». — Благодарю, Чарльз, — говорит Белладонна, наливает бокал мистеру Б. и делает официанту знак склониться ближе. — Чарльз, мистер Бонавентура обсуждал со мной квалификацию моего персонала. Мне кажется, он бы с удовольствием взглянул на ваши бумаги. Мистер Б. явно озадачен. Нет, нет и нет, он не произвел на меня благоприятного впечатления. Между Джеком и такими типами, как мистер Б., лежит пропасть. Джек обладает редчайшим качеством — он неслышен, у него тренированные инстинкты и быстрый ум, на удивление проницательный взгляд. У него глаза на затылке и безошибочное чутье на опасность. Он умеет ждать, умеет осторожно и тщательно рассчитывать. А мистер Б. всегда хочет того, чего ему вздумается, и хочет немедленно. Мгновенно получить удовлетворение — это так скучно! Чарльз быстро отворачивает лацкан и показывает значок ФБР. Мистер Б. переводит ошеломленный взгляд с него на меня и Джека, потом на Белладонну. Потом, нам на удивление, разражается хохотом. — Примите мои поздравления, синьора, — говорит он, поднимая бокал. — Вы положили меня на обе лопатки. Хотя, может быть, вы все же нуждаетесь в моей защите от этих негодяев. — Если мне понадобится защита, — говорит Белладонна, подмигивая ему, — в первую очередь я обращусь к вам. — Она жестом велит Чарльзу отойти, и толпа испускает дружный вздох облегчения. — Ну, мистер Бонавентура, расскажите же мне о своей семье. И об Италии. Где вы родились? Пока они разговаривают, Джек исчезает. Я наливаю себе еще вина. Мистер Б. рассказывает, какой прекрасный город Сорренто. — Я никогда там не бывала, но, когда слышу песню «Вернись в Сорренто», мне хочется сесть на первый же пароход и уплыть туда, — говорит Белладонна. — Я ее часто напеваю, — отвечает мистер Б., на удивление задумчивый. — Вы любите петь? — Только у себя дома. Мне всегда хотелось стать оперным певцом. Разумеется, хотелось. Я давно почуял, что разговор перейдет на это, но Белладонна ничего не упускает. — Знаете что? — говорит она ему. — Вы не хотели бы спеть у нас? — У вас? Как это понимать? — Через пару недель мы собираемся устроить костюмированный бал — Лесная Фантазия. Сделаем декорации в виде итальянского леса, а вы, если захотите, можете спеть нам эту песню. Или любую другую по вашему выбору. Как видите, у нас великолепный оркестр. Я поговорю с руководителем, вы придете заранее для небольшой репетиции и в тот же вечер споете для нас. Если хотите, можете надеть маску. — Под своей маской она почти улыбается. Почти, но не совсем. Мистер Б. долго и внимательно разглядывает ее. — Вы в самом деле разрешите мне спеть? — спрашивает он. Она пожимает плечами. — Буду очень рада.* * *
Такая выходка вполне в духе Белладонны — единственным мужчиной, которому она оказала честь, усадив за свой стол, был гангстер, неотесанный головорез. Она попросила его спеть не потому, что он ее запугал, не потому, что ждала в ответ особых милостей, хотя после выступления на Балу Лесной Фантазии — разумеется, инкогнито — мистер Б. заверил Белладонну, что ради нее он, если понадобится, готов потянуть за любые нити или соорудить кому надо пару цементных башмаков. В конце концов, не такая уж плохая штука — иметь гангстера, который благодарен вам по гроб жизни. Она пригласила его просто потому, что ей так захотелось. Кроме того, у мистера Б. оказался на удивление приятный баритон. Но его голос бледнеет и исчезает в небытии, когда Маттео подходит к Белладонне и сообщает ей свою новость. Мистер Б. как раз заканчивает свой второй выход. Даже под маской я вижу на лице Маттео то самое выражение, какого мы ждали давным-давно. Воодушевленное ожидание. — Здесь Лора, — говорит он. — Лора Гарнетт. С компанией друзей. Лора Гарнетт. Вот как. Незваное напоминание о прошлом. Это знак судьбы. Предчувствие струится по жилам от колена вниз и щекочет между пальцами ног. Сначала Лора, затем придет Джун. Она не сможет устоять перед приглашением на бал «Ночь в Касбе», которое мы ей послали. А затем — один из них. Членов Клуба. Один из них непременно должен явиться. Услышав имя Лоры, я мгновенно переношусь в Мерано, на минеральные воды, туда, где прогуливается человек с проницательными карими глазами, с тросточкой, увенчанной золотой головой льва, с тяжким бременем на душе. Леандро сказал, у Лоры голос, который может растопить льдину. Как хорошо, что она пришла именно сегодня. Неплохо было бы попросить ее спеть дуэтом с мистером Б. Мы с Белладонной переглядываемся. — Она тебя узнала? — спрашиваю я. Маттео отрицательно качает головой. Белладонна улыбается. На самом деле улыбается, под маской, очень широко. — Великолепно, — говорит моя дорогая Белладонна. — Введите ее. Введите их всех!9 Дуновение вод
— Гай, а тебе, оказывается, палец в рот не клади, — с кокетливой улыбкой говорит Лора. Она сидит за соседним столиком с друзьями, и мы внимательно прислушиваемся к комментариям, которые они отпускают в наш адрес. Двое из них кажутся мне смутно знакомыми — мужчина по имени Гай и другой англичанин. Я знаю, что уже однажды видел их, только не могу припомнить, когда и где. Лора, как всегда, очень красива — кожа нежного кремового оттенка, светлые волосы скручены в тугой пучок, полныегубы ярко розовеют, щеки зарделись от волнения. В тусклом освещении клуба кажется, что она почти не постарела, но я уверен, что при свете дня станут отчетливо видны следы несчастья, глубоко вытравленные на ее лице. — Естественно, — отвечает Гай. — Как и Пиригрин, я вынужден поддерживать свою репутацию. Кроме того, не вижу причин быть терпеливым с человеком, который одновременно и дурак, и мошенник, да к тому же рад служить любому хозяину. Особенно если этот хозяин — женщина. — Он открыто подмигивает Лоре. — Невозможно быть влюбленным в женщину и время от времени не испытывать желания ее придушить. — Он достает серебряный портсигар. — Обращайтесь с любовницами, как с собаками, и вы станете намного счастливее. Чего хотят от нас собаки? Привязанности, твердой дисциплины и пищи. Дайте им все, чего они хотят, и они будут любить вас и преклоняться. — Мне вспоминается одна дама, которая жаловалась на любовника — мол, в постели он называет ее похотливой сучкой, — говорит Пиригрин. — А он отвечал: «Но, дорогая, это же комплимент. Я англичанин, а ты знаешь, как мы любим своих собак». Всеобщее веселье. Не смеется только Белладонна — она лениво обмахивается веером. Могу себе представить выражение ее лица. — А вы, Пиригрин? Если не ошибаюсь, вы тоже частенько называете вашу жену сучкой? — спрашивает кто-то. — Совершенно верно, — отвечает тот. — Потому что это чистая правда. Бедный я, бедный. — Бедный ты, бедный, — вторит Гай. — Мы-то все знаем, что твоя жена, — он помолчал для драматического эффекта, потом громким театральным шепотом, так, что услышали даже мы, закончил: — лесбиянка. Пиригрин пожимает плечами. — Что поделаешь. Знаете, что она сказала однажды вечером? Мы были на чудесном обеде, и, стоило мне нацелиться на нежнейший кусочек жареной куропатки, как она вдруг объявила: «Дорогие мои, я должна кое в чем признаться». Естественно, я решил, что она разбила машину, или уронила китайскую вазу династии Мин, или пожала руку прокаженному. А она продолжает: «Дважды, дважды в жизни я спала с мужчиной». Смех еще громче. Теперь я вспоминаю. Гай и Пиригрин были здесь на Балу Всех Стихий, сидели за соседним столиком в компании надутых типов из мира моды. Гай все такой же загорелый и сухощавый, глубоко посаженные темно-голубые глаза сверкают умом и добродушием. Или это злоба? Проклятье. За всеми волнениями из-за Аннабет я совсем забыл о них. Интересно, кто они такие и откуда знают Лору? — Какой, наверно, бурный был у тебя медовый месяц! — восклицает одна из дам за столом. — Но разве в этом только ее вина? Доподлинно известно, что почти все англичане — разумеется, исключая присутствующих — в постели не сильны. Если человек хоть однажды ходил в закрытую школу, его жизнь загублена навеки. Кому и знать, как не мне: я испытала на себе весь шестой класс Итона. Так, по крайней мере, мне кажется. — Она улыбается. У нее полный рот зубов. — Ухаживания и все такое прочее проходят просто прекрасно, но, когда дело доходит до серьезных вещей, они, гм… не справляются. — Но как приятно, когда за тобой ухаживают, — говорит Лора. — На приятные слова легко поддаешься. Только не моя Белладонна. Приятные слова ни к чему не приведут. — Думаю, вы слышали, что произошло с одной приятной особой, сестрой нашего Драгоньера, — говорит Гай. Его друзья отрицательно качают головами; он набирает полную грудь воздуха и выпускает идеальные кольца дыма. Они растворяются в сумеречном воздухе клуба. — В Париже она познакомилась с чудесным юношей, влюбилась и в порыве страсти сгоряча выскочила замуж. Сами знаете, как это бывает. Понимаете, он напомнил ей одного человека, с которым она была знакома. У них были совершенно одинаковые глаза, одного и того же голубоватого оттенка, и они посмеивались над этим, говорили, что они родственные души. Какое счастье, что они нашли друг друга. Медовый месяц прошел в угаре страсти, впереди их ждала тихая спокойная жизнь, полная блаженного домашнего уюта. Однако имейте в виду, что лично я не вижу в брачных узах никакого смысла. Неужели обручальные кольца и брачное свидетельство могут таинственным образом возместить целую жизнь, проведенную в несовместимости и скуке? — Он пожимает плечами. — Мы так часто принимаем смятение чувств за страсть, а одержимость за любовь. — Да прекрати ты, — говорит Пиригрин, надувая губы. — Не порти нотациями свою занятную историю. Гай выпускает еще колечко дыма и, немного помолчав, продолжает. А он незаурядный тип. Соблазнителен, умеет манипулировать людьми. Такие всегда решительно направляются к дверям, когда последняя возлюбленная молит их остаться. — Через несколько месяцев сестра Драгоньера — если не ошибаюсь, ее звали Клементина — решила поехать домой и представить своего очаровательного мужа дорогим маме и папе. Насколько помнится, в это время она ждала ребенка. И беременность как раз начала становиться заметной. Прелестное создание. — Он допивает бокал и делает знак официанту принести еще бутылку шампанского. — Была только одна маленькая помеха. Но она, будь Клемми немного понаблюдательнее, могла бы привести эту печальную сагу к гораздо более неожиданному концу, еще до того, как она началась. Официант приносит шампанское, и Гай ждет, пока наполнят его бокал. Он умеет затягивать рассказ. Я замечаю, что Белладонна слушает очень внимательно. У меня начинают подергиваться пальцы на ногах, странная скованность поднимается по лодыжке и оседает под коленной чашечкой — там, где обитают предчувствия. — Счастливая Клементина вместе с мужем прибывают домой. Ее отец бросает один-единственный взгляд на прелестного юношу, и его лицо приобретает непередаваемый красновато-коричневый оттенок, — продолжает Гай. — Оказывается, папина милая крошка вышла замуж за сына папиной милой любовницы. Она, разумеется, этого не знала. Не знала и мама. Знал только милый добрый папочка, чей взгляд, естественно, сразу же упал на чуть припухший животик Клементины. — Это правда? — спрашивает Лора. — Откуда ты знаешь? Гай улыбается. — Неужели я смог бы сочинить такую историю только для того, чтобы развлечь вас? — И что же случилось дальше? — настойчиво поторапливает Пиригрин. — Странно, что я никогда даже краем уха не слышал об этом происшествии. — Она, естественно, родила этого младенца, — отвечает Гай. — На этой стадии милому доброму папочке было уже слишком поздно признаваться в чудовищных последствиях своей неверности. Это была для него кара Божья. Вы согласны? — А что было с ребенком? — спрашивает Лора. — Он жив? — Смею сказать, девочка очень похожа на обоих родителей. — Постыдись, Гай, — говорит Лора. Улыбка давно слетела с ее лица. — Нехорошо смеяться над ни в чем не повинным младенцем. — Ты совершенно права, — откликается он. — Смиренно прошу прощения, дорогая Лора. — Он берет ее руку и целует. Она едва заметно улыбается, но я вижу, что она все еще подавлена. Гай хочет налить ей шампанского, но она отстраняет его руку. — Что ты об этом думаешь? — спрашиваю я у Белладонны. — Думаю, она все еще способна доставить нам немало хлопот, — отвечает Белладонна. — Я хочу, чтобы она пришла ко мне в кабинет. И как можно скорее. Мне нужно поговорить с ней.* * *
Через несколько дней я ввожу Лору в тайное царство Белладонны. Не составило труда выследить ее и послать записку с приглашением на чай. Мы никогда еще не были так беззастенчивы, но я решил, что Лоре будет любопытно взглянуть на нашу обитель. Она наверняка слышала, что Белладонна помогает женщинам, попавшим в беду. Об этом знает, кажется, весь мир, если судить по обилию писем, которые доставляют нам мешками. К тому же она не осмелится отвергнуть приглашение самой Белладонны. Когда Лора входит, нервно сжимая в руках сумочку от Келли цвета верблюжьей шерсти, Белладонна, уже в маске и костюме, сидит за столом и перебирает шкатулки с драгоценностями. Я предлагаю ей чашку чая — «Лапсанг сучжонг», любимый сорт Белладонны, и она берет ее с вежливой улыбкой. — Вы, наверное, уже знаете, что мы устраиваем в клубе «Белладонна» тематические костюмированные балы, — говорю я небрежным тоном. — Да, я слышала. — Наш недавний Сельский Бал имел очень большой успех, — продолжаю я. — Как, впрочем, Карнавальный Бал, Бал Зодиака и Садовый Бал. Мы всегда рады услышать новые идеи, особенно от тех, кто приехал из-за границы. Воображение американцев очень, как бы это сказать, ограниченно. Лора немного удивлена — неужели я прошу ее совета? — Мы думаем устроить Бал Английской Охоты, — нежнейшим тоном лгу я. — Не смогли бы вы что-нибудь посоветовать? — Я никогда не увлекалась охотой, — отвечает Лора. — Но у меня есть друзья, и они, если пожелаете, будут рады побеседовать с вами. — Вы очень любезны, — говорю я. — Вы не знаете, проводятся ли охоты в английском стиле в соседних странах? Например, во Франции или в Италии? — О Франции не знаю, а в Италии… дайте подумать, — отвечает она. — О, вы бывали в Италии? — оживляюсь я. — У меня итальянские корни, поэтому я, естественно, живо интересуюсь всем, что касается этой страны. — Да, я там нередко бывала, — отвечает Лора. — У меня была школьная подруга, она жила там с отцом. Я навещала ее в школьные каникулы. Хотелось бы мне, чтобы у меня был такой же отец. — Как ее звали? — Беатриче. — Она произносит это имя певуче, по-итальянски: Бе-а-три-че, и этот звук мгновенно оживляет в памяти аромат базилика, проплывающий над террасой, где сидим мы с Леандро. — Что с ней стало? — спрашивает Белладонна. Она заговорила в первый раз. — Она умерла во время войны, — отвечает Лора, отваживаясь поднять глаза на Белладонну. — От родов. — А ее отец? — Тоже умер. — Тогда же, когда и она? — Нет, через несколько лет. Лет шесть спустя. — Как его звали? — Звали? — Эти глубоко личные вопросы озадачивают Лору. — Его звали Леандро. Леандро делла Роббиа. Он был графом, занимался морскими перевозками. Не могу передать, какой эффект производит имя Леандро, нечаянно произнесенное в этой комнате. Его звук сладок, как благоухание розмарина и лаванды в садах Катерины. Мы так редко вспоминаем об Италии и о Леандро. Как бы мне хотелось, чтобы Белладонна заговорила о нем! Тогда я мог бы сказать, как я по нем скучаю, как мне не хватает его бесед, всего, чему он меня учил. Он бы порадовался нашему скрупулезному расчету и планированию, одобрил бы неусыпное усердие Джека и Притча, и наших шпионов-официантов. Он улыбнулся бы, увидев в дверях клуба Андромеду с красным лаком на когтях, прихотливые извивы зеркальных коридоров, ведущие посетителей в рай. Он бы с удовольствием посидел с нами на центральном диванчике, поставив сбоку трость с золоченой львиной головой, смотрел бы, слушал и посмеивался над веселой забавной толпой, собравшейся в клубе «Белладонна». — Вы по нему скучаете? Лора кивает. — Леандро помогал мне, когда мне было нелегко с Эндрю. — Эндрю — это ваш муж? — уточняю я. Белладонна сделала мне знак, и я снова перехожу к расспросам. — Что стало с Леандро? — Он был на курорте в Мерано, в Италии, и познакомился там с женщиной. Туда все ездят на воды. У этой женщины был маленький ребенок, и она нуждалась в помощи. Леандро никогда не рассказывал мне, что ее привело на воды. Наверное, что-то ужасное. С ней были два странных толстяка, я думаю, телохранители. Честно говоря, я почти ничего о ней не знаю. Но она мне не нравилась. После первой же встречи он взял их к себе — эту женщину, ее младенца и тех двух мужчин. Все они переехали жить в его палаццо в Тоскане. Забавно слышать, как другие описывают тебя, особенно если называют странным толстяком. Я рад, что Маттео в этот вечер взял выходной и сидит дома с Аннабет, а худощавый Джеффри готовится в гордом одиночестве охранять дверь. Мне не хочется, чтобы Лора заподозрила, будто Белладонна и есть та самая женщина с ребенком, хотя, думаю, опасения мои беспочвенны. Пока мы были в Мерано, Лора редко видела Белладонну. Фактически с ней общался только я. Я отнюдь не растерял своей неодолимой привлекательности, но маска и теперешний костюм гораздо более экстравагантны, чем простая одежда, какую я носил в Италии. И не такой уж я толстяк. — Вы ревновали? — спрашиваю я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. Я бы на ее месте ревновал. Лора смотрит на меня, и ее глаза чуть-чуть прищуриваются. Я вижу, что она напрягается, понимая, что из нее вытягивают слишком личные признания, но она так запугана присутствием Белладонны, что не может не ответить. К тому же наши риторические уловки сбили ее с толку. — Эта женщина жила с ним? — упорствую я. — Строго говоря, нет. У Леандро в поместье было несколько домов. Она держалась обособленно; наверное, пыталась прийти в себя после всего, что с ней произошло, но в конце концов они стали близкими друзьями. Леандро писал мне об этом. — И что же случилось дальше? — расспрашиваю я. — Леандро умер. — Лора пожимает плечами, делая вид, что ей все равно. — И самое худшее в том, что он женился на ней. — На ком? На той женщине? — Да. Я была потрясена. Он женился на ней тайно, во Флоренции, и никогда никому не рассказывал. — Как вы думаете, она гонялась за его деньгами? Странно. Говоря о той женщине, Лора ни разу не назвала ее по имени, хотя знает его — давно забытое нами имя Ариэль. И мы уж точно не собираемся ей об этом напоминать. — Не думаю, — отвечает Лора. — Несомненно, он оставил ей большую часть своего состояния, но при этом завещал огромную сумму и мне. Он всегда был очень щедр. — Она становится увереннее. Наверное, в этом проявляется влияние Леандро. — Мне кажется, у нее и раньше были свои деньги, но я не уверена. Леандро говорил, что она не нуждается ни в чем, кроме одного — человека, который не станет ни о чем спрашивать. Белладонна машет веером взад и вперед, как заведенная. — Как вы думаете, что он имел в виду? — спрашиваю я после долгого молчания. — Понятия не имею. — Лора опять пожимает плечами и хмурится. — Трудно поверить, что я рассказываю вам такие личные подробности. — Выговориться перед незнакомыми людьми всегда легче, — отвечаю я. — Особенно когда они в масках. В клубе с нами это случается изо дня в день. Вы ничем не рискуете, а приобрести можете очень многое. — Приобрести? Что вы хотите сказать? — Если не ошибаюсь, вам нужна помощь? — Откуда вы знаете? — спрашивает Лора, ее глаза прищуриваются еще сильнее, она заливается ярким пунцовым румянцем, под цвет своей губной помады. Насколько я помню, этот оттенок называется «Сирень Шампани». Ей идет. Блондинкам всегда трудно скрыть румянец на щеках. Естественно, натуральным блондинкам. — Догадываюсь, — спокойно отвечаю я. — В тот вечер мы сидели за столиком рядом с вами, и, когда ваши друзья заговорили о женщине по имени Клементина и о ее младенце, нам стало ясно, что эта история вас огорчает. — А вас бы не огорчила? — Разумеется. Поэтому мы и пригласили вас сюда. Чтобы узнать, не можем ли мы чем-нибудь помочь. — Вы очень заботливы. — Лора прикусывает губу. Мне кажется, в ее душе несчастье борется с высокомерием — точно такой же я увидел ее впервые в Мерано. — Не знаю, что и сказать. Честно говоря, я не знакома с Клементиной. И с ее братом. Надеюсь, с ними все в порядке. Мне просто… — Да, вопрос сложный, — говорю я, пытаясь ей помочь. — Вряд ли Клементина знает о своем родстве с мужем. А намеки на это не только не решили бы никаких проблем, но и создали бы новые. Но, как вы думаете, ваш друг рассказывал правду? — Честно говоря, не знаю, — отвечает Лора. — Иногда Гай кажется ужасным негодяем, но на самом деле он замечательный человек. Он не из тех, кто способен сочинить такую страшную историю. — Откуда вы его знаете? — Этот вопрос слетает с моих губ так естественно, что Лора не задерживается на нем. Потому что в эту минуту краснеет еще сильнее. — Он друг моего друга Хью, — отвечает она. Я понимаю, что это означает. Гай — связующее звено между Лорой и ее так называемым другом, Хью. Прелестно. Очень удобно для нас, конечно, если подключить к этому делу Притча. Будем надеяться, что ее вкус улучшился и этот новый друг не похож на мистера Дрябли. — Очень хорошо, — говорю я. — Если мы вам для чего-нибудь понадобимся, дайте нам знать. Мы ведем дела очень тщательно. — Вы очень добры. — Доброта тут ни при чем. Лора приглаживает волосы — я хорошо помню этот нервный жест — и продолжает колебаться. — Это так заметно? — спрашивает она наконец, и в ее голосе звенит горечь. — Нет, ничуть, — отвечаю я. — Я всего лишь предположил, что трудность заключается в вашем муже, потому что именно с такими проблемами приходится иметь дело всем женщинам, которые приходят в этот кабинет. — Мой муж сам опытен в различного рода делах, — говорит Лора. — Тогда вы должны быть опытнее его. У нас есть в Лондоне человек, который виртуозно добывает необходимые доказательства. Если вы опишете подробности, мы с удовольствием передадим ему эту информацию. Заверяю вас, с величайшей осмотрительностью. — Я в вас уверена, — говорит она. Белладонна с легким щелчком захлопывает веер, и Лора вздрагивает. — У вас есть перед ним одно преимущество, — ровным голосом говорит Белладонна Лоре. — Простите, — отвечает Лора. — Я вас не понимаю. — Он не ожидает от вас ответного удара. У Лоры на губах появляется тень улыбки. — Нет… Нет, не ожидает. — Кстати, как долго вы собираетесь оставаться в Нью-Йорке? — спрашиваю я. — Еще неделю или две. — И каковы ваши планы? Если у вас будет возможность сделать что-то, находясь здесь, с чего бы вы хотели начать? — С чего я хотела бы начать? Чего бы я хотела больше всего? — озадаченно переспрашивает Лора. Неожиданные повороты в моих расспросах сбивают ее с толку — меня бы они точно запутали — но она слишком хорошо воспитана, чтобы не сказать правду. — Честно говоря, мне всегда хотелось спеть перед толпой народа, которая слушала бы меня с бурным восторгом. — Она застенчиво улыбается. — Смешно, правда? Леандро часто хвалил мой голос и уговаривал меня брать уроки пения. Я его послушалась. Честно говоря, я до сих пор их беру. Ее глаза снова наполняются слезами, но этот налет слабости ей идет. Под колючей оболочкой она оказывается куда более приятным человеком, чем была в Италии. В конце концов, с тех пор прошло много лет. Мы и сами изменились; трудно ожидать, что Лора останется прежней. Да, мы все переменились. Я, без сомнения, вырос и стал еще великолепнее; мой брат встретил свою любовь. А Белладонна создала сама себя. Стала резче, тверже, холоднее. La fata, волшебная принцесса в своей башне. Она уже не та напуганная бедняжка с младенцем на руках и двумя странными мужчинами рядом, греющаяся на солнце возле источника в Мерано в тщетной попытке стереть из памяти годы, полные мрака. И не та измученная женщина, у которой хватало сил только запереться в комнате тосканского палаццо и мерить шагами кафельный пол, отгоняя терзающих ее демонов. Теперь она хозяйка самого знаменитого клуба в мире. Между сегодняшней красавицей в маске и затравленной беглянкой, которую Лора видела мимоходом шесть лет назад, нет ничего общего. Я поднимаю глаза на Белладонну и вижу, что ее мысли полностью совпадают с моими. Сначала мистер Б., теперь Лора. Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. — Вы хотели бы спеть в нашем клубе? — предлагаю я. — Между прочим, у нас на балу «Лесная Фантазия» выступал один солист, чудесный баритон; он тоже сказал нам, что мечтает спеть перед публикой. Он пришел однажды днем, когда клуб еще не открылся, и порепетировал с оркестром. Уверяю вас, ему страшно понравилось это выступление. Мы с удовольствием пригласили бы на сцену и вас. — Вы разрешите мне? Сделаете это для меня? — спрашивает Лора Белладонну, хотя весь разговор вел я. — Но почему? Ведь вы меня совсем не знаете. Точь-в-точь как мистер Б. — Потому что могу, — говорит Белладонна. Она всегда так отвечает. Лора чувствует, что яркие зеленые глаза Белладонны пронизывают ее насквозь, и краснеет еще пуще. Не хотел бы я, чтобы кто-нибудь смотрел так на меня. Лора благодарит нас, и я провожаю ее к выходу. Она до сих пор пошатывается; по правде сказать, она теряется в догадках, почему странный разговор с этим таинственным созданием в маске принял такой необычайный оборот. Когда я возвращаюсь в кабинет, Белладонна снимает маску и парик. У нее очень усталый вид. Она падает в кресло, лишившись последних сил. Неудивительно. Если даже я, услышав имя Леандро, погрузился в воспоминания, то каково же было ей? Она уходит домой, запирается у себя в комнате, говорит Брайони, что подхватила грипп и поэтому ее нельзя беспокоить, и не выходит до того самого дня, когда Лора приходит репетировать с оркестром. Белладонна сидит в темном углу, уже одетая для клубного вечера, в моем любимом парике с завитками медового цвета. Если Ричард и удивился, увидев ее на много часов раньше положенного времени, то ничем этого не выдал. И все остальные тоже ничего не говорят. Они профессионалы и умеют молчать. Раз Белладонна здесь, решают они, значит, на то есть веская причина, поэтому музыканты играют, как ни в чем не бывало, официанты, посвистывая, накрывают на столики. Когда Лора заканчивает петь «Ты никто, пока тебя не полюбят», оркестр, к ее изумлению, разражается громкими аплодисментами. Она раскланивается, и теперь я понимаю, о чем говорил Леандро. У этой хрупкой блондинки на диво богатый, чуть хрипловатый, теплый голос. Он и впрямь может растопить льдину. Она благодарит оркестр, спускается со сцены выпить чашку ромашкового чая, который я для нее приготовил. — Спасибо, — говорит мне Лора. Ее щеки зарделись от волнения. — Вы не представляете, как много это для меня значит. — У вас чудесный голос, — говорю я. — Сегодня вечером вы произведете фурор. — Надеюсь, — отвечает Лора. — И мне не придется беспокоиться, залает собака или не залает. — На прошлой неделе вас, кажется, пропустили беспрепятственно. — Верно. Надеюсь, я понравилась вашему псу. — Она безмятежно смеется. — Не могу поверить, что я в самом деле пела с настоящим профессиональным оркестром. И не опозорилась! — Я не могу представить, что когда-нибудь вам доводилось опозориться, — отваживаюсь я. — Ох, бывало, — вздыхает Лора. Она все еще весела, но немного настораживается. — Бывало. И знаете, когда в тот день мы разговаривали об Италии, я кое-что вспомнила. Точнее, кое-кого. Это было много лет назад, в Мерано, на том курорте, о котором я говорила. Там за мной начал ухаживать один смешной человечек, он говорил мне множество льстивых слов и до того задурил голову, что я и не разглядела, какой он напыщенный болван. Леандро впоследствии писал мне, что кто-то из гостей прозвал его мистером Дрябли. Белладонна смеется, и Лора чуть не подскакивает от неожиданности. Она не заметила, что хозяйка клуба сидит в тени. Но Белладонна продолжает смеяться — этот сладчайший вкрадчивый звук очарует даже мертвого. И по лицу Лоры я вижу, что страхи оставляют ее. Меня не перестает изумлять удивительное воздействие Белладонны на всех, кто с ней встречается. Может быть, дело в том, что они чувствуют — эта загадочная женщина никогда не поощрит их ни единым словом. Да кто она вообще такая? Белладонна — это дуновение, всегда ускользающее.10 Закалка для нервов
— Мама, что такое шпион? Брайони задает этот вопрос за обедом, в великолепной беззаботности выкапывая вилкой в картофельном пюре ямку для подливки. Я чуть не поперхнулся, а Белладонна спокойно спрашивает: — Милая, ты о чем? — Джек и Томазино разговаривали о шпионах. Я слышала, когда вернулась из школы. — Где они разговаривали? — Здесь. — Прямо здесь, в столовой? — Угу. — А где была Розалинда? Да, где же была няня в такой критический момент? И где был мой брат? Наверняка, у Аннабет. Честное слово, я, хоть убей, не могу вспомнить, что когда-нибудь разговаривал с Джеком о шпионах, тем более здесь, в доме. Если я от природы склонен совать нос не в свои дела, это еще не значит, что я лишен осмотрительности, особенно когда это касается Брайони. Проклятье. Может быть, мы говорили о чем-то другом, а она плохо расслышала. Да, наверное, так оно и было, говорю я себе и успокаиваюсь. — Я захотела печенья, Розалинда пошла за ним в кухню, а я зашла сюда поискать Сэма. Дважды проклятье. Пора доктору Томазино провести трансвеститу Сэму операцию по перемене пола. Видимо, моя неисправимая склонность к подслушиванию самых пикантных обрывков беседы начинает заражать всю семью: Брайони уже научилась подкрадываться на цыпочках ко взрослым, ведущим беседы на свои скучные взрослые темы. Зачем ей знать, что такое шпион? Она и так прирожденная шпионка. А от Белладонны Брайони переняла сверхъестественную способность появляться внезапно и неслышно. Девочка становится старше, и мы должны соблюдать осторожность. Крайнюю осторожность. Мое колено начинает подергиваться. Плохое предзнаменование, я это чувствую. Будто ветер меняет направление над рекой, поблескивающей в конце нашей улицы. — Шпион, — осторожно объясняет Белладонна, — это человек, который следит за другими людьми или за определенными местами, но делает это втайне, так, чтобы другие не знали. — Понятно, — отвечает Брайони, рисуя зубцами вилки на картошке клетчатый узор. — Они хорошие или плохие? — Ну, иногда шпионы бывают хорошими, если они хотят поймать плохих людей и не могут этого сделать другими способами. Например, когда люди злятся друг на друга и начинают войну, то они зовут на помощь шпионов. А бывают шпионы плохие, они следят за людьми, потому что хотят у них что-нибудь украсть. — Мамочка, ты в войну была шпионом? — Нет, милая, не была. — А папа? — Не знаю, — отвечает Белладонна. — На войне многим людям стало грустно и больно, поэтому мы не любили говорить о ней. К тому же я тогда еще не знала папу. Я познакомилась с ним после войны, когда была очень больна, он заботился обо мне и помог выздороветь, а потом у нас появилась ты. Да, хоть и с натяжкой, но довольно близко к правде. — А я могу стать шпионом? Хорошим шпионом? Белладонна улыбается. — А почему тебе хочется? — Тогда я стану как Джек и Томазино. Я чуть было не выпалил, что я не шпион, но Белладонна почти неуловимо качает головой. — Перестань баловаться и съешь свое пюре, — говорит Белладонна. — А чем, по-твоему, занимаются Джек и Томазино? Почему ты решила, что они шпионы? Брайони кладет в рот кусочек котлеты и говорит: — Джек работает в большой конторе, где все шпионы. — Он сам тебе это говорил? Брайони качает головой. — Или Томазино говорил тебе, что он шпион? Брайони снова качает головой, потом осторожно косится на меня. — Я передумала. Томазино не шпион, — заявляет она. — Он такой толстый, что нигде не спрячется. Одно мучение с этими детьми! Я показываю Брайони язык и делаю вид, что горько плачу. Она смеется. — Брайони, ты же знаешь, нехорошо называть людей толстыми, — укоризненно говорит Белладонна. — Что ты должна сделать? — Извиниться. — Брайони надувает губы. — Прости, прости, прости, тра-та-та-та-та. — Я очень опечалился, когда ты назвала меня толстым, — шучу я. — А теперь я опять радуюсь. — Томазино смешит тебя, чтобы ты не грустила? — спрашивает Брайони у матери. — Я не грущу, милая, — говорит Белладонна и, склонившись, покрывает лицо дочери поцелуями, щекочет ее волосами, так что та рассыпается звонким смехом. — Как же я могу грустить, когда у меня такая очаровательная дочка? — А мама Бетси говорит, что ты грустишь, — утверждает Брайони. Слава Богу, она на время оставила тему о шпионах. — Бетси говорит, ее мама видела, как ты забираешь меня после школы, и хочет узнать, почему ты грустная. Потому что папа умер? От детей не только одно мучение, иногда они бывают до того прямодушны, что хоть плачь. Эту девочку даже не придётся учить на шпиона, она и так все ловит на лету. — Да, — отвечает Белладонна. — Иногда я в самом деле очень скучаю без папы, и мне делается грустно. Но потом я вижу тебя и опять радуюсь. — А я знаю песенку про шпионов, — говорю я Брайони. — Хочешь послушать? — Она кивает, и я начинаю петь:* * *
Когда через несколько дней Джек просит Белладонну уделить ему время, я предполагаю, что речь пойдет о приготовлениях к встрече с Джун и Джорджем. Но все-таки я почти не удивляюсь, когда он просит меня оставить его с Белладонной наедине. Никаких проблем, говорю я ему и быстренько устраиваюсь в укромном уголке, откуда мне слышен весь разговор. — Джек, я очень рада, что вы решили встретиться со мной, потому что хочу вас кое о чем спросить, — говорит Белладонна, когда Джек сел. — Разговаривали ли вы с Томазино о шпионах в тот день, когда Брайони пришла домой из школы и застала вас в столовой? — О шпионах? — в замешательстве спрашивает он. — Не припоминаю. В доме мы никогда не говорим о таких вещах. — Он сдвигает брови, размышляет. — В последний раз, когда я говорил с Томазино в столовой, мне кажется, речь шла о яблочном пюре. Бьянка как раз варила его, и запах шел по всему дому. Может, мы упомянули «северный пион» или какой-нибудь другой сорт. Да, верно. Теперь и я вспомнил. Какой я болван, что умудрился забыть такой важный разговор. — Понятно, — говорит Белладонна, ничуть не смягчившись. — Что-нибудь не так? — Нет, — отвечает она, но по ее настроению я понимаю, что у нас многое, очень многое не так, как надо. — Белладонна, — говорит Джек. — Можно задать вам личный вопрос? Джек нервничает. Я никогда не видел его таким, и он слишком хороший профессионал, чтобы выказывать свои чувства, но я все понимаю. Хотя из его прически не выбивается ни один волосок и белоснежная рубашка накрахмалена, как всегда, я вижу, что в его душе медленными волнами поднимается возбуждение. Мое сердце трепещет от жалости к несчастному парню, снедаемому любовной жаждой. Он достаточно умен и понимает, что его любовь обречена, но отчаянно желает испытать судьбу. Я непременно должен найти ему подходящую женщину. Подтолкнуть его к флирту с Элисон или кем-нибудь еще, и поскорее. Джек достоин восхищения. Я понимаю, что мне — да, впрочем, и Белладонне — нелегко признать, что он чудесный человек, потому что мы склонны ненавидеть практически все существа мужского пола, перегруженные тестостероном, которого так не хватает мне. — Зависит от того, что это за вопрос, — огрызается она. — Простите, что вторгаюсь в вашу личную жизнь, — храбро выпаливает он, — но мне хотелось бы знать, могу ли я сделать что-нибудь, чтобы вам стало легче. — Можете. Найдите их и принесите мне их головы на серебряном блюде, — говорит она. — Вряд ли это можно считать личным вопросом. Вы сами знаете, чего я хочу. — Я стараюсь. Мы все стараемся. Вы знаете, я сделал бы это, если бы смог. — Знаю. — Ее лицо смягчается, совсем чуть-чуть. — Белладонна… — Не надо, Джек. Пожалуйста, не надо, — говорит она. — Не сейчас. И вообще никогда. — Вы не знаете, что я хочу вам сказать. — Догадываюсь. Мне меньше всего хочется обидеть вас. Пожалуйста, не вынуждайте меня говорить такое, от чего вам станет больно. Верите вы или нет, но вы мне очень дороги, сами знаете. Но не больше. Вы стали частью моей семьи, хоть это и не семья, а сборище неприкаянных уродов. Без вас мы бы ни за что не справились. Честное слово. — Она пытается улыбнуться, но не может. — Джек Уинслоу, без вас не было бы клуба «Белладонна». По крайней мере, без вас мы не имели бы никакого успеха. Я никогда не забуду, чем мы вам обязаны. Чем обязана лично я. Но не могу дать вам большего, чем глубочайшая привязанность и уважение. Я признала вас членом моей семьи — не требуйте большего. Джек, я не умею любить. Вот и все. Очень просто. У меня нет сердца. — Я вам не верю. Вы любите дочь. Любили мужа. — Откуда вы знаете, что я любила мужа? — спрашивает она, глядя в никуда. — Он меня спас, заботился обо мне, берег и охранял. Но любовь, какая должна быть между мужем и женой… — Ее лицо гаснет. — Да, я могу сказать, что люблю свою дочь, по-своему. Люблю Томазино и Маттео. Но Брайони — это все, что поддерживает во мне жизнь. Без нее я просто сошла бы с ума. Если я начну думать о том, как она появилась на свет, кто ее отец… — Не нужно ничего рассказывать, — перебивает ее Джек. — Вы никогда не спрашивали меня об этих подробностях, — говорит она, ее лицо все так же безжизненно. — Хотя, мне кажется, имеете полное право спросить, потому что вы служите мне верно и беззаветно. Вы не представляете, как я благодарна вам за то, что вы ничего не требуете. Поэтому я доверяю вам еще больше. Я бы и сама рассказала вам, но не могу. Пока еще не могу. Знаю лишь одно — я готова бросить всю затею. Я пока еще не собираюсь полностью отказываться от нее, но рада, что у меня появилось место, куда я могу убежать, лечь на дно и там зализывать раны. Я долго не выдержу. Джек страшно напуган, но старается этого не показывать. — Куда вы уезжаете? — спрашивает он наконец. — В Виргинию. Томазино подыскал там плантацию. Это как раз то, что мне нужно: огромное поместье, полное уединение. — Она вздыхает. — Дома в усадьбе находятся в очень хорошем состоянии, поэтому переделок почти не требуется. Я уже нашла хорошую школу для Брайони, после праздников переезжаем. — А что же будет с клубом? — Закроем его, само собой. Пусть стоит пустой и загадочный. Как я. — Она горько смеется. — Не станем заранее уведомлять персонал, чтобы не поползли слухи, будем платить им жалованье еще несколько месяцев и надеяться, что они вернутся, если нам вдруг вздумается открыть клуб вновь. Пока еще не знаю. У меня больше нет сил продолжать. Нет сил. — Нельзя сдаваться, — говорит Джек, хоть и понимает: если она решила, никакие слова ее не переубедят. — Я не сдаюсь, — с жаром заявляет она. — Будем считать это сокращением штатов. Женщины, которые приходят ко мне, сливаются в какой-то безликий водоворот. Вначале такого не было. Я не получаю удовлетворения, помогая им, не радуюсь, глядя, как они возвращают себе хоть каплю надежды. Я больше не могу. — Я вам больше не нужен, — говорит он, не сводя взгляда с рук, сцепленных на коленях так туго, что я даже из потайного укрытия вижу, как побелели костяшки пальцев. — Этого я не говорила, — возражает она. — Вы нужны мне больше, чем прежде, но вы сами знаете, что я не могу просить вас переехать в Виргинию. Вряд ли вас это устроит; в деревне вам станет скучно, там ничего нет, только деревья да лошади. Но я была бы очень рада, если бы вы переехали сюда, присматривать за домом. Чтобы шестеренки в машине крутились безотказно, требуется масса бумажной работы. И еще я хотела бы, чтобы вы открыли контору где-нибудь в другом месте и там содержали фонд, который продолжит помогать женщинам, которые мне пишут. Мне кажется, я знаю человека, который мог бы заняться этим делом. Она вам понравится. Ах, моя дорогая Белладонна, ты еще большая сводница, чем я. Рад, что не мне одному пришла в голову мысль создать из Джека и Элисон идеальную пару. — Не надо мне покровительствовать, — говорит он. — Не думайте обо мне так плохо, — отвечает она. — Я бы не стала навязывать вам на шею кого попало только для успокоения своей совести. Если бы у меня была совесть. Несколько минут они сидят молча. — А что будет с Маттео и Томазино? — наконец спрашивает Джек. — Если не ошибаюсь, Маттео собирается жениться на Аннабет. В таком случае я его благословлю. Хоть мне и хотелось бы видеть его рядом, я не так эгоистична, чтобы лишать его права на счастье, которого мне самой никогда не видать. — Она вздыхает. — Если они решат остаться в Нью-Йорке, придется мне научиться жить без них. Но в этом случае вы сможете работать вместе. Томазино едет со мной. Потому что я совершенно незаменимый. — Вы любите Томазино, — замечает Джек. — Не той любовью, какой хотелось бы вам, — возражает она. — И не такой, какой вы заслуживаете. Он стал для меня братом. И ему тоже нанесены тяжкие раны. Он — мой шедевр разрушенной цивилизации. Постоянное напоминание о том, что привело меня сюда. Понимаете? — Нет, — отвечает он. — Мне вас никогда не понять. — Джек, так и должно быть. Я недоступна пониманию. Я творение фантазии, больше ничего. Меня создал он. Меня выкроили они. Я вишу на ниточке и не могу развязать ее иначе — только найти их и заставить страдать, — говорит она голосом низким и хриплым. — Терзать их так же, как они терзали меня. Джексмотрит прямо ей в лицо. — Я не хочу знать того, что вы мне сейчас сказали. Я все равно люблю вас и буду любить всегда, кем бы вы ни были. Что бы с вами ни случилось. Наступает мучительное молчание, ее лицо становится жестким, как маска, которые она носит в клубе. — Никогда больше не говорите мне этого, — говорит она наконец. — Обещайте мне, что никогда больше этого не скажете, или я сойду с ума. Джек отрицательно качает головой. — Поклянитесь, — хриплым шепотом произносит Белладонна. — Поклянитесь. — Клянусь, — шепчет в ответ Джек, из его глаз катятся слезы. Она встает и, ни разу не оглянувшись, выходит.* * *
Дальше все идет так, будто этого разговора не было. Белладонна уходит к себе в комнату, сообщает нам, что у нее болит живот, и неделю не появляется в клубе. Выходит она только на костюмированный бал «Ночь в Касбе» — тот самый, к которому мы так давно готовились. Мы посыпаем пол сотнями тысяч розовых лепестков, как настоящих, так и шелковых, чтобы гости ходили по щиколотку в душистой пене. Потолок и стены задрапированы десятками ярдов парашютного шелка, так что убранство зала напоминает шатер великого паши; в воздухе витает аромат благовоний и мирры. Весь персонал, в дополнение к обычным маскам, облачен в сверкающие тюрбаны. Точнее говоря, тюрбанов сегодня очень много, равно как вуалей, развевающихся халатов и платьев, на которые пошли целые рулоны прозрачного шифона: наши гости слишком ленивы, чтобы придумать что-нибудь оригинальное, и поэтому просто скопировали костюмы с фильмов Рудольфо Валентино. Белладонна одета на редкость целомудренно — глухое черное платье и чадра, повседневный наряд мусульманских женщин. Только они никогда не красят свои паранджи в темно-багровый цвет и не украшают их длинными нитями жемчуга. Такой костюм скрывает очертания фигуры Белладонны и почти все лицо. Только глаза поблескивают над краем чадры, пытливо светятся в приглушенном полумраке зала. Сегодня их блеск темен и тревожен. Чтобы замаскировать незабываемый оттенок своих глаз, Белладонна надела коричневые контактные линзы. Они толстые, неудобные, через пятнадцать минут глаза начинают болеть, но она не обращает на это внимания. Неприятные ощущения помогают ей хранить сосредоточенность, оставаться начеку. Ни малейший намек не должен выдать ее, раскрыть, кто она такая и кем была раньше. Нет, сегодня, после стольких лет выжидания, планирования, расчетов, мы не можем рисковать. Слезы сладкие в глазах. Сегодня Белладонна непостижима. Потому что за соседним столиком сидит ее кузина Джун, попивает коктейли с мужем. Джун завила свои светлые волосы кудряшками, нарумянила пухлые, как яблочки, щеки, накрасила ногти, втиснула пышные телеса в прелестный, как ей кажется, наряд с вышивкой и золотыми кисточками. Однако он ей совершенно не идет. Ее могучая грудь вздымается над лифом, как штормовая волна под напором ветра. Джек присел рядом со счастливой парой, чтобы разделить с ними радость чудесного вечера. Все сотрудники предупреждены, они ни в коем случае не должны показывать вида, что знают его. Для всех он просто симпатяга Джек, который познакомился с четой Хокстонов несколько лет назад в Канзас-Сити, а теперь встретил старых друзей, ненадолго заглянувших в Нью-Йорк, и любезно согласился погулять с ними по Манхэттену. Симпатяга Джек, который хорошо разбирается в торговле скотом. Симпатяга Джек, который вот-вот разорит фирму Джорджа и пустит его по миру. Симпатяга Джек, чьи сообщники уже начали нашептывать добродетельным членам ее любимого загородного клуба Гроувсайд ужасающие подробности о финансовых махинациях Джорджа и о бесстыдном предательстве Джун. Симпатяга Джек не найдет покоя, пока семья Хокстонов не будет втоптана в грязь на глазах у их благочестивого светского мирка. Пусть узнают, каково это — оказаться брошенным на произвол судьбы, когда некому тебя спасти, когда страдаешь и не можешь понять, за что весь мир отвернулся от тебя. Пусть узнают, что такое настоящие муки. Увидев Джун и Джорджа, я вспоминаю жаркий полдень, когда мы сидели на террасе у Леандро вместе с Притчем. Он опрокидывал бокал за бокалом граппы и рассказывал нам о мистере Уинслоу, о Канзас-Сити, о лагере Миннетонка, о двух молодых девушках, поехавших покорять Лондон. Это происходило в другом мире, целую жизнь назад. Когда они вошли, Белладонна ничего не говорит. Облаченная в чадру и свободное черное платье, она похожа на статую, упрятанную под тканью, а воздух вокруг нее так напоен диковинными ароматами, что никто не решается к ней подойти, даже просто поблагодарить за великолепный вечер. — Вы не поверите, как тяжело нам приходится с нашими кошками, — хихикая, рассказывает Джеку Джун, большая специалистка по светской болтовне. — Хуже всех Сэнди. Такая избалованная! Представляете, она не приходит обедать, если мы все не соберемся ради нее в столовой, а Джордж не ударит в обеденный колокол. Тогда она входит, хвост трубой, и принимается за еду. До чего умная киска! Иногда люди бывают так банальны, что я готов заплакать от отчаяния. — Кстати, я вспомнил одну историю о кошках, — говорит Джек. — В войну у меня был один приятель, он выздоравливал после операции — ему отняли мизинец на ноге. Отморозил, кажется. Он любил дешевые эффекты и после операции взял моду возлежать на груде подушек и принимать гостей, которые рыдали от сочувствия и приносили ему подарки с черного рынка. Но он забывал их предупредить, что отрезанный палец покоится рядом с ним, на блюде лиможского фарфора, в окружении цветов. Что-то вроде усыпальницы в память о его героической стойкости перед лицом переменчивой судьбы. Улыбка медленно сходит с лица Джун, пальцы Джорджа крепче сжимают ножку бокала. — Однажды я зашел к этому приятелю, чтобы выпить с ним за его здоровье, и вдруг в комнату врывается кошка. Она вскакивает на постель, хватает с лиможского блюда отрезанный палец и убегает. Джун просто позеленела. Джордж залпом опрокидывает бокал. — Не каждое животное так любит хозяина, что готово съесть его, — замечает Джек, не обращая внимания на их корчи. Белладонна взрывается смехом, так громко и так истерически, что все гости вокруг нас разом прерывают болтовню и озираются, пытаясь понять, что же происходит и какой лакомый кусочек светских сплетен ускользнул от их ушей. — Вы, сэр, — говорит она, указывая веером на Джека. — Подойдите ко мне, пожалуйста. И ваши друзья тоже. Вот оно, начало. Вот оно. Лицом к лицу через восемнадцать лет. Они придут к тебе, если не будут знать, кто ты такая. Пристально вглядываясь в зарумянившееся от гордости лицо Джун, я встаю и освобождаю ей место рядом с Белладонной. Легко могу представить себе, как она выглядела той лондонской весной в 1935 году: волосы уложены волнами, как у Джин Харлоу, скроенные по косой линии шифоновые платья, которые совсем не идут к ее округлому животику и мясистой груди, безвольные девчоночьи черты лица. Она так стремилась заполучить себе мужа и тиару, что готова была пойти на все, лишь бы избавиться от надоедливой, умной и красивой кузины с огромными зелеными глазами и соблазнительными манерами. Теперь Джун раздалась и вот-вот расплывется, как квашня, а Белладонна не имеет возраста. В ней нет ни одной мягкой линии. — Рад видеть вас, мадам, — приветствует ее Джек. — Пожалуйста, зовите меня Белладонной, — отвечает она. Джек не удерживается от едва заметной улыбки. Именно эти слова сказала она ему при первой встрече. — А это мои друзья, Джун и Джордж Хокстон. — О, я так счастлива, что познакомилась с вами, — щебечет Джун. — Мы… Белладонна прерывает ее резким щелчком веера, и Джун умолкает. Я делаю знак официанту, и он приносит нам бутылку шампанского. — За «Ночь в Касбе», — поднимаю я тост. Мы чокаемся, и я вижу, что Белладонна внимательно рассматривает кузину. Та пьет шампанское, стараясь не поперхнуться пузырьками. — Расскажите, откуда вы, — прошу я. — Из Канзас-Сити, — отвечает Джордж и надувается от гордости. — Все трое? — Я — нет, — говорит Джек. — Я живу в Нью-Йорке, но жизнь не дает сидеть на месте. Я всегда в пути. — Чем вы занимаетесь? — Владею «Хокстон Энтерпрайзиз», — говорит Джордж, все так же сияя. — Специализируюсь в инвестициях, торговле скотом и тому подобных вещах. — Опасное занятие? — Нет, если знать, что делаешь. — Мне кажется, вы всегда знаете, что делаете, — с сомнением произношу я. Мои слова свистит у него над головой, как пули. — Надеюсь, что да, — произносит он с хриплым самодовольным смешком. Ах ты, добропорядочный пресвитерианин, скоро ты узнаешь, что такое настоящая опасность. — У вас есть дети? — продолжаю расспросы я. — Да, две дочери, — отвечает Джун. — Хелен, ей шестнадцать. А нашей малышке Кэролайн — пятнадцать. Обе ходят в школу. — Не такая уж она малышка, — замечает Джордж, опорожняя бокал. — Кэролайн-то наша жрет, как лошадь! Скоро пустят меня по миру. — Джордж, — одергивает его супруга. — Обе — очаровательные девочки, — вставляет Джек. — Ну, спасибо вам, мистер Уинслоу, — кокетничает Джун, пытаясь изображать скромницу, но сама с любопытством разглядывает рубиновые и жемчужные кольца на обтянутых перчатками пальцах Белладонны. Ужасно эффектно, решает Джун, надо ввести такую моду в бридж-клубе. Они там полопаются от зависти! Джун пыжится от гордости — как же, сама великолепная Белладонна пригласила ее, Джун Хокстон из Канзас-Сити, штат Миссури, к себе за столик! — Еще родные у вас есть? — спрашиваю я у Джун. — Только родители, — отвечает она. — Они живут в Миннеаполисе. — Надеюсь, они в добром здравии? Если Джун и удивилась такому странному для ночного клуба вопросу, то ничем не выказала этого. Еще бы, ведь мы заговорили на ее любимую тему — о ней самой. — О, как вы любезны, что спрашиваете о них, — радостно отвечает она. — К несчастью, здоровье у них неважное. У моей мамы, гм, женские проблемы. А у отца слабое сердце. Мы за них очень беспокоимся. Да, мы хорошо разбираемся в сердечных болезнях. Наверное, ты очень, очень беспокоишься, что же они оставят тебе в завещании. — Вам нравятся мои кольца? — вдруг спрашивает Белладонна ледяным голосом. — О, очень, — восторженно восклицает Джун. Сама Белладонна заговорила с ней! Погодите, вот приедет она домой, расскажет всем в загородном клубе Гроувсайд о том, какой у нее был чудесный вечер и как с ней разговаривала волшебная Белладонна! — Они просто чудо! — Вот это открывается. — Белладонна протягивает руку и приподнимает камень на одном из рубиновых колец. — Видите? Самое удобное место, чтобы хранить… эссенции. — Она опускает мизинец в чашечку с белым порошком и слизывает чуть-чуть. — Если принимать бесконечно малую капельку яда каждый день, в конце концов вырабатывается невосприимчивость к нему. Вы станете неуязвимы, даже если нет противоядия. Она захлопывает крышечку, встает и, не произнеся больше ни слова, уходит. — Ты смотри-ка! — восклицает Джордж. — Этой дамочке палец в рот не клади! — Джордж! — увещевает его Джун. Я с трудом удерживаюсь от смеха. Ни тот, ни другая не заметили враждебности Белладонны. Они опьянели от счастья на одну ночь оказаться в ее гареме. Меня подмывает им сказать: скорее его можно сравнить с гаремом императрицы Феодоры в Босфоре. Из того гарема был только один выход: в мешке, с камнем в ногах, исчезнуть без следа в бурном море. Проходит час, и Джорджу уже не так весело. Его лицо раскраснелось, сердце бешено колотится. — Мне нужно выйти, — со стоном шепчет он жене. — Что эта дамочка со мной сделала? — Джордж, не говори глупостей, — укоризненно отвечает Джун. — С какой стати Белладонна будет тебя травить? — В самом деле, с какой стати? — вкрадчиво поддакивает Джек. — Позвольте, я отвезу вас домой. Джун начинает благодарно щебетать, ей нравится чувствовать на локте сильную руку Джека. Он ведет ее в гардероб, к Джози, выводит на запруженную толпой улицу. Джордж плетется сзади на неверных ногах. Джек шепчет что-то одному из швейцаров, к ним мгновенно подкатывает машина. Будь Джун повнимательнее, она бы заметила в этом малую толику необычного. Но ее никак нельзя назвать наблюдательной особой. Джордж плюхается на переднее сиденье, Джун усаживается сзади и без умолку лопочет о восхитительном вечере. Машина сворачивает за угол, в темноту, и останавливается на красный свет. Вдруг ни с того ни с сего дверь распахивается. — Здравствуй, Джордж, — произносит чей-то голос, и тяжелый кулак бьет его в челюсть. — Что… — только и успевает вымолвить Джун. Ей на голову опускается плотный капюшон, могучие руки толкают ее в бок и стискивают так, что она не может шелохнуться. Дверь захлопывается, машина срывается с места. Ехать недалеко, всего лишь пару раз обогнуть квартал да свернуть к пустым загрузочным воротам фабрики «Чмок-чмок». Но для Джун поездка кажется бесконечной, она уверена, что эти негодяи хотят изнасиловать ее и убить. Прошу, о, прошу, о, прошу вас, не надо… Машина останавливается, двери открываются. Чьи-то руки вытаскивают извивающуюся Джун из машины, перекидывают через плечо; ее куда-то несут, голова болтается внизу, ее тошнит, голова кружится. От страха она тихо поскуливает под капюшоном. Потом ей связывают руки. Она не может дышать, ничего не видит. Помогите, кто-нибудь, помогите. Ее тащат куда-то вниз по лестнице. Убьют… Потом похитители останавливаются, бесцеремонно кидают Джун на стул, лицом к стене. Ноги ее тоже связаны. С нее стягивают капюшон и хлопают по щекам. В комнате горит тусклая лампочка, она почти ничего не видит. Джун напугана до полусмерти, вот-вот упадет в обморок, зовет на помощь своего никчемного мужа: приди, спаси меня… Сиди и готовься к смерти, Джун Никерсон. Теперь ты понимаешь, каково это, когда тебя бросают одну в темноте. Джун не знает, что Белладонна сидит совсем рядом, позади нее. Она только чувствует присутствие чего-то злого, кого-то очень злого, человека, который желает ей одного — боли, смерти, забвения. Этого не может быть, думает Джун. Чем я заслужила такое? Наверное, меня отравили чем-то в клубе «Белладонна» и теперь мне снится кошмар, я проснусь возле бассейна в загородном клубе Гроувсайд и пойму, что все это лишь дурной сон. — Джун Никерсон? Джун Элизабет Никерсон? — слышит она голос у себя за спиной. Голос, конечно, мой, только звучит он глубже и с легким акцентом; я специально изменил его, чтобы она ни о чем не догадалась, не распознала, что с ней говорит человек, который совсем недавно сидел рядом в клубе «Белладонна». Я вызвался вести эту милую беседу, и Джек, кажется, рад, что он избавлен от такой участи. — Да, — отвечает Джун. Откуда незнакомый голос знает ее девичью фамилию? Она так удивлена, что даже решилась ответить. — Кто вы такой? Откуда знаете мое имя? — Джун Элизабет Никерсон, вы выросли в Миннеаполисе с родителями, Полом и Блэр Никерсонами? — Да, — отвечает она дрожащим голосом. — Отлично, — продолжает голос, — тогда вы, наверное, та самая Джун Элизабет Никерсон, которая в феврале 1935 года отправилась в Англию, в Лондон. Джун ничего не отвечает, но вдруг чувствует на горле сильную руку. Она визжит. — Отвечайте на вопросы, — говорю я елейным тоном, стоя сзади, чтобы она меня не видела. — И тогда я не причиню вам вреда. Вы меня понимаете? Она всхлипывает так громко, что не может ответить. — Вы меня понимаете? — Да, — выдавливает она наконец. — Если вы не станете отвечать на вопросы, я буду вынужден причинить вам боль. Вы же не хотите, чтобы вам было больно, правда? Джун трясет головой так усердно, что отваливаются накладные ресницы. — Вот и умница, — говорю я. — Значит, вы и есть та самая Джун Элизабет Никерсон? — Да, — всхлипывает она. — Джун Элизабет Никерсон, вы уехали в Англию, в Лондон, в феврале 1935 года, а кузина приехала к вам в марте 1935 года? Вы покинули Лондон и Англию в мае 1935 года, без кузины? — Да, — лепечет она. — Да. — Как звали вашу кузину? — Иза… Изабелла. — Она произносит это так тихо, что получается почти «Белла». Ее лицо позеленело куда сильнее, чем двумя часами раньше, когда Джек рассказал ей о кошке, которая съела палец хозяина. — Сколько лет было вам тогда? — Девятнадцать. — Сколько лет было вашей кузине? — Восемнадцать. — Зачем вы приехали в Лондон? — Я хочу домой, — рыдает Джун. — Отпустите меня, пожалуйста. Хогарт был прав. До чего же она занудна. — Я отпущу вас домой, если вы ответите на мои вопросы, — обещаю я ей, мелодраматично вздыхая. — Честное слово. — Я, естественно, забываю уточнить, когда именно отпущу ее. В таких случаях неведение блаженно. — Зачем вы приехали в Лондон? — повторяю я. — Повидать свет, — отвечает она, икая. Надо понимать — найти красивого, богатого мужа, хотя у меня не укладывается в голове, какими достоинствами эта капризная, до мозга костей буржуазная девчонка из Миннеаполиса могла бы заинтересовать серьезного лондонского джентльмена. — Вам нравилась ваша кузина? — Что вы хотите сказать? Она моя родственница, и все тут. — Она была вам как сестра? Или она была умнее, красивее, обаятельнее? — Не была она красивее, — протестует Джун. — Все говорили, что я красивее. Но у нее были большие зеленые глаза, и все мальчишки сходили по ним с ума. Даже сейчас, даже здесь Джун все еще ревнует. Я прикусываю язык, чтобы не заговорить о тиаре. — Где сейчас ваша кузина? — Не знаю, — отвечает Джун, снова заливаясь слезами. — Понятия не имею. Кто вы такой, скажите же? Чего вы хотите? Зачем вы здесь? Кто ты такая? Зачем ты здесь? — Я хочу знать, что случилось с вашей кузиной. — Она вышла замуж, — шепчет Джун. — Пошла на костюмированный бал без меня, познакомилась с мужчиной и сбежала, и вышла замуж, и бросила меня на произвол судьбы. — Она начинает рыдать по-настоящему, точнее, пронзительно скулит. Меня так бесит ее вой, что я затыкаю ей рот кляпом и ухожу налить себе виски. Джек сидит в соседней комнате и качает головой. Я отпиваю немного и возвращаюсь. Белладонна сидит на полу, она завернулась в свой черный хитон и не шевелится. Я склоняюсь к плечу Джун. — Хотите, чтобы я вынул кляп? — спрашиваю я, и она кивает. — Вы будете хорошо себя вести? — Она кивает еще усерднее. На всякий случай я выхожу, оставляя Джун медленно кипеть, допиваю виски и, чтобы успокоить нервы, читаю главу из «Последнего из могикан». Потом возвращаюсь к Джун и вынимаю кляп. — Вам это не кажется странным? — спрашиваю я. Джун, не владея собой, трясется всем телом. — Ваша кузина, девушка всего лишь восемнадцати лет, сбежала с мужчиной, с которым только что познакомилась, и вы больше никогда о ней не слышали. — Она звонила на нашу квартиру и оставила сообщение для меня, — с трудом выговаривает Джун между всхлипами. — Потом прислала письмо. — Понимаю. А после того, как ваша сестра сбежала и вышла замуж, вы уже не хотели оставаться в Лондоне в одиночку? — спрашиваю я, и Джун кивает. — Значит, вы, одна-одинешенька, уехали домой, к маме и папе. Вы когда-нибудь получали вести от вашей кузины? — Да, — отвечает Джун. — Она написала мне и родителям. Сообщила, что она счастлива и хочет начать новую жизнь. — И вы поверили? Джун опять кивает. — Но вы ни разу не говорили с ней лично? — Она оставила мне записку! — возмущается Джун. — Бросила меня одну в Лондоне. И уехала. И Хогарт уехал. — Она опять всхлипывает. — Вы ей завидовали, верно? — Нет. — Да, завидовали, — настаиваю я. — Иначе и быть не может. Ваша более молодая кузина с красивыми зелеными глазами отправилась на костюмированный бал, где полным-полно богатых холостяков, а вы не могли пойти. Такого простить нельзя, верно? — В моем голосе, всегда таком сладком и благожелательном, звучит оттенок угрозы. — Верно? — Отпустите меня, пожалуйста, — молит Джун. — Кто такой Хогарт? — Хогарт был моим другом. Моим, а не ее, — отвечает она. — Где вы познакомились с этим Хогартом? — В «Айви». За обедом. — Он был очень мил, да? Везде водил вас? — Да, — отвечает Джун. — И покупал подарки. — Встречаясь с этим Хогартом, вы брали с собой кузину? — Иногда. — Знакомил ли вас Хогарт со своими друзьями? С интересными людьми? — Да. — Они тоже были милы? — Такие милые поклонники для тебя, дуреха ты эдакая. Проклятье. Я заговорил почти как Хогарт. — Вы больше расстроились из-за того, что исчез Хогарт, чем из-за своей кузины, верно? — сурово спрашиваю я. — Говорите правду. — Да. — На щеках у Джун пламенеют багровые пятна, куда более яркие, чем румяна, которые она наложила щедрой рукой. — Не убивайте меня, — просит она. — Отпустите, пожалуйста. Сладкий яд в ее устах. Эта Джун глупа, как новорожденный младенец. Никакого характера. Мы потратили на нее столько времени, сил, и что? Она не стоит даже того, чтобы связываться с ней. Но, конечно, я не кузина, которую она без раздумий бросила на произвол судьбы. — Хватит распускать нюни. Я не собираюсь убивать вас. Это слишком хлопотно, — продолжаю я. — Но что сделали ваши родители? Неужели они не поинтересовались, что стало с девочкой, доверенной их попечению? — Они были рады, что о ней есть кому позаботиться. Они не виноваты, что она свалилась к нам на голову после того, как ее родители погибли по пьянке. — До Джун доходит, какую глупость она сморозила, и она опять начинает скулить. Могу себе представить, каково было слушать такие разговоры маленькой сиротке, заброшенной в этот дом, как тепло встретили ее дядя с тетей. — Заткнись, — говорю я, и между нами повисает болезненная тишина, которую нарушают лишь отрывистые всхлипы Джун. — Вашей старшей дочери всего на два года меньше, чем было вашей кузине, когда она исчезла. Хотели бы вы, чтобы то же самое случилось с вашей маленькой милой Хелен? Глаза Джун широко распахиваются от ужаса. — Нет… Вы не можете… — Вы меня обижаете, — грубо обрываю я. — Мне дела нет ни до вашей драгоценной Хелен, ни до милой малышки Кэролайн, ни до любимого муженька Джорджа. Меня тревожит другое: за столько лет, прошедших после исчезновения вашей кузины, вы ни разу не поинтересовались, что с ней, здорова ли она. Жива ли. Вы можете объяснить такое упущение? Джун снова плачет. — Не бейте меня, — всхлипывает она. — Почему вы поступили так? — Я наклоняюсь и шепчу эти слова на ухо Джун. Кажется, она вот-вот упадет в обморок. — Почему? Отвечайте. Я хочу знать, почему вы ее бросили. Вы так ненавидели свою кузину? Заслужила ли она это? Отвечайте. — Я… я… — Джун трясется, как фруктовое желе. — Заслужила? Джун открывает рот, но оттуда не доносится ни звука. В этот миг кто-то настойчиво стучит в дверь, так громко, что Джун взвизгивает от трусливого ужаса. Ее крик выбивает меня из колеи, я торопливо иду открывать дверь, спрашивая себя, что же у них стряслось. На пороге стоит Маттео, на нем нет лица. У него за спиной расхаживает Джек. Маттео быстро подходит к сидящей на полу Белладонне и что-то шепчет ей на ухо. В комнате так темно, что я не вижу ее лица, но все равно понимаю, в чем дело. Свершилось. Один из них здесь. Появился нежданно-негаданно, как снег на голову. Один из членов Клуба. Один из них здесь. Из всех ночей ему надо было выбрать именно эту, когда нам нельзя мешать. Ну, не молодец ли я! Всегда доверяй своим предчувствиям, говорю я себе, похлопывая колено. Разве я не говорил Белладонне, что, может быть, каким-то мистическим образом Джун принесет нам удачу? Я подхожу к Маттео и Белладонне. — Прогоните ее, — шепчет Белладонна. — Мне нужен Джек. Я вижу даже сквозь вуаль, что ее лицо покрывается смертельной бледностью, но темные глаза сверкают таким убийственным напряжением, что кажется — тронь ее, и посыплются искры. Джун мгновенно поблекла и канула в небытие. Крохотный разум может вынести только крохотное наказание. Глупая телка получила хорошую встряску, ее чудесный вечер испорчен непоправимо. Теперь ей уже не похвастаться перед такими же глупыми подругами своим знакомством с божественной Белладонной. Но разговор с Джун и Джорджем, с дорогими папочкой и мамочкой еще не закончен. Скоро, очень скоро их фирма пойдет с молотка, деньги кончатся, репутация погибнет. Живите, дорогое семейство Никерсонов, вы достойны самого лучшего. Я возвращаюсь к Джун. Она жалобно хнычет. Ей понятно — сейчас произойдет что-то очень страшное. — Прощай, глупая зануда Джун, — шепчу я ей на ухо. Ее губы дрожат, она готова опять испустить пронзительный визг. Я опережаю ее и затыкаю кляпом рот, потом завязываю глаза узким черным платком. Я готов поблагодарить ее. Она дала нам возможность отточить технику, которую мы намереваемся применить к одному из них. К тому, что сидит наверху, в клубе «Белладонна», пока мы тут тратим драгоценное время на трясущуюся дуру. Белладонна встает и подходит ближе, молча всматривается в свою связанную кузину. Снимает перчатку с правой руки и проводит пальцем по ее щеке, прослеживает линию подбородка. Джун трясется от страха. — Кто ты такая? — сдавленным шепотом спрашивает Белладонна. — Зачем ты здесь? Она поворачивается и идет прочь, выходит на лестницу с Маттео. Я оставляю Джун сидеть и изнемогать еще несколько минут, потом возвращаюсь, вынимаю изо рта кляп и подношу к ее губам стакан с ледяной водой. — Выпей, — велю я. — Когда проснешься, то поймешь, что тебе приснился самый страшный в жизни кошмар. — Не отравляйте меня, не надо, — шепчет Джун. — Пожалуйста. — Ты слишком скучна, чтобы я дал себе труд травить тебя, глупая ты зануда, — говорю ей я, не на шутку раздражаясь. — И слишком толста, чтобы возиться потом с твоим телом. Понятно? Так что хватит пускать пузыри, пей. Если подумать, зря я отпустил последнюю колкость насчет ее веса. Но Джун каким-то образом умудрялась пробуждать к жизни самые плохие мои стороны. Надеюсь, вы уже поняли, почему. Наутро Джун с Джорджем просыпаются в отеле, в своем номере. У обоих страшно трещит голова и болит живот. Они смутно понимают — с ними произошло нечто ужасное, такое, о чем они и помыслить не могли. Джордж напрягает все силы и встает первым. У него ноет челюсть, он помнит, что вышел из клуба «Белладонна» с болью в животе, но что случилось потом — вспомнить не может. Тут он замечает на кофейном столике пакет. Он передает его Джун, та трясущимися пальцами вскрывает упаковку. Внутри, разумеется, флакон духов «Белладонна». В коробочку вложен крохотный конвертик, запечатанный пурпурным воском. Джун медленно взламывает печать и читает то, что написано на карточке: «Как вы могли ее бросить?»* * *
А у нас в клубе все кипит. Свершилось то, к чему мы так долго готовились; но персонал хорошо знает свое дело, поэтому общей настороженности и выжидания не замечает никто. Долгие тренировки дали свои плоды. Первой подняла тревогу Джози: принимая пальто, она заметила кольцо на пальце незнакомца, распознала акцент и вычислила примерный возраст. Один из официантов в темной комнате проявляет пленку. Другой официант в джеллабе, замаскированный под посетителя, сидит за соседним столиком и прислушивается к разговору. Проворные руки уже обчистили карманы нашего гостя, третий официант склонился над стойкой в кухне с миниатюрным «миноксом» в руках и фотографирует каждую карточку, каждый клочок документов из бумажника гостя. Потом он передаст находку другому шпиону, тот перепишет самые важные данные, чтобы мы могли воспользоваться ими сразу же. Потом бумажник будет возвращен в карман гостя, и тот даже не заметит, что он исчезал. Ошибки недопустимы. Маттео вернулся к дверям — собирать наружную команду. С той минуты, как наш гость выйдет за порог клуба, за ним будет вестись неусыпное наблюдение, мы будем знать каждый его шаг, все его планы — где он остановился, что собирается делать, куда идти. Каждую минуту. Он высморкает нос — и мы будем знать, что осталось у него в носовом платке. В кабинет Белладонны вбегает Джек. — Его зовут сэр Паттерсон Крессвелл, — сообщает он. — Мы уже звоним Притчарду. Это имя вам что-нибудь говорит? Белладонна отрицательно качает головой. Ее лицо покрывается той же зеленоватой бледностью, что у Джун, широко распахнутые глаза смотрят в пустоту. — С вами все в порядке? — тревожно спрашивает Джек, потом смотрит на меня. Я подхожу к Белладонне, опускаюсь рядом с ней на колени, беру ее за руки. Она дрожит, я крепче стискиваю ее ладони. — Кто ты такая? — сурово спрашиваю я. — Что? — в шоке переспрашивает она. Только этот вопрос может привести ее в чувство. — Кто ты такая теперь? — уточняю я. — Белладонна, — шепчет она. — Зачем ты здесь? — Чтобы найти их, — отвечает она, ее голос становится сильнее. — Найти их и смотреть, как они будут страдать. — Ты больше не она, — продолжаю я. — Откуда ему знать, кто ты такая. Ты Белладонна. Это твой клуб, здесь они до тебя не доберутся. И с тобой мы. Сосредоточься и думай. Сделай глубокий вдох. Стреляй уверенно и спокойно. Целься в сердце. Она смотрит на меня. Ее глаза бездонны. — Тебе еще повезло, что сегодня ты в контактных линзах, — неуклюже пытаюсь пошутить я. — Везение тут ни при чем, — отвечает она и идет приветствовать нового гостя.11 Крыша школьного здания
Он выглядит именно так, каким вы нарисуете себе человека по имени Паттерсон Крессвелл: чуть располневший, с розовыми пятнами на щеках, отвислыми подбородками, как у петуха, и плохо чищенными зубами. Кольцо, которое ему не положено носить на людях, утопает в складках жира на пухлом пальце. Но больше всего меня раздражает его бескрайняя самоуверенность. Хотел бы я посмотреть, как его высокомерие испарится после долгой ночи в наших темницах. Трусы ломаются после первой же ночи. Единственная загвоздка в том, что здесь у нас нет казематов. Для Джун они не понадобились; мы провели всю операцию с ней в подвале клуба «Белладонна». Мы уже соорудили собственные казематы в новом доме в Виргинии. Точнее, переделали винные погреба. Так мы объяснили подрядчику его задачу; вряд ли он заподозрил у нас иные тайные побуждения. Белладонна во всех подробностях расписала мне, как она хочет обустроить подземные темницы. Я знаю, она без крайней необходимости ни за что и ногой не ступит в эти подвалы, где темно и сыро. Видимо, после переезда туда последние штрихи выпадут на долю вашего покорного слуги. Ничего, я не возражаю. С удовольствием. Думаю, если понадобится, мы могли бы арендовать фургон-холодильник, в каких возят мясо, поставить его за углом и запереть внутри сэра Патти. Я размышляю об этом, пока мы прислушиваемся к разговору за соседним столиком. С ним сидят еще две пары. — Одни из них молоды, другие — старые перечницы, одни осчастливят вас за медный грош, другим подавай шиллинг, одних надо накормить обедом, других — напоить допьяна, кто-то из них умен, кто-то глуп, бывают симпатичные девочки, но попадаются и сущие стервы. Она была из стерв. Как распалится — сущая ведьма. — Сэр Паттерсон говорит о женщинах. Как трогательно. — Кстати, о собаках. Фелисити Эвердейн рассказывала мне забавный случай, — говорит одна из дам, не обращая внимания на его болтовню. — У ее дочери был маленький спаниель. Его звали Тапа — угораздило же их дать собаке такое нелепое имя! Однажды этот Тапа попал под машину. Фелисити была в отчаянии — что же она скажет дочери? Она подождала до обеда, точнее, до пудинга, и рассказала девочке страшную новость. Наступило минутное молчание, но, к ее удивлению, дочка восприняла известие совершенно спокойно. Но вечером Фелисити поднялась к дочке поцеловать ее на ночь и увидела, что девочка захлебывается от слез. «Что случилось, милая? — спрашивает Фелисити. — Почему ты плачешь?» «Потому что Тапа умер», — отвечает малышка. «Да, мой ангел, он умер, я же сказала тебе об этом за обедом, когда ты ела пудинг». «А мне послышалось, ты сказала — папа», — всхлипывает дочка. Под общий смех я пользуюсь случаем пригласить эту компанию за наш стол. Они держатся так, будто ожидали моего приглашения. Они уверены, что их тщательно отрепетированное, наигранно утомленное презрение ко всему свету автоматически делает их желанными гостями. Белладонна в пурпурной парандже лениво обмахивается веером, чтобы скрыть настороженность. Все приключения с Джун заняли всего полтора часа. — Вы, сэр, — говорит она, указывая веером на нашего подозреваемого. — У вас такой вид, будто вас вылизала кошка. — Сэр Паттерсон Крессвелл, к вашим услугам, мэм, — представляется он. — И где же вы живете, сэр Паттерсон Крессвелл? — спрашивает Белладонна. Глядя на нее, вы и не подумаете, что в эту минуту она изо всех сил старается распознать его голос. — В Англии, в Лондоне, конечно, — отвечает он. Ее веер останавливается. — Почему вы сказали «конечно»? Разве вы не можете обитать в любом другом месте? Например, за городом? — О, да, да, несомненно. У меня дом в Глостершире. Поместье Чарлтон-Вудс. Будете неподалеку от нас — непременно загляните в гости. Будем рады вас видеть. — Вы очень любезны, — откликается она. Ее голос мягок, как истертая веревка. — И надолго ли вы осчастливили наш город своим присутствием? — Боюсь, совсем ненадолго, — отвечает он, абсолютно не уловив сарказма в ее тоне. — Через два дня отплываю на пароходе «Ройял Сплендор». — В таком случае непременно загляните к нам в клуб еще раз, — говорит она ему и встает. — К сожалению, в эту минуту меня ждут неотложные дела, но я с удовольствием продолжу нашу занимательную беседу. Я буду рада видеть всех вас завтра вечером, строго в одиннадцать часов. Непременно приходите. Они согласно кивают. Она проходит мимо, обдавая их едва уловимым ароматом желтого жасмина и ландыша. Какая удача! Сама Белладонна выделила их из толпы гостей и пригласила к себе! Впрочем, ничего удивительного. Разве могла она не заметить таких дивных собеседников? Это сделано только потому, что нам нужен день на приготовления. Мы ждали столько лет. Можем подождать и еще несколько часов.* * *
— Слушай меня: мало у кого на свете хватит сил иметь дело с изнанкой жизни. Ты это знаешь. Естественно, такие никчемные подонки, как сэр Паттерсон Крессвелл, ни на что не способны. А если эта изнанка свалена перед ними в окровавленную груду, как выразился бы сам сэр Паттерсон, то большинство людей крепко зажмурят глаза и откажутся смотреть. Но ты не такая. Ты ждала много лет. Я разговариваю с Белладонной, она нервно расхаживает взад и вперед по гостиной. Сейчас половина пятого утра, но никому из нас не хочется спать. Мы уже позвонили Притчу. Команда Джека заказывает билеты сразу на несколько отдельных кают первого класса на пароходе «Ройял Сплендор», а Притч встретит гостей сразу же по прибытии в Мейдстон. Мы еще раз продумываем наши планы. Действовать будем медленно. Методично. Вытянем из сэра Патти как можно больше сведений, а потом устроим ему небольшой сюрприз. Мы не имеем права ошибаться. — Завтра тебе надо чем-нибудь занять себя, чтобы отвлечься, — говорит Белладонне Маттео. — Займись чем-нибудь непривычным, таким, чего никогда не делала. — Например? — огрызается она. — Например, сходи в школу к Брайони, — предлагаю я. — Ты уже который месяц туда собираешься. Сейчас самое подходящее время, тебе не кажется? — Да, время как раз пришло, — соглашается она и вздыхает. — Сам понимаешь, что это значит. Я понимал. И еще как. Через несколько часов она, к удивлению Брайони, шагает вместе с ней и Маттео в школу Литл-Брик. Я иду в сотне шагов позади. Лицо Белладонны бледно, но спокойно. Трудно представить, что творится у нее в душе, какие муки принес ей голос этого человека. Когда Брайони исчезает в классе, а Маттео уходит домой, Белладонна просит о безотлагательной встрече с директорами школы. Их зовут Гиасинт и Дейзи Хэмилтон. Я жду вместе с ней в вестибюле, чувствуя себя завзятым прогульщиком, каким некогда и был. У них чудесная школа, они управляют ею на славу, и мне эти дамы всегда нравились. Наконец, мы входим в кабинет и усаживаемся. — Миссис Роббиа, надеюсь, с Брайони ничего не случилось? — встревоженно спрашивает Гиасинт. — Не волнуйтесь, все в порядке, — отвечает Белладонна, достает из сумочки большую картонную папку и протягивает мне. — Мой управляющий хотел бы переговорить с вами. Всего хорошего, уважаемые леди. — Она кивает и выходит, оставляя Гиасинт и Дейзи теряться в беспокойных догадках. — Как это ни печально, но Брайони не вернется в школу после рождественских каникул, — сообщаю я. Сестры встревоженно переглядываются и готовятся услышать самое худшее. — Вам чем-то не нравится школа? — спрашивает Дейзи. — Нет, что вы, напротив, — отвечаю я. — Миссис Роббиа просила выразить вам признательность за все, что вы делаете для ее дочери. Брайони была здесь счастлива, но обстоятельства вынуждают нас переехать за пределы штата. Очень жаль, но у нас имеются неотложные деловые обязательства. Миссис Роббиа также поручила мне передать вам свои извинения по поводу того, что она слишком мало участвовала в жизни школы. Как вы только что убедились своими глазами, она человек малообщительный и неловко чувствует себя в компании других родителей. — Мы все понимаем, — медленно произносит Гиасинт, хотя на самом деле ничего не понимает. До поры до времени. — В благодарность за все, что вы сделали для Брайони, миссис Роббиа желает вручить вам подарок. Простите мою прямолинейность, но мне хотелось бы узнать, имеется ли у вас фонд развития школы. Сестры опять переглядываются, но уже не тревожно, а озадаченно. — Да, мы надеемся, что когда-нибудь сможем возвести пристройки к школьному зданию, и с этой целью учредили фонд, — осторожно отвечает Гиасинт. — К сожалению, этот фонд очень невелик. Мы используем его средства на благо школы — на ремонт, прочие неотложные расходы. Но расходы всегда оказываются неотложными. — Она горько смеется. — Мы надеялись, что когда-нибудь — это была наша мечта — мы сумеем выкупить соседнее здание, — добавляет Дейзи. — В нем идеально разместились бы дополнительные помещения нашей школы, мы наняли бы больше учителей, устроили большой гимнастический зал, музыкальные классы, но, к несчастью, это здание кто-то уже приобрел. Какая-то корпорация. Мы не знаем, какая именно. — Да, мне известно, что это здание продано, — говорю я. — Потому что купили его мы. — Простите, я вас не понимаю, — говорит Гиасинт. — Вы занимаетесь недвижимостью? — Не совсем. Пожалуйста, внимательно прочитайте вот эти бумаги. — Я протягиваю ей папку. Они раскрывают ее, читают верхнюю страницу, опять переглядываются и в величайшем изумлении смотрят на меня. Щеки Дейзи становятся румяными, как яблочки на уроке рисования. — Но это документ на покупку соседнего здания, — растерянно восклицает Гиасинт. — С нашими именами. — Совершенно верно, — отвечаю я. — Мы приобрели это здание с единственным намерением — передать его вашей школе для расширения. Кроме того, в этой папке вы найдете информацию о номере счета, учрежденного специально для оплаты необходимого ремонта, нового архитектора, надежных строителей, поставщиков, всех прочих потребностей. Все ваши предполагаемые расходы будут оценены нашими бухгалтерами и без промедления утверждены. Когда ремонт здания будет закончен, вы получите еще один фонд — для того, чтобы нанять учителей достойной квалификации и приобрести необходимое учебное оборудование. И так далее, и тому подобное. Если вам понадобятся дополнительные деньги или помощь, можете рассчитывать на содействие. Мы учредили также особый фонд, средства из которого вы можете использовать по своему усмотрению. Сюда включена оплата отпуска для вас. Вы его заслужили. Вы так давно не отдыхали. От изумления дамы потеряли дар речи. Они снова переглядываются, потом смотрят на меня. На глазах у них выступают слезы. — Вы так много делаете для нас… — произносит Дейзи, не веря своим ушам. — Вы этого достойны. Образование высочайшего уровня не имеет цены. — Но такая крупная сумма… — Как я уже сказал, вы более чем достойны этого. Но мы выдвигаем одно условие. — Какое? — По их лицам пробегает тень паники. Они решают, что им снится сон. Этого не может быть; такие сновидения не сбываются. Сейчас я скажу, что это всего лишь жестокая шутка, и исчезну за порогом так же таинственно, как миссис Роббиа. — Наше пожертвование должно остаться анонимным, — говорю я. — Миссис Роббиа не хочет, чтобы ей любым образом выражали признательность. Если мы обнаружим, что это условие нарушено, все финансирование прекратится. На их лицах написано облегчение. — Вы уверены? — тихо спрашивает Гиасинт. — Совершенно уверен, — отвечаю я. — Это делается ради блага Брайони. Мы не хотим широко распространяться о том, что ее мать — как бы это выразиться? — более чем хорошо обеспечена. Миссис Роббиа предпочитает, чтобы ее материальное положение не становилось предметом огласки. Я уверен, вы понимаете причину ее опасений. — Конечно, — шепчет Гиасинт. — Контракты составлены очень подробно и ясно. В скором времени наши сотрудники свяжутся с вами и помогут уладить все формальности. Покажите документы вашим юристам, пусть они все проверят; если будут вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. В папке вы найдете номера контактных телефонов. — Я улыбаюсь. — Может быть, когда-нибудь мы вернемся в Нью-Йорк, и в этом случае, надеюсь, вы примете Брайони обратно. Полагаем, ваши стандарты обучения останутся на прежней высоте. — Нам будет очень не хватать Брайони, — вздыхает Дейзи. — И она тоже будет скучать по вашей школе, — говорю я, вставая. — Надеемся, ей будет не слишком трудно освоиться на новом месте. Но, к сожалению, мы должны переехать. Я протягиваю руку, обе пожимают ее. — Да благословит вас Бог, — говорит Гиасинт. По ее щекам текут слезы. — Мы никогда не забудем того, что вы сделали для школы. — Хотел бы я, чтобы наша помощь всегда попадала в такие достойные руки, — говорю я на прощание. Дома меня встречает Белладонна. — Покончил с делами? — спрашивает она. — Да, покончил. Да, и она покончила. Покончила с добротой.* * *
Проклятье. Думаю, вам хочется узнать вовсех подробностях, что же случилось в тот вечер в клубе «Белладонна». Прошу прощения; впервые в жизни память подводит меня. Я почти не помню того, что происходило в клубе, прежде чем сэр Патти уселся за наш стол. Знаю только одно: вдруг он возник, будто из ниоткуда, и сидит с нами, сияя гордой улыбкой. Его друзья, к несчастью, задержались. Какая неожиданность. Просто он хочет провести вечер с Белладонной с глазу на глаз, без посторонних. Он получит то, чего хочет, только немного не так, как рассчитывает. — Какое у вас необычное кольцо, — замечает она. — Семейное наследство? — Да, — сияет он. У меня руки чешутся подлить ему в коктейль хорошую дозу белладонны и посмотреть, как тогда зарумянятся его пухлые щечки. Удивительно, но Белладонна умудряется сохранять спокойствие. Все дело в кольце. Кольцо его выдает. Оно — ключ ко всему. — Оно перешло ко мне от отца, а к нему — от деда. Разумное решение. Членство в Клубе переходит от одного извращенного поколения к другому. Новая кровь не нужна, нет, благодарим. Предпочитаем не выносить сор из избы. — Можно рассмотреть поближе? — спрашивает она и протягивает пальцы, с которых свисают жемчужные ниточки. — Очень люблю необычные кольца. — Конечно. — Он протягивает руку. А он хитер, этот пройдоха, прекрасно знает, что не имеет права носить это кольцо на людях. Он не узнал ее голоса. Ему и в голову не приходит, что она уже видела такое кольцо, что одна мысль о нем… Нет, нет. Хватит об этом. Томазино, сосредоточься. Дыши глубоко. Храни спокойствие. Целься в сердце. Кольцо покрыто изумительной гравировкой. Тяжелая печатка, на которой положено находиться фамильному гербу, несет реалистичное до мельчайших деталей рельефное изображение змеи, пожирающей яблоко. Но вместо дерева этот змей-искуситель обвивается вокруг тоненькой, обнаженной женской фигурки. Белладонна не прикасается к кольцу. Она склоняется над ним, очень близко, и улыбается сэру Патти. — Благодарю вас, — говорит она. — Необычная вещица. Оно единственное в своем роде? Его улыбка чуть-чуть меркнет. — Полагаю, что да, — лжет он сквозь зубы. — Так мне говорили. Надеюсь, что да. Надеется он, как же. Сколько еще таких колец? По одному у каждого члена Клуба? Они бесстыдно носят на пальцах этот пропуск в мир избранных, дающий им право доступа в такие места, куда нормальный человек не отважится ступить. — Сэр Паттерсон, — говорит Белладонна, внезапно меняя тему разговора. — Расскажите мне о лондонских клубах. Можно ли их сравнить с моим? Как вы думаете, не открыть ли мне свой клуб в вашем городе? — В Лондоне много ночных клубов, но ни один не может сравниться с вашим, — отвечает он. — Клуб «Белладонна» в Лондоне будет иметь сногсшибательный успех, просто потрясающий. Если бы на ней не было серебряной маски, инкрустированной тысячами сверкающих бриллиантов, сэр Патти заметил бы, что она кокетливо вспыхнула. Но он видит только рубиново-красные губы, они кривятся в улыбке, да сверкают под контактными линзами темно-карие глаза. На ней парик платинового оттенка, светлые локоны водопадом ниспадают на спину, поблескивая на фоне золотой парчи расшитого лифа, как мириады серебряных нитей. Перчатки на ней из того же кружева, что и маска, а веер переливается золотой фольгой. Она испускает сияние такое ослепительное, что ни один из гостей клуба не может отвести глаз. — Вы очень любезны. Однако я так мало знаю о другой стороне вопроса — о закрытых клубах, — настаивает она. — Мужчина с вашим положением в обществе наверняка входит в такой клуб, а может быть, и не в один. Я сгораю от любопытства, потому что у нас здесь очень мало подобных клубов. А в те, какие есть, женщины практически не допускаются. Несправедливо, правда? — Ужасно несправедливо. Хотя я, например, рад, что моей жене запрещено членство в таком клубе. — Он хохочет так оглушительно, что я опасаюсь — как бы у него не лопнул воротничок. — А как стать членом закрытого клуба? — спрашиваю я. — Членство получают по праву рождения или же по рекомендации одного из старейших членов, — отвечает он. — Понятно, — говорит Белладонна. — А что вы скажете о клубах, которые считаются — как бы это сказать — немного более закрытыми? Таких, о которых не знает никто, если не имеет достаточных связей? — О, — восклицает он, откусывая кончик сигары. — Это неподходящая тема для разговора с леди. — Почему вы решили, что я леди? — возражает она, со щелчком захлопывая веер. — Дорогая Белладонна, — говорит он. — Я бы ни за что не предположил… — Вот именно, — сурово парирует она. — Вы бы ни за что не предположили. Воцаряется неловкое молчание. Нет, сэр Патти не такой болван, каким выглядит, и не так пьян, как мне бы хотелось. Дважды проклятье. На миг я даже пожелал, чтобы его друзья были здесь и помогли сгладить острые углы. Но их сегодня нет, и я принимаюсь болтать о том, о сем. Не помню в точности, о чем я говорил. Нес какую-то чепуху, лишь бы задержать его хоть ненадолго. Белладонне еще не пришло время уходить, ему не пришло время покинуть наш клуб. Итак, мы сидим, пьем и беседуем. Спустя некоторое время Белладонна встает и идет по залу, приветствуя гостей любезной улыбкой. Сегодня она гораздо дружелюбнее, чем обычно, искрится весельем, кокетничает, смеется. Будто по мановению волшебной палочки, ее веселость охватывает весь клуб. Какой сегодня изумительный вечер, думают наши осчастливленные гости. В воздухе нежно звучит чарующая музыка, коктейль «Белладонна» льется рекой, свет приглушен, мы сидим здесь, мы — горстка избранных, тех, кому выпала удача приобщиться к волшебству. Пусть бы этот вечер длился целую вечность. Да, это тянется уже много часов. Белладонна столь же обаятельна, сколь скучен и невыносим сэр Патти, но этот зануда до крайности нужен нам. Он должен просидеть в клубе весь вечер, чтобы мы не потеряли его из виду. Наконец, Белладонна встает и прощается со всеми, благодарит сэра Патти за чудесный вечер и желает ему успешно пересечь Атлантический океан. — Позвольте, мой шофер довезет вас до отеля, — говорит она, когда он встает. — Прошу, сделайте милость, не отказывайтесь. — Вы слишком любезны, — бормочет он. Естественно, он не сомневается, что достоин такой чести. А почему бы и нет? Кто он, если не великий сэр Крессвелл? Разве планета вращается не затем, чтобы выполнять его прихоти? Сегодня шофером у нас работает Маттео. Он вежливо придерживает для сэра Патти дверь одного из наших «кадиллаков», и тот с довольным уханьем переливает свои телеса на заднее сиденье. Машина трогается с места, но отнюдь не в направлении отеля «Сент-Реджис». Она сворачивает за угол, потом за другой, в темноту, у перекрестка останавливается на красный свет, и вдруг задние дверцы разом распахиваются. Джек отправляет сэра Патти в нокаут с такой точностью, что тот не успевает и глазом моргнуть. У него останется лишь небольшая болезненная припухлость на подбородке, совершенно незаметная при таких отвислых щеках. Такая незаметная, что он по прошествии времени и не вспомнит о том, что произошло с ним дальше. У нас в запасе примерно двадцать минут, прежде чем он очнется. Очнется — и проклянет ту минуту, когда открыл глаза.* * *
Сэр Патти стонет, слабо качает головой и открывает глаза. Комната, где он лежит, освещена очень тускло, в ней холодно и сыро. Если быть точными, он лежит на «нулевом уровне» подвала нашего дома — на один этаж ниже главного подвала, где мы беседовали с Джун. Сэр Патти спрятан так глубоко под землей, что кричи не кричи — никто не услышит. Главное, не услышит Брайони — она мирно спит несколькими этажами выше. Мы втащили его через складские ворота старой фабрики «Чмок-чмок», но, по его представлениям, его занесло не меньше чем в преисподнюю. Далеко, невообразимо далеко от шикарного клуба «Белладонна». Он пытается пошевелиться, понимает, что привязан к стулу, и начинает в панике метаться. Тут он видит Джека, Маттео и меня. Мы стоим перед ним, облаченные в монашеские рясы, наши лица скрыты под масками. Белладонна одета так же, как и мы, но не хочет смотреть на нас, на наши лица. Она сидит у нас за спиной, скрытая в тени, возле невысокого деревянного столика, на котором медленно крутится большой катушечный магнитофон. Сэр Патти не видит ее. Она не хочет, чтобы ее видели. Мы одеты точь-в-точь как члены Клуба, и, когда сэр Патти понимает это, его глаза распахиваются от ужаса. Он с дрожью отворачивается. — Я ничего не сказал, — бормочет он дрожащим голосом. — Клянусь. Ни слова. — Не сказали чего? — интересуется Джек. Его голос прекрасно поставлен, произношение безукоризненно, как у прирожденного джентльмена из высшего общества. Неудивительно, что Притч его так горячо рекомендовал. Белладонна просила, чтобы этот допрос он взял на себя. Хоть я и провел столь задушевную беседу с Джун, у нас с Маттео все-таки не хватает опыта для более серьезных вещей. И хоть мы с Маттео и мечтаем увидеть сэра Патти на полу, в луже крови, истерзанного и изуродованного, как мы, все же у нас с братом не поднимется рука сделать с другим мужчиной то, что сделали с нами. Как бы он этого ни заслуживал, и несмотря на все любезности, какие Маттео наговорил мерзавцу Поли Болдуину. Да, они все заслуживают этого, заслуживают в полной мере. Все члены Клуба до единого. Наконец-то мы добрались до одного из них, и за двенадцать часов, которые остались до отплытия его парохода, он расскажет нам все, что мы хотим знать. Несколько наших официантов уже отправились в отель с ключами, которые мы извлекли у него из кармана, упаковали его чемоданы, оформили отбытие и в эту минуту перетаскивают его пожитки туда, где их быстренько обыщут. Может быть, в адресной книжке найдется какое-нибудь имя, намек, след. Что угодно. Мы будем рады всему, что нам поможет. Сэр Патти не отвечает. — Ничего не сказали о чем? — повторяет вопрос Джек. Его голос спокоен, в нем не слышится угрозы, но я бы на месте сэра Патти очень захотел бы очутиться где-нибудь подальше. — Кто вы такой? — еле слышно лопочет сэр Патти. — У вас голос, как у Норриса. Норрис, это ты? Как ты посмел, подлый, жалкий трус? Развяжи меня сейчас же! Норрис? Кто такой Норрис? — Я не Норрис, — отвечает Джек. — Гадайте дальше. — Кто вы такие? — кричит он. — Зачем я здесь? Чего вы хотите? Кто ты такая? Зачем ты здесь? — Как вы думаете, кто мы такие? — Не знаю! Не знаю, почему вы упрятали меня сюда, зачем вообще прибыли в Нью-Йорк. Вы следили за мной? Вы не имеете права следить за мной! Собрание состоится не раньше следующего года. Я не сделал ничего плохого, честное слово, ничего. Все книги в идеальном порядке. Я не сказал ни слова. Клянусь честью, не сказал ни слова, ни сейчас, никогда. Да, она знает, что они встречаются раз в три года. — Человек вашего, толка не имеет права произносить слово «честь» в моем присутствии, — заявляет Джек. — У вас нет чести, и вы не джентльмен. Кроме того, — добавляет он, — если вы не сделали ничего плохого, то, как вы думаете, почему мы вас сюда упрятали? Нет ли в ваших словах противоречия? — Противоречия? Никакого! Откуда мне знать, что вы замышляете! — кричит он. — Я требую — отпустите меня! Погодите, выясню, кто вы такие, вы поплатитесь! Это вопиющее нарушение правил, и вы это знаете! Мы с Маттео переглядываемся и едва удерживаемся от улыбки. Как вам нравится — вопиющее нарушение правил! Неплохо сказано. — Кто-то проговорился, — продолжает Джек. Никогда не видел человека, который умеет блефовать с таким шиком. — Кто-то из нашего круга наговорил лишнего. Вы случайно не знаете, кто? Сэр Патти на глазах расслабляется, решив, что теперь он вне опасности. Меня изумляет, что он мгновенно перестал дрожать от страха. Ведь он сидит связанный в незнакомой темной комнате, с незнакомыми грозными людьми. Они, члены Клуба, привыкли к темноте. Мрак переполняет их души. — Понятия не имею, — отвечает он. — Такого никогда прежде не случалось. Сколько лет уже я в Клубе, а такого не помню. И мой отец не помнит. У нас не было никаких неприятностей с 1887 года, после того случая с Даффилдом. Не считая, конечно, истории с королем. Болван этот Эдуард, и его Симпсон тоже. Сами знаете. Но расхождений не было никогда, с тех пор, как моя семья ведет учетные книги. Никогда. Даффилд? Кто такой Даффилд? — Да, — говорит Джек. — Но ведь кто-то проговорился. Может быть, и вы. Лично я склонен верить, что это были вы. Хвастаетесь на публике, показываете кольцо всем и каждому. И кому? Женщине, которая держит ночной клуб! Какая нелегкая на вас напала? — Она просто глупая баба, которая обожает колечки, — защищается он, надувая губы. — Ничего страшного не случилось. Да, признаю, я не должен был носить это кольцо, но вы сами знаете: если вас спросят о кольце, охотно покажите его. Это лучший метод избавиться от ненужного любопытства. Мы все это знаем. Так нам всегда говорили. Я не сделал ничего плохого. — Тогда скажите, кто, по-вашему, мог это сделать, — продолжает Джек, доставая блокнот. Он пропускает мимо ушей выпад о том, что Белладонна — глупая баба. За это сэр Патти поплатится чуть позже. — Или вы скажете мне сейчас же, или мы оставим вас здесь на съедение крысам. Никто не знает, что вы здесь. Если мы захотим похоронить вас заживо, никто вас не найдет. Я бы на вашем месте подумал об этом и быстренько все рассказал. У нас мало времени. Сэр Патти хмурится, но ничего не говорит. Мы стоим вокруг, и нам кажется, что прошла вечность. Я усилием воли сдерживаю желание оглянуться и посмотреть на Белладонну. — Очень хорошо, — говорит Джек и выключает свет. — Посидите тут, пока не передумаете. Мы выходим и оставляем его там. Я подхожу к Белладонне, она во мраке качает головой. Она не уходит. Останется сидеть здесь, в темноте, пока он не заговорит. Я хочу сесть рядом с ней, но она нетерпеливым взмахом руки прогоняет меня. Я ничем не могу ей помочь. Никто ей не поможет. Маттео уводит меня, и я оставляю Белладонну среди ее демонов. Мы садимся в соседней комнате и ждем, прислушиваясь к воплям и пустым угрозам сэра Патти. Из отеля возвращаются с вещами шпионы Джека; мы быстро просматриваем содержимое чемоданов, фотографируем каждую страничку аккуратной кожаной адресной книги, потом переписываем, сколько можем успеть. Нам нужны имена. Имена, адреса, номера телефонов, даже если все они зашифрованы. Притч с командой пропустят каждое имя через свою волшебную машину. Мы найдем их всех, всех до единого. Нам кажется, что прошла вечность, хотя на самом деле миновал всего лишь час. Наконец сэр Патти перестает вопить и начинает сыпать угрозами. Ну и глупец. Как тянется время, когда ты заперт один в темноте. Каждая секунда щелкает, как удар хлыста, малейший шум грохочет, как раскаты оглушительного грома, звук шагов повергает в панику и отчаяние. — Вы готовы? — спрашивает Джек, вырастая перед ним будто из ниоткуда. В отчаянной попытке проявить показную храбрость сэр Патти мотает головой. Неужели он нарушит обеты Клуба, станет предателем? Или выдаст их, чтобы спасти свою драгоценную шкуру? Сложная дилемма. Клянусь его честью, сложная. — Нам запрещено раскрывать перед посторонними любые сведения, касающиеся членов Клуба, — говорит сэр Патти. — Вам это известно. — Вы не знаете, посторонний я или нет. — Посторонний, посторонний, — бормочет он. — Вы не Норрис. Я уже и так слишком много сказал, упомянув его имя. Я не знаю, кто вы такие. Вы негодяи без имени, скрывающиеся под маской. Снимите маску, сэр. Я требую — снимите маску! Джек хрипло смеется. — А почему я? Разве вы сами сняли маску? Сняли? Сэр Патти ничего не произносит. Ему нечего сказать. — В наказание за то, что вы снимете маску, вас навеки исключат из Клуба, — вовсю блефует Джек. — Такая судьба хуже смерти. — Да, — шепчет он. — Откуда вы знаете? Кто вы такие? — Вы готовы умереть? Молчание. — Готовы? — переспрашивает Джек и делает знак Маттео. Мы склоняемся вокруг сэра Патти, чтобы Белладонна не видела, что мы делаем. Сэр Патти кричит от внезапной нечеловеческой боли. Я не стану вам рассказывать, как мы заставили его кричать. Это не имеет значения; на его мясистом белом теле не останется никаких шрамов. Таких, какие остались после пыток у нас. Я говорю себе, что этой болью он расплачивается за все, что случилось с Белладонной и с нами, за все, что сделали он и его друзья, все негодяи мира, высокомерные, самовлюбленные, обезумевшие от власти, все до единого. Я же не говорил, что мы приятные люди, верно? — Список, — требует Джек. — Нет, — повторяет он и кричит снова, и снова, и снова. Мы уходим и минут сорок сидим в соседней комнате. Мне нужно выпить; нам всем не помешает. Белладонна съежилась в комочек в уголке, спряталась под плащом и маской. Маленькая, потерянная. По-моему, с самого начала она не шевельнула ни единым мускулом. Мы возвращаемся и начинаем все сначала. Сэр Патти вот-вот потеряет сознание, поэтому мы выливаем ему на голову ведро воды. — Список, — повторяет неумолимый, непроницаемый Джек. — Подумайте, всего несколько имен. Они никогда не узнают. Никто не узнает; это будет наша с вами маленькая тайна, и я даю вам слово, что никому ничего не расскажу. Вам придется поверить мне, если хотите остаться в живых. А вы не хотите умирать, правда, Паттерсон Крессвелл? Правда? — Он приподнимает голову сэра Патти навстречу тусклым лучам света. — Вы не хотите умирать, правда? — ласково воркует Джек. — Нет, нет, сразу видно, что не хотите, не здесь, не сейчас, не так, в холоде и забвении. Не так, как умирали женщины, которыми вы пользовались. Не так. — Мы никогда никого не убивали, — говорит он прерывистым шепотом. Защищается до самого конца, хотя его волосы влажными прядями прилипли ко лбу и жгучая боль пронизывает все тело. Время для лицемерия еще не наступило. — Никого и никогда. — Вы убивали их дух, — гневно возражает Джек. — Итак, выкладывайте. Мое терпение на исходе. Список или смерть. — Но почему я? — стонет он. — Почему я? Белладонна — смерть твоя. — Потому что тебе сегодня повезло, — говорит Джек. — Кто-то должен был прийти первым. И повезло не только тебе. Повезло всем членам Клуба, всем вам. Слышите меня? Всем вам. И если мы не убьем вас сегодня же, то, поверьте, дальше вам станет еще хуже. Мы хорошо знаем свое дело. Мы будем следовать за вами до последнего дня вашей никчемной жизни. От нас вам не сбежать. Оглянетесь — мы здесь, следуем по пятам за вами, за вашей женой, за детьми. Возьмете в рот сигарету — мы дадим огонька. Закажете обед в ресторане — мы вам его накроем. Вы не узнаете, когда будет нанесен удар, никогда не почувствуете себя в безопасности. Никогда. И поверьте, я знаю, что говорю: угроза всегда страшнее, чем сам удар. Джек делает шаг назад и отваживается поднять глаза на Белладонну. Она неосязаема, как тень. — Список, — повторяет он. В его голосе сквозит смертельная усталость. — Дайте список, и мы оставим вас в покое. Всего лишь несколько имен. Мы знаем, что они зашифрованы. На самом деле мы ничего не знаем. Джек опять блефует. Я напоминаю себе — никогда нельзя злить Джека. В эту минуту даже я начинаю его бояться. — Норрис. Даффилд, — ласково воркует Джек. — Норрис и Даффилд. Норрис и Даффилд. Два имени мы уже знаем. Разве что-нибудь случится, если вы откроете нам еще несколько? Вы все равно их уже выдали. Не волнуйтесь. Доверьтесь мне. — Его голос успокаивает, увещевает, навевает сон. — Ведите себя хорошо. Я знаю, у вас получится. Норрис и Даффилд. Кто еще? Ну же, радость моя, говорите, вы сможете. Только у вас хватит храбрости на это. Да, только у вас. Вас нам послала судьба. Мы избрали вас, потому что вы самый храбрый. Никто бы этого не пережил, только вы. Скажите же мне. Будьте умницей. Сэр Патти смотрит на него. В глазах стоит мольба. Вдруг его губы зашевелились. Он видит только одно — горящие глаза Джека. Предательство не принесет ему никаких выгод, он это знает. — Я никому не расскажу, — продолжает Джек. — Честное слово. Они никогда не узнают. Никто не узнает, только вы и я. Скажите же, и мы вас отпустим. Губы сэра Патти снова зашевелились. — Бейтс, — шепчет он так тихо, что Джеку приходится встать рядом с ним на колени, чтобы расслышать. — Дэшвуд, Даффилд, Фрэнсис, Хенли, Ллойд, Мортон, Норрис, Степлтон, Томпсон, Таккер, Уайтхед, Уилкс. — И кто же из них вы? — спрашивает Джек. — Скажите, и я вас отпущу. Вы получите свободу. — Уилкс, — шепчет он. — Я Уилкс. Свет гаснет. Руку сэра Патти пронзает острый укол, и он проваливается в забытье.* * *
Нет, нет, мы его не убили. Как вы могли подумать такое? Мы чистим его, переодеваем, и когда он спустя несколько часов приходит в себя, то обнаруживает, что лежит на заднем сиденье машины. За рулем сидит Маттео. Машина стоит неподалеку от пирса, возле которого готовится к отплытию «Ройял Сплендор». Мы сообщаем стюардам первого класса, что сэр Паттерсон, гм, вчера вечером чуточку перебрал, и просим их помочь нам погрузить его вместе с багажом в каюту. Затем мы вручаем им щедрые чаевые и торопливо удаляемся. Когда сэр Патти окончательно выходит из оцепенения, пароход уже далеко в океане. В свободном плавании. Не наша вина, что вскоре после прибытия домой с ним случается удар. Сэр Патти лишается речи и частично парализован. Честно говоря, нас это происшествие порядком раздосадовало, потому что теперь он не сможет рассказать никому из Клуба ничего полезного для нас. Притч мгновенно поспевает к месту событий и присылает к ложу беспомощного сэра Патти хорошо обученных сиделок из лучшего лондонского агентства, с которыми он, по счастливой случайности, знаком. Они будут внимательно слушать его слюнявые бредни. Да, в бытность членом Клуба с его уст слетали совсем иные бредни. А может быть, крохотная капелька яда все же нашла свою цель. Всего лишь предположение. Подумайте над ним. Как легко было бы подсыпать неуловимую щепотку сильнодействующего яда в его вечернюю порцию виски. Сладкий яд в ее устах. Оружие женщины — яд. Губительная ярость — иногда это все, что ей остается.* * *
Никто пока еще этого не знает, но сегодняшний вечер в клубе «Белладонна» был последним. Сначала люди думают, что все идет как обычно, что клуб, как это бывало и раньше, закрылся на несколько дней по прихоти его капризной владелицы; но она, да будет им всем известно, удалилась к себе в спальню, совсем неподалеку, всего лишь за углом, и отказывалась выходить целую неделю. Наверняка клуб возобновит работу так же неожиданно, как закрылся. Какая жалость, что клуб заперт и погрузился в молчание как раз накануне Рождества — пропадают все веселые зимние праздники. Еще обиднее будет лишиться клуба «Белладонна» в новогоднюю ночь. Да, вздыхают завсегдатаи клуба, ловкая особа эта Белладонна, раз может позволить себе укатить из города в разгар праздничных каникул. Но неделя идет за неделей, месяц за месяцем, а на пурпурных дверях клуба по-прежнему висит замок. Начинается паника, множатся самые невероятные слухи. На Гейнсворт-Стрит пусто и холодно, пронизывающий ветер с реки завывает, как сборище неприкаянных злых духов. Ветер пробирает до костей отчаявшихся светских снобов, которые даже в такую мерзкую погоду бесцельно слоняются вокруг, лелея тщетные надежды. Им кажется, что, если они побродят вокруг еще немного, двери клуба чудесным образом распахнутся и пропустят их в райские кущи. — Слышите? Там собака лает, — кричит один из них. — Это, наверное, Андромеда. Мечтай, мечтай. Это не Андромеда. Просто бродячий пес залаял с голоду и скуки. Андромеда исчезла, и никто не знает, почему. А за углом в дверь тихонько входит Джек. Он попадает в наш огромный объединенный дом. Там остались жить только Ричард и Вивиан, они поселились в другом конце здания и работают на Джека, следят за людьми, на которых он им указывает. Оркестр тоже не сидит без работы — каждый жаждет пригласить на вечеринку музыкантов из прославленного клуба «Белладонна», тщетно надеясь, что хоть кто-нибудь из них обмолвится словечком о знаменитой хозяйке, раскроет хоть кусочек тайны. Не надейтесь: музыканты не меньше всех остальных удивлены неожиданным закрытием клуба. Мы заплатили им жалованье за шесть месяцев вперед, и это, разумеется, удержит их рты на замке. Никто из них не осмелится навлечь на себя гнев Белладонны. А вдруг она когда-нибудь вернется? Она непременно должна вернуться. Натренированным острым глазом Джек присматривает за покинутым зданием клуба, а натренированным острым умом выслеживает все подозрительное. Он нужен нам больше, чем когда бы то ни было. Он делает все, о чем ни попросит Притч, следит за работой группы, помогающей женщинам, чьи письма на адрес клуба продолжают десятками поступать каждый день. Многие из официантов и других сотрудников ныне занимаются слежкой за неверными мужьями и самовлюбленными бизнесменами. Эта работа для них легче, расписание не такое строгое. К тому же не приходится целые дни проводить на ногах. Белладонна настояла, чтобы Джек связался с Элисон Дженкинс, увел ее из импортно-экспортного бизнеса и усадил в контору, организованную нами на Парк-Авеню, помогать ему управлять благотворительным фондом. Я не оставляю надежны на то, что Джек и Элисон влюбятся друг в друга по уши. Из них получилась бы чудесная пара. Кроме того, новое увлечение отвлекло бы мысли Джека от Белладонны, и ей было бы приятно узнать, что человек, который так самоотверженно помогал ей, нашел свою истинную любовь. Вообще, любовь витает в воздухе: Маттео и Аннабет поженились. Краткая церемония состоялась в городской ратуше, на ней присутствовали только восторженные дети. Сейчас молодые живут в квартире у Аннабет, а в дальнейшем подумают, не переехать ли им в Виргинию. Мы этого очень хотим. А пока мне придется работать за двоих. Конечно, я не боюсь, что эта задача окажется мне не по силам. Аннабет сказала Маттео, что дети у нее уже есть и больше она не хочет, к тому же она, по правде сказать, никогда не была в большом восторге от секса. Когда Маттео, не веря в свое счастье, рассказал мне это, у меня внутри все перевернулось, и я целые недели убеждал его, что она в самом деле сильно любит его и сказала это вполне искренне. Точнее сказать, любовь витает в воздухе для некоторых из нас. У других же сердца раздуваются не от нежности, а от неутолимой жажды мести.* * *
Слухи по-прежнему кружат над городом, как бомбардировщик с нескончаемым секретным заданием. Губошлеп в растерянности. Он докладывает в газетах о малейших клочках домыслов, которые ему удалось услышать, даже о самых нелепых. Белладонна кого-то убила и вынуждена спасаться бегством. Кто-то хотел убить ее. Она вернулась в Европу. Купила шато во Франции. Нет, в Англии. Ведет жизнь отшельника в Тибете. Потеряла все деньги. Влюбилась и убежала со счастливым избранником, кто бы он ни был. Нет, все это неправда — она выпила флакон собственных духов и умерла. Разве станем мы мешать ему печатать такие восхитительные сплетни? Они знают только одно — Белладонна исчезла. Вернется ли она? Почему она уехала? Куда запропастилась? Как могла так поступить с ними? Все, кто хоть что-нибудь собой представляет, хвастаются направо и налево, что бывали в ее клубе, что Белладонна небрежным мановением затянутого в перчатку пальца звала их за свой столик. Что они, конечно же, видели под маской бледную тень ее улыбки, когда она, гипнотически покачивая жемчужными ниточками на кольцах, накручивала на палец светло-вишневые локоны. Белладонна оставила их ни с чем. Ее клуб закрылся так же таинственно, как и появился. Она отобрала у каждого из них счастье видеть ее и тем самым не испытала на себе жестокости светского мира, теряющего интерес к любимой игрушке. Поэтому клуб «Белладонна» останется жить навсегда. «И знаете что? — спросил однажды в своей колонке Губошлеп через много месяцев после того, как угасла последняя надежда снова увидеть таинственную Белладонну. — Никому не удалось сделать ни одной ее фотографии. Никто не записал ее голоса, не нарисовал ни одного портрета». Никто так и не узнал, кто она такая. Через какое-то время Белладонна станет живой легендой. Она здесь — но все же ее нет, осталась лишь скорлупа покинутого здания, где некогда располагалась кондитерская фабрика «Чмок-чмок». Все уплыло, как мечта, как видение потустороннего мира. Этого не было на самом деле. Ее и самой не было. Правде не поверит никто.Дневник (1935 г.)
Где-то за городом, май 1935 года
— Как ты себя чувствуешь, милая? — спросил Хогарт. — Тебе лучше? В комнате было очень темно. Она лежала под чем-то тяжелым и ничего не видела, не видела лица Хогарта, своих собственных рук. Не могла пошевелиться. Что… — Что случилось? — с трудом выдавила она. — У меня голова закружилась. Я упала в обморок? — В некотором роде — да, — ответил Хогарт. Его голос звучал совсем не так, как раньше. Стал хриплым, нетерпеливым. Взволнованным — таким она его никогда не слышала. В его голосе было что-то чужое. И это ее испугало. — Слушай меня внимательно, — произнес Хогарт и взял ее за руки. — Я хочу тебе кое-что сказать. — Он прочистил горло. — Я давно искал тебя, очень давно. Мы все тебя искали. Ты была избрана из многих других. Из тысяч красивых и умных девушек со всего мира, каких мы видели, мы избрали тебя одну. Одну-единственную. — Что? О чем вы говорите? — Ее голос звучал непривычно, будто откуда-то издалека. У нее едва хватало сил раскрывать рот. — Боюсь, девочка моя, я был с тобой не во всем честен. Ее сердце отчаянно заколотилось. Она не могла вздохнуть — мешал туго затянутый корсет. — Да, я привез тебя на костюмированный бал, но бал этот самого необычного характера, — продолжал Хогарт. — Самого необычного, простые люди сюда не допускаются. Его устраивает своего рода Клуб. Организация джентльменов, существующая с очень давних времен. Время от времени они встречаются для собственного удовольствия. Его голос становился все более возбужденным. — Да, для удовольствия, — повторил он. — И тебе, моя дорогая, предназначено быть удовольствием на сегодняшний вечер. Тебя избрали. — Нет, — проговорила она, изо всех сил пытаясь встать. Ничего не получилось. Она не могла шевельнуться. Ее поймали в ловушку. — Лежи тихо, — сказал Хогарт. — Не двигайся. Не произноси ни слова. Если начнешь дергаться или визжать, мне, к сожалению, придется тебя придушить. Кроме того, если даже твой крик и услышат, никто не придет тебе на помощь. Лежи тихо, будь умницей. Она ничего не понимала. Ее охватила паника. Что он говорит? Хогарт — и придушит ее? Нет, он, наверное, шутит. Все это глупая шутка. Она танцевала с Хогартом, вдруг закружилась голова, и теперь она видит страшный сон. — Помнишь, в квартире у Джун я спросил тебя, как ты поступишь, если тебе представится возможность сделать нечто необычайное, такое, что полностью изменит твою жизнь? — сказал он. — Сделать шаг из света в тень. Голос был не таким, как всегда. Это был не Хогарт, веселый, бесшабашный Хогарт, который водил их на чай в «Кафе Ройял». — Ты, моя милая, сделала этот шаг. Сейчас ты во мраке. А когда выйдешь отсюда, все переменится. Да, ты была избрана. Он говорил, не умолкая, его руки все так же крепко сжимали ее. — Мы выработали собственные правила, и их нельзя нарушать, — говорил он. — Мы не отвечаем ни перед кем, кроме самих себя. И, конечно, кроме тебя, наша избранная гостья. Быть членом этого Клуба — величайшая честь, она передается от отца к сыну, из поколения в поколение. Это самый роскошный и самый закрытый Клуб в мире, и я не хвастаюсь. Мы встречаемся каждые несколько лет и делимся своими тайнами. Да, мы связаны клятвами и правилами Клуба, мы никогда их не нарушим. Он выпустил ее руки, подложил под голову подушки. Она все равно не могла двигаться: ее прижимала какая-то тяжесть. Хогарт поднес к ее губам стакан ледяной воды, она жадно выпила. Страшно мучила жажда. — Вы меня опоили, — сказала она. — Обманули и опоили каким-то снадобьем. — Да. Сожалею. Простите меня, пожалуйста. Это было очень непристойно. — Непристойно? — переспросила она. Ей казалось, что она возмущено кричит, но на самом деле ее голос был едва слышен. — Вы с ума сошли? Пустите меня. Так нельзя, вы должны… — Я могу делать все, что мне заблагорассудится, — ответил он. — Мы все можем делать это и делаем. Клуб существует уже сотни лет, и все это время его члены делают все, что захотят. Рад сообщить, что вы одна из самых великолепных девушек, каких мы сюда приводили. И отыскал вас не кто иной, как я. Жаль, что она не видит его лица, подумалось ей. Наверняка у него на губах играет хорошо ей знакомая суетливая усмешка. Она вскинула руки и хотела вцепиться ему в лицо, но он снова схватил ее. Для такого коротышки он был на удивление силен. — Слушай внимательно, — произнес он. — Когда я вез тебя сюда по полям, во мне чуть было не заговорила совесть, а это на меня совсем не похоже. Поэтому я и решил рассказать тебе все, хотя и не имею права говорить. Только потому, что ты мне понравилась, честное слово. Я не желаю тебе зла. Совсем не желаю. Я выбрал тебя потому, что меня очаровало твое обаяние, твоя бьющая через край молодость — невинность, любознательность, неистощимая энергия. Кроме того, тебя привели в нашу прекрасную страну совершенно уникальные обстоятельства. У тебя нет семьи, никто не будет тебя искать, твоя бестолковая кузина Джун не станет скучать без тебя ни капельки. — Что? — пробормотала она. Ее начала одолевать истерика. — Что вы хотите со мной сделать? — Прикосновение запретного обостряет восприятие, — сказал он. — Вот почему ты здесь. Ты станешь гостьей членов Клуба. Видишь ли, они все хотят тебя, но получит тебя только один. Будь умницей и делай, как он скажет, и тогда твое пребывание у нас пройдет безболезненно. — Нет, — заговорила она. — Нет, нет… — Видишь ли, у нас есть правила, — продолжал он. — Правила очень строгие. Нарушать их нельзя, иначе виновного исключат навсегда. Уверяю тебя, никто не станет рисковать. Мы заботимся о наших гостьях. Все деньги достанутся только тебе. — Что? Деньги? Какие деньги? — Деньги, собранные за этот вечер, те, что ты заработаешь. Ты сможешь получить эти деньги в Швейцарском консолидированном банке. Номер счета сто шестнадцать — тире — шестьсот четырнадцать. Они будут ждать тебя вместе со средствами, которые ты… гм, скоро узнаешь. Тебе достанутся все драгоценности, все подарки, какие он тебе преподнесет. Все члены нашего Клуба в прошлом были очень щедрыми натурами. Надеюсь, тебе удастся пробудить в их душах самую неудержимую расточительность. Я очень тобой доволен. Нет, наверняка это сон. Голос Хогарта доносится откуда-то из глубин кошмара. Она проснется и снова окажется в Лондоне, в их тесной квартирке, на соседней кровати будет похрапывать Джун. — У нас есть правила, определяющие продолжительность твоего пребывания, — сказал он. — Поэтому тебе не о чем беспокоиться. Чем больше ты стоишь, тем дольше у нас останешься. Но чем больше ты стоишь, тем больше заработаешь. Милая, все очень просто. Очень просто. Не пугайся. Я буду к тебе заглядывать довольно часто. Откуда-то издалека донесся гул голосов. Хогарт поцеловал ее стиснутые кулаки и выпустил их. Она хотела закричать, но не успела: ей на голову надели капюшон и связали его веревкой внизу, под подбородком, так что она не могла издать ни звука. Потом неимоверная тяжесть на груди сдавила еще сильнее, кто-то поднял ее и взвалил на плечо. Куда ее несут? От страха она не могла даже думать. Это должно быть, кошмар. Люди так не поступают. Люди не… Ее пронесли через холодный коридор, вверх по лестнице, потом опять вниз, через какие-то комнаты. Она слышала, как открываются и закрываются двери. Ей казалось, будто она слышит голоса, мужской смех. Она не могла дышать. Они меня убьют, думала она. Не убивайте меня, прошу вас, я не хочу умирать. Вдруг те, кто ее нес, остановились, опустили ее на землю, поставили на ноги, стянули неимоверную тяжесть, сковывавшую движения. На запястьях защелкнули холодные браслеты, похожие на наручники, растянули руки в стороны и привязали к крюкам на колоннах. Она хотела вырваться, но к ее поясу, под зеленым атласным лифом и корсетом, привязали что-то толстое и тугое, потом притянули ее к высокому шесту. Помогите, кто-нибудь, помогите. Не убивайте меня. Мне всего восемнадцать, у меня впереди целая жизнь… — Если услышу хоть один звук, — прошептал ей в ухо чей-то хриплый голос, — перережу горло. Поняла? Она кивнула, стараясь не всхлипывать. Помогите мне, кто-нибудь, помогите! Что они со мной делают? Помогите… — Джентльмены, прошу вашего внимания. — Это был голос Хогарта. — Наступила минута, которой вы давно ждали. В зале мигом воцарилась тишина. — Вы будете очень довольны, — продолжал он. — Очень довольны. Сегодня у нас в гостях юная американка, сиротка, бедная крошка, всего восемнадцати лет от роду. Она не только красива, обаятельна, энергична, умна, но и совершенно неиспорченна. Идеальный материал для обучения. Самое прелестное существо на свете. Очаровательнейшая девственница. В ответ не прозвучало ни слова, но зал наполнился аплодисментами. — Джентльмены, вот она! С нее стянули капюшон, тошнотворный хриплый голос зашептал опять: — Ни звука. Я стою у тебя за спиной. Нет, нет, нет… Она стояла за ярко раскрашенной ширмой, на невысоком помосте. Потом ширму убрали. В зале было темно, только ей в лицо светил прожектор да еще один, поменьше, освещал Хогарта. Он стоял в паре шагов от нее возле пюпитра с книгами. Его белый атласный костюм сверкал в лучах прожектора, в руках он держал председательский молоток. Ей в глаза ударил яркий свет, она зажмурилась. — Начинаем аукцион. Стартовая цена — тысяча фунтов стерлингов, — объявил Хогарт. От удивления и ужаса она зажмурила глаза еще сильнее. Он обманул ее, опоил каким-то снадобьем, а теперь продает членам Клуба. Хогарт был аукционистом. Нет, нет, нет… Она не могла удержаться. Приоткрыла глаза, подождала, пока зрачки привыкнут к яркому свету, бьющему в лицо. Мужчины, рассевшиеся вокруг, не издавали ни звука. Они были одеты, как монахи, в темные рясы с надвинутыми на лица капюшонами. Она не видела их лиц: вместо них были черные маски. — Пятнадцать тысяч… — говорил Хогарт. — Двадцать тысяч… На руках у них были блестящие перчатки из черной кожи. Она видела их каждый раз, когда они поднимали карточки. Все они были пугающе одинаковыми. Неотличимые мужчины без лица, они сидели и молча торговались, пожирая ее глазами. От ужаса она не могла бы сдвинуться с места, даже если бы ее развязали. Не могла закричать. — Двадцать пять тысяч, — говорил Хогарт. — Великолепно. — Он кивнул человеку, стоявшему позади нее, и, не успела она понять, что происходит, тот развязал и отбросил лиф ее платья, обнажив грудь. Мужчины беспокойно заерзали в креслах. Все ее хотели, все до единого. Она чувствовала, как их желание волнами накатывает на нее, опаляет, удушает. Нет, нет, нет… — Сорок тысяч. Сорок пять тысяч. Пятьдесят тысяч. Великолепно, джентльмены, — говорил Хогарт. Страшный человек позади нее снова сделал шаг и расстегнул ее юбку вместе с нижними юбочками. На ней не осталось ничего, кроме трусиков, туфель, чулок с золотыми подвязками да корсета. На шее, как зеленое пламя, сверкало изумрудами и бриллиантами роскошное колье. — Как вы знаете, самая высокая цена, уплаченная на нашем аукционе, составляла восемьдесят пять тысяч, — напомнил Хогарт. — Джентльмены, будем продолжать? Снова взметнулись карточки. — Семьдесят пять тысяч. Восемьдесят тысяч. Восемьдесят пять тысяч. Опять загремели аплодисменты. Девяносто тысяч. Сто тысяч фунтов. Хогарт утер лоб безукоризненно белым платком. — Предлагаю тост, джентльмены, — сказал он, поднимая бокал. — За безграничную щедрость членов нашего Клуба. — Еще один всплеск вежливых аплодисментов. — Будем продолжать? — спросил Хогарт, указывая молотком на чью-то карточку. — Сто десять тысяч. Сто пятнадцать тысяч. Сто двадцать тысяч. — Больше табличек не было. — Сто двадцать тысяч фунтов, джентльмены. Превосходный результат. Превосходный. Сто двадцать тысяч фунтов, раз… Сто двадцать… — Миллион, — прогудел чей-то голос. Зал сдавленно ахнул. Даже не потому, что покупатель заговорил вслух, хоть это и было вопиющим нарушением правил. Они изумились этому слову. Умопомрачительная сумма. — Сэр, — нахмурился Хогарт. — Такие шутки непристойны. «Непристойны? — в смятении подумала она. — Непристойны?» — Будьте добры, выйдите вперед, — приказал Хогарт. Человек, стоявший у нее за спиной, подошел к столику аукциониста. Покупатель приблизился к ним. Произошел короткий разговор, потом Хогарт, сияя, вернулся за пюпитр. — Джентльмены, простите мою поспешность. Все формальности улажены. Обеспечение вполне надежное, и, как мы все знаем, в необычайных обстоятельствах и прежде делались исключения. Сегодня, мне кажется, у нас именно такой случай. Необычайный. Я бы сказал, историческое событие. Да, воистину историческое. Ставлю вопрос на ваше голосование. Одобряем ли мы эту покупку? Кто за — поднимите ваши карточки. Карточки медленно поднимались, одна за другой. Все, кроме одной. Предпоследнего покупателя. — Голосование должно быть единогласным, — снова нахмурился Хогарт. Все глаза повернулись к непокорному покупателю. Помедлив минуту, он с недовольным видом поднял карточку. — Один миллион фунтов стерлингов! — выкрикнул Хогарт, опустив молоток. Новый рекорд! Миллион фунтов, думал он, просто невероятно! А все потому, что он ее нашел, спасибо этой гнусной американке, зануде Джун Никерсон, которая начала строить ему глазки однажды вечером в «Айви». А он-то считал ее никчемной потерей времени. — Джентльмены, — провозгласил он, — обед будет подан через двадцать минут. Она видела, как они опускают карточки и встают. Все, кроме одного. И ее разобрал смех. Безумный, истерический смех. Продана за миллион фунтов монаху в маске! Психопату в маске! Она ничего не могла с собой поделать. Пусть этот человек перережет ей горло — ей было все равно. Она не могла остановиться. Она знала — все они смотрят на нее. И тогда они все тоже начали смеяться. Перед ней снова поставили ширму. Теперь мужчины уже не видели ее. Это было сигналом освободить зал, и до нее донесся всеобщий стонразочарования. На голову ей снова надели капюшон, крепко завязали. Ей опять стало страшно, смех угас сам собой. В тот же миг ее отвязали от колонн и завернули туловище в какую-то тяжелую попону, так что она не могла пошевелиться. Чьи-то руки подхватили ее, взвалили на плечо, понесли вниз по лестнице, по коридорам. Вверх и вниз. Они шли очень быстро. У нее закружилась голова, она боялась, как бы ее не стошнило. Открылась и закрылась дверь, они остановились. Она все еще висела вниз головой. С нее сняли капюшон, парик, шапочку, покрывавшую волосы, но вокруг стояла полная темнота, она ничего не видела. Кто-то собрал ее волосы в горсть. Не отрезайте мне волосы. Не отрубайте голову. Чья-то рука подняла ее волосы вверх, ей завязали глаза. Повязка была такая плотная, что она ничего не видела, не могла бы развязать ее сама, даже если бы руки были свободны. Похитители двинулись дальше, в другую комнату. Открылась и закрылась дверь. Потом ее опустили на кровать, лицом вниз. Сняли туфли, прикрепили к лодыжкам что-то холодное. Развязали руки, перевернули ее, сняли тяжелую попону с груди. Растянули руки в стороны и зацепили за наручники что-то вроде крючков. Потом расстегнули колье на шее. И ушли. Она лежала в непроглядной темноте. Попыталась пошевелиться, но ее привязали так крепко, что она не смогла сдвинуться с места. Корсет сдавливал грудь. Она не могла дышать. Этого не может быть. Так не бывает. Она очутилась среди кошмара. Спасения нет. А в соседнем зале, взволнованно переговариваясь, прогуливались члены Клуба. Кто же среди них предложил такую неимоверную сумму? Впрочем, девочка, конечно, соблазнительная. Прелестная фигурка. Такая молоденькая, свежая. Легко будет обучить. Все вздыхали от зависти. — Разве может женщина стоить таких денег? — Как вы думаете, надолго он ее приобрел? — Хороший вопрос. Давайте-ка посчитаем. Правила гласят — тысяча фунтов в неделю. Миллион фунтов соответствует тысяче недель. По пятьдесят две недели в году. Получается… примерно девятнадцать лет с четвертью. Выходит, он может держать ее до тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Все расхохотались. — Не стоит она этого, — заметил кто-то. — Получается все равно что жена. И стоит бешеных денег. — Да еще нужно соблюдать секретность. Кормить и ухаживать. Сплошная головная боль. — Да, хлебнет он с ней горя. Слышали, как она смеется? Гарантирую, он с ней еще наплачется. Все опять расхохотались. Но они все равно хотели ее. Все до единого. Хотели, как никогда.Часть III Феникс на холмах (1954–1956)
Время быстрое летит.Белладонна месть таит.Прочь, скорее прочь лети,Вновь свободу обрети…Белладонна отомстит.
12 Перила
Выйдите на веранду большого дома и оглядитесь вокруг. Куда ни падет ваш взгляд, что ни откроется взору, все принадлежит Белладонне. Земля и округлые холмы, ручьи и пруды, лужайки и поля, огромный овал нашего собственного скакового поля и взлетно-посадочная полоса, леса и изгороди, сады, огороды, розарии, цветники, лабиринт за живой изгородью и гравиевые дорожки для прогулок, скульптурный фонтан, низвергающий водопады ароматизированной воды, и вокруг него — фонтаны поменьше, лазурный бассейн и пруд с золотыми рыбками, таинственный грот и загадочные пещеры. Конюшни, гаражи, стрельбище, столярная мастерская и десятки домиков для всех, кто работает на этой земле. Все 247623 акра земли принадлежат поместью Ла Каза делла Фениче. Дом Феникса. Как приятно снова ощутить на лицах свежее дыхание земли! Наш огромный дом в Нью-Йорке, холодный и хитроумный, был до мозга костей городским. Ла Фениче — совсем не такое место. Просторный колониального стиля особняк лучится радостью и уютом. Окна широко распахнуты, чтобы впустить в дом красоту окрестных пейзажей, теплый ветерок шевелит занавески. Белладонна хорошо понимает, почему я выбрал именно этот дом: он напоминает об Италии. О, если бы снова очутиться там, в Ка-д-Оро. Если бы с нами здесь был Леандро. О, как мы скучаем по нему, как бы мне хотелось поговорить с ним, услышать его мудрые наставления. Мне кажется, он гордился бы нами, нашим клубом «Белладонна». Гордился бы тем, как мы проучили Джун, как обошлись с сэром Патти. Белладонна могла бы упасть в обморок от одного его вида, от звука его голоса, от блеска его кольца. Но не упала. И этим он бы тоже гордился. Но та реальность осталась позади, по крайней мере на время. Нас поглощают бескрайние просторы поместья — мы прикидываем, как лучше всего организовать жизнь в нем. Ничто не дается без труда. Да будет вам известно, большой плантаторский дом с самого начала был построен на совесть. К ремонту мы приступили несколько месяцев назад. Мы вызвали в поместье почти всю нашу нью-йоркскую команду архитекторов, разбили для них палаточный лагерь и организовали круглосуточную работу; нам хотелось, чтобы они поскорее покончили с делом и разъехались. Неизвестно, в какой момент нам понадобится срочно переехать сюда и понадобится ли вообще. К счастью для нас, сэр Патти объявился как раз вовремя. И к несчастью для него. Едва услышав эти имена, Притч понял, что они означают. Эти люди были членами Клуба Адского Пламени. Притч объяснил: этот клуб существовал на самом деле в середине восемнадцатого столетия. Тесное сборище дегенератов. Каждый школьник знал об их бесчинствах и разгульных дебошах. Его возглавлял сэр Фрэнсис Дэшвуд. Значит, это и есть псевдоним их главаря, решили мы. Члены Клуба Адского Пламени величали себя рыцарями святого Франциска Уайкомбского. Они устраивали собрания в пещерах под развалинами Медменхэмского аббатства, неподалеку от Лондона. Притча не удивило, что члены нынешнего Клуба, сохраняя анонимность, позаимствовали свои имена у первоначального Клуба Адского Пламени — таково было их извращенное чувство юмора. В наши дни кое-кто заявляет, что тот, давний Клуб Адского Пламени, был не так уж плох, однако Притч, привыкший иметь дело с самыми темными сторонами человеческой натуры, никогда в это не верил. Как-никак сам Черчилль сложил о них маленькую припевку:* * *
Вы наверняка успели заметить, что я опускаю множество нудных, утомительных подробностей нашего переезда. Достаточно сказать, что поездка в Виргинию сразу после Рождества была тяжелой. Белладонна угрюмо молчала, как и раньше бывало неделями; Брайони в ответ на замкнутость матери злилась и капризничала, без конца то одевала, то раздевала Сэма, и я уж начал бояться, что бедная кукла рассыпется на куски. Хотя девочке еще нет семи, она развита не по годам и на редкость проницательна. Она куда лучше всех нас, в том числе Маттео, умеет управляться с перепадами настроения своей матери. Меня беспокоит, что эта прелестная малышка намеренно стремится разделить бремя маминых страданий. Дети по натуре чрезвычайно щедры. Но все-таки я внимательно слежу за Брайони: как бы у нее не начали проявляться черты характера ее отца. Мы все за этим следим. Только молча. Брайони очень огорчится, когда узнает, что мы не вернемся в Нью-Йорк, что мы вырвали ее из привычного распорядка жизни и забрали из любимой школы. Пожалуй, надо было подготовить ее заранее, чтобы она успела попрощаться с подругами, но у Белладонны не было настроения заниматься этим. Впрочем, и всеми остальными делами тоже. Она подарила Джеку большое золотое кольцо с изящной резной буквой «Б», но почти ничего не сказала ему. Она вообще мало разговаривала после страшных ночных событий в темноте. У нас с ним состоялся долгий мучительный разговор, он обещал не терять контакта с нами. Я знаю, что сердце его разбито, но он переносит расставание стоически. Его героизм не уступает непреклонности Белладонны. Я уже успел соскучиться по Джеку, но еще больше хочу, чтобы с нами был Маттео. Но на это надежды нет. Слишком эгоистично и несправедливо было бы желать, чтобы они переехали к нам завтра же. Пусть Маттео и Аннабет побудут вдвоем, подальше от наших чудачеств. Не мне винить моего дорогого старшего брата за то, что он хочет пожить вдали от нас. Нет, мы, конечно, народ замечательный. Но все-таки… Проклятье. Слава Богу, хоть кто-то из моих близких радуется жизни.* * *
Однажды, вскоре после нашего переезда, я нахожу Брайони под одним из громадных мраморных столов в салоне. Она заливается горькими слезами. На коленях у нее Сэм в ярко-розовом купальном костюмчике. — Что стряслось? — осторожно спрашиваю я и пытаюсь взять ее на руки. Но она отталкивает меня, и я спешу позвать маму. Давно настало время поговорить с дочерью. Белладонна подходит, садится под столом рядом с дочерью, обнимает ее и держит, пока рыдания не переходят в горестные всхлипы. — Я хочу к Лягушонку, — говорит Брайони, размазывая по щекам слезы. — Хочу к Дромеди. Хочу к Будильничку. Хочу к собачкам. Хочу домой. — Собачки должны остаться в Нью-Йорке, — ласково возражает Белладонна. — Почему? — спрашивает Брайони. — Почему им нельзя приехать сюда с нами? Здесь всем хватит места. — Конечно, милая, — отвечает мать. — Но есть много причин, почему мы их не взяли. Во-первых, Джек остался в городе совсем один, без нас, а без собачек ему станет скучно. Ты же не хочешь, чтобы он скучал, правда? — Брайони надувает губки, потом трясет головой. — И еще собаки должны охранять наш дом в Нью-Йорке. Они домашние собаки, привыкли жить в доме и не любят переезжать с места на место. Ты же не хочешь, чтобы они плакали каждую ночь, потому что скучают по дому? Собаки не умеют жаловаться, когда им плохо, только люди умеют. — Она глубоко вздыхает. Брайони смотрит на маму, не зная, что сказать. — Наши собаки знают только один дом — тот, к которому они привыкли, — продолжает Белладонна. — Боюсь, если они приедут сюда, то будут бегать по полям и в конце концов потеряются, и мы никогда их не найдем. — Она не говорит дочери, что наши ирландские волкодавы слишком знамениты. Даже здесь, в глухом уголке Виргинии, может оказаться человек, который слышал о клубе «Белладонна» и его прославленных четвероногих часовых. — Я хочу домой, — опять плачет Брайони. — Я тоже хочу домой, но придется нам пожить немного здесь, — говорит Белладонна. — У нас появятся новые друзья, ты пойдешь в новую школу… Брайони начинает реветь во весь голос. Мне не в чем ее упрекнуть. — Не хочу новых друзей, не хочу в новую школу! Хочу домой! — вопит она. — Я тебя ненавижу! — Она швыряет в Белладонну Сэма и выскакивает из салона, бежит к себе, бросается на кровать и захлебывается в рыданиях. Белладонна смотрит на меня. Ее глаза помутнели от страха. После той сцены в подвале она до сих пор сама не своя. А может быть, наоборот — я боюсь признать, что она стала самой собой. Она хрупка, как сосулька, свисающая с крыши, и я с минуты на минуту жду, что она обломится. — Принести его? — спрашиваю я. Она подбирает Сэма и кивает. Я спешу в буфетную, где Бьянка держит сюрприз для Брайони. Мы с Белладонной вместе поднимаемся наверх и идем в спальню к Брайони. Она все еще всхлипывает. Белладонна ложится на кровать рядом с ней, и Брайони пытается ее спихнуть. — Послушай, милая, я поступила плохо, что не рассказала тебе заранее о нашем переезде, — говорит Белладонна. — Мне не хотелось расстраивать тебя перед Рождеством. Но, надеюсь, вскоре все мы привыкнем жить здесь. Тут живет много детей, с которыми ты сможешь играть, здесь чище и гораздо лучше, чем в Нью-Йорке. Ты меня простишь? — Нет, — выдавливает Брайони и прячет лицо в подушки. — Мне нравится в Нью-Йорке. Терпеть не могу Виргинию. — Я не корю тебя за то, что тебе нравится Нью-Йорк, — говорит Белладонна, немного помолчав. — Мне там тоже очень нравится, как и тебе. Но мы когда угодно можем вернуться туда в гости. Может быть, через несколько лет мы переедем жить обратно. Поживем — увидим. А пока что у меня есть для тебя подарок. Надеюсь, он немножко развеселит тебя. Хочешь посмотреть? — Нет. Не хочу, — отвечает Брайони, глубже зарываясь в подушки. — Уходи. — Но ты ему нужна, — говорит Белладонна. Проходит несколько минут, и любопытство в Брайони пересиливает обиду. Она садится на кровати. — Вот, — говорит Белладонна. — Смотри, он твой. Его зовут Базилико. Базилико — это крошечный щенок длинношерстной таксы. Мы назвали его итальянским словом, означающим базилик. Он невероятно забавен — толстенькая лохматая колбаска на коротких лапках. Интересно посмотреть, что сделают наши ищейки, когда увидят это существо. — Его мама заболела и не может ухаживать за ним, — поясняет Белладонна. — Поэтому ему очень нужна ты. Мы сделали ему маленькую кроватку, и он сможет спать здесь. Тогда ему не будет одиноко. Хочешь ухаживать за ним? Брайони берет на руки маленький верткий комочек, и он мгновенно слизывает с ее лица все слезы. — Он мой? Только мой? — спрашивает девочка, не веря своему счастью. — Да, твой. А на следующей неделе у нас будет еще больше собак. Они станут охранять наш дом. — Белладонна вытирает дочке глаза и нос. — Понимаешь, я не хочу сказать, что из-за новых собак ты должна забыть Дромеди, Лягушонка и Будильничка. В тебе много любви, ее хватит на всех собак. — Они тоже будут ирландские волкодавы? — спрашивает Брайони. — Нет, это будет другая порода, называется неаполитанские мастифы. Можешь выбрать троих из помета, который родился пару недель назад. Щенки очень симпатичные, а когда вырастут, станут огромными слюнявыми псами. — И легко обучаемыми. — А теперь давай придумывать новым щенкам самые лучшие имена. Томазино сходит и принесет твою книжку про созвездия, и мы поищем, какие тебе понравятся. Ладно? Брайони кивает и прижимает к себе Базилико. Наши неаполитанские мастифы вырастут огромными, устрашающего вида псами, массивными и приземистыми, с лобастыми слюнявыми мордами. Но на самом деле они гораздо добрее, чем будут казаться, особенно если их собачья интуиция одобрит ваше появление. И они будут идеально выдрессированы для наших нужд. На всякий случай вся прислуга будет знать команды, которыми следует держать их в узде. Осторожность никогда не помешает. Брайони выбирает им имена — Кассиопея, Гектор и Мокрый Нос. — Почему нельзя назвать их Лягушонок, Дромеди и Будильничек? — спрашивает она. — А что, если Дромеди, Лягушонок и Будильничек приедут к нам в гости? — отвечает Белладонна. — Их перепутают с другими собаками, и они обидятся. Кроме того, у каждого человека и животного должно быть свое имя, собственное, которого нет больше ни у кого. Каждый имеет право на свое имя. Ты согласна? Каждый, кроме Белладонны. Знакомясь с крестьянами-арендаторами и другими работниками на ферме, я велю им при случайных встречах звать ее Контессой, то есть графиней. Согласитесь, очень просто и весьма уклончиво. Она никогда не хотела снова зваться Ариэль; это имя для нее невыносимо. И мы не могли называть ее Белладонной в присутствии посторонних, которые не знали, кто она такая. Она велела нам звать ее Беллой, хотя это имя ей тоже ненавистно. Но так мы привыкли называть ее дома в Нью-Йорке, на случай, если нас услышит Брайони. Девочка считает, что ее маму зовут Белла. Белла делла Роббиа, Контесса. В этом имени слышится красивый перезвон.* * *
Так считают и наши соседи. Они готовы на все, лишь бы получить приглашение в дом на холме, с такой фантастической заботой отделанный заново неутешной вдовой-итальянкой, хотя никому из них не удавалось проникнуть дальше, чем до ворот, от которых вьется длинное шоссе к большому дому. Она, должно быть, невероятно богата. Как здорово, что у них в провинциальном городишке Кинг-Генри, штат Виргиния, поселилась настоящая живая особа королевской крови! Нам ничего не стоило запустить парочку полезных слухов, даже без помощи местного варианта Губошлепа. В местную добровольную ассоциацию помощи полиции, в контору шерифа, в управление по украшению парков, в добровольное пожарное отделение, в школьную библиотеку, в парадный оркестр и в судебный фонд уже поступили весьма значительные пожертвования. Все местные политики, а также попечители больницы имени Джефферсона Дэвиса рассыпаются в благодарностях Контессе за ее безграничную щедрость. Если они чем-то могут быть полезны, не стесняйтесь, только намекните. Да, Контесса — настоящее чудо! Такая щедрая, такая таинственная! Однако в настоящее время мы больше заинтересованы в арендаторах, которых унаследовали в придачу к поместью. Мы знакомимся с ними и одновременно продолжаем налаживать охрану земельных угодий. Мы быстро поняли, что предыдущие хозяева почти не платили своим арендаторам, бросили их на произвол судьбы, и многие семьи от отчаяния были готовы оставить землю, которую привыкли считать своей, и уехать куда глаза глядят. Вот только ехать им было некуда. Мы выплатили им все долги по заработной плате, утроили жалованье, починили рассыпающиеся дома, провели электричество, нормальный водопровод и телефон. Сказали им, что хотим сделать Ла Фениче самым прибыльным поместьем в Виргинии и что они могут в любое время приходить ко мне с вопросами и предложениями. Спросили, кто, по их мнению, будет наилучшим управляющим, и назначили человека по их выбору — некоего Гилберта Скотта. Короче говоря, ферма, которая считалась посмешищем всего округа, постепенно начинает процветать и хорошеет на глазах. О, немного доверия и куча денег быстро приносят плоды! Есть здесь одно семейство, которое удачно дополнило собой нашу пеструю компанию. Белладонна взяла за обычай прогуливаться по поместью, осматривая его, нередко с Орландо, и никто из арендаторов пока еще не знает, кто она такая. Они считают, что она — гувернантка Брайони, а может, жена Орландо, и зовут ее «няней». Однажды днем она видит крестьянина, сидящего на крыльце своего дома, а рядом с ним — жену на сносях. Он что-то выстругивает из длиной палки, похоже, тросточку для ходьбы. Через несколько дней я вызываю этого крестьянина в контору Гилберта, расположенную в небольшом домике недалеко от Дома Тантала, и прошу его принести то, что он тогда выстругивал, а заодно и другие вещи, вырезанные за последнее время. Он приходит, кладет у дверей тросточку и объемистый мешок. Он так волнуется, что даже не замечает, как снял с головы кепку и беспрерывно вертит ее в руках. До сих пор ни одного из арендаторов не вызывали в контору для разговора с глазу на глаз. — Бейнс, если не ошибаюсь? — спрашиваю я. Белладонна сидит на улице, недалеко от дверей, и слышит всю беседу. У нее до сих пор нет настроения разговаривать с арендаторами. — Джебедия Бейнс? — Да, сэр, — отвечает он. — Джебедия, вы давно живете здесь? Можно называть вас Джебедия? Он кивает, изумленный вежливостью моего вопроса. — Всю жизнь, сэр. Мой отец был крестьянином, и дед, и прадед. — Вы ведете свой род от рабов, трудившихся на этой плантации? — Да, сэр, наверное, так. — Садитесь, пожалуйста. — Я указываю на стул, и он садится на самый краешек, все так же крутя кепку, как будто готов в любую минуту сорваться с места и убежать. Я приношу его мешок, высыпаю поделки на стол и с минуту молча рассматриваю их. — Разрешите спросить, где вы берете дерево? — спрашиваю я. Кепка безостановочно вертится, как колесо телеги, завязшей в болоте. — В лесу, — отвечает Бейнс. Тревога окутывает его одеялом, таким плотным, что можно пощупать. — Но деревья я не гублю. Мы с дочерью куски подбираем, когда ходим гулять. Вот только из них и режу. Ни одного дерева не срубил. Никогда в жизни. Я беру со стола небольшую фигурку — резная головка девочки, ее волосы вырезаны с такой филигранной тонкостью, что кажутся настоящими. — Это ваша дочь? — спрашиваю я. — Да, сэр, — отвечает он. — Дочка моя, Сюзанна. Скоро семь будет. — А ваша жена беременна. — Да, сэр, ее Дионной звать. Повитуха говорит, родятся близнецы. Тяжело ей стало, вот я и выстругивал ей трость, чтобы легче ходить было. — Разрешите взглянуть. — Я осторожно ощупываю трость. — Вы знаете, что вы сделали? — Нет, сэр, — обеспокоенно отвечает он. — Надеюсь, ничего плохого. — Нет, Джебедия, вы не сделали ничего плохого, — серьезно отвечаю я. — Вы вырезали самые красивые поделки, какие я видел, вот что. Он так изумлен моим отзывом, что кепка на минуту перестает вращаться. Он был уверен, что я собираюсь вышвырнуть его вместе с семьей в холодный безжалостный мир. — Одним словом, — продолжаю я, — мне хотелось бы пригласить вас сделать резьбу на перилах главной лестницы в усадьбе. Они, мне кажется, то ли из вишневого дерева, то ли из грецкого ореха. Вас это интересует? Он онемел от потрясения и способен только кивнуть. — Очень хорошо. Пойдемте со мной. — Он смотрит на меня, все еще не веря своим ушам. Мы собираем все его поделки обратно в мешок и быстро идем к дому. Увидев огромную лестницу, изящным витком поднимающуюся к площадке и дальше — на второй этаж, он изумленно раскрывает рот. Потом ощупывает дерево, постукивает по нему, проверяя, прочное ли оно. Цвет очень красивый, но сами перила грубы и бесформенны. — Что скажете? — спрашиваю я. — Дерево хорошее, — отвечает он. — Грецкий орех. — Мы вырезали несколько брусьев примерно того же самого размера, так что можете подобрать рисунок, — говорю я. — Для начала сделайте несколько образцов. Мы хотим, чтобы каждая перекладина немного отличалась от других, чтобы рисунок везде был разный. Вам нравится? Бедный Бейнс, у него сердце выскакивает из груди. А когда он услышит, сколько мы собираемся ему заплатить, то впадет в коматозное состояние. — Послушайте, — продолжаю я. — Мы собирались пригласить для этой работы скульптора из Италии. Но с гораздо большим удовольствием наймем вас. Мы заплатим остальным арендаторам за вашу долю работы на полях, так что не беспокойтесь. — Да, сэр, — говорит он. В его глазах появляется блеск. Я его не дразню, я в самом деле намереваюсь его нанять. Мечта становится явью. О, как я люблю отыскивать истинные таланты и давать им возможность расцвести! — Но, прежде чем вы приступите к работе, я хочу попросить вас об одном одолжении, — говорю я. — Да, сэр. — Он снова настораживается. — Я хочу, чтобы вы вырезали портрет маленькой дочери Контессы. Ее зовут Брайони. Она примерно тех же лет, что и ваша Сюзанна. Будем очень признательны, если вы найдете время, когда она сможет вам позировать. Может быть, потом она познакомится с Сюзанной. Ей было бы полезно завести здесь подругу для игр. Наверное, эта просьба озадачивает его сильнее всего. Дети хозяев не играют с детьми арендаторов. В 1954 году о таком не слыхивали. Тем более здесь, в Кинг-Генри, штат Виргиния. Ему еще предстоит узнать, что Белладонна всегда поступает так, как она хочет.* * *
Так у Брайони появилась лучшая подруга — Сюзанна Бейнс, а наши перила стали темой для пересудов во всех поместьях на много миль вокруг. Не только из-за того, что рисунок на них так красив — витые гирлянды цветов, листьев и плодов переплетаются в ажурном орнаменте, но и потому, что для работы Бейнса допускали в дом. Разумеется, никто из соседей еще не видел знаменитые новые перила, хотя они из кожи лезут вон, чтобы попасть в дом — чуть ли не каждый день присылают нам приглашения на балы, званые обеды, коктейли, охоты. Мы вежливо отказываем. Их дети ходят в одну школу с Брайони и пытаются напроситься в гости, но нам удается перехитрить их. Они радуются, когда в феврале Брайони приглашает на свой седьмой день рождения всех одноклассников, но их надежды не сбываются — мы устраиваем праздник в кондитерской на Мейн-Стрит, в центре городка, и Контесса там не появляется. Соседям еще предстоит увидеть и прославленные чудеса нашего дома, и его знаменитую хозяйку. А пока что Белладонна хочет, чтобы ее оставили в покое, она еще не отваживается выйти за пределы поместья. В этом нет нужды, оно очень велико. Она часто катается верхом с Орландо на кобыле, которую назвала Артемидой — в честь любимой лошади из Ка-д-Оро. Почти каждый день она беседует с Джеком и часто тренируется в стрельбе по мишеням со шпионами из Дома Тантала. Наше стрельбище расположено в глухом уголке леса неподалеку от Сада Адского Пламени. Темплтон ездит с Бьянкой за продуктами в магазин, отвозит Розалинду с Брайони в школу по утрам и забирает после обеда. Нам важно только одно — чтобы Брайони привыкла к новой жизни и была довольна. А я, неутомимый, как всегда, накладываю последние штрихи на сказочное убранство нашей нирваны. Этим я вознаграждаю себя за утрату той незаменимой роли, какую играл в клубе «Белладонна» — я скучаю по ней так, что и словами не передать. Многим ли кастратам доводится главенствовать надизбранной горсткой отбросов общества в самом фантастическом и популярном ночном клубе? Но, полагаю, без этой роли я смогу некоторое время прожить. Должен признаться, я очень устал. От всего. Устал ждать. Мы до сих пор ждем. Ждем, когда же сэр Патти отдаст концы, но он упрямо цепляется за жизнь, пачкает пеленки. Надеюсь, он терпит невыносимые унижения, он этого заслуживает. Однажды, проснувшись ранним промозглым утром в начале марта, я ощущаю, что мое колено подергивается. Интересно, что бы это значило? День проходит как обычно, Брайони возвращается из школы, ничто не нарушает привычного хода жизни. Но вдруг Брайони, запыхавшись, прибегает из дома Бейнсов, ее щеки горят. — Она рожает! — кричит девочка, врываясь в дом. — Позовите тетушку Руби! Загвоздка в том, что у повитухи нет телефона. Ни у кого из бедняков в этих краях нет телефонов, нет даже водопровода. Меня всегда интересовало, каким образом арендаторы вызывают врача, если им случается заболеть. Наконец Стэн просветил меня — они либо ездят на побитом пикапе, либо просто впрягают лошадь в бричку. Предыдущим владельцам не было дела до бедняков. Ну, мы-то не такие. Дионна и Джебедия настояли, что роды принимать должна тетушка Руби, здешняя повитуха. Она легенда здешних мест, ей за семьдесят, немного глуховата, но за всю жизнь не потеряла ни одного младенца, рассказали они. Я беру с них клятву, что, если роды пойдут не так, как надо, они позволят отвезти Дионну в больницу, и супруги с неохотой соглашаются. Но с этими близнецами все должно пойти как надо. Вот почему Белладонна так нервничает, расхаживает в тревоге вокруг дома Бейнсов, там, где ее не могут увидеть другие арендаторы. Они не поймут, почему ее так взволновали роды у этой женщины, и я не стану им объяснять. Вскоре Темплтон привозит тетушку Руби. Та спокойно принимается хлопотать. Белладонна прохаживается среди деревьев, а Брайони с Сюзанной тихонько сидят на пороге дома и играют в куклы. После коротких, всего в несколько часов, родов на свет появляются близнецы, и Брайони, сияя, идет искать меня. — Мальчики-близнецы, — сообщает она. — Эзра и Изекиль. Имена придумала Сюзанна. Они такие чудесные! — Пойдем посмотрим на них. Мальчики-близнецы, как я и мой брат, — говорю я. Она кладет ручонку мне в ладонь, и мы идем по тропинке к дому. По дороге она распевает веселые песенки. При виде Дионны, лежащей в кровати с сонной улыбкой на губах, и двух прелестных спеленутых мальчуганов рядом с ней у меня перехватывает горло. — Чудесные имена, — говорю я. — Библейские. — Я улыбаюсь и стараюсь взять себя в руки. — Контесса очень рада за вас и за всю вашу семью. — Иногда я бываю таким героем, что заслуживаю медали за отвагу. — И еще, Контесса решила устроить праздник в честь крещения. — Это не предложение, а приказ. — Тихую уютную вечеринку для всех, кто здесь живет, в честь первых детей, родившихся после прибытия Контессы. А потом устроим шумный-прешумный маскарад и пригласим всех любопытных соседей, чтобы закрыли рты хоть ненадолго. Джебедия и Дионна смеются. — Заботьтесь хорошенько о ваших милых крошках, — говорю я, беру Брайони за руку и желаю всем доброй ночи. Обостренными материнскими инстинктами Дионна чувствует, что наше внимание вызвано чем-то необычным, но ни о чем не спрашивает. Да если и спросит, ничего страшного. Имя Тристана ни разу не звучало в наших разговорах после той давней беседы с Леандро. Не прозвучит и сейчас.* * *
Мы рассылаем приглашения, и вся округа мгновенно приходит в возбуждение. Наконец-то они увидят таинственную Контессу! Заглянут в усадьбу и осмотрят обширное поместье! Будут пить джулепы и сплетничать! Познакомят ее с чудесами славного городка Кинг-Генри! Честное слово, мне никогда не понять, почему малейшая отчужденность, нежелание смешиваться с толпой вызывают столько шума. Может быть, богатые до безобразия люди не привыкли видеть, как кто-то из им подобных держит их на расстоянии. А может, им нестерпимо хочется настоять на своем. Мы не раз слышали истории о здешних жителях, считающих себя потомками первых поселенцев Джеймстауна. Скорее их можно назвать потомками английских каторжников. Мне хотелось бы бросить их всех в казематы, чтобы поразмышляли вечерок в тишине, но это было бы слишком легко. Пока деньги текут рекой, никого не интересует, каким образом их предки сколотили себе состояния и завоевали положение в обществе — подозреваю, тут не обошлось без мошенничества, воровства, рабского труда, обмана. Как удобно промывать память щедрыми порциями виски! Взять хоть некоторых из них. Вот Осборн Робертсон, мэр города Кинг-Генри — он знаменит своими праздничными вечерами, яичными коктейлями на Рождество, грогом на День подарков, шампанским на Новый Год, бордосским вином (как у нашего Господа, говорит он) на Пасху; что он, что его жена Диппи — у обоих рыльце в пушку. Или Джастин Блэкуотер, наследник громадного хлопкового состояния, и его жена Летиция, знаменитая своими охотами и путешествиями по местным конюшням в поисках развлечений самого необычного характера. Хьюберт и Маффи Лейтон, «стальные люди», чьи сердца, вероятно, сделаны из того же самого материала. Полковник Уэйд Роби и его жена Клодетта, чей брат Реджинальд Марринер с давних времен возглавляет местную полицию и, говорят, заглядывает на работу только чтобы получить жалованье да задрать юбку секретарше. А сестра Реджи, Констанция, замужем за неким Рори Честерфилдом, который знаменит лишь тем, что стреляет птиц на телеграфных столбах прямо с заднего сиденья своего «паккарда» с откидным верхом и больше ничем. Я бы продолжил, но список получается очень скучный. Нет, не подумайте, что мы имели удовольствие встречаться с этими очаровательными людьми лично. Они подождут. Матушка Хаббард и его племя из Дома Тантала держат нас в курсе всех событий и уже успели высказать несколько ценных идей о капиталовложениях в местный заброшенный бизнес. Нам уже принадлежит не только плантация, но и значительная часть городка Кинг-Генри. Когда мы рассказываем Белладонне о наших замыслах, она лишь одобрительно кивает. Вот почему я очень удивлен, когда она заявляет, что хочет проехаться в город. С недавних пор она берет у Темплтона уроки вождения, и я нередко вижу, как она медленно катит по нашей длинной взлетно-посадочной полосе. До сих пор она отваживалась выезжать на настоящие дороги только на рассвете, когда машин почти не бывает. Темплтон столь же доволен новой ученицей, как когда-то Дино, учивший ее верховой езде в Ка-д-Оро. Он улыбается, глядя, как ловко она управляется со сцеплением и с рукояткой передач. Мне нужно поехать в город с Джебедией. Я хочу посмотреть на новые образцы редкой древесины, которая должна была поступить на лесопилку, принадлежащую сыну Реджи Марринера — Куперу. Поставки затянулись на несколько недель, и мы попросили Купера придержать их, пока не поступит вся партия; мы не хотели, чтобы в доме регулярно появлялись любопытные шоферы. Бейнс не хотел ехать, но я уговорил его, и, в конце концов, он с неохотой согласился. Но сейчас, увидев, как «няня» готовится занять водительское кресло нашего самого потрепанного пикапа, он совсем стушевался. Я не спрашиваю Белладонну, что она задумала. Может, перед большим праздником ей хочется повидать людей. Может, решила еще раз попрактиковаться в искусстве вождения. Понятия не имею. Разобраться в ее капризах и перепадах настроения совершенно невозможно, даже для человека такого проницательного, как ваш покорный слуга. Поэтому, когда Орландо, решивший на всякий случай поехать с нами, при виде Белладонны за рулем начинает давиться от смеха, я немного успокаиваюсь и решаю, что нам ничто не грозит. Она одета в свой обычный рабочий костюм, в котором возится в саду — грязный джинсовый комбинезон, тяжелые рабочие ботинки, креповая рубашка в красную клетку и бесформенный свитер. Перевязав волосы старым платком и надев темные очки, она становится похожей на бедную родственницу Джуди Гарленд из «Летних гастролей». День стоит яркий, солнечный, пахнет весной. Наш «шевроле» бодро катит по дороге, мы с Бейнсом трясемся на заднем сиденье, и мне хочется запеть: в лицо бьет свежий ветер, темные ночи в клубе «Белладонна» остались далеко позади. Но стоит нам въехать на Мейн-Стрит, как под любопытными взглядами местных жителей мое радужное настроение мигом улетучивается. Но Белладонна не обращает на них внимания. Со всей грациозностью, на какую способен, я выскакиваю из машины и делаю знак Бейнсу. Мы должны пойти посмотреть дерево, потом сразу же возвращаться домой. — Мне туда нельзя, — говорит Бейнс. — Это еще почему? — хмуро спрашиваю я. — Цветные туда не ходят, — отвечает он. Проклятье. До чего же я бестолков. Неудивительно, что Бейнс не хотел ехать с нами, просто у него хватило вежливости не напоминать мне, в каком мире мы живем. Теперь понятно, почему все пялятся. Замкнувшись в нашем собственном тесном кругу, мы совсем забыли о подобных вещах. Мы судим о людях не по цвету кожи. А по черноте их сердца. — Ради Бога, простите, Джебедия, — поспешно говорю я. — Я болван. Сейчас принесу вам образцы древесины сюда. При солнечном свете вы лучше рассмотрите фактуру. Увидев меня, Купер подобострастно улыбается. Он знает, что я из поместья Контессы, но плохо представляет себе мою роль там, поэтому решает до конца играть южного джентльмена. Когда я прошу его вынести образцы древесины на свет, он все еще сама любезность, но, увидев, как я советуюсь с Джебедией, мгновенно гасит улыбку. Иными словами, его лицо претерпевает молниеносное преображение. — Попрошу в-вы-ас, сэр, войти обратно, — говорит мне Купер. Он светловолос, с тусклыми белыми ресницами, которые делают его похожим на тушканчика; его щеки внезапно розовеют. Розовеет также и лысина, которую он безуспешно прикрывает длинными прядями волос. — Почему? — спрашиваю я с широкой улыбкой. Мы играем в обмен любезностями, и ему меня никогда не перещеголять. — Нельзя разгуливать на глазах у всего города с людьми такого сорта. — Какого такого сорта? — с невинным видом спрашиваю я. — Вы имеете в виду мистера Бейнса? Он, видите ли, весьма уважаемый работник в хозяйстве Контессы. Точнее сказать, ее любимый скульптор. И во всем, что касается дерева, она полагается на его суждение. — Мне дела нет, где он там у в-вы-ас уважаемый работник, — говорит Купер. — Он прекрасно знает, что не имеет права показываться среди белых. Верно, Бейнс? Тебе тут не место, так что проваливайте-ка в-вы-ы все отсюда. Все до единого, пока у меня терпение не лопнуло. — Из мастерской выходят и становятся рядом с ним двое его работников, один из них протягивает Куперу толстую палку, и тот начинает угрожающе похлопывать ею по ладони. Вот вам и хваленое южное гостеприимство. Я оглядываюсь вокруг и вижу, что почти все владельцы лавочек на Мейн-Стрит, почуяв кровь, вышли поглазеть. — Прошу прощения, но… — говорит Белладонна. — Мэм, я разговариваю не с вами, — грубо перебивает ее Купер. — Не суйте нос не в свое дело. — Но я, сэр, разговариваю с вами, — говорит она, открывая дверь машины. — И это — именно мое дело. Мне не нравится, когда мне приказывают. Тем более такие, как вы. — О, великая всемогущая принцесса, — ухмыляется Купер. — В-вы-ы еще не знаете, как мы поступаем с такими любительницами ниггеров? — Нет, не знаю, — отвечает она, снимая солнечные очки. Ее глаза изрыгают огонь. — Просветите же меня. Будь у него в мозгу хоть одна клетка, не одурманенная алкоголем, он бы догадался, кто она такая. Но нет. Он не привык, чтобы нахальные северяне затыкали ему рот. — Мы ставим их на место, — заявляет он. — И какое же это место? — любопытствует она. — Тюремная камера, которую вы можете смело назвать своим домом, потому что частенько ночуете там за появление на публике в нетрезвом виде? Или зал суда, откуда вас частенько вызволяет папенька? Или почетное место, которое занимает над вашим камином голова лося? — Откуда в-вы-ы узнали про моего лося? — Он разъярен. На месте лося я бы тоже разъярился. — Кем в-вы-ы себя возомнили? — Он подходит ближе, вместе с ним делают шаг его храбрецы-работнички. Все они стараются выглядеть очень грозно. — Прочь с моих глаз, пока у меня не лопнуло терпение. А то хуже будет. — Кажется, оно у вас уже лопнуло, — вставляю я. Его «в-вы-ы» действует мне на нервы. — А мы поступаем так, как нам заблагорассудится. Кроме того, мы еще не выбрали для себя древесину. — До чего же нелегко бывает принимать решения. — А ну, заткнитесь все, — ревет он и бьет дубинкой по нашему «шевроле». Бейнс в страхе пригибается и прикрывает голову руками. Орландо не торопясь обходит машину и рассматривает вмятину. Его лицо не предвещает ничего хорошего. — Сами напросились, — говорит Купер. — Non e un' ragazzo, — откликается Орландо. — Что в-вы-ы там говорите? Это что у в-вы-ас — итальяшка? Знаете, что? Берите своего итальяшку и сажайте на пароход, пусть проваливает к себе в Италию, — орет Купер. Кровь в нем кипит, щеки вот-вот вспыхнут пламенем. Орландо смотрит на меня, я — на него, потом на Белладонну. Не успел Купер и глазом моргнуть, как трое лучших сынов Юга распростерлись навзничь на дороге. Белладонна приседает на корточки возле Купера, который по-прежнему не понимает, откуда обрушился удар, и вынимает дубинку у него из пальцев. Она снова надевает солнечные очки, чтобы он не видел ее глаз; она еще не привыкла сталкиваться с людьми лицом к лицу без маски. — Мне казалось, вы, южане, полны доброты и гостеприимства, — мягко произносит она. — Видимо, я в в-вы-ас ошибалась. Вы заставите меня раскаяться в моей наивности или же пойдете в вашу уютную мастерскую и принесете денег в уплату за эту вмятину? Или мне придется побеседовать с вашим папочкой о публичном нападении на мой автомобиль и о ваших дурных манерах? — В ее голосе начинает звучать угроза. — Придется или нет? — Он хочет встать, но она наступает ему на горло тяжелым рабочим ботинком. — Я разговариваю с вами, и я не давала вам позволения оскорблять моих спутников, равно как и вставать. Нет, на вашем месте я бы и не пыталась встать, — продолжает она. — Предупреждаю вас в первый и последний раз. Если я еще хоть раз, хоть один-единственный раз услышу подобные разговоры, обращенные к мужчине, женщине или ребенку, я своими руками отрежу вам язык и скормлю собакам. А если попытаетесь навредить мне или моим близким, я приду к вам под покровом ночи, перережу глотку и оставлю вас истекать кровью, а потом скормлю ваш труп свиньям и закопаю обглоданные косточки там, где никто их не найдет. — Она нежно улыбается. — Я понятно выразилась? От испуга он способен лишь кивнуть. Он до сих пор не знает, что повергло его на землю — то ли бросок дзюдо, то ли чокнутая леди, то ли все сразу. И думать он может только об одном — о ледяной жестокости на лице этой чокнутой леди, о холодной угрозе в ее голосе. Вспышки бешеного гнева — вещь для него понятная. А таких ласковых предупреждений, высказанных тихим нежным голосом, он еще не слыхивал. Она бросает дубинку в пыль возле его лица. — Очень приятно было с вами познакомиться, — говорит она. Контесса приехала. Добро пожаловать в наши края!13 Игры на сеновале
— Я написал кое-что интересное. Хочешь послушать? — Нет, — отвечает Белладонна. — Оставь меня в покое. Проклятье. Кажется, у нее опять плохое настроение. Оно бывает у нее чуть ли не каждый день с тех пор, как поверженный Купер остался лежать в пыли. К несчастью, эта душещипательная сцена не помогла развеять ярость, обуревающую Белладонну со дня нашего разговора с сэром Патти. Эта ярость бешено бурлит, как кофе в нашей новомодной электрической кофеварке, и я опасаюсь, что, когда она выплеснется, последует взрыв, перед которым извержение Кракатау покажется детской шалостью. — «Дорогая Лора, — начинаю я, нимало не смущаясь. — Хочу поблагодарить Вас за письма и попросить прощения за долгое молчание. Я был…» — Хватит, — перебивает она, стискивая зубы. — Какого черта ты тут насочинял? — Письмо к Лоре, что же еще, — отвечаю я. — Давно пора ей написать. Должен добавить… — Тебя никто не просил ничего добавлять. — Я решил, что она для нас — что-то вроде талисмана на счастье. Сначала в клуб пришла Лора, потом Джун, потом сэр… — Не смей произносить при мне это имя, — яростно кричит она. — Я хочу услышать его только один раз — когда вы скажете мне, что он умер. — Хорошо, — говорю я. — Прости. — Мне кажется, сейчас не самый подходящий момент говорить с ней о Джун, глупой корове. Впав в разорение и бесчестье, она с семьей бежала из Канзас-Сити, в точности как мы и планировали. Обратно на чахлые поля Миннесоты, под теплое крылышко мамы с папой, которые до сих пор не знают, как отнестись к лопотанию дочери о похитителях и пытках. Не знают они и того, что их накопления вскоре тоже обратятся в прах. Трудно представить, что станет с ними после этого, при их-то слабом здоровье. Лично я из-за них не потеряю сон и покой. Это не такая уж большая цена за все, что они сделали с Белладонной, за небрежение и презрение. За то, что они даже не попытались ее найти. За то, что бросили ее в лапах у… Нет, нет, до этого мы еще не дошли. — Сейчас же порви это письмо. Я не хочу, чтобы здесь была Лора, не хочу никого видеть, — говорит Белладонна. — Покончим с этой дурацкой вечеринкой, а потом пусть меня никто не трогает. Хочу побыть одна. Я демонстративно рву письмо у нее на глазах и выбрасываю обрывки. Только забываю сказать, что это — всего лишь копия. Настоящее письмо отправлено уже несколько недель назад. Обсудив положение с Маттео и Джеком, я решил взять дело в свои руки и написал Лоре приглашение — а подделка подписей до сих пор остается моим любимым развлечением на досуге. Я только что получил ответ: Лора благодарит супругу Леандро за любезное приглашение и приедет пожить в Виргинию. Она полна благодарности и рада через столько лет получить весточку. С ней приедет парочка друзей, с которыми она собралась путешествовать; она надеется, что гостеприимство Контессы распространится и на них. Они прибывают на следующей неделе; ох и крику будет, когда Белладонна узнает! Не стану утомлять вас неприятными подробностями, они вам неинтересны. Скажу только, что я не привык терпеть обрушивающуюся на мою голову враждебность Белладонны и не хочу, чтобы она обрушилась на меня еще хоть раз. Несколько дней я дуюсь и не выхожу из своей комнаты. Мне часто хотелось бы стать жестоким, таким же, как она. Но нет, мягкосердечие моей натуры обрекает меня навеки оставаться таким, каков я есть. Наконец Белладонна присылает ко мне Брайони и в знак примирения преподносит заснеженный пейзаж Утрилло, который мне давно хотелось повесить у себя в спальне. Поэтому я смягчаюсь. Кроме того, ей нужно обсудить со мной подробности будущей вечеринки. Сначала мы хотели устроить костюмированный бал, но это слишком напоминало бы клуб «Белладонна», хотя до сих пор с нашей легкой руки по всему земному шару тысячами проходят тематические маскарады. Просто люди ленивы и не хотят сами выдумать для развлечения что-то оригинальное. Слушать лесть скучных людей — все равно что продавать лед зимой: бесполезно. Поэтому мы решаем устроить для арендаторов послеобеденное барбекью на свежем воздухе. Праздник начнется, когда Бейнсы вернутся с крестин. А ближе к вечеру состоится большой, более торжественный ужин а-ля фуршет для всех соседей и разнородных прихлебателей, которые отважатся просочиться мимо нашей удвоенной службы безопасности. Мы пригласили коллег наших постоянных сотрудников, хороших друзей Джека, которые случайно оказались в здешних краях. Смешавшись с гостями в безупречных белых смокингах, с серебряными бокалами ледяного джулепа в руках, они ни у кого не вызовут подозрений.* * *
— Как мне ее называть? — Кого, Контессу? Лора кивает. — Понимаете, я никогда толком не разговаривала с ней. — Мне кажется, лучше всего подойдет просто «Контесса». Если она пожелает, чтобы ее называли как-то иначе, она сама скажет. Она чрезвычайно разборчива в вопросах имени. — Понимаю, — отвечает Лора с тихим вздохом облегчения. — Спасибо. Она очень рада оказаться здесь; я вижу это по блеску в ее глазах — они того же самого василькового оттенка, что и сарафан, в котором она, распаковав вещи, спустилась выпить с нами на веранде. Клянусь, эта женщина создана для сарафанов с облегающим лифом и широкой юбкой на кринолине. И я вижу — она до сих пор любит легкие туфли, зашнурованные вокруг лодыжек. Я открываю бутылку «Вин санто», доставленную из Тосканы, и Лора улыбается. — Это напоминает мне о Леандро, — говорит она. — Что именно — вино или пейзаж? — И то и другое. Ваш брат тоже здесь? — Нет, к моему сожалению, — отвечаю я. — Он женился и живет с семьей в Нью-Йорке. — Как прелестно, — шепчет она. — Да, прелестно, но я страшно скучаю по нему. — Без него здесь совсем не так, — слышится голос Белладонны. Она подошла к нам сзади так тихо и неожиданно, что мы оба подскакиваем. — Здравствуйте, Лора. Белладонна не протягивает руки для пожатия; ей до сих пор невыносимо прикасаться к людям. Сегодня необычайно жарко, и она прижимает стакан с ледяным чаем к запястью, чтобы остудить пульс. Старинный прием благовоспитанных южанок — так мне говорили. Красавицам Юга не положено потеть. Они слишком утонченны для этого. Смехотворная причина. Диву даюсь, как они умудряются производить на свет те чудовищные образчики человеческой породы, с которыми нам предстоит познакомиться всего через три дня. — Здравствуйте, Контесса. Спасибо за приглашение, — отвечает Лора, и ее щеки вспыхивают. Она как на иголках, замечаю я. И, видимо, отказалась от своей привычки надувать губки. Белладонна не улыбается, ей явно неловко, она совсем не рада видеть гостью. — И благодарю вас за то, что пригласили моих друзей. Они приедут послезавтра. — Как их зовут? — спрашиваю я, хотя прекрасно их знаю. Но мы должны делать вид, что нам ничего не известно о Лоре. По крайней мере, из того, что она рассказывала нам в клубе «Белладонна». — Кажется, вы нам говорили, но, простите, память уже не та. — Это Хью, Хью Тревенен. — Она вспыхивает; мы прекрасно понимаем, что это значит. — И Гай. Гай Линделл. Он лучший друг Хью. — Нам не терпится познакомиться с ними, — говорю ей я. — Спасибо, — отвечает она. — Для меня это очень много значит. Мы больше года не были вместе в Америке. — Вот оно что, — отвечаю я. — А когда же вы встречались в последний раз? — В Нью-Йорке. — Она еле заметно качает головой. — Гай водил меня в клуб «Белладонна». Фантастическое место, хотя и в чудовищном районе. И знаете, что самое необычайное? Я встретила ее, саму Белладонну! Потом я часто вспоминала о ней. Это было как сказочный сон. Она носила потрясающие маски, костюмы, перчатки с кольцами поверх них. И самое удивительное — она пригласила меня к себе в кабинет. Она так много знала обо мне, будто читала мои мысли. Я рассказала ей о своей мечте — спеть для публики, и она разрешила мне выступить. Представляете, у нее в клубе! Потом порекомендовала мне в Лондоне одного человека, который… — Она смущенно замолчала. — Да, я слышал, она помогает женщинам, — говорю я. — Тем, кто попадает в необычные или несчастливые обстоятельства. Лора отрывисто смеется. — Пожалуй, моего мужа можно назвать несчастливым обстоятельством. — Если не хотите, можете не рассказывать о нем, — торопливо добавляю я и смотрю на Белладонну. Та еле заметно кивает. — Но не поговорите ли вы с нами о Леандро? Нам было бы очень приятно послушать о нем. — Хотите узнать, как я с ним познакомилась? — спрашивает Лора. — Нам очень давно хотелось услышать об этом. — В самом деле? — Лора озадачена. Белладонна не обменялась с ней и парой слов. — В самом деле, — отвечаю я. — Спешить нам некуда, заняться нечем, так что располагайтесь поудобнее, а мы с удовольствием послушаем. Лора успокаивается на глазах. Она хочет угодить хозяйке, хоть и не понимает, почему. И дело не в том, что у них общие воспоминания о прошлом. Просто Лора мгновенно подпала под ее очарование. Белладонна ничем не поощряет ее; напротив, она сдержанна на грани враждебности. Правду сказать, она способна даже напугать. Ее лицо сосредоточенно и ничего не выражает, будто бы на ней маска холодной вежливости, прикрывающая черную пустоту в душе. И вы готовы на все, что в вашей власти, лишь бы она сменила это застывшее выражение, а если не удастся — хотите исчезнуть туда, где она не сможет причинить вам боль. — Все началось с моей мачехи, — говорит Лора и, стараясь сохранить спокойствие, складывает руки на коленях, опускает глаза на идеальные овалы ухоженных ногтей. Мое сердце трепещет, я готов сдаться с радостным вздохом, последние сомнения тают, как свет зари в вечереющем небе. Да, она не та избалованная эгоистка, какой я ее считал. — Моя мама умерла от заражения крови после тяжелой беременности, — продолжает рассказ Лора. — Ребенок тоже умер. Я назвала ее Софи, хотя мне и не дозволили на нее посмотреть. Мне было семь с половиной — в этом возрасте дети уже кое-что помнят. — Вы, наверное, очень тяжело переживали смерть Беатриче, — отваживаюсь я, вспомнив язвительные замечания Лоры, которые слышал от нее в Мерано. Интересно, забыла ли она свои слова, сказанные много лет назад? — Да, я очень горевала. Но еще хуже, разумеется, пришлось Леандро. — Она оборачивается и смотрит на меня. — Томазино, я не забыла тех слов, которые сказала вам тогда, в Мерано. Мне очень стыдно за них. — Она отпивает глоток вина, не замечая, что ее пальцы крошат печенье. — Беатриче влюбилась в партизана, который скрывался в Ка-д-Оро между поездками в Рим, и забеременела. Кое-кто из местных говорил, что он — шпион, предатель, но я-то знаю — это злобные сплетни, которые сочинялись, чтобы уязвить Леандро и загубить ее репутацию. Но им не удалось очернить его. Беатриче никогда не опустилась бы до связи с человеком бесчестным, в этом я не сомневаюсь. — Значит, леди Беатриче все-таки была образцом добродетели, — говорю я. — Она была женщиной, и этим все сказано, — отвечает Лора, покусывая губу. — Вы скучаете по ней, — замечаю я. — Ужасно. Трудно поверить — прошло уже десять лет. После ее смерти Леандро не любил говорить о ней. Он будто закрыл свое сердце для всех чувств. До тех пор, пока не встретил вас. — Она отваживается взглянуть на Белладонну — та тихонько покачивается в кресле, любуясь на закат. — Тогда я очень разозлилась на него — и на нее тоже, за то, что умерла такой молодой и сильной. Почти возненавидела ее. — И закусили удила. — Да. Весь мир накинулся на Леандро с обвинениями. Он был легкой мишенью — могущественный и богатый, он мог позволить себе иметь врагов, которыми гордились бы сами Борджиа. — Мне кажется, он считал, что несет наказание, — предполагаю я. — Наказание? За что? — спрашивает Лора. — За то, что был безжалостен, что добился успеха и был фантастически богат. Что-то вроде кармического возмездия за то, что превысил отведенные ему рамки. — За то, что осмеливался изображать бога, — как бы про себя говорит Белладонна. — Я никогда не спрашивала его об этом. Это меня не касалось, — отвечает Лора. — Когда война закончилась, я поехала навестить его, но чувствовала, что не нужна ему. Я напоминала ему о Беатриче, о том, что он потерял. А когда я забеременела Рупертом, пришлось вернуться домой. У меня родился сын, потом дочь Кассандра. Мы долго переписывались. — Какова же роль вашей мачехи? — спрашиваю я, возвращаясь к теме злой колдуньи. — Ваш отец повторно женился? Когда? — Как только позволили приличия, — с горечью отвечает Лора. — Ровно через четыре месяца после маминой смерти. Он сдался — не смог справиться с одиночеством. Он ничего не понимал в детях и был рад, что нашлась женщина, готовая взять на себя заботы обо мне и Спенсере — моем младшем брате. Вместо еще одного ребенка получил новую жену. Но Вайвика была ничуть не похожа на мою маму. — Выпустила коготки, да? — Вот именно. Сказала отцу — или она, или мы. Он выбрал ее. В первый же день после свадьбы нас отправили в интернат в Швейцарию. В каникулы мы приезжали домой; если, по мнению Вайвики, мы вели себя плохо, нас запирали в детской, где все было приготовлено для бедной покойной Софи. Там нас оставляли без еды, и некому было о нас позаботиться. — Лора горько рассмеялась. — Мы со Спенсером утешали друг друга тем, что вот вырастем — обязательно убежим. Труднее всего мне было понять, как отец сумел полностью выбросить из головы память о маме. Мне казалось, они были счастливы. Мы долго молчим. Белладонна покачивается в кресле и смотрит в пустоту. — Когда мне было пятнадцать, Вайвика попыталась упрятать меня в сумасшедший дом, — вдруг выпаливает Лора, потом зажимает рот ладонью. — Не понимаю, почему рассказываю вам такое. Об этом никто на знает, кроме Леандро. Видите, о чем я говорю? Люди готовы на все за один одобрительный кивок Белладонны. — Что произошло? — осторожно спрашиваю я. Лора откидывается в кресле и закрывает глаза. Выражением лица она удивительно напоминает Белладонну, но только на миг. — Вайвика заявила, что я неисправима. Если бы они подписали все бумаги, меня, наверное, никогда бы оттуда не выпустили, — говорит она жестким голосом. — Но я подслушала их разговор. Вернулась в школу вся в слезах, меня увидела Беатриче. Я все рассказала ей, и она обратилась прямо к Леандро. У него был друг в Лондоне, судья, Леандро позвонил ему, и меня оформили как сироту под опекой государства до совершеннолетия. Потом, когда началась война, я уехала к Леандро. Видите, как много он для меня значит. — Гораздо больше, чем родной отец. — Леандро, наверное, разузнал что-то или об отце, или о Вайвике и этим заставил их уступить. Я так никогда и не выяснила, что же это были за сведения, а он, естественно, не рассказывал мне, — продолжает Лора. — Я думаю, у этого судьи были некие интересы в судовладельческом бизнесе, а может быть, он чувствовал себя в долгу перед Леандро, и поэтому с ним легко было договориться. Лично я понятия не имею, как улаживают дела люди такого уровня. Мне даже трудно представить себе, где и когда они встречаются. — Кто их знает, — бормочу я и смотрю на Белладонну, но в сумерках не могу прочитать, что написано у нее на лице. — Но я все-таки с ними поквиталась, — говорит Лора. Я не удивлен. Я всегда знал, что она — штучка не простая. — Как это вам удалось? — спрашиваю я. — Точнее, устроила все Беатриче. У одной из наших одноклассниц отец был журналистом, она поговорила с ним, и он пошел в ту клинику, куда собирались меня упрятать. Он представился отцом трудного ребенка, узнал все, что хотел, а потом написал разоблачительный репортаж о родителях, которые бросают своих детей — не называя имен, разумеется. Эта статья наделала много шума, потому что все в нашем кругу знали, о ком именно идет речь. — Наверно, после этого Вайвика еще горячее полюбила вас, — замечаю я. — О, она рвала и метала. Эти воспоминания много лет придавали мне сил. Даже больше, чем благодарный взгляд брата. Тогда-то я и поняла, что слабые и униженные могут отомстить за себя. — Если бессильные вдруг обнаружат в себе силу, — тихо говорит Белладонна, обращаясь к вечерним звездам, — они нередко понимают, какое удовлетворение может принести месть. — Да, — подтверждает Лора. — Глубочайшее удовлетворение. Ах ты, хитрая лисичка! — Где сейчас ваш брат? — спрашиваю я. — В Сингапуре. У него своя семья, он счастлив там, и мы редко видимся. Для него лучше держаться подальше от всего этого. — А Вайвика? — До сих пор живет в Глостершире с отцом, проматывает его денежки, ненавидит меня. Ей приносит радость только одна мысль — о том, что я несчастлива с Эндрю. — Как я понимаю, Эндрю — ваш муж, — говорю я. Она кивает. — В таком случае разрешите спросить, почему вы за него вышли? — Видимо, пережитые несчастья ничему не научили меня. Я вышла замуж за человека, очень похожего на отца. Внешне красивый и обаятельный, но внутри… — Она вздохнула. — Как я была глупа. Через того журналиста я узнала, что мне была оставлена значительная сумма денег. — Скорее я бы сказал, что вы вышли замуж за человека наподобие Вайвики. Знакомым жестом она поправляет воображаемую прядь волос. — В медовый месяц Эндрю сказал, что хочет сводить меня в совершенно особенное место. Я, глупая, конечно, решила, что это будет роскошный закрытый ночной клуб, но он повел меня в самый знаменитый бордель Парижа. Там в гостиной сидели на диванах дюжины полуголых девиц. Они смеялись, болтали, строили глазки мужчинам, подавали им выпивку. Я в жизни не испытывала такого унижения. «Месье Эндрю, — приветствовали они его, — где же вы пропадали?» Я не верила своим глазам. До чего же я была наивна! — Я слышал об одном завсегдатае борделя, девицы его так любили, что, когда он умер, в знак траура прикрыли свои интимные места черным крепом, — говорю я, стараясь повернуть разговор в более веселое русло. — По-своему отпевали его. — Томазино, — Лора пытается улыбнуться. — Вы заходите слишком далеко. Небо приобрело темно-синий оттенок, мы сидим в молчании, довольно приятном. Люди никогда не бывают такими, какими кажутся. Эгоистичной злючки Лоры из Мерано больше нет. И хотя Лора этого еще не понимает, но, рассказав нам в напоенных ароматами сумерках свою историю, отдохнув с нами на веранде, напоминающей о Тоскане, она невольно объединилась с Белладонной, вступила вместе с ней в царство гнева и возмездия. — И все-таки, — произносит наконец Лора, будто прочитав мои мысли, — с Леандро никто не сравнится. — Да, — откликаюсь я. — Никто.* * *
Два дня спустя Белладонна ведет лошадь в конюшню после долгой верховой прогулки и вдруг слышит шум. Звуки совершенно необычные — таких она не слыхала уже очень давно. Странно, думает она, но пока еще не пугается, хотя в ее владение вторгся посторонний. Она привязывает лошадь к коновязи перед конюшней и осторожно заглядывает внутрь. Внутри не видно никого из тех, кому положено быть там — ни Фредерика Фэркина, нашего конюха, всегда такого надежного, ни его сына Клайва. Они так любят лошадей, что не допустят, чтобы с ними что-нибудь случилось. Она быстро приподнимает герань в горшке возле главного входа, вытаскивает неплотно лежащий кирпич и достает оттуда прелестный короткоствольный двухзарядный «дерринджер» с перламутровой рукояткой, завернутый в тряпицу. Заряжает оружие и снимает с предохранителя. Как я уже говорил, осторожность никогда не помешает. Звуки из конюшни все еще слышатся. Белладонна крадучись идет вперед, сжимая в одной руке пистолет, в другой — скаковой хлыст. Осторожно заглядывает в каждое стойло, медленно продвигается все дальше, к задней стене. Наконец она слышит глубокий мужской голос, тихий смех. И женщина хихикает в ответ. А потом видит их: тело мужчины с обнаженными ягодицами, к ним прилипли соломинки, мускулистая голая спина покрыта загаром, ее обвивают женские руки. Он склонился поцеловать ее. Ее руки поглаживают его спину, ногти покрыты ярко-красным лаком, как у Андромеды. Именно эти ярко-красные ногти и приводят Белладонну в ярость сильнее всего остального. Она засовывает хлыст за пояс и стреляет вверх, в крышу. Звук грохочет, как пушечный выстрел в битве под Манассасом. Пара испуганно подскакивает. Мужчина перекатывается на спину, женщина, лежащая под ним, в спешке накидывает на себя одежду, чтобы прикрыть наготу. Мужчина торопливо натягивает брюки, его взгляд медленно блуждает по телу Белладонны, он широко улыбается, не обращая внимания на нацеленный ему в лицо пистолет. Глаза у него синие, поблескивают от удовольствия, он любуется наездницей, представшей перед ним во всей красе. После быстрой скачки ее волосы растрепались и завились кольцами, поношенные кожаные сапоги забрызганы грязью, ладно скроенные брюки для верховой езды плотно облегают ноги, бледно-голубая рубашка-поло расстегнута у ворота; руки, обтянутые лайковыми перчатками цвета клевера, крепко сжимают пистолет, в зеленых глазах пылает ярость. — Кто вы такой, скажите на милость? — требовательно спрашивает Белладонна. — Гай, кто же еще, — отвечает он, неторопливо застегивая сначала брюки, потом рубашку. У него английский акцент и невыносимая уверенность в своей сексуальной привлекательности. — Ну да, конечно же. Глупый вопрос, — цедит она сквозь стиснутые зубы. — Гай, и все. Бесподобно. Как я сразу не догадалась? — Гай Линделл, к вашим услугам, мадам, — продолжает он, ничуть не смутившись. — Имел великую честь получить приглашение в Ла Каза делла Фениче от моей хорошей подруги Лоры Гарнетт. Вместе со мной приглашение получил другой мой добрый друг, Хью Тревенен, он, полагаю, прибудет где-то в выходные. — Он оборачивается к любовнице, чьи щеки все еще пылают от страсти. Или от смущения. — А это еще одна моя подруга, мисс Нэнси Конрад. — Мисс Нэнси Конрад, еще одна ваша подруга, — насмешливо повторяет Белладонна. — Я тронута. Кто, скажите на милость, пригласил вас, мисс Нэнси Конрад, в это поместье? Уж наверное, не его хозяйка. Нэнси так смущена, что не может сказать ни слова. — Я ее пригласил, — отвечает Гай. Нэнси в ужасе смотрит на него и торопливо одевается. — И вина за эту… гм, неподобающую ситуацию целиком лежит на мне. Мы занесли вещи в дом и были так очарованы красотами здешней природы, что решили прогуляться. Белладонна хмурится. — Не сомневаюсь, Лора Гарнетт предупреждала вас, что для гостей этого имения существует ряд правил, которым все обязаны подчиняться. — О да, конечно, предупреждала. — Гай, покряхтывая, натягивает сапоги. — Но кто вы такая — госпожа верховный палач штата Виргиния? — язвительно спрашивает он, указывая на пистолет. — Или всего лишь рабыня собственных домашних правил? Дайте-ка подумать… вы, наверное, гувернантка или учительница верховой езды. Ага, понял — вы гостья, прибывшая раньше меня, и, отправившись на ежедневную верховую прогулку, были неприятно удивлены звуками наслаждения, доносящимися из конюшни. Какое безобразие! — Он встает, стряхивает с брюк приставшую соломинку и застегивает ремень. — Простите, ради Бога, но, по-моему, нам пора идти. — Не так быстро, — говорит Орландо, вбегая с пистолетом в руке. За ним по пятам следую я, за мной — Стэн и лающие псы. Нэнси с трудом удерживается от вскрика, Стэн оттаскивает собак. Орландо смотрит на Белладонну, та еле уловимым кивком дает ему понять, что с ней все в порядке. Все-таки она не нажимала кнопку тревоги, однако Стэн услышал выстрел и позвал нас. — Certo? — спрашивает он, и Белладонна кивает. — Ох, Боже мой, — восклицает Гай, мгновенно сообразив, что он натворил. Умный он парень, этот Гай. Я хорошо помню его по клубу «Белладонна» — он сидел на диванчике с Лорой. Да, Гай, тот самый, который впервые пришел на Бал Всех Стихий с неким Перегрином и некой Селестой, модными штучками. Они говорили о социопатическом сквайре по имени, кажется, Шульце, который ходил в развратных кожаных штанах. Проклятье. Мне еще тогда следовало бы побольше разузнать об этом Гае, но меня все время что-то отвлекало — в первый раз Аннабет, во второй сама Лора. А Притчу было дано задание следить за мужем Лоры, а не за ее друзьями. Дважды проклятье. Я теряю форму. — Простите, если обидел дорогую хозяйку, — продолжает Гай, изысканно раскланиваясь. — Покорнейше прошу прощения. — Просите сколько угодно, — рявкает Белладонна. — Вы его не получите. Даже если вы друг Лоры и приглашены сюда с моего разрешения. — Она протягивает пистолет Орландо и достает из-за пояса хлыст. Нэнси, дрожа, прячется за спину Гая. — Где Фредерик? — спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. — И Клайв? — У вас пара лошадей вырвалась и убежала, и они ушли их ловить, — сообщает Гай. — Можете, если хотите, обвинить меня и в этом, хотя в этом-то я как раз и неповинен. Мы просто оказались рядом и решили, гм, воспользоваться случаем… Каюсь, виноват. Белладонна пропускает его слова мимо ушей и обращается напрямую к Нэнси. — Где вы живете, когда не вторгаетесь в чужие владения? — спрашивает она. — В Ричмонде, — отвечает девушка. Ее щеки уже не пылают, она бледна, будто вместо очаровательного любовника встретила в конюшне привидение. — А откуда вы знаете этого… — легкий взмах хлыста, — человека? Губы Гая кривятся, он пытается подавить улыбку. — Мы познакомились неделю назад, и мы… он… пригласил меня покататься на машине. Мы приехали сюда, — говорит Нэнси. — Я понятия не имела, что… — Где и как вы познакомились? — требует ответа Белладонна. — На обеде у Бамби Симпсон. Мы с ней приходимся родственницами Диппи Робертсон, вашей соседке. Вот у нее я и остановилась. Белладонна бросает взгляд на меня. Вскорости я перезвоню Диппи и проверю эти сведения. Только у женщины по имени Диппи может быть родственница по имени Бамби. — Мы отвезем вас к Робертсонам, — сурово заявляет Белладонна. — Прошу вас немедленно удалиться с моим шофером, в противном случае мне придется побеседовать с вашими родственницами, и, даю слово, они вряд ли будут рады, если я расскажу им всю правду. — Простите, — шепчет она. Ее глаза наполняются слезами. Бедная девочка. Ей и невдомек, что на самом деле Белладонна совсем не злится на нее, наоборот, даже по-своему защищает. Все шишки посыпятся на Гая. В этот миг в конюшню входит Фредерик, ведя под уздцы двух лошадей. Клайв отвязал Артемиду и тоже ведет ее под уздцы. Они удивленно смотрят на нас, и собаки снова начинают лаять. — Мэм, с вами ничего не случилось? — тревожно спрашивает Фредерик, с трудом удерживая лошадей — те, услышав лай и почуяв запах ищеек, с тихим ржанием отпрянули. Его глаза округляются от беспокойства. — В чем дело? — сурово спрашивает Белладонна. — Гермес шалит, как всегда. Буйный он нынче какой-то, вот я и решил вывести его погулять. Я бы не оставил конюшни без присмотра, да тут, как на грех, Эссекс тоже вырвался, а потом — что тут началось! В лошадок будто бес вселился, а я не хотел, чтобы они себе ноги переломали или что. Надо было Клайва за себя оставить. Простите, ради Бога. — Он виновато понурился. — Мэм, это я виноват, — вступил в разговор Клайв. — Напрасно я ушел. Нельзя было. Не вините моего отца. Я не подумал. — Клайв, тутникто не виноват, — говорит Белладонна так тихо, что слышит ее только он. Клайв вымученно улыбается. — Спасибо, мэм, — говорит Фредерик. — Больше такого не повторится. Она кивает, дотрагивается хлыстом до плеча сначала Фредерика, потом Клайва. Тот начинает усердно чистить лошадей, взмыленных после бешеной скачки. Стэн с собаками неторопливо удаляется к гаражу — сказать Темплтону, чтобы подогнал машину к дому. Мы выводим Гая и Нэнси из конюшни, шагаем вслед за ними к дому по каменной дорожке, обсаженной штокрозами и пионами. Гай бережно обнимает дрожащую Нэнси за плечи, но я вижу, что она ему уже наскучила. Она, вероятно, вообразила, что у нее с этим шикарным англичанином роман, какого свет не видывал, когда на самом деле она всего лишь повалялась с ним в стогу сена. Хорошо хоть, она не шпионка, думаю я, размышляя об этом вопиющем нарушении нашей безопасности. Угораздило же Белладонну наткнуться именно на такую сцену… Вдруг издалека слышатся детские голоса, мы останавливаемся. Это Брайони бегает по рощице с Сюзанной. Они видят нас и бегут навстречу. Сам не знаю почему, я смотрю на Гая и вижу: его загорелую кожу залила мертвенно-серая бледность. Брайони, смеясь, подходит ближе. — Угадайте, что у меня есть! — кричит она. — Сюзанна нашла лягушонка. Или жабика. Он такой хорошенький! Смотрите! Сюзанна подходит ближе, осторожно держа в ладошках лягушонка. — Мамочка, можно, мы его оставим? Ну пожалуйста! — умоляет Брайони. — Можно, ну можно, ну можно? Белладонна приседает на корточки. — Какой прелестный лягушонок, — говорит она, и ее голос звучит совсем не так, как в разговоре с Гаем всего минуту назад. — Но, если мы его оставим, по нему будет скучать его мама! И братишки с сестренками. Они и сейчас, я думаю, тревожатся, ищут его. Прислушайтесь. — Она встает и прикладывает ладонь к уху. — Слышите, они квакают? Наверное, рассказывают друг другу, что у них маленький лягушонок пропал. Вся семья огорчается. Скорее, давайте отпустим его в траву, и они его найдут. Хорошо? Брайони и Сюзанна переглядываются, хихикают и убегают. Я снова осторожно бросаю взгляд на Гая, но он уже пришел в себя. Мы приближаемся к дому. Нэнси указывает на свои чемоданы — они стоят в передней рядом с багажом Гая. Билли берет их и делает знак Нэнси следовать за ним. — Простите, — повторяет она, и Гай на прощание целует ее в щеку. — Будем рады видеть вас завтра на празднике, — говорю я Нэнси, и ее лицо озаряется радостью. — Передайте Робертсонам, что мы с нетерпением ждем встречи с ними тоже. — Могу себе представить, какими объяснениями Нэнси сопроводит это приглашение. Наверняка рассыплется в похвалах нашим чудесным пейзажам и радушному гостеприимству. — Где Лора? — спрашивает меня Белладонна. — Наверное, пошла прогуляться, — отвечаю я. — К розарию. — Естественно, это в противоположной стороне. Если бы она была в доме, когда прибыл Гай, Белладонна была бы избавлена от этой нелепой встречи. О да, у этой стычки наверняка будет необычное продолжение, говорю я себе. Добром это не кончится. — Куда поселим Гая? — спрашиваю я, глядя на его потрепанные, но все еще красивые чемоданы. — В желтую комнату, — холодно отвечает Белладонна. Гай бросает на нее странный взгляд. — Желтая спальня — любимая комната моей дочери, — говорит Белладонна, ее голос звенит, как кусочки льда в чаше с пуншем. — Поскольку Брайони произвела на вас такое неизгладимое впечатление, вы, вероятно, будете польщены тем, что вас поселили именно там. Она сама выбирала обои и цвет обстановки. Зажав хлыст под мышкой, как солдат, моя наблюдательная красавица размашисто шагает к дому. Взгляд Гая не отрывается от нее, пока она не исчезает из виду.14 Брошенные в пыль
Когда Лора видит, что приехал Гай, ее глаза радостно вспыхивают, она бросается ему на шею, но потом замечает, что с ним нет Хью, и ее лицо разочарованно вытягивается. — Он старался, как мог, — мягко говорит ей Гай. К счастью для меня, во время этой маленькой интерлюдии я спрятался в своем любимом укромном месте — в маленькой студии, соединяющейся с парадным салоном, за большой китайской лаковой ширмой, расписанной драконами, впряженными в колесницы, и прочими мрачными сценами. Через ее петли так удобно подглядывать. Хотя, когда Гай и Лора присаживаются на большой кожаный диван, печально вздохнувший под их тяжестью, я еще не догадываюсь, что мне доведется стать свидетелем такой нежной сцены. — Ты же знаешь, у него дела в Вашингтоне, — продолжает он. — Для него это был единственный предлог вырваться из Лондона. Он пообещал сделать все возможное, чтобы успеть сюда сегодня к вечеру. А тем временем я, как умею, постараюсь развеселить тебя. — Я слышала, ты сегодня уже развеселил весь здешний люд, — тихо произносит Лора. — Гай, как ты мог? — Да, признаюсь, я вел себя неважно, — отвечает он с завидной беспечностью. — Но если ты считаешь меня злостным осквернителем чужой собственности, это не так. Это вышло случайно. Просто Нэнси — очаровательная милашка, а в конюшне никого не было. Ты же меня знаешь. Если плоть просит своего, лови момент. — Да, я тебя знаю, вот почему меня убивает столь громкий голос твоей жаждущей плоти, — говорит она, ее гнев нарастает. — Здесь тебе не наш блестящий Лондон, где все подряд трахают друг друга. Ты имеешь представление о том, кто такая Контесса? Тебе не приходит в голову, что я много лет ждала ее приглашения? Что она — последняя ниточка, которая связывает меня с Леандро и Беатриче? Ты бы хоть иногда думал о других, не только о себе. Гай покачивает в руках бокал с коктейлем, я слышу, как позвякивают в нем льдинки. Отвечает он не сразу. — Прости, Лора, — говорит он наконец. — Мне очень жаль, честное слово. Прости, что я такой безмозглый. Теперь наша достойная хозяйка тоже возненавидит меня. — Ну, я-то уж точно тебя не возненавижу. Сам знаешь, на тебя долго злиться не может никто, разве только тысячи твоих любовниц, которых ты отправляешь обратно к мужьям. В этом твоя беда — тебе всегда все сходит с рук. — Не всегда, — возражает он. — На этот раз я встретил достойную противницу. Расскажи мне о ней. — О Контессе? — Лора смеется. — Ты шутишь? — Почему бы и нет? Она привлекательна, богата, умна. Таких привлекательных, богатых и умных женщин я еще не встречал. Но в ней что-то есть, только никак не пойму, что. Что-то совершенно потрясающее и бурлит где-то в глубине. Ты не замечала в ней ничего необычного? — Замечала, но, на мой взгляд, она не столько потрясает, сколько пугает. Я ее почти не знаю, до сих пор встречала только один раз, когда отдыхала в Мерано с Леандро, и мне совсем не хочется вспоминать, что тогда произошло. Нелепый случай. — Лора, дорогая, ты никогда не была нелепой, — говорит он, отпетый сердцеед. — Когда ты отдыхала в Мерано? — Семь лет назад. Да. В сорок седьмом году. С ней были младенец и двое очень странных мужчин. Один из них здесь — это Томазино. Ты, наверное, видел его. — Толстяк с черными вьющимися волосами. — Он не толстяк, просто крупный. — Лора храбро вступается за меня, и в моей душе все переворачивается. Я уже успел забыть, что когда-то она мне не нравилась. — Томазино двигается так грациозно, что я не могу назвать его толстяком. И еще он такой забавный. Но самое интересное, что его брат-близнец, Маттео, гораздо больше похож на Контессу. Глядя на него, точно так же теряешься. Насколько помнится, он очень мало говорит. Леандро рассказывал, что их обоих во время войны пытали, случилось что-то страшное, а Маттео к тому же изуродовали язык. Когда Томазино рассказал, что его брат женился, я очень удивилась: мне всегда казалось, что ему, гм, кое-чего недостает. И вообще он не тот тип, в которого легко влюбиться. Впрочем, Томазино тоже такой, просто скрывает это лучше. Как и Контесса. — Ясно. Теперь понимаю. Я провел с ней всего несколько минут, но уже успел заметить, что внутри у нее будто скручена тугая пружина, жесткая, настороженная. — Гай задумчиво помолчал. — Не то чтобы она боится, просто все время начеку. Когда она наткнулась на меня в конюшне, я присмотрелся к ней, и у меня сложилось впечатление, что она гневается даже не из-за того, что я натворил — хотя это, признаю, было непростительным нахальством — а потому, что не сработала строгая система безопасности ее поместья. Она не любит выпускать бразды правления из своих рук. Это ясно с первого взгляда. — Думаю, она научилась этому у Леандро. У него по всему Ка-д-Оро были расставлены скрытые системы сигнализации. Когда человек богат и могущественен, это становится первой необходимостью. Это не паранойя, таким людям надо всерьез опасаться шпионов, похищений и тому подобного. — Да, но системы сигнализации позволяют не только отпугивать посторонних. Они помогают контролировать каждый шаг тех, кто находится внутри. Ого, да этот Гай опасный тип. На редкость проницателен. — Может быть. Надо спросить об этом у Томазино. Или у Орландо, — говорит Лора. — Я помню его по Италии; там он отвечал за службу безопасности. — Через него можно добраться до Контессы. Через нашего крупного и грациозного Томазино. — Сомневаюсь, что кому-нибудь удастся добраться до Контессы, если она этого не хочет. Леандро писал мне, что у нее сильная воля, — говорит Лора. — Знаешь, вчера вечером мы вели долгий разговор. Томазино расспрашивал меня, а она сидела с нами на веранде в кресле-качалке. Теперь я припоминаю — она не сказала почти ни слова, но я ушла с впечатлением, что это была одна из самых интересных бесед в моей жизни. — Значит, ты не знаешь, давно ли она живет здесь. — Точно не знаю. Думаю, год-другой. Когда Леандро умер, она была в Италии, а это случилось три года назад. С тех пор мы не общались и встретились совсем недавно. А почему ты спрашиваешь? — Потому что она кажется мне похожей на одного человека. — На кого? — На Белладонну. Из клуба. Та самая загадочная леди, хозяйка ночи. У нее тоже была сильная воля. — Это верно. Я до сих пор по ее примеру ношу цветные лайковые перчатки. — Если не ошибаюсь, ты пела в ее клубе? — Да, милый Гай, но тебя в тот вечер не было, правда? — Нет, мой ангел, не было. Если помнишь, мне пришлось покинуть город раньше тебя. — Точнее сказать, тебя выгнали из города, — весело поправляет она. — Я удивлен, что прошел испытание ее собачками. Даже дважды. — Все были удивлены. А я — больше всех, — тихо смеется Лора. — Интересно, что случилось с клубом. Он закрылся так же таинственно, как и появился, помнишь? — Вот что я думаю, — медленно произносит Гай, позвякивая льдинками в бокале. — Может, я и сошел с ума, но тебе не кажется, что наша Контесса — это и есть Белладонна? Наступает долгое молчание. — Мне это не приходило в голову, — признается наконец Лора. — И, наверное, я бы никогда и не задумалась, если бы ты не сказал. И знаешь, я с тобой не согласна. Контесса… как бы это сказать? Отстраненная. Все время молчит. Мне кажется, она хочет только одного — чтобы ее оставили в покое. В глубине души она очень робкая. Белладонна была гораздо увереннее, держала все в своих руках, по крайней мере, мне так показалось. Я думаю, чтобы общаться с людьми в ночном клубе, нужно иметь много энергии и самообладания. Не представляю, как может человек робкий и молчаливый вести такую жизнь. Лично я бы не смогла. — Да, наверное, ты права, — задумчиво произносит Гай. — Я заговорил об этом просто потому, что мне кажется: тут что-то не сходится. Ты сказала, что, когда Контесса познакомилась с Леандро, у нее уже был ребенок. — Да, Брайони. Она была совсем крошка, всего несколько месяцев. В Мерано Контесса была с младенцем, с Томазино и Маттео. — Значит, на самом деле Леандро не отец Брайони? — Нет, он ее удочерил. Мне кажется, это одна из причин, почему они поженились — чтобы у Брайони были отец и доброе имя. Не знаю, известно ли об этом самой Брайони. Но не думай, я никогда не спрошу об этом у Контессы. Ее личная жизнь с Леандро меня не касается. И тебя, кстати, тоже. Я и так уже сказала больше, чем следовало. — Ты же знаешь, я в таких вопросах осмотрителен. — Так-то оно так, но я к тому же знаю, что ты любишь совать нос не в свои дела. А сейчас мне пора переодеться, да надо еще успеть хорошенько выплакаться из-за того, что Хью не приехал. — Я бы на твоем месте не оставлял надежды. — Я давным-давно оставила надежду, дорогой Гай, — с горечью отвечает она. — Я так люблю Хью, что не могу позволить себе никаких надежд. Понимаешь? — Да, милая. Надеюсь, что понимаю. — Обещаешь сегодня вечером вести себя хорошо? — Постараюсь. — Вот и отлично. Теперь пошли, поможешь мне застегнуть платье. — С удовольствием. Я слышу, как кожаные диванные подушки вздохнули опять. Гай и Лора встают, их шаги стихают в парадном салоне. Мое колено начинает дергаться от внезапных спазмов. Гай сопоставил Контессу с Белладонной. Слышать это тревожно, если не сказать покрепче. Она и без того была бы рада прогнать его со своих глаз.* * *
— Спокойной ночи, мамочка. — Брайони встает из-за обеденного стола и подходит поцеловать маму на прощание. — Спокойной ночи, мама Брайони, — робко говорит Сюзанна, и девочки убегают. Сюзанна так боится Белладонну, что не отваживается подойти и обнять ее. Сегодня девочки ведут себя тише воды, ниже травы, потому что Сюзанне разрешено остаться на ночь у Брайони, и Белладонна сказала им, что завтра, если они будут вести себя хорошо, она позволит им повеселиться допоздна на празднике, а потом подружки вместе пойдут ночевать к Бейнсам. Одной заботой меньше. Детям незачем знать, что на всякий случай возле дома Сюзанны всю ночь будут дежурить дополнительные наряды охраны. Розалинда отправляет девочек наверх, а мы перебираемся в парадный салон — отдохнуть над дегустацией нескольких сортов коньяка. Гай на редкость обаятелен, весь вечер сыпал забавными анекдотами, над которыми хохотали и взрослые и дети. Теперь, естественно, нашему рассказчику пришла пора вести себя более по-взрослому. — Ужин прошел замечательно, — говорит Лора, и Белладонна вымученно улыбается. Внезапно я с содроганием осознаю, до чего же мне одиноко, как я скучаю по брату. И по Джеку. Мне нужен человек, хорошо мне знакомый, которому я могу доверять; нужен мужчина рядом. До отъезда из Нью-Йорка я не понимал, как много для меня значило ровное, холодное спокойствие Джека. Он никогда ничего не просил; делал свое дело и не требовал награды. Ради любви к Белладонне. Маттео и Джек. Оба далеко, оба невероятно сложным образом сплетены с нашей нью-йоркской жизнью. Я, конечно, приглашал их на сегодняшний вечер, даже умолял, хотя эта привычка, как вы успели заметить, несвойственна вашему покорному слуге. Но оба сослались на нехватку времени. Единственная хорошая новость пришла от Маттео: ему кажется, что Джек встречается с Элисон, как и надеялся этот старый сводник. Но у меня здесь нет ни одной близкой души, и, кажется, мне плохо удается скрыть печаль. Белладонна, проходя мимо с высоким бокалом своего любимого «Пуар Уильям», легонько касается моего плеча. — Надеюсь, Маттео с Аннабет и детьми смогут приехать на лето, — говорю я, потому что не придумал ничего лучшего. — Но, может быть, они предпочтут поехать в лагерь. — Что такое «лагерь»? — спрашивает Лора. — Летний лагерь, — поясняю я. — Туда отправляют детей, чтобы они наслаждались летней жарой подальше от родительских глаз, в крошечных домишках, называемых палатками. Там им положено развлекаться самыми нелепыми занятиями. Например, художественным ремеслом и организованным спортом. — Я содрогаюсь в деланном ужасе. — Там, откуда я приехал, детей в лагеря не отправляют, — говорит Гай. — В самом деле? — спрашиваю я. — Откуда же вы? — Многие считают, что из ада, — отвечает он. — Туда, во всяком случае, меня нередко посылают. Лора снисходительно смеется. — Гай, хватит шутить. — Я не шучу, — говорит он. — Мы в самом деле не ездим в летние лагеря. Потому что у нас, в Англии, милых мальчиков и девочек отправляют в заведения, которые вы, американцы, называете интернатами. К лету в их любящих родителях просыпается совесть, и они разрешают отпрыскам вернуться домой. Там эти любящие родители бросают их снова, отправляются в Европу или куда-нибудь еще, отдыхать после окончания зимнего сезона. Но родительский долг соблюден: дети вернулись под родной кров. — Он не может скрыть горечи в голосе. — У вас были именно такие родители? — спрашиваю я. — Мама была не такой, — отвечает он, крутя кольцо. У него на пальце простое широкое золотое кольцо с русским александритом. Это редкий, удивительно красивый камень, зеленый при дневном свете и красный при свечах. Он насмешливо подмигивает, напоминая «кошачий глаз» Леандро. — Но она умерла, когда мне было восемь лет. А с братьями я никогда не ладил. Я был самым младшим, не наследник и не второй сын, никому не нужен. Вряд ли я сильно сгущу краски, если скажу, что нас воспитывали в ненависти друг к другу, учили видеть в братьях непримиримых соперников. Я заметил, что он ни словом не обмолвился об отце. — Самым испорченным был мой брат Джон Фрэнсис, — продолжает Гай. — Пристрастился к опиуму, оставлял кальяны прямо на ходу, чтобы горничные спотыкались. Хранил свое зелье в прелестных золотых табакерках, когда-то принадлежавших Распутину, но однажды забыл вытряхнуть наркотик и отдал их в «Сотби» оценить для аукциона. Были крупные неприятности. — Он отпивает коктейль и откидывается на спинку кресла, небрежно скрестив длинные ноги. Может быть, он морочит нам голову, не знаю. — О, Гай, ты опять преувеличиваешь, — говорит Лора. — Думаешь, мы поверим в такую ерунду? Он лукаво улыбается. — Мне поверят лишь тысячи женщин, которые были влюблены в меня. — Что ты хочешь сказать? — со смехом спрашивает Лора. — Только одно: не составляет труда заставить женщину, которая считает, что влюблена, поверить во все, что говорит ее возлюбленный. — Соблазнять женщин тысячами — дар природы, и она вас, несомненно, наделила им очень щедро, — саркастически замечаю я. — Да, конечно, — говорит он, теперь уже внимательно следя за своим языком. Я на это надеюсь. — Соблазнить женщину очень просто, если она сама этого хочет. Человеку ничего не стоит мгновенно стать страстным и настойчивым. — Он встает налить себе еще коньяку. — Если же она не желает, соблазнение превращается в своего рода войну. Рассматривая тактику Наполеона Бонапарта, я вынес для себя несколько очевидных уроков. Его техника соблазнения и планы битв были одними из немногих фактов истории, которые я давал себе труд изучить в школе. Однако, к несчастью, Бонапарт питал к женщинам величайшее презрение. В отличие от меня. Он вызывал прелестных дам к себе в палатку, приказывал раздеться, не поднимая головы от бумаг, потом быстро получал удовольствие и отсылал их собирать чемоданы. — Ну, вы-то никогда не отсылали их собирать чемоданы, — говорю я, — пока не стряхнете сено. — Сдаюсь, — добродушно отзывается Гай. — Вы правы: я их не отсылаю. Они и сами добровольно, с радостью меня бросают. Он шутит, но в его голосе звучат странные нотки. Я смотрю на Белладонну. Она, как обычно, не произнесла ни слова, только внимательно смотрит на Гая. Он это знает. Интересно, для чьих ушей эта беседа предназначена на самом деле. Может, он нуждается в сочувствии и хочет хоть чуточку понравиться Белладонне. А может, нужно просто заткнуть ему рот да повесить для просушки в Комнате Нарцисса. — Потому что у Гая вместо пресс-папье сушеная обезьянья лапа, — с содроганием сообщает Лора. — Ужасная вещь. — Это пресс-папье когда-то принадлежало поэту Суинберну, — говорит Гай. — А из копыта любимого коня он сделал чернильницу, выгравировал на ней имя животного и дату смерти. — Какая изысканная жуть, — шепчу я. Пока что разговор продвинулся не слишком далеко. — О, хватит говорить обо всем этом. И о чернильницах, и о Бонапарте, и об испорченных летних каникулах. И тем более об английской аристократии, — говорит Лора. — Я замужем за одним из этих типов и сыта ими по горло. Белладонна внезапно встает. — Доброй ночи, — только и говорит она и выходит из комнаты. — Боже мой, — бормочет Гай. Его взгляд опять следует за ней. Это еще мягко сказано. Вопреки всем моим предубеждениям, этот Гай начинает мне нравиться, хоть я и не могу в точности определить, что им движет. Но когда-нибудь смогу. Я снова ругаю себя за то, что вовремя не рассказал о нем Притчу. Ничего, Гай от нас не уйдет. Пока мы не проверим его родословную. Да, Гай — интересное дополнение к Ла Фениче. Мне кажется, он способен предстать перед нами прелестным ангелом, полным остроумия и нежности, а потом вдруг обернуться дьяволом, яростным и жестоким. Как и Белладонна.* * *
— Знаете, что со мной случилось, когда я был маленьким? — спрашивает Гай у Брайони и Сюзанны. Раннее утро, они сидят на веранде и завтракают, вдалеке мерцают в теплой дымке холмы. Он рассказывает им сказки, девочки слушают, восторженно раскрыв рты. Гай умеет очаровывать женщин, даже маленьких. Он способен своим обаянием выманить черепаху из панциря. — Слушайте, — говорит он, опуская стакан со свежевыжатым апельсиновым соком. — В детстве я часто болел и очень сильно кашлял, — он изображает приступ кашля, и девочки покатываются от смеха. — И врач решил, что мне нужно удалить гланды. Не откладывая! — А мне гланды уже удалили, — сообщает Брайони. — Когда мы жили в Нью-Йорке. Я лежала в больнице. И каждый день ела мороженое, потому что у меня болело горло. Проклятье. Теперь Гай знает, что мы жили в Нью-Йорке. — А тебе тоже удалили гланды? — спрашивает Гай у Сюзанны. Она отрицательно качает головой. — Повезло, — говорит он. — Это очень больно. — Мне тоже было больно, но мама сказала, что я очень храбрая, — заявляет Брайони. — Конечно, храбрая, — отвечает Гай. — Но я, к сожалению, был не таким храбрым. У меня болело горло, я кричал и плакал, и врач решил делать операцию дома. Мы жили в Англии. Я не хотел идти в больницу, где за мной будут ухаживать медсестры. — А кто же за вами ухаживал? — спрашивает Сюзанна. — Ваша мама? — Да, — отвечает он. — А когда мамы не было дома, приходили медсестры. И знаете, что случилось? Врач вырезал мне гланды и положил на тарелку, медсестра отнесла ее в кухню. Потом в кухню заскочил мой брат, схватил гланды с тарелки и съел! — Фу-у! — хором кричат девочки. — Он думал, это клубника, — поясняет Гай. — Вот глупый мальчишка! Наверное, он меня никогда не простит. — Не хотела бы я съесть гланды, — серьезно заявляет Сюзанна. — Ну и не ешь, — откликается Гай. Тут Сюзанна видит маму — она гуляет с маленькими братиками. Девочка машет ей и спешит навстречу. — Брайони, пойдешь со мной? — зовет она, сбегая по склону холма. — Надо спросить маму, — отвечает Брайони, надувая губки, — но она еще спит. — Брайони хорошо знает, что не следует беспокоить маму по утрам. В эту минуту я решаю подойти к ним. — Можно мне пойти к Сюзанне? — спрашивает Брайони. — Можно, ну можно, ну можно? Гай делает вид, будто плачет. — Значит, ты не хочешь побыть со мной? Брайони смотрит на него, потом на меня. Видно, что она разрывается между старой подругой и новым приятелем. — Давай сделаем так: ты немного побудешь с Гаем, потом пойдешь обедать к Сюзанне, — предлагаю я. — Сможешь поиграть у нее до вечера и вернешься переодеться к празднику. Договорились? — Хорошо, — отвечает она. — Тогда беги, скажи Сюзанне, что придешь попозже, и возвращайся, — говорю я. — Потом погуляешь с Гаем, покажешь ему собак и сады. Так что по дороге захвати собак, ладно? — Буду очень рад, — говорит Гай. Я тоже: пока они гуляют, я успею позвонить в Дом Тантала и попрошу Вилли следовать за ними и подслушать беседу. Я быстро звоню по телефону, возвращаюсь на веранду и наливаю себе стакан сока. — Удивительный ребенок, — говорит Гай. — Что верно, то верно, — отвечаю я. — Можно спросить кое о чем? — Конечно. — Где вы служили во время войны? — Откуда вы знаете, что я служил? — Инстинкт солдата. — Понятно. — Я вздыхаю. — В Италии. Близ Лукки. Но я не служил, — отвечаю я. — Мы с братом ушли в партизаны. Бредовые идеи о героизме и величии. А вы? — В Индии. На Цейлоне. Кровавый кошмар, но в конце концов завязал много полезных знакомств. Там основал свою фирму. Чай. Импорт-экспорт. — Вот откуда у вас загар. — И тысячи жаждущих женщин. Последние из колониальных жен, еще не успевшие покинуть страну, охотно ныряли к нему под москитную сетку. — Почему вы спрашиваете? — Просто так, — с легкостью отвечает он. Ну да, как же. — Хотели бы знать, где я познакомился с Контессой? Долгая история, — осторожно говорю я. — Слишком долгая для теплого утреннего солнышка. — Слишком долгая для тебя, случайный гость. — А одна юная леди не любит ждать. — Вы совершенно правы, — говорит он. — К тому же это не мое дело. Я больше не стану спрашивать. — Правильно сделаете. К счастью, в этот миг из дома выбегает Брайони с Базилико на руках. Мастифы, громко лая, ковыляют за ней. Вся компания удаляется. Глядя им вслед, я слышу, как Гай спрашивает Брайони, не хочет ли она послушать веселую песенку. Девочка опускает Базилико на землю, берет Гая за руку, и он начинает петь:* * *
Я верчусь перед зеркалом и любуюсь покроем моего снежно-белого смокинга, сшитого к завтрашнему празднику, как вдруг звонит телефон. Вилли сообщает мне, что это Притч. Великолепно. Может быть, у него хорошие новости. Долгожданная смерть приятно скрасит завтрашний вечер. — Преставился наконец, — довольным голосом заявляет Притч. — Мое сердце разрывается, — откликаюсь я, с трудом сдерживая радость. Наконец-то хоть один из них отдал концы. Сколько еще осталось? Я прошу Вилли, чтобы он сказал Контессе снять трубку. — Прах во прах вернется, пепел к пеплу. Собаке — собачья смерть. Каковы дальнейшие шаги? — Отпевание состоится через три дня в церкви святого Мартина. А тем временем запустим в дом первую команду уборщиков. Продезинфицировать комнату, где лежал больной. Надеюсь, вы меня понимаете. — Конечно же, я понимаю. — Вторая команда вступит в действие во время отпевания. — Притч, это уж слишком, — смеюсь я. — Даже у меня не хватило бы наглости обшаривать вещи человека прямо во время его похорон. — А где найдешь время лучше? — спрашивает Притч. Я будто воочию вижу, как он пожимает плечами. Вот порадуется наш преданный Притч, изучая бумаги, банковские счета, дневники. Письма к друзьям, которые сэр Патти не успел сжечь перед роковой поездкой в Америку. А с чего ему должно было прийти в голову, что бумаги нужно сжечь? — На похоронах будет присутствовать только узкий круг самых близких, в том числе, конечно, я. — Конечно. — В скором времени сообщу самые свежие новости. — Здравствуйте, Гаррис, — говорит Белладонна. Только сейчас я понял, что она слышала почти весь разговор. А я и не заметил, как она подняла трубку. — Здравствуйте, — говорит он. — Рад слышать ваш голос. — Рада слышать вашу новость, — отвечает она. — Да, мадам. Чем еще могу быть полезен? — Позвоните мне, как только опознаете всех, кто придет на похороны. — Обязательно. Я уже пустил в действие дополнительные силы. — Благодарю вас, — говорит она. — Весьма признательна. — Рад служить, — отвечает он и вешает трубку. Вот мы и еще ближе к цели. Но сейчас нам пора готовиться к празднику. Вскоре дом наполнится шумными незнакомцами, которые будут с жадностью прихлебывать мятный джулеп и хватать грязными лапами наши прелестные безделушки. Я знаю, Белладонна с ужасом ждет этого вечера. Она уже сказала мне, что не пойдет на барбекью в честь крещения Эзры и Изекиля. Так я и думал. Ей слишком тяжело видеть близнецов. Брайони уже сократила их имена: Из и Зик; она спрашивает маму, нельзя ли ей заиметь собственного братика. Белладонна только улыбнулась и сказала, что подумает. Сегодня в нашем доме не будет места мыслям о младенцах. Белладонна не наденет маски: она и так скрыла свое лицо. Ее нервы напряжены, как стальные канаты. Как стальной капкан, готовый захлопнуться.15 Созданы друг для друга
Богатые ничего не смыслят в деньгах. К такому выводу я прихожу благоуханным июньским вечером, когда гости начинают прибывать на долгожданный праздник, которым закончатся все праздники в Ла Каза делла Фениче. Они неправильно произносят название — Фениция. Рифмуется с Венецией. Если бы хоть кто-нибудь из них съездил в Венецию, он бы наверняка заметил там знаменитый оперный театр Ла Фениче. Но не обращайте внимания. Я просто придираюсь. Ну какая нелегкая понесет их в Венецию смотреть незнамо на что, если дома, в Кинг-Генри, они могут увидеть все самые красивые зрелища мира? По крайней мере, все эти пейзажи казались мне очень красивыми сегодня с утра, когда я принимал гостей на роскошном пикнике для арендаторов. Дети резвились вовсю, в передышках между салочками и футбольными схватками подбегали сжевать кусочек жареного цыпленка или ребрышко, попробовать несравненные булочки и печенья, которые напекла Бьянка. Гай пользовался бешеным успехом — гонял мяч до изнеможения, показывал всем желающим свое кольцо, таинственным образом меняющее цвет с красного на зеленый, если его потереть. Взрослые с наслаждением вытянули ноги на садовых стульях, на одеялах, чашку за чашкой поглощали мой знаменитый пунш, приправленный бурбоном, пряностями и травками из сада. Все работы, кроме кормления животных, были отменены, мы дружно приналегли, чтобы побыстрее покончить с повседневными обязанностями. Когда чудесный южный пунш ударяет в голову, так приятно посмеяться над суматошно кудахчущими курами. — Вот во что превратятся все гости к концу вечера, — заявил я, обращаясь одновременно к курятнику и к собравшейся публике. — Будут, как наши курочки, копаться в земле, выискивая червяков. Когда после обеда все разошлись подремать, мы с Лорой укрылись на балконе второго этажа, любуясь зеленым пейзажем, убегавшим вдаль от наших ног. — Расскажите, как вы познакомились с Хью, — попросил я. Белладонна велела мне уточнить детали, и сейчас самый подходящий случай. — Воссоздайте его образ, тогда вечером, когда он появится, это произойдет, как по мановению волшебной палочки. — Мы встретились случайно, — ответила Лора, откидываясь на спинку кресла. Она была рада поговорить о нем. — На вечеринке у наших знакомых в Девоне, года полтора назад. До этого я лишь слышала его имя. Хью Тревенен. И, конечно, знала о его жене, Николь, леди Пембридж. О ней знали все в нашем кругу. — Вы хотите сказать — знали, во сколько она ценит свои милости? — грубовато осведомился я. — Нет, насколько она их не ценит, — ответила Лора. — Эндрю, разумеется, был «очень занят», так что я пошла одна. У Николь тоже нашлись какие-то дела. Я приехала немного пораньше и перед обедом вышла прогуляться. Вернувшись, поднялась наверх — принять ванну и переодеться. Дом был выстроен по последнему слову цивилизации, — засмеялась она. — Почти во всех гостевых спальнях имелись отдельные ванные. Я вошла в свою комнату, присела на кровать, сняла туфли и начала стягивать чулки, как вдруг поняла, что в ванне уже кто-то есть. Этот человек напевал, довольно фальшиво. — Она улыбнулась. — Точнее сказать, страшно фальшивил. Я совершенно растерялась, не знала, что делать — то ли постучать в дверь ванной, то ли пойти отыскать слуг, как вдруг дверь открылась, и он вышел. Бедняжка, на нем было только полотенце. — Хорошо, что хоть его успел повязать, — вставил я. — Верно. — При этом воспоминании она широко улыбнулась. — «Боже мой», — воскликнул он, увидев меня. — «В чем дело? Кто вы такая?» «Я собиралась задать тот же вопрос вам, — ответила я. — И, полагаю, вы должны объясниться, поскольку эта комната — моя». «Боже мой, — опять сказал он. — Наверное, произошла ужасная ошибка». «Или нелепый розыгрыш». «Искренне прошу прощения, — сказал он. — Мне очень жаль. Я понятия не имел…» «Вы хотите сказать, что не заметили в ванной всех этих женских вещичек?» — поддразнила я. Он покраснел, как вареный рак, смутился настолько, что я уже не могла ни бояться его, ни злиться. «Я опоздал, очень торопился и в спешке ничего не заметил… Ох, Боже мой. Я не подумал. Какой я болван». Он опустился в кресло, а я пошла в ванную и принесла ему свой халат. Надевая его, он не знал, куда спрятать глаза. «Я сейчас же оденусь в ванной, отыщу слуг и скажу, чтобы они перенесли мои вещи, — сказал он. — Не понимаю. Такого… такого со мной никогда не случалось. Простите, ради Бога». Ну, к этому времени с меня уже слетел шок, и я начала находить ситуацию забавной. Кроме того, он был очень красив и страшно смущался. «Нет, — ответила я. — Вы лучше оденьтесь здесь, а я тем временем приму ванну». Он озадаченно молчал. «Нет, правда, — сказала я. Не понимаю, откуда у меня взялась такая храбрость. — Раз уж мы оба здесь, сделаем вид, что для нас это дело обычное. Я мигом». Я схватила платье и свои вещи, мгновенно приняла ванну, накинула платье, швырнула на лицо немного пудры и губной помады. Почему-то я очень боялась, что, когда я выйду, он уже уйдет. — Но он не ушел, — предположил я. — Нет, он сидел на том же самом месте, в том же кресле, только уже полностью одетый. Он поднял глаза на меня, все еще смущаясь, и улыбнулся. «Вы очень красивы», — сказал он. Я не знала, что ответить, поэтому попросила застегнуть мне платье. Он послушался, его пальцы дрожали. Потом он сел опять, а я стала примерять украшения. «Знаете, — сказал он. — Мне кажется, за все годы семейной жизни я ни разу не видел, как моя жена одевается». Когда он сказал «жена», в его голосе было что-то такое, что запало мне в сердце, — промолвила Лора, взглянув на меня. — «Знаете, — ответила я ему, — за все годы моей семейной жизни я, честное слово, ни разу не видела, как мой муж одевается». Мы оба рассмеялись. — Довольно интимное начало, — заметил я. — Когда люди одеты не полностью, это иногда выглядит соблазнительнее, чем обнаженное тело. — Слова «Эндрю» и «соблазнительный» как-то плохо сочетаются друг с другом. — Что же было дальше? — поторопил я. — Мы выглянули в коридор, убедились, что никого нет, и украдкой выскользнули из комнаты. Он предположил, что кто-то нарочно хочет посмеяться над ним. — Например, сделать фотографии, свидетельствующие о супружеской измене, — подсказал я. — Совершенно верно. Но позже мы выяснили, что это была всего лишь ошибка прислуги. Точнее, выяснил Гай. — Тогда-то вы и познакомились с Гаем? — Да. Гай и Хью — лучшие друзья. Хью сказал, ему нужно поговорить с Гаем, потому что Гай способен уладить все что угодно. О, еще бы! — В гостиной стоял серебряный поднос с конвертами; из них каждый джентльмен должен был узнать имя дамы, которую он будет сопровождать к обеду, — продолжала Лора. — Я увидела, что человек, который был со мной в комнате, отвел кого-то в сторону; я решила, что это и есть Гай. Я заметила, что оба смотрят на меня. Мне казалось, что все на меня смотрят. — Она вспыхнула, и, как обычно, ее лицо и шея покрылись нежным розовым румянцем. «Тебе повезло, — сказал ему Гай. — Интересная штучка». «Верно, — согласился Хью. — Но я понятия не имею, кто она такая. Понимаешь, я, болван, в суматохе забыл спросить, как ее зовут». Это он мне потом рассказал, — пояснилаЛора. — Мы оба забыли познакомиться. — На сцене появляется злодей, — сказал я. — Наш дорогой Гай. — На самом деле он совсем не плохой, надо только узнать его получше. Честное слово, он очень хороший. Он представился, рассказал мне о Хью Тревенене и его жене Николь, леди Пембридж, и сказал, что знакомство со мной — лучшее, что случилось с ним в жизни. И все это за пять минут до обеда. Хоть это и смешно, но я немного успокоилась. Потом Гай шепнул, что на всякий случай нам лучше не сидеть за обедом вместе. «Кроме того, — сказал он, — обеды проходят интереснее всего, если посадить рядом людей, которые терпеть друг друга не могут. Например, жену с любовницей или унылого драматурга с его самым злейшим критиком. Привкус ненависти идет на пользу самой скучной беседе». — Она снова рассмеялась. — Я до сих пор помню его речь слово в слово, потому что это было так… не знаю, оригинально, что ли. — И так правильно, и так уместно, — кивнул я. — Как прошел обед? — Почти не помню, — ответила она. — Мы с Хью изо всех сил старались не смотреть друг на друга, но ничего не получалось. Я могла думать только об одном — о том, что это прекрасное чувство таит в себе оттенок настороженности, что в Хью есть какое-то обреченное выжидание, будто он садится на диван и ждет, что еду унесут у него из-под носа, пока он не успел даже притронуться к ней. Мне казалось, его преследует убеждение, что ему всегда суждено разочаровываться и огорчаться. И потом я поняла: этими же словами я могу описать и себя. После обеда я могла думать только о Хью, — продолжала она. — Как мне хотелось, поднявшись наверх, обнаружить его у меня в комнате! — Вы не обидитесь, если я спрошу: вы нашли его там? — поинтересовался я. — Нет, не обижусь, — ответила она, ее глаза смеялись. — Я его там не нашла. В ту ночь. Я ужасно жалела. Но это было бы слишком опасно. Мне не хотелось рисковать. Я боялась, что кто-нибудь застанет нас вместе и радостно доложит моему мужу. Или жене Хью. — По-моему, пора познакомить Эндрю с Николь, — сказал я. — Мне кажется, из них вышла бы отличная пара. — Это верно, — со вздохом ответила Лора. — Но, к сожалению, все не так просто. — Никогда не бывает просто. Продолжайте, прошу вас. — Я догадывался, что впереди меня ждет самое интересное. — На следующее утро я лежала на диване в гостиной, перед камином, и тут вошли две гостьи и начали сплетничать о Хью и Николь, — сказала Лора. — Они не знали, что я здесь и все слышу. Я лежала и думала, что мне делать, как вдруг увидела Гая. Он вошел из сада, бросил один взгляд на меня, другой на них и сразу все понял. Тогда-то я и узнала, что Гай — настоящий друг. «Леди, — сказал он, приближаясь вразвалочку. Жизненная сила так и била из него. Я видела всю эту сцену в зеркале. — Передо мной стоит дилемма, и только вы поможете ее решить. Что мне делать — пойти наверх и вздремнуть немного перед ленчем или же насладиться красотами природы… но в этом случае мне понадобится общество таких восхитительных созданий, как вы». — Он поцеловал им руки. Они, естественно, захихикали и заявили, что не одеты для прогулки. — Слава Гая идет впереди него, — заметил я. — Он всегда был прирожденным соблазнителем? — Не знаю, — ответила Лора с восторженной улыбкой. — Но этих двух дам он соблазнил мгновенно. Сказал, что, если они успеют надеть резиновые сапожки и вернутся ровно через семь минут, то он их возьмет. Они убежали, а Гай подошел ко мне, склонился над диваном и сказал, что Хью ждет, его комната в конце коридора, напротив рыцаря в блестящих латах. Вот как все началось. — Напротив рыцарских доспехов. — Я глубоко вздохнул. Как я ненавижу несчастливые романы. — Что думаете делать дальше? — Не знаю, — печально отвечает Лора. — Белладонна — та, из клуба — дала мне адрес одного детектива в Лондоне, но он сказал, что мы не должны оставить в этом деле ни единой лазейки. А это труднее всего. Эндрю, при всем его распутстве, не хочет развода. — Может быть, он не хочет расставаться с вашими деньгами? — Да, конечно, но мне нужно думать и о детях. Как Хью думает о своих. — Эндрю знает о Хью? — Нет, вряд ли. — Она знакомым жестом поправляет волосы. — Я страшно боюсь, что он узнает, и на этом все кончится. Вот почему нам так нужен Гай. Я не могла бы встречаться с Хью, если бы Гай не помогал нам, не следил, чтобы все было шито-крыто. Он такой молодец. Она снова вздохнула, и мы долго сидели в молчании, размышляя о невозможности любви.* * *
Начинают прибывать гости. Мы заставляем их выстраивать свои сверкающие хромом железные чудовища в аккуратный ряд на взлетно-посадочной полосе. Билли и Вилли составили список, полный перекрестных ссылок, в котором каждому номерному знаку, тщательно сфотографированному скрытыми камерами, соответствовал человек, в нем приехавший. Сегодня вечером все организовано с военной четкостью. Повсюду расставлены шпионы из службы безопасности, одетые в белые смокинги, с неизменными серебряными бокалами ледяного мятного джулепа в руках; их едва ли не больше, чем гостей. Естественно, следить за таким огромным поместьем и всеми гостями гораздо труднее, чем за клубом «Белладонна», поэтому мы немного нервничаем. Но ничего не поделаешь. Мы утешаем себя тем, что этот вечер скоро кончится. Белладонна стоит у парадного входа — чарующее воплощение безмятежной элегантности. В колье поблескивает рубин, оттеняющий цвет ее глаз, с ним сочетаются жемчужные серьги с рубинами. Густые каштановые волосы собраны в пучок по примеру Лоры, губы подкрашены темно-розовой помадой. На ней необычайно привлекательное бледно-зеленое платье без бретелей из мягкого атласа, плотно стянутое на талии и летящее у щиколоток, руки обтянуты атласными перчатками длиной по локоть, чтобы ей не пришлось касаться ничьей руки. На пальцах нет ни единого кольца, хотя многие гостьи позаимствовали у знаменитого клуба, о котором они столько наслышаны, моду на перстни. Белладонна заставляет себя слегка улыбаться, поэтому гостям не приходит в голову, что она считает минуты до их ухода. Она уже выдержала преувеличенные комплименты Робертсонов и их зардевшейся гостьи — Нэнси. Самые любезные приветствия у нее приготовлены для хозяина лесопилки Купера Марринера, который при виде гостеприимной хозяйки заливается таким нежным оттенком красно-коричневого цвета, что мне приходится ущипнуть себя за руку, чтобы не рассмеяться. Мы выслушали рассказ о борзых собаках Блэкултеров, о том, как Лейтоны не сумели как следует украсить свой дом и о том, как тяжело приходится с этими, ну, вы сами понимаете, ужасными людьми. При этих словах гости искоса поглядывают на Брайони и Сюзанну, которые весело порхают из комнаты в комнату, обсуждая невероятно перегруженные драгоценностями платья шикарных дам. Контесса что-то вежливо бормочет, не желая глотать наживку. Она знает, что давно стала притчей во языцех — в округе только и разговоров, как непристойно сдружилась она с нежелательными личностями. Это, наверное, потому, что она долго прожила в Европе, говорят себе они. Эти варвары ничего не понимают. Зато мы в Кинг-Генри знаем ответ на все вопросы. Он, да будет вам известно, кроется в бутылке с бурбоном. Алкоголь — хорошее консервирующее средство. Они все хорошо промаринованы. Белладонна стойко не выказывает усталости, а гости текут и текут рекой, благоговейно разбредаются по дому, топают ногами, постукивают по стеклянной крыше бассейна с рыбами в малой столовой, стараются не хватать руками ценные безделушки в других комнатах — пока наконец не замечают, что на них без улыбки смотрит официант с подносом крабовых канапе в руке и с кобурой на боку. Тогда они рысцой мчатся к буфетным столикам на веранде, ломящимся под тяжестью блюд, или к бару, где выстроились бесконечные вереницы бокалов с пуншем и джулепом. Затем наступает пора закружиться в танце посреди медного бального зала, где оркестр наигрывает мелодии Кола Портера, и жизнь кажется прекрасной. Проходит час, другой, Белладонна пресыщается и уходит глотнуть свежего воздуха наверх, в голубую спальню, оставляя дверь чуть-чуть приоткрытой. Там она находит подавленную Лору — та сидит и ждет в одном из двух серебристо-голубых кожаных кресел с подголовниками. Она повернула его к балкону, который тянется чуть ли не во всю длину второго этажа. Женщины переглядываются, но не произносят ни слова. О, если бы Белладонна смогла хоть немного раскрыться и завести подругу. Если бы… Дверь распахивается, и они слышат тихий шелест атласных юбок. Раздается глухой стук — это два довольно массивных тела опускаются на диван у двери. Гостьи не догадываются, что в высоких креслах, обращенных к балкону, кто-то сидит. — Видела, какой у нее канделябр? — спрашивает одна из гостий с глубоким протяжным акцентом. — Мне говорили, он стоит по меньшей мере сорок пять тысяч долларов. А то и все пятьдесят. — И не говори, — откликается другая. — Интересно, сколько же у нее денег? — Куры не клюют. — И как, хотелось бы знать, она их заработала? — Как обычно. Лежа на спине. Глаза Белладонны прищуриваются, Лора хмурит брови. На самом деле Белладонна считает этих дам самыми забавными созданиями, каких ей довелось услышать за этот вечер, но она, естественно, не собирается радовать их таким признанием. — Боже мой, Ширли Марринер, ты испорченная девчонка! — Не хуже тебя, Летиция Блэкуотер. — И слава Богу. Наступает короткая пауза, в продолжение которой Ширли и Летиция наслаждаются своим моральным превосходством. Ширли облачена в ярко-голубое платье из тафты поверх такого количества нижних юбочек, что под ними можно было бы спрятать целое войско; завершает ее ансамбль шляпка с фазаньим пером. На кремовом платье Летиции пузырятся бесчисленные оборки, и кажется, будто она сидит в лужице растаявшего шербета. Но что хуже всего — на их каблуках поблескивают целые гирлянды искусственных бриллиантов. Мало того что весь Нью-Йорк кинулся, в подражание нам, носить кольца поверх перчаток и устраивать тематические маскарады, но увидеть туфли в стиле Белладонны на провинциальном балу в Виргинии — это уж чересчур! Нет, надо что-то предпринимать, и немедленно! — А как тебе нравится эта языческая комната с чудовищными статуями? Не годится добропорядочной христианке заводить в доме такие вещи! — А безобразные голые фигуры в салоне? Какой стыд! — А гнусные рыбешки в столовой? Отвратительно! — А ее дочка играет с этой противной негритянкой! Невообразимо! — Не хотела бы я, чтобы моя Мелисса играла с такими подругами. — Или моя Полли. — Ни за что. — Диппи говорит, она была замужем за каким-то мерзким итальяшкой, поэтому у нее и хватает наглости величать себя Контессой. Да она такая же Контесса, как я — мамаша Эйзенхауэр! Лора прикусывает губу, но Белладонна качает головой и делает ей знак хранить молчание. Наконец две перезрелые дебютантки с трудом поднимаются с дивана, вздыхают от счастливой злости и, сунув любопытный нос во все комнаты на втором этаже, возвращаются на первый этаж, где идет веселье. Впервые за вечер Белладонна от души улыбается. Не говоря ни слова, она встает, оставляет Лору в комнате, находит меня и кое-что шепчет мне на ухо. Я нахожу ее идею блестящей, отправляюсь искать Орландо, привожу его в бальный зал, мы поправляем галстуки и галантным шагом направляемся к Ширли и Летиции. Они стоят возле чаши с пуншем в сверкающем медном зале и с увлечением сплетничают. Мы низко кланяемся — при этом я опираюсь на одну из тросточек с львиными головами от Леандро — и приглашаем их на танец. Щебеча и чирикая так, что хватило бы на целый зоомагазин, Ширли и Летиция отвешивают глубокие неуклюжие реверансы. Им очень льстит, что на них обратили внимание двое мужчин, столь близких к Контессе. Они поднимаются, я огибаю их и подаю руку. На радостях они не замечают, что я коротко взмахиваю тросточкой. Острое, как бритва, лезвие наискосок подсекает оба сверкающих каблука Ширли. Все происходит в мгновение ока, никто ничего не заметил. Ловкость рук, видите ли. Орландо уводит Летицию, а Ширли кокетливо хлопает ресницами, глядя на меня. Я вручаю тросточку официанту, раздающему пунш. — Я считаюсь лучшей танцовщицей в округе, — самодовольно говорит мне Ширли, когда начинается музыка. Она ведет меня по всему танцевальному залу, дабы показаться перед всеми гостями без исключения. — Значит, мне повезло выбрать такую восхитительную партнершу, — отвечаю я, и ее улыбка становится еще самодовольнее. Но всего через минуту-другую бурного кружения в вальсе у Ширли отваливаются каблуки. Она издает хриплый резкий вскрик и неуклюже наступает мне на ноги. — Что с вами случилось, милая леди? — спрашиваю я. В моем голосе звучит глубочайшая забота. — Вы не ушиблись? — Каблуки! — вскрикивает она. — Мои роскошные каблуки от Белладонны! Она не совсем права. Каблуки у нее от лукавого. Я помогаю Ширли целой и невредимой покинуть бальный зал. Она, хромая, удаляется, а добравшись до стены, где можно стоять без посторонней помощи, сердито отталкивает мою руку. Все гости взирают на нее с плохо скрытой насмешкой, а кое-кто из дам громко хихикает. Плотно стиснув губы, Ширли снимает туфли и ковыляет к креслу, чтобы получше рассмотреть, что с ними случилось. Обычные каблуки так не ломаются. Тем более сделанные на заказ специально для Ширли Марринер. На ее фазанье перо падает тень. Ширли поднимает голову и видит, что на нее с вежливой отрешенностью смотрит Контесса. — Сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять долларов двадцать четыре цента, — холодно сообщает Контесса и отворачивается к гостям. — Но такой канделябр стоит любых денег, вы не находите? Забыв про каблуки, Ширли бледнеет и чуть не падает в обморок.* * *
Когда накал праздника начинает спадать, мы отсылаем Лору в садовый павильон у пруда — ждать Хью. Эта часть поместья закрыта для прочих «гостей», так что она может от души выплакаться, не опасаясь, что на нее налетят Ширли с Летицией и им подобные. Белладонна переходит на балкон, откуда видно, как Лора бредет к пруду. С каждым шагом ее понурые плечи сутулятся все сильнее. Бездонное, густо-синее небо усеяно яркими звездами. Оркестр все еще играет, гости смеются, но сердце Белладонны утомлено. Она остается на балконе, глядя на все вокруг, но ничего не замечая. Из забытья ее выводит стук в дверь. Вхожу я вместе с нашим новым гостем. — Прошу прощения, Контесса, разрешите представить вам мистера Хью Тревенена, — объявляю я. Итак, он все-таки успел. Молодчина. Хью несколько натянуто улыбается, в серых глазах сквозит усталость. Он худощав и вряд ли намного выше Лоры, когда она в легких сандалиях; желтовато-песочные волосы редеют на висках. В его облике, в отличие от Гая, нет никакой внешней эффектности, но на вид он приятный человек и, разумеется, отчаянно жаждет встретиться с Лорой. — Простите великодушно за то, что прибыл в столь поздний час, — говорит он. Я замечаю, что пальцы у него красивые, длинные и что он не носит обручального кольца. — Не хотел вторгаться в вашу частную жизнь. Мне нравится, как эти чопорные британцы произносят слово «частный». В их устах оно похоже на подстриженную колючую изгородь. Белладонна пожимает плечами. — Нет нужды извиняться, — говорю я ему. — Мы рады видеть вас. И Гай, думаю, тоже будет очень рад. Где бы он сейчас ни пропадал. — Наверное, кувыркается с Нэнси на сеновале. — Но больше всех обрадуется Лора. — Вы очень любезны, — говорит он с такой искренностью, что я готов его обнять. — Она ждет в павильоне, — сообщаю я. — Я провожу вас по тропинке до пруда и покажу дорогу. Это маленький домик под тростниковой крышей, вы не ошибетесь. Лора, скорее всего, заперла дверь, но запасной ключ лежит под горшком с гвоздиками, слева от гераней. Ошарашенный Хью не двигается с места. — Ну что вы стоите как столб, — поддразниваю я, — когда она давным-давно ждет? Я не могу не порадоваться, глядя, как в глазах Хью мгновенно вспыхивает робкое счастье и тревожная настороженность рассеивается без следа. Он весь светится от любви. Хью желает нам доброй ночи, благодарит на прощание, я вывожу его на нужную тропинку и вручаю фонарик. Он чуть ли не вприпрыжку бежит вниз по ступеням, потом, увидев вдалеке павильон, замедляет шаг и идет на цыпочках. Пошарив с минуту, он находит под гвоздиками запасной ключ. Лора ничком лежит на кровати и плачет навзрыд, она не слышит, как открывается потихоньку дверь и щелкает замок под рукой Хью. Не слышит его тихих шагов. Он вполголоса окликает ее по имени, и бедняжке кажется, что она спит и видит счастливый сон. И даже впорхнув в его объятия, она не верит, что это наяву.* * *
А в доме Белладонна все еще стоит на балконе. Она видела, как Хью торопливо ушел к пруду той же тропинкой, где совсем недавно пробрела подавленная Лора. Гай стоит в темноте, но она не знает, она его не видит. Он скрыт в тени высокого дуба и наблюдает за ней. Ему хорошо видно ее лицо, ярко подсвеченное сзади, из комнаты, он читает на нем странное смешанное чувство — удовлетворение пополам с горькой печалью. И еще усталость, думает он, и смирение. В той же неподвижной позе она стоит и несколько минут спустя, когда он стучится в дверь, которую Хью оставил приоткрытой. — Не хотите ли выпить? — спрашивает он, когда она оглядывается посмотреть, кто это. — Нет. — Она опять поворачивается спиной, выказывая полное отсутствие интереса. — Могу я задать вопрос? — говорит он. — О вашей дочери. Ого, какой настойчивый малый! Знает, чем привлечь ее внимание. Она оборачивается к нему, ее лицо ничего не выражает. — Брайони спросила меня, можно ли ей с Сюзанной называть меня «дядя Гай», и я сказал, что на это нужно получить ваше разрешение, — говорит он, удобно усаживаясь в серебристо-голубое кожаное кресло с подголовником. — Она сказала, что у нее уже есть дядя Джек в Нью-Йорке и она хочет, чтобы в Виргинии был дядя Гай. Лицо Белладонны не меняется. — Если этого хочет Брайони, — произносит она, — я ничего не имею против. — Я бы не хотел, чтобы вы думали, будто в моем отношении к вашей дочери есть что-то неблаговидное, — говорит он. — Принимая во внимание обстоятельства нашей первой встречи. Я хочу сказать, вашей и моей. — Принимая во внимание обстоятельства нашей первой встречи, я хотела бы получить ответ на такой вопрос: почему моя дочь вас напугала? — спрашивает Белладонна, усаживаясь в другое кресло. Ее платье тихо шелестит. Гай долго разглядывает свои ногти, так же идеально вычищенные, как и ботинки. Белладонна не меняет позы, не торопит его. — Она очень похожа на мою младшую сестру, — отвечает он наконец. — На Гвендолен. Мою Гвенни. — Его глаза подергиваются дымкой. — Видите ли, я почти никогда о ней не рассказываю. Когда я издалека впервые увидел Брайони, мне почудилось, что моя Гвенни воскресла. Понимаю, это игра света и больше ничего. И, наверное, я принимаю желаемое за действительное, потому что чем дольше я смотрю на Брайони, тем сильнее замечаю, что никакого сходства нет. Но выражением лица, манерой петь и танцевать она очень напоминает мне Гвенни. Моя сестра умерла много лет назад, ей было всего лишь девять. — Простите, — говорит Белладонна, хотя ее голос по-прежнему холоден и отчужден. — Сколько лет было вам? — Двенадцать, — отвечает он. Они долго сидят в молчании, впрочем, вовсе не тягостном. Ему, очевидно, не хочется рассказывать о Гвендолен, и Белладонна не испытывает желания расспрашивать. Время от времени снизу до балкона долетают взрывы пьяного смеха. Кому-то из гостей, видимо, неохота уходить, тем более что они по пьяной лавочке не помнят, где оставили машины. Ничего страшного — Билли и Вилли с удовольствием повернут их в нужном направлении. — Я рад, что Хью приехал, — говорит он наконец. — Расскажите мне о нем. Гай, неистощимый говорун, рад стараться. — У Хью, как вы, наверное, заметили, прекрасные манеры, но это всего лишь внешняя благовоспитанность, — отвечает он. — Его отец был неразборчив в связях. Однажды, во время пьяного кутежа, он полоснул бритвой по своей ноге и по ноге своей любовницы, чтобы побрататься кровью. Мало того, он показывал всякому встречному фотографии этого события, да еще и с гордостью демонстрировал шрам на ноге. — Гай качает головой. — Он считал, что детей нужно видеть как можно реже, и Хью, как и большинство мальчиков нашего класса, был воспитан няней. Няня ему попалась любящая; наверное, это и спасло мальчика от безумия. Она растягивала его шерстяное белье, чтобы оно не жало и не кололо. Няня любила его, защищала от жестокого мира и пуще всего — от родного отца. А мама жила только развлечениями, ходила на балы, на примерки к портнихам, на чашку чая к подругам, лишь бы не тратить время на ненужные хлопоты — на детей и на мужа. Гай не сумел сдержать горечи в голосе, глаза следили за мелькающими вдалеке огнями. Белладонна поняла: отчасти он описывал свое собственное детство, собственную мучительную память о небрежении и боли. — Как вы познакомились? — В школе. Ему было восемь, мне девять, так что у меня за спиной уже был целый год унижений и издевок. Мне кажется, попасть из-под теплого няниного крылышка в жестокую реальность школы — это потрясение, от которого многие из нас так никогда и не оправились. — Он сказал это не потому, что взывал к сочувствию, просто констатировал факт. — Каково было в школе? — Вам будет неприятно слушать. Но она хочет услышать. Она заставляет себя сидеть спокойно рядом с ним и вести расспросы, терпеть возле себя всепоглощающее мужское присутствие, потому что он может дать ответы на часть вопросов, терзающих ее уже много лет. Она хочет услышать его рассказ, потому что он знает о том, как воспитывались они, члены Клуба, что их вырастило и сделало такими. Белладонна легко может представить себе этих людей в школе — они радуются чужой боли, наслаждаются звуком хорошей порки, страдальческие крики разогревают им кровь. Они упиваются могуществом своего высокого положения, радуются несчастью и унижению равных себе. — Расскажите мне все, — велит она. — Мне кажется, все закрытые школы, столь ненавистные мне, ставят себе одну главную задачу — запретить все, что может доставлять удовольствие, — говорит Гай. — Поэтому там, чего ни коснись, все плохо — мерзкая еда, жесткие кровати, холод в помещениях, злые учителя — словом, все. И не дай Бог маленькому мальчику выказать хоть тень слабости или отчаяния. Некого попросить о помощи, не на кого опереться, никто тебя не защитит. Ей казалось, что он рассказывает о ней самой. О том, что с ней сделали. — И нигде ни одной женщины, если не считать поварих, которые скорее напоминали гунна Аттилу, чем оставшихся дома нянюшек, матерей, сестер, с кем мы привыкли играть в прошлой жизни, — продолжает он. — После матери, когда… Когда мать умерла, хочет сказать он, но не может. Белладонна понимает это интуитивно. — Школа закалила меня. Я стал шустрым малым, наловчился мастерить из бечевки что-то вроде лассо, кусочком сыра выманивал крыс из норы и ловил их, как только они высовывали нос, — продолжает Гай. — Остальные мальчишки восхищались моим умением и быстро научились не ссориться со мной, иначе находили в кроватях или карманах дохлых крыс. Я научился этому трюку у одного из приятелей. Его звали Лэндис. Когда Лэндис прибыл в школу, мальчишки вознамерились, как обычно, устроить ему «темную» — накинуться на него всем скопом и оттузить, чтобы знал, кто здесь хозяин. Но Лэндис умудрился перехитрить драчунов. Когда он вселился в свою комнату и начал распаковывать вещи, все были поражены, увидев его прелестные расчески из слоновой кости с монограммами — такие можно увидеть только на туалетном столике знатной дамы. Один из мальчишек, дюймов на восемь выше его и килограммов на двадцать тяжелее, схватил его, решив устроить хорошую трепку. Но Лэндис развернулся и с размаху заехал ему кулаком в лицо. Тот упал, обливаясь кровью. Лэндис протянул ему руку, помог подняться, отряхнул, развернул и дал такого пинка, что тот вылетел в коридор. Лэндис научил меня драться, постоять за себя. Только так можно было завоевать уважение в школе — силой, грубой и внезапной силой. Труднее всего пришлось Хью — он был невысок и худощав. — Гай провел рукой по волосам. — Если школа не ломает ученику дух, то приучает верить в свое превосходство. Человек гордится тем, что сумел остаться в живых. И становится ненасытен в любви. — В стогах сена, — добавляет Белладонна. Гай улыбается. — Особенно в стогах сена. — И в отмщении, — говорит она. Гай с любопытством бросает на нее взгляд. — Да, совершенно верно. Мы с Хью не раз, лежа ночами в кроватях, дрожали от холода, не могли уснуть и мечтали о возмездии. — Вам это удалось? — спрашивает она. — Отчасти, — отвечает он. — Планы мести нужно тщательно выстраивать. — Я это понимаю, — отвечает она. — Но расскажите, чем занимается Хью? — Работает в «Ллойде». Страхует мои чайные плантации. — А его жена? — О да, великолепная Николь… — Мне кажется, Лора на нее совсем не похожа. — Ни капельки. У Лоры есть сердце. — Почему Хью женился на ней? По той же причине, по какой Лора вышла за Эндрю? — Из гордости, — отвечает Гай. — Из упрямства. Из глупости. Но прежде всего — назло отцу. — Не понимаю, — говорит Белладонна. — Она, если не ошибаюсь, леди Пембридж, так что для его семьи не было бесчестьем породниться с ней. — Я могу вам доверять? — спрашивает Гай. — Я еще никогда никому этого не рассказывал. — Конечно можете, — отвечает Белладонна. Она хочет знать, что он расскажет, а я не могу понять, почему этот разговор принял такой оборот. Дело не только в том, что ей интересно послушать о людях одного с Гаем класса. Хотя, мне кажется, у нее есть склонность вытягивать из людей признания самого интимного характера. Все дело во взгляде ее ослепительных зеленых глаз, таком напряженном, вопросительном, но в то же время жестком. Она словно бросает вызов: Расскажи, мне нужно знать. Ни разу после приезда в Америку я не видел, чтобы она хоть с одним мужчиной проводила столько времени наедине, сколько с Гаем. Это меня тревожит, но все равно он мне нравится. Я ничего не могу с собой поделать. Он неисправимый повеса, но тем не менее весел, обаятелен, предан Хью и Лоре, хотя сам носит в сердце глубокую рану. Может, поэтому она и относится к нему с терпением. Он не просит ее ни о чем — только выслушать. — Я никогда не доверял Николь. Может, потому, что она авантюристка, такая же, как я, — говорит Гай. — Но Хью был влюблен, и я старался радоваться за него, хотя понимал, что здесь что-то… как бы это сказать?.. не так. Поэтому я решил проследить за ней. Он бросает взгляд на Белладонну, ожидая увидеть в ее глазах осуждение, но она лишь внимательно смотрит на него. — Я обнаружил некое весьма тревожное обстоятельство и много недель спорил с самим собой: что же делать? — продолжает Гай. — Свадьба должна была стать одним из главных светских событий сезона. — Он качает головой. — Но мне нужно было защитить Хью. В ночь перед свадьбой, когда мы оба хлебнули немного лишнего, я повел его прогуляться. Его семья сняла апартаменты в «Клэридже» — точнее, целый этаж. Наши комнаты были соседними, так что я мог за ним приглядывать. Это, конечно, была моя идея. — Он вздыхает. — Но, по невероятному совпадению, прогулка привела нас прямо к дому его родителей. Не забывайте, стояла поздняя ночь накануне свадьбы. — И его родителям полагалось быть в «Клэридже». — Совершенно верно. К счастью, Хью настолько опьянел, что не смог разгадать моих намерений. Я подвел его к лестнице, которую по моей просьбе принесли и приставили к стене слуги. Эта лестница вела к окну спальни на верхнем этаже. Я вручил ему фонарик и велел забраться наверх — дескать, он не может жениться, не вскарабкавшись по лестнице. — Итак, он взобрался и включил фонарик, — тихо подхватила Белладонна. — И кого же он увидел? — Своего отца. И Николь. Белладонна хмурится и отводит глаза. — Finita la commedia, — произносит она. — Да, — подтверждает он. — Я никогда не забуду, каким было его лицо, когда он спустился с лестницы. «У тебя есть фотографии?» — спросил он, и я утвердительно кивнул. Он больше не сказал ни слова, мы поймали такси и поехали обратно в «Клэридж». Я пытался извиниться, впервые в жизни я не знал, что сказать. — Очевидно, он сумел смириться, — замечает Белладонна. — Да. И сумел одержать победу. Никто ничего не заподозрил — ни Николь, ни отец — пока свадебная церемония не закончилась. А наутро молодожены намеревались отбыть на медовый месяц. Хью пригласил отца к себе в комнату, достал конверт с фотографиями и сказал ему, что никогда до самой смерти больше не заговорит с ним, а если тот еще раз попытается тронуть его жену, разошлет фотографии в газеты. Негативы уже отданы адвокатам, и семью ждет жестокий позор. В тот же вечер, когда счастливая пара уединилась в супружеской постели, и Николь собралась принести в дар возлюбленному свою бережно хранимую девственность, он вручил ей еще один конверт с фотографиями и сказал, что не прикоснется к ней до тех пор, пока не убедится, что она не носит под сердцем ребенка от его отца. А потом она будет делать все, чего он от нее потребует, но исключительно в целях произвести на свет наследника. — Ну и сцену, наверное, она ему закатила. — Еще какую. Со слезами, с мольбами, с извинениями. Но он был непреклонен. Ей ничего не оставалось, кроме как стать паинькой, по крайней мере на первое время. Она сумела потихоньку добиться его расположения, потому что знала: он до сих пор безответно влюблен в нее. Она быстренько произвела на свет двоих детей и вернулась к прежним привычкам. Правда, стала осмотрительнее. Тогда-то он и познакомился с Лорой. — Мне кажется, Николь с Эндрю стали бы прекрасной парой, — говорит Белладонна и взмахивает рукой, будто подводя итог. — Они друг друга стоят. Гай отвечает едва заметной улыбкой. — Вы правы. Я как раз над этим работаю. — Неужели в Англии так сложно получить развод? — Не то чтобы очень сложно, — отвечает он. — Но если Николь узнает о Лоре, то у Хью прибавится хлопот. — Понятно, — произносит она. — Знаете, — говорит он, — вы только что взмахнули рукой, и эта ваша манера напомнила мне одну женщину, с которой я был знаком. Нет, точнее сказать, не знаком — просто встретил однажды. В Нью-Йорке. — Кажется, догадываюсь. Ее имя начинается на Б и заканчивается в неком клубе. — Откуда вы знаете? Наверное, дело в ваших глазах. — Ну конечно, больше ни у кого в Америке нет зеленых глаз, — язвительно замечает она. — Вы не первый обратили внимание на это. Гай улыбается, на этот раз по-настоящему. — Вы когда-нибудь бывали в клубе «Белладонна»? — Вы хотите спросить — стояла ли я снаружи и ждала ли, пропустит меня собака или нет? Нет, к сожалению, нет. — Она не лжет, конечно, ей никогда не приходилось стоять на улице. — Мне не нравится быть среди людей. — Тогда почему, разрешите спросить, вы устроили сегодня этот вечер? — Чтобы выполнить свои светские обязательства и подбросить соседям пищи для разговоров, — отвечает Белладонна, и ее голос снова становится холодным. — Теперь они посмотрели дом, познакомились с моими эксцентричными выходками — особенно им не нравится, что я вожу дружбу с людьми, которых они считают социально и морально неблагонадежными. И, надеюсь, оставят меня в покое, перестанут забрасывать приглашениями на свои тоскливые вечеринки, помолвки и охоты. На краткий миг Гай задается вопросом — может быть, он ошибается? Он знает, что она говорит правду, утверждая, что хочет быть в одиночестве. Может быть, его подозрения безосновательны, у Брайони в самом деле была собака по имени Дромеди, а не Андромеда, и все остальное — чистейшей воды совпадение. А может быть, и нет. Она сидит так неподвижно. Такая величественная. И слушает его с такой сосредоточенностью. И денег у нее столько, что можно купить Английский банк. Ее окутывает непроницаемая завеса тайны, и Гай понемногу влюбляется. Он встает, потягивается, желает ей доброй ночи. Она кивает. На ее лицо вернулась безразличная вежливость, та самая, которую он увидел, впервые войдя в эту комнату и усевшись в серебристо-голубое кресло. Мне знаком этот взгляд, говорит себе Гай, выходя из комнаты. Я видел его много раз — в зеркале.16 Отцы и сыновья
— Быть съеденным почиталось за великую честь, — говорит Хью. — Так рассказывал Гай о племенах людоедов, которых он встречал в путешествиях. Если съешь тело своего самого яростного и самого храброго врага, его ярость и храбрость перейдут в твою плоть и сохранятся навечно. — Большое спасибо, — говорю я. — Вы снабдили нас очень ценной информацией. Непременно приму ее к сведению, когда в следующий раз буду жарить соседей на шампуре. Хью смеется, Лора улыбается. Наступило утро, мы сидим у бассейна и с наслаждением потягиваем холодный чай — мой приправлен изрядной порцией бурбона. После вчерашних излишеств мы рады относительному покою. Гай ушел с Брайони и Сюзанной, как он выразился, в «экспедицию» — исследовать лабиринт и тропинки позади него, так что Хью охотно рассказывает о своем друге, а я и Белладонна с интересом слушаем. Ничто так не развязывает язык, как хорошая порция любви. — Глупенький, на Цейлоне нет никаких людоедов, — говорит Лора, опуская голову на плечо Хью. Он нежно целует ей волосы. Какая очаровательная картина, думаю я и радуюсь за них всей своей щедрой душой. Хоть кто-то рядом со мной заслуживает счастья. — Верно, нет, зато есть дикие джунгли, и это ему нравится, — отвечает Хью. — Гай предпочел как можно скорее сбежать от семейных оков; высокое происхождение для него — пустые слова. Отец его был грубиян и самодур; мне кажется, по сравнению с ним даже мой папаша показался бы человеком. Как горько ребенку понимать, что родной отец не любит его и видеть не желает. Невыносимо. Мы не знаем, что сказать, и Хью замолкает. Мне кажется, мы все понимаем страшную истину его слов. Мы сидим на зеленой лужайке, под теплым полуденным солнышком, подняв серебряные бокалы чая со льдом и мятой. Связанные тиранией нашего собственного детства. — Гая лишили наследства — для сына английского лорда это немалый подвиг. Но когда умерла мать, а затем и сестра, ему ничего не оставалось, кроме как бежать. Он обвинил отца в том, что он убил их обеих. Я имею в виду мать и сестру. Поднялся чудовищный шум. Отец, конечно, никого не убивал, если не считать намеренное пренебрежение разновидностью медленного убийства. Гай именно так и считал. — Объясните, пожалуйста, — прошу я. — Я вас не понимаю. — Гай и Гвендолен, его младшая сестра, всегда были очень близки. Мать была хрупким и утонченным существом, полностью зависела от прихотей мужа и, полагаю, здоровье ее так и не поправилось после рождения Гвен. Она горячо любила Гая — сильнее, чем его старших братьев, чем, наверное, отчасти и объясняется их неприязнь к нему — однако у нее не было сил следить за всем происходящим в доме. Может быть, если бы она не болела и не была временами прикована к постели, ей лучше удалось бы наладить атмосферу в семье. Гай был всей душой привязан к Гвен, особенно после смерти матери. — Сколько лет ему было, когда она умерла? — спрашиваю я. — Погодите-ка… Он на год старше меня, значит, ему было восемь лет, а Гвен четыре. — Он покачал головой. — Мне не верится, что Гаю в этом году стукнет сорок. Значит, на следующий год сорок исполнится мне. Черт побери! — Не такой уж ты старик, — улыбается Лора. — Спасибо на добром слове, милая, — отзывается он. — Короче говоря, когда их мать умерла, мне кажется, Гай почувствовал еще более глубокую ответственность за сестренку. Их отец, к счастью, редко бывал дома и не проявлял никакого интереса к детям. Насколько помнится, если дети желали увидеть отца, им приходилось договариваться о дате встречи с его личным секретарем. — Но почему вы сказали, что Гай обвинил отца в убийстве матери? — спрашиваю я. — Потому что отец наградил мать ребенком, вопреки строжайшему запрету врачей. Во время беременности она тяжело болела, потом потеряла младенца. Это был еще один мальчик. Ума не приложу, почему его отец так стремился к продолжению рода. Может быть, догадывался, что произвел на свет двух никчемнейших мерзавцев, каких не видывала Англия, а единственный достойный сын возненавидел его самого и все, что он олицетворяет. Я этого, наверное, никогда не пойму. И Гай тоже. — Он качает головой. — Одним словом, беременность и гибель ребенка прикончили мать Гая. Она пролежала в постели еще несколько месяцев, затем умерла. Гай так и не простил отца за это. — А что случилось с сестрой? — То ли корь, то ли свинка, — продолжает Хью. — Одна из детских болезней, которые мы все подхватываем и благополучно поправляемся. Нелепая болезнь, нелепая смерть. Гай был в школе, а она — дома; отец с нянькой решили, что у нее обыкновенный грипп — дети часто простужаются. Поэтому на ее симптомы никто не обращал внимания, пока не стало поздно. Нянька была кошмарная; ей и в голову не приходило заботиться о своих подопечных. А Гвен была терпеливой малышкой. Она не плакала, не жаловалась. Бессмысленная трагедия. — Гай был с ней, когда она умерла? — спрашивает Белладонна. Хью озадаченно посмотрел на нее. — Да. Почему вы спросили? Мне кажется, между Гаем и Гвен была глубокая, телепатическая связь. Когда она заболела, он почувствовал неладное. Я хорошо помню тот день. Мы были в школе, он разбудил меня среди ночи и сказал, что уезжает, что ему нужно домой, Гвен заболела. Я сказал ему, что он дурак, что если он убежит, его высекут и запрут в карцер, но он заявил, что ему все равно: он, дескать, уже подкупил одного из сторожей, чтобы тот довез его до станции. Я отдал ему все свои скромные сбережения, какие хранил в носке, и он уехал. Гай есть Гай; он, конечно, добрался до дома, проник внутрь и поднялся в спальню к сестре. Она была очень больна, но, мне кажется, усилием воли заставляла себя дождаться брата, попрощаться с ним. Она сказала ему, чтобы он не горевал, на небесах она встретится с мамой и маленьким братиком и всегда будет любить Гая, станет его ангелом-хранителем. По щеке Лоры скатывается слеза; у меня, признаюсь, тоже перехватывает горло. Хью замолкает и переводит дыхание. — Она умерла у него на руках; вряд ли это утешило его. Но затем им овладела ярость. Он сидел с Гвен, пока ее тельце не остыло. Никто не вошел посмотреть, как она себя чувствует, ни один человек. Потом по черной лестнице он спустился в парадный зал, где отец устраивал очень важный обед. — И никто не знал, что Гвен умерла и что Гай находится там, в доме? — спрашиваю я. — Никто, — отвечает Хью. — Гай, не помня себя от ярости, ворвался в обеденный зал. Он вопил во всю мочь, молотил кулачками по груди отца в точности так, как учил его Лэндис. Ну и сцена была для гостей! Благовоспитанным юным джентльменам не полагается давать волю своим чувствам на публике, тем более среди выдающихся друзей и коллег своего отца. Но Гаю было наплевать на этикет. Он орал на отца, утверждая, что тот убил сначала мать, а теперь прелестную маленькую сестренку, что придет день, и отец за это заплатит, что он, Гай, не успокоится, пока не отомстит подлому убийце за смерть матери и сестры. И заявил отцу, что не будет больше с ним говорить, что возненавидит его навеки, до конца своих дней, покуда не узнает, что старик мертв и брошен на съедение крысам. Мальчишка бился в такой истерике, что пришлось позвать на помощь всех слуг. Они с трудом успокоили его и уложили в постель. — Бедный мальчик. Какой ужас. Я никогда не знала этой истории во всех подробностях. — И знаете, в чем самая большая ирония судьбы? Скорее всего, это был единственный раз, когда отец Гая по-настоящему гордился сыном, — добавляет Хью. — Гай доказал дорогому папочке, что у него есть мужество и характер. Что он готов сражаться за то, во что верит. Гнев и угрозы — такими методами отец привык устрашать всех, кто встречался на его пути. Он был наделен могуществом и волей к власти. В тот единственный раз, когда мне довелось повстречаться с ним, он напугал меня до полусмерти. — Как его звали? — спрашиваю я, как будто между прочим, стараясь не смотреть на Белладонну. Судя по описанию, отец Гая именно такой человек, каким мог быть Его Светлость. — Он еще жив? — Его звали граф Росс-и-Кромарти. — Хью горько смеется. — Такое звучное имя дано такому подлецу. Но он умер много лет назад. Если не ошибаюсь, незадолго до конца войны. Гай говорит, старик получил по заслугам. Проклятье. Если отец Гая умер во время войны, значит, это наверняка не он. Разумеется, глупо с моей стороны думать, что каждый богатый английский подонок, о котором нам доведется услышать, может оказаться Его Светлостью. С тем же успехом можно заподозрить отца Хью. Или Лоры. Или даже отца Притча. Дважды проклятье. Пора остановиться. — Значит, старший сын теперь стал графом, — заключаю я, оставляя свои подозрения при себе. Хью кивает. — Джон Фрэнсис. Донельзя никчемный тип. Когда я в последний раз слышал о нем, мне рассказали, что он напивается до бесчувствия. Пропил почти все поместье. Не помню, где находится Фредерик, второй сын. Может, в африканском вельде, стреляет обезьян в спины и считает это развлечением. На него это похоже. — Гай вернулся в школу? — спрашиваю я. — Да, — отвечает Хью. — Граф поговорил с директором, и его взяли обратно. Он приезжал ко мне домой каждые каникулы, а когда ему исполнилось восемнадцать, сбежал. Братья ненавидели его не меньше, чем он их, и потому были рады избавиться от него. Насколько мне известно, Гай объехал всю Африку и Индию, а в войну судьба снова свела нас. Его направили в Индию, меня тоже. Там мы завели множество полезных знакомств. А когда война закончилась, он открыл свое дело. Наверное, пригодились те же самые знакомства. Он занимался и драгоценными камнями, и импортом-экспортом, завел чайные плантации на Цейлоне и Бог еще знает что. Я хорошо знаю Гая и поэтому не расспрашивал о подробностях. — Но он хороший друг, — замечаю я. — Самый лучший на свете, — искренне подтверждает Хью. — Да, я знаю, с дамами он обращается не всегда порядочно, но, если говорить всерьез, у него доброе и горячее сердце. Без него, без всего, что он сделал для меня — для нас обоих — я бы несидел здесь с женщиной, которую люблю. И он ничего не просит взамен. — Хью хмурит брови. — Пожалуй, Гай чересчур гордится тем, что у него такая железная воля. Я часто думаю об этом, потому что многим ему обязан. Но, боюсь, он муштрует свои чувства, как в армии муштруют новобранцев. Он мастер утаивать свои мысли. В этом он встретил достойного противника.* * *
Хью может остаться у нас всего на четыре дня, и после его отъезда Лора долго гуляет вокруг садового павильона и безутешно рыдает. Она собиралась уехать вскоре после него, но я уговариваю ее остаться еще на несколько недель. Ее дети путешествуют с отцом, так что ей нечего делать в опустевшем доме. Я настоял, чтобы в следующий визит Лора привезла к нам Руперта и Кассандру. Это будет полезно для Брайони — она станет страшно скучать по Гаю. Но и эта проблема разрешается легко. Лора уговаривает нас разрешить Гаю остаться вместе с ней, чтобы они вернулись в Лондон вместе. А затем он собирается на Цейлон. Дела на чайных плантациях — вот все, что он сказал. Он слишком долго отсутствовал. Ко всеобщему удивлению, Гай и Белладонна завели привычку каждое утро отправляться на верховые прогулки. Первой эту идею предложила Лора — она оседлала лошадь, чтобы чем-то себя занять, но вскоре потеряла к таким прогулкам интерес. Вместо нее за ними присматривает Фэркин. В глазах у него удовлетворенный блеск. — Этот парень — прирожденный всадник, — гордо замечает он. — Но все же до Контессы ему далеко, — парирую я. — Да, она, как никто, умеет подойти к животному с лаской, — соглашается он. — Но он будто родился в седле. Белладонна не обсуждает со мной свои утренние прогулки, и я не спрашиваю. Дни наши проходят в приятном однообразии, как и положено знойным июльским дням. Они встают, седлают лошадей и отправляются на прогулку. Я не торопясь завтракаю с Лорой и даю ей наговориться о Хью и Гае. От неприязни мы постепенно перешли к взаимному обожанию, и она не задает любопытных вопросов о Белладонне. Мы без дела слоняемся по дому или читаем. Потом я разбираю бумаги — у меня их всегда целая гора — а Лора пишет письма. Мы купаемся в бассейне. Обедаем на свежем воздухе. А ближе к вечеру, когда становится прохладнее, часто работаем в саду. Брайони играет с Сюзанной и другими детьми. Если возникает необходимость, я звоню Джеку или Притчу. Но новостей нет. Будем терпеливы. Будем рассчитывать и строить планы. Вздохни поглубже. Стреляй спокойно и уверенно. Целься в сердце. После ужина мы сидим на веранде и любуемся пляской светлячков. Весь прочий мир уходит далеко-далеко. Здесь, в убежище, он не может причинить нам боли. Так я говорю себе изо дня в день. Я жду. Что-то произойдет. Очень скоро. Белладонна меняется. Некая крохотная частичка ее становится мягче, и причина этому — Гай. Я вижу, она пытается бороться с этой мягкостью, но не так усердно, как боролась бы год или два назад. — Ты стала заметно бодрее, — говорю я ей однажды благоуханной ночью, когда мы с ней остаемся вдвоем. — Что ты хочешь сказать? — хмурится она. — Что твоя веселость отчасти связана с мистером Гаем Линделлом, любителем поваляться в сене. — Брайони очень привязана к нему, — с теплотой в голосе говорит она. — Я тоже, по-своему. И Лора, разумеется. Вообще он обаятельный малый. Если, конечно, не обращать внимания на его злосчастное либидо. — Я улыбаюсь. Я не могу сказать ей, что больше всего он нравится мне потому, что держит при себе свои подозрения о том, кто она такая на самом деле. — Но, надеюсь, с тобой он ведет себя как настоящий джентльмен. Я жду, что за эти слова она оторвет мне голову, но она почему-то пропускает их мимо ушей. — Да, конечно, — говорит она после тягостного молчания. — На прогулках мы редко разговариваем. А если и говорим, то о всякой ерунде. Ни о чем важном. Он немного напоминает мне Джека. Только не такой скованный. И все-таки мне кажется, они оба люди чести, каждый по-своему. — Верно. Но Джек — наемный работник и знает о вас очень многое. Мы вместе прошли через такое… Нет, нет, нет, я не хочу вспоминать о сэре Патти. Напрасно я завел этот разговор. — Ладно, — торопливо добавляю я, чтобы загладить оплошность. — Я волновался за тебя, только и всего. Волновался, что ты слишком волнуешься за него. Ты меня понимаешь? — Ни капельки. Тебе что, твоя коленка подсказала? — язвительно спрашивает она. — Черт бы тебя побрал, Томазино, терпеть не могу, когда ты прав. Но если тебе станет легче, я скажу, что в самом деле не понимаю, почему мне легко его выносить. И все. Больше мне нечего сказать о Гае Линделле. Итак, к чему мы пришли? Старого обманщика не проведешь.* * *
Чемоданы собраны, билеты куплены. После отъезда Лоры и Гая в доме станет очень тихо, и я намереваюсь долго и с наслаждением дуться на весь белый свет. Я слишком привык каждый день видеть их лица. В последнюю ночь перед их отъездом Белладонна никак не может заснуть и среди ночи спускается в библиотеку, чтобы отыскать себе какую-нибудь милую скучную книжицу из тех, что когда-то навевали сон на мадам де Помпадур. Шагая обратно по коридору к себе в спальню, она замечает, что дверь комнаты Гая чуть приоткрыта и оттуда на ковер льется яркий золотистый свет. Он тоже не находит покоя. Ее охватывает любопытство, и она заглядывает. Гай в пижаме и халате орехово-коричневого шелка сидит на кровати и держит в руках небольшую серебряную рамку. Он смотрит на нее так внимательно, что не замечает Белладонны, и та интуитивно догадывается, что это, наверное, фотография его сестры или матери. Он склонил голову, а на лице написано такое горе и мука, что она невольно вздрагивает от тягостной печали, кольнувшей ее сердце. Она сама удивляется этому чувству и пугается его. За все годы после смерти Леандро она ни разу не испытывала сострадания к мужчине. Она на шаг отступает от двери, затем стучит. — Я увидела, что у вас горит свет, — говорит она. — С вами все в порядке? Он мгновенно сгоняет с лица печаль и кладет рамку с фотографией стеклом вниз на ночной столик. Он очень удивлен ее заботой; до сих пор она ни разу не проявляла внимания, не любила говорить о чувствах — ни о своих, ни о его. Она не из тех, кого зовут сочувственными натурами. — Да, благодарю вас, — отвечает он, поднимает глаза на нее и пытается улыбнуться. — Мне нравятся женщины в мужских пижамах. — Вы хотите сказать, вам нравятся женщины без пижам, — поддразнивает она. — Ну почему же, Контесса, — улыбается он. — Если бы я не знал вас лучше, я бы сказал, что вы строите мне глазки. Ее лицо неуловимо суровеет. — Ничего подобного, — отрезает она. — Конечно, — мягко соглашается он. — Я и не думал. Хотите войти? Или посидим где-нибудь еще? Сама не зная почему, она входит в его спальню и садится в кресло, обитое светлым кремовым атласом. Будто защищаясь, подтягивает колени к груди. — Брайони будет очень скучать по дяде Гаю, — говорит она. — Вы будете писать ей? — Обязательно, — отвечает он. — Буду слать ей телеграммы с Цейлона. — Вы надолго собираетесь туда? — Надеюсь, нет. Только улажу дела. — Понимаю. — Другие на вашем месте спросили бы: какие дела? — Гай, это меня не касается. — Я бы рассказал вам все, что вы захотите узнать. — Рассказали бы? — переспрашивает она. — Например, о чем? — Например, о том, какая вы удивительная. — Я не желаю слышать этого, — тусклым голосом произносит она. — И никакая я не удивительная. На самом деле вы меня совсем не знаете. — Я знаю то, что видел. И знаю, чего я хочу. — Чего же вы хотите? — спрашивает она, мгновенно надевая на лицо маску вежливой отстраненности, какую она обычно носит при чужих. Но только Гай ей совсем не чужой. — Конечно, тебя. — Почему? Гай озадаченно смотрит на нее. Никогда прежде женщины не задавали ему такого вопроса. — Почему я хочу тебя? Ты хочешь спросить — почему я хочу тебя такой, какая ты есть? — вслух размышляет он. — Ты в самом деле считаешь себя таким чудовищем? Ты можешь посмотреть мне в глаза и сказать, что я тебя совсем не интересую? И никакой другой мужчина тоже? — Да, — отвечает она. — Да, могу. — Понятно. — Он не требует, чтобы она посмотрела ему в глаза и сказала это. Боится, что она и вправду скажет. — Но я тебе не верю. — Гай, меня не интересует, что вы думаете и чего вы хотите, — печально произносит она, теребя ворс на бархатной подушке. — Это не имеет к вам никакого отношения. — Ты имеешь в виду то, что случилось с тобой? То, что сделало тебя такой? Она в ужасе смотрит на него. — Я знаю, с тобой что-то стряслось, — продолжает он. — Нечто, полагаю, такое ужасное, что тебе не хочется об этом говорить. Ты будто бы… не знаю, как сказать… запечатала себя в сосуд. В тебе гнездится какая-то боль и гложет тебя изнутри. Мне хотелось бы помочь тебе, — со страстью говорит он. — И хочу я только одного: разреши мне помочь. Хочу, чтобы ты поверила: мне можно доверять, и я согласен ждать, пока ты не поверишь в это. — Я не прошу жалости, — возражает Белладонна. — Она мне не нужна. — Я предлагаю тебе не жалость, — тихо говорит он. — А любовь. Ты знаешь, что я люблю тебя. — Вы не можете меня любить. Я этого не хочу, — говорит она. Именно так, слово в слово, ответила она когда-то Леандро. Помнит ли она об этом? — Я не способна любить. У меня нет сердца. — Это неправда, — возражает он. — Ты любишь свою дочь; ты любишь Томазино. Лора, и Хью, и все, кто живет здесь, боготворят тебя, и ты это знаешь. Они видят в тебе доброту, даже если ты сама ее не замечаешь. — Хватит, — грубо прерывает она его и встает. Когда такими же словами с ней говорил Джек, она заставила его поклясться, что он никогда больше не произнесет этого. Но Джек знал гораздо больше, чем Гай. И Гай значит для нее гораздо больше, чем Джек. — Никогда больше не говорите так со мной. Я этого не хочу. Я каждый день размышляю: что же со мной не так? — сказала она когда-то Леандро. — Но не могу… И, наверное, никогда не смогу… Я не хочу быть такой, но по-другому не умею. Это сидит слишком глубоко во мне, не вытравишь. — Мне все равно, — говорит Гай. — Я люблю тебя, как никогда в жизни не любил ни одну женщину, и не стыжусь сказать это. И если ты хоть когда-нибудь думала о ком-то, кроме себя, то должна понимать, как мучительно для мужчины объясниться в любви женщине, которая, и он знает это, с презрением отвергнет его. Но меня это не остановило, не остановят и любые твои слова, и я буду любить тебя до последнего вздоха. — Так говорил и Леандро, — отвечает она, глядя в пол. — Что он меня любит. Что можно пылать гневом и ненавистью к одному человеку и в то же время любить другого. Но Леандро годился ей в дедушки. Это совсем другое дело. Леандро ее спас. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, — произносит Гай и встает. Вдруг его обжигает острой болью неожиданная мысль: он действительно совсем ее не понимает. — Почему он не должен был любить тебя? — Он вздыхает. — Но ты права. Я вынужден уступить. Я в самом деле не знаю, кто ты такая, Контесса. Ты даже не сказала мне своего имени. — Он поднимает на нее глаза, полные боли. — Почему ты мне не доверяешь? Почему не можешь сказать, кто ты такая? Кто ты? Кто ты такая? Он делает шаг к ней, но она отшатывается и вжимается в кремовый атлас кресла. Ее лицо искажает такой ужас, что Гай мгновенно отдергивает руку. — Что? Что я такого сказал? — в отчаянии спрашивает он. — Контесса, что с тобой? Что случилось? Он догадывается: она больше не видит его. Он инстинктивно отшатывается от нее и садится на кровать, кутается в одеяло. Она все еще вжимается в кресло, застыла в панике, как загнанный в угол зверек. — Я приведу Томазино, — говорит ей Гай. — Я встану, медленно, и пойду приведу Томазино, хорошо? Он скатывается с кровати, широко распахивает дверь и бежит ко мне в спальню. Его лихорадочный стук сразу же будит меня. — Не знаю, что я такого сказал, — сообщает он, запыхавшись. — Уверен, вы ни в чем не виноваты, — говорю я ему, и мы спешим к его двери. — Подождите снаружи. Нет, приведите Орландо. Его комната в конце коридора, наискосок от высоких напольных часов. Я вхожу, тихо шепчу по-итальянски, потом сажусь на кровать и жду, пока она стряхнет оцепенение. Я не видел ее такой с тех пор, как мы жили в Ка-д-Оро. И не думал, что когда-нибудь увижу. Я считал ее неумолимой, как стальной капкан. Столько лет она была тверда, далека и несокрушима. Я недоступна пониманию, — говорила она Джеку, отвергая его любовь. — Я — порождение фантазии, и больше ничего. Я ничего не могу поделать, только найти их и заставить страдать. Я не знаю, что с ней делать; мне одному не справиться. О, как бы я хотел, чтобы здесь был Маттео! Только он и умеет утешать ее. Взгляд Белладонны направлен в какую-то точку над кроватью Гая. Я не касаюсь ее из опасения, что вызову еще более сильную реакцию. Проходит немного времени, она содрогается всем телом, и глаза останавливаются на мне. — Пусть он уйдет, — говорит она, раскачиваясь взад и вперед. — Пусть он уйдет. На миг у меня перед глазами вспыхивает давно забытое зрелище — влажный лоб мистера Дрябли. Пусть он уйдет. Так говорила она ему в Мерано, когда он напугал ее. Кто вы такая? Зачем вы здесь? — Он ушел, — говорю я, будто успокаиваю ребенка. — Тебе ничто не грозит. Ты в своем доме, в Виргинии, и тебе ничто не грозит. Пойдем, пора спать. — Я оглядываюсь — в дверях высится массивная фигура Орландо. Мне сразу становится легче. — Cara mia, — говорит ей Орландо. — Avanti, per favore, cara. Будто в трансе, она медленно поднимается и выходит с ним. Он отводит Белладонну в ее комнату. По дороге он будет тихо разговаривать с ней по-итальянски, голосом глубоким и успокаивающим, как у Леандро, и посидит с ней, пока она не уснет. А потом сядет и будет охранять, пока она не проснется. Гай смотрит им вслед. Я касаюсь его руки, и он вздрагивает от неожиданности. — Простите, Томазино, — говорит он и проводит рукой по волосам. — До сих пор не понимаю, что я такого сказал, чем так напугал ее. Сказал, что я люблю ее, вот и все. Потому что я действительно ее люблю. — Он смотрит на меня, заметно волнуясь. — Вы знаете, я никогда прежде не говорил этих слов. И они — чистая правда. — Гай, я очень рад, честное слово. Я на вашей стороне, — серьезно говорю я. — Хотя, мне кажется, она не очень-то внимательно слушала то, что слетало с ваших губ. — Действительно, — говорит он, вздыхает и бредет к себе в комнату. Там он садится на кровать, его плечи сутулятся. На утомленном лице проступают морщины, которых я раньше не замечал. Ему очень, очень грустно, и мне хотелось бы сказать ему что-нибудь ласковое, успокоить и его тоже. Проклятье. Сегодня ночью я ни на что не годен. — С ней случилось что-то ужасное, правда? — говорит он, не ожидая ответа. — Я уверен. Какой-то мужчина сделал с ней что-то ужасное, да? — Вы и представить себе не можете, — отвечаю я. — Я бы сделал все, чтобы помочь ей, — говорит он. — Если она позволит. — Знаю, — говорю ему я. — Но самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, это завтра же сесть в самолет. Тогда она снова станет самой собой. Я над этим поработаю. Он поднимает глаза на меня и пытается улыбнуться. — Вы тоже мне не доверяете, — замечает он. — Напротив, дорогой мой Гай. Я доверяю вам гораздо больше, чем вы думаете. — Мне так хочется сказать ему, что он не ошибся, что она в самом деле Белладонна, но я не могу. Он поднимает глаза на меня, и я вижу — он знает. Но он джентльмен и поэтому ничего не говорит. На его лице появляется оттенок прежнего озорного обаяния. — Я сяду на самолет, — соглашается он. — Но вернусь, как только смогу. Вы попрощаетесь с ней за меня завтра? — Обязательно. И не забудьте привезти нам, беднякам, несколько «кошачьих глаз». — Вы имеете в виду хризобериллы? Откуда вы знаете, что их добывают на Цейлоне? — спрашивает он. — Такой камень был у Леандро, — отвечаю я. — Талисман для отпугивания злых духов, так он говорил. — Томазино, вы чудо, — тихо говорит он. — Что бы она без вас делала? О, как мне нравятся мужчины, которые разбираются в драгоценностях, настоящих, бесценных сокровищах! Я, конечно, говорю не о «кошачьем глазе».* * *
После отъезда Гая, Брайони рыдает в три ручья — почти так же горько, как плакала Лора после отъезда Хью. Но через несколько дней, получив первую телеграмму, заметно приободряется. «Дорогая Брайони, — сказано в ней. — Ужасно жарко. Ужасно кусаются комары. Ужасно много чайных листьев. Ужасно скучно без тебя. Вернусь, как только смогу. Люблю. Дядя Гай». Брайони прыгает на одной ножке вокруг дома, распевает веселые песенки, вместе с Сюзанной рисует для Гая картинки и пишет забавные рассказы, которые мы отсылаем авиапочтой, заказным письмом. Наступает сентябрь, Брайони пора возвращаться в школу. Проходит еще месяц; вечерами в воздухе становится ощутимо прохладнее. Мы накрываем клумбы, Белладонна поливает мандрагору медовой водой. Она подолгу сидит в своем саду или гуляет с Орландо и Фэркином. Она извиняется передо мной за сцену с Гаем, и я говорю, что не понимаю, о чем идет речь. Каждый понедельник, незадолго до обеда, звенит дверной колокольчик, и Брайони бежит открывать. Там стоит Джимми, почтальон; привратник Тибо разрешает ему войти. Он приносит телеграмму с Цейлона для маленькой леди. Мы позволяем Брайони самой расписаться за нее, и она прочитывает весточку от дяди Гая несколько раз про себя, а потом уже делится ее содержанием с нами. Но однажды наступает понедельник, когда я просыпаюсь с подергиванием в колене. Не трещит дверной колокольчик, не приходит Джимми с телеграммой, не звонит телефон. За обедом тишина, только стрекочут сверчки да изредка позвякивают колокольчики на шее у коров. Брайони горько плачет и так, в слезах, засыпает, несмотря на все заверения Белладонны о том, что с дядей Гаем ничего не случилось, просто телеграмма запоздала, такое часто случается. Но Брайони такая же, как я. Всегда чувствует, когда случается неладное. Проходит день, потом неделя, а телеграммы все нет и нет. Я звоню Притчу и прошу его разузнать, что происходит на Цейлоне. Мы также подключаем к делу Хаббарда и Дилли, они пускают в ход свои связи в посольстве. Я звоню Хью и Лоре, но они ничего не слышали. Гай словно провалился сквозь землю. Поэтому, когда в следующий понедельник звенит дверной колокольчик, Белладонна сама открывает дверь, думая, что это Хаббард или Дилли со срочными известиями. На улице громко шумит ливень, небо грозно потемнело, гром рокочет, как мой живот, когда я голоден. На пороге стоит человек, он промок до нитки, шляпа, натянутая на глаза, полна воды, с плаща текут ручьи. Он прислоняется к двери, будто только она и способна удержать его на ногах. Так оно и есть. Он хочет выпрямиться, сказать что-то, но качается и без сознания падает на пол. Белладонна кричит, зовет меня, я прибегаю. Мы переворачиваем гостя лицом вверх, но я и без того знаю, кто он. Конечно же, Гай. Он бледен, как смерть. — Я позвоню врачу, — говорит она, бежит в вестибюль и нажимает кнопку сигнализации, вызывая помощь. — Брайони не должна видеть его таким. — Не волнуйся, — успокаиваю я. — Она на собрании девочек-скаутов до шести часов. Вскоре прибегают Орландо и Хаббард, мы относим Гая в желтую спальню, снимаем мокрую одежду, надеваем пижаму и накрываем его одеялами. Он стонет от боли и горит в лихорадке. Кожа у него странного цвета; ладони и подошвы ног ярко-красные. Наверное, подхватил какую-то страшную тропическую болезнь. Прибывает доктор Гринуэй. Он проводит с пациентом на удивление мало времени. — Слава Богу, это не заразно, — говорит он. — Но он тяжело болен. Это лихорадка денге. Во время войны я долго жил в Африке, поэтому сразу распознал характерные симптомы. Красные ладони и подошвы, сыпь. Это денге. Ее часто принимают за желтую лихорадку или тиф. Неверное лечение может его погубить. — Но он не умрет? — спрашивает Белладонна. — Искренне надеюсь, что нет, — отвечает врач. — Посмотрим, не станет ли ему хуже. Но если перед тем, как заразиться, он был крепок, то у него хорошие шансы выкарабкаться. Я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Такой прогноз не воодушевляет. — Нужно ли перевозить его в больницу? — спрашиваю я. — Мы бы предпочли выхаживать его здесь. Мы можем организовать круглосуточное дежурство, обеспечить все, что скажете. Только объясните, что делать. — Полагаю, здесь ему действительно будет лучше. К тому же его нужно как можно меньше перемещать, — говорит врач, нахмурившись. Он не желает обижать знаменитую Контессу, которая практически финансировала строительство целого крыла в больнице Дэвиса. — Но при нем денно и нощно должна находиться опытная медсестра. Непрерывное наблюдение и внутривенные вливания. Разрешите позвонить по телефону. — Спасибо, доктор, — говорит Белладонна. — Мы обеспечим ему наилучший уход. Под вашим надзором, разумеется. — Постельный режим, полный покой. Побольше жидкости, если он сможет глотать. Сестры дадут вам советы. Ему будет очень больно — лихорадку денге не зря называют «костоломкой». Завтра утром в первую очередь заеду к вам. — Я вам очень признательна, — говорит Белладонна. — За все, что вы сделали. Нам повезло, что у нас такой доктор, как вы. Он смущается, улыбается, надевает шляпу и исчезает под дождем. Спустя несколько минут звонит телефон. Это Тибо из сторожки у ворот. — Надеюсь, все в порядке, — обеспокоенно говорит он. — Молодой джентльмен просил не докладывать, хотел сделать сюрприз для Брайони, так что я подвез его до вторых ворот и не звонил, как он и велел. Но на вид он был очень плох. — Не переживайте, Тибо, — отвечаю я, — но у него в самом деле жестокая лихорадка. Как только ему станет лучше, нам не помешает ваш знаменитый фасолевый суп. — Будет сделано, — говорит он и вешает трубку. Вот он, сюрприз для Брайони, прямиком из джунглей. Мне не нравится думать о джунглях, они напоминают о бельгийских лесах. О том, как я пытался завоевать то, что завоевать невозможно.17 Возвращение блудного сына
— Брайони, ангел мой, у меня для тебя есть две новости — хорошая и плохая. Будь храброй девочкой, и я тебе все расскажу. Ты можешь быть очень-очень храброй? — говорит Белладонна дочери. Совсем недавно прибыла первая медсестра, она сделала для Гая все, что нужно, рассказала нам о том, как за ним ухаживать, и поселилась в соседней комнате. — С какой новости начать? — С плохой, — очень серьезно произносит Брайони. — Дядя Гай умер, как папа? — Нет, милая, он не умер. Но дядя Гай очень тяжело болен. У него страшная лихорадка. Это плохая новость. А хорошая — дядя Гай приехал сюда, чтобы мы помогли ему выздороветь. Лицо Брайони осветилось. — Правда? Дядя Гай здесь? — спрашивает она. — Да, здесь, в желтой спальне, как и в прошлый раз. За ним ухаживает специальная медсестра. — Дядя Гай здесь! — Брайони бросается матери на шею. — Можно мне к нему? Можно? Можно? Ну можно? — Да, но только на минутку. Помнишь, как в Нью-Йорке у тебя был грипп и тебе было так плохо, что ты все время плакала? — Брайони кивает. — Дяде Гаю тоже очень плохо и хочется плакать, но он не может. Нам кажется, он знает, что он болен, но не понимает, что болен очень тяжело. Поэтому давай не будем показывать ему, как мы за него волнуемся. Давай очень-очень постараемся и будем бодрыми и веселыми. Понимаешь, дядя Гай совсем не такой, каким мы его видели раньше. Тогда он был сильный и здоровый. А сейчас слабый и больной. Как только он поправится, он снова станет таким, как был. — Ты обещаешь? Честное слово? Честное-пречестное? Белладонна опускается на колени и обнимает Брайони. — Да, милая моя девочка, обещаю. Он ни за что не умрет. Мы этого не допустим, правда? Брайони качает головой. — Может быть, я дам ему Сэма, чтобы ему стало лучше? — Пока не надо, — говорит Белладонна. — Я очень рада, что моя девочка такая храбрая. — Я помогу ему выздороветь, — решительно заявляет Брайони. — Мама, пойдем. Скорее. Мы ему нужны. — Рука об руку они медленно шагают наверх. В дверях спальни Белладонна останавливается. — Нам придется надеть маски, — говорит она, доставая из стола с медицинскими принадлежностями марлевые повязки. — Чтобы дядя Гай не заболел от наших микробов. Он очень, очень слаб. — Она повязывает себе и дочери маски и приоткрывает дверь. Брайони подбегает к кровати. Там бормочет и мечется в жару Гай. Медсестра хмурит брови над маской, но ничего не говорит. Брайони берет Гая за руку. — Мама, какой он горячий и потный. — Брайони поднимает на мать глаза, полные слез. — Даже меня не узнает. — Обязательно узнает, милая, как только очнется. Это лихорадка. Он не понимает, где находится, что говорит, кто вокруг него. Надо набраться терпения, тихонько сидеть с ним и ждать, когда ему станет лучше. — Можно мне сидеть с ним каждый день? — Да, понемногу, после школы. Можешь делать здесь домашнюю работу. Мы будем все время говорить с дядей Гаем, тогда он будет слышать наши голоса и скорее очнется. Доктор сказал, это самое лучшее, что мы можем сделать. Медсестра, услышав такое, чуть не взорвалась. Белладонна впивается в нее горящими глазами, та не выдерживает и смущенно отводит взгляд. — Мам, ты хорошо придумала. А можно Сюзанне тоже приходить? — Об этом надо спросить у мамы Сюзанны, — без колебаний отвечает Белладонна. — Теперь поцелуй дядю Гая, чтобы он поскорее выздоравливал, и пойдем. Не стоит утомлять его. Брайони склоняется над кроватью и целует Гая, потом хихикает. — У него борода колется, — говорит она. — Он похож на пирата. — Скажешь ему это, когда он очнется. — Мама, теперь ты тоже его поцелуй, чтобы он скорее выздоравливал, — требует Брайони. Белладонне ничего не остается. Ее губы впервые коснутся мужской щеки с тех пор, как… С тех пор, как она была с Леандро. Целыми днями мы сидим у постели больного. Гай лежит в забытьи, бледный, как смерть, а над ним хлопочут медсестры, которых рекомендовал доктор Гринуэй. Больше всего нам нравится одна из них — очень педантичная, но не такая ворчливая сестра Сэм. Ей обычно достаются послеобеденные смены. — Ее зовут сестра Сэм, как твою куклу, — говорит дочери Белладонна. — Она тоже под платьем мальчик? — осведомляется Брайони. Белладонна с трудом подавляет смех. — Нет, милая, ее полное имя Саманта, — отвечает она. — И мы должны ее слушаться, делать все, что она говорит. Сестра Сэм коренаста и приземиста, однако очень проворна и горячо предана своему лихорадящему пациенту. Я задумываюсь, с кем бы ее познакомить. Может, с Темплтоном, шофером? Или с конюхом Фэркином? От нечего делать я развлекаюсь, оттачивая свои своднические навыки. Я ими горжусь — сегодня утром Белладонна показала мне письмо от Джека. Через несколько месяцев Джек собирается жениться на Элисон и просит нашего благословения. Великолепно. Брайони будет держать букет, а я сошью себе красивый новый костюм. — Ты рада? — спрашиваю я у Белладонны. — Я-то очень рад. Но в меня он не был влюблен. — Он был влюблен не в меня, а в женщину, которой в реальности не существует, — устало отвечает она. — Гора с плеч. Честное слово, Томазино. — Понимаю, — бормочу я, ожидая большего. — Он достоин доброй женщины, которая будет его любить. Я рада за него, — продолжает она. Мне кажется, она чересчур горячо возражает мне. — А что ты скажешь о Гае? Он хороший человек? — отваживаюсь спросить я. На ее лицо опускается знакомая отчужденность. — Не знаю, — отвечает она после минутного раздумья. — Надеюсь, что да, хотя бы ради Брайони. — Хью уверен, что Гай хороший человек. И Лора уверена. А это кое-что значит. — На что ты намекаешь? — Ни на что, — отвечаю я с самым невинным видом. На нее опять напала хандра. Гай всегда оказывал на нее странное воздействие, и даже сейчас, когда он лежит практически в коме, его присутствие нарушает всеобщий покой. Видите? Впервые за долгие годы Белладонна не знает, как поступить с человеком. И хуже всего, что этот человек — мужчина. Она говорит, что хочет остаться одна, но проводит в комнате Гая все больше и больше времени. Она сидит там с Брайони или читает в кресле-качалке, которое принесла с веранды. Помогает медсестрам, ходит за Гаем, как за родным сыном. Не могу описать, какое это удивительное и трогательное зрелище — смотреть, как она за ним ухаживает. Благодаря Гаю, она становится мягче, бастионы, воздвигнутые ею вокруг сердца, день ото дня рассыпаются в прах, и эти перемены пугают ее не меньше, чем мысль о Его Светлости. Может быть, это происходит потому, что ей нет нужды бояться Гая или разговаривать с ним: он беспомощен, мечется в бреду в желтой спальне и призывает к себе мертвую сестренку. А может, дело в том, что его очень любит Брайони. А может, Белладонна просто устала бороться, рассчитывать и строить планы. Ей не хочется говорить со мной об изысканиях Притча, хотя раньше она только о них и думала. Теперь ей дороже всего стало здоровье Гая, и в последнее время он, к счастью, пошел на поправку. Он все еще очень слаб, мышцы и суставы скованы болью, но с каждым днем к нему капля за каплей возвращаются силы, и нам больше нет нужды сжигать его простыни или носить маски. А мне очень одиноко. В последующие недели наш распорядок дня меняется. Брайони приходит из школы, скидывает сумку с книгами, взбегает по лестнице в желтую спальню, где уже сидит мать. Девочка рассказывает дяде Гаю обо всем, что случилось за день. Потом идет перекусить, поиграть в саду с Сюзанной. Если погода теплая, мы ужинаем на веранде. Потом Брайони с Белладонной идут обратно в комнату Гая, там девочка делает уроки, а затем, взяв на себя взрослую роль, читает ему сказку на ночь. Белладонна придвигает кресло-качалку поближе к кровати и тоже слушает. Гай уже садится, у него появился аппетит. В нем тоже что-то меняется. Я уже не могу представить себе этого худощавого, бледного мужчину таким, каким видел его раньше: в стогу сена или посреди светской компании в клубе «Белладонна». Он всегда был мастером поболтать, веселым и язвительным, судил о любви и жизни с проницательным, колючим остроумием. Теперь он говорит очень мало. Вам это ничего не напоминает? Иногда я готов дать голову на отсечение, что он и Белладонна кокетничают телепатически. Однажды ночью, когда Брайони уже легла спать, а ночная сиделка дремлет перед телевизором в соседней комнате, Гай протягивает руку к Белладонне. С мгновение она смотрит на нее, как на некое чужеродное существо, потом берет и внимательно вглядывается в ладонь, прослеживает ногтем линии и слегка хмурится. — Твои линии говорят о беспокойной натуре и о тяге к странствиям, — говорит она. Гай улыбается. Разве это неожиданность? — Но к тому же у тебя сильна линия влияния, — добавляет она. — Даже глубже линии жизни. — Что это значит? — спрашивает он. Его голос все еще немного надтреснут, и мне кажется, это придает ему необычайную сексуальность. — Это значит, что влияние извне будет очень сильным, — отвечает она. — А еще? Что ты можешь сказать о моем сердце? Она поднимает глаза на него, прикусывает губу и снова глядит на ладонь. — Линия сердца начинается очень высоко, это говорит об эмоциональной уязвимости, которую мы часто пытаемся скрыть под жесткой, суровой наружностью. — Как у Белладонны, — говорит он. — Что? — переспрашивает она. — Что ты хочешь сказать? — Она всегда носила маску. Кто знает, какие мысли она скрывала? — Действительно, кто знает. — Белладонна хмурится еще сильнее. — Но почему ты вдруг заговорил о ней? Я все еще напоминаю ее? — Ты не напоминаешь никого, кроме самой себя. — Я не хочу быть самой собой, — говорит она, не сознавая, какое признание слетело с ее губ. Не сознает она и того, что ее пальцы все еще обрисовывают линии на его ладони. До сих пор она ни разу не касалась чужой руки без перчаток. — Почему? — тихо спрашивает он и сжимает рукой ее тонкие пальцы. — Не хочу рассказывать. Они не могут отвести глаз друг от друга. Не знаю почему, но, глядя на них, я почему-то вдруг вспомнил, как Маттео молча репетировал карточные фокусы, когда мы жили у Леандро. Странные ассоциации. — Прошу тебя, — молит он. — Попробуй. Расскажи. Расскажи мне, что кроется в твоей ладони. — Предательство, — говорит она. В мягком желтоватом свете ее лицо неуловимо меняется, на него будто бы опускается, обволакивая черты, неведомая прозрачная маска. Но не холодная и жесткая, как ее привычная маска застывшей вежливости. «Я вижу сквозь нее, — говорит себе Гай. — Я вижу, что находится по другую сторону этой маски, потому что я люблю ее». Он не выпускает ее руку, хотя отчасти и ждет, что она может запаниковать. Но она не боится. Она знает, что у него не хватит силы справиться с ней. Через несколько минут он со вздохом отпускает ее. — Я никогда не причиню тебе боль, — говорит он. — Ты меня спасла. Тебе я обязан жизнью. Я сделаю для тебя все, и не только ради того, чтобы отплатить за мое исцеление. — Его щеки вспыхивают. — Знаешь, однажды Лора сказала мне, что Леандро написал ей письмо, в котором сообщал, что, по твоим словам, он тебя спас. А теперь ты спасла меня. — Мне это и в голову не приходило. — Тогда почему ты так меня боишься? — Хрипотца в его голосе становится еще глубже. — Знаешь, как тяжело мужчине видеть, что женщина, самая дорогая его сердцу, боится его? Белладонна качает головой. — Ты боялась своего мужа? Леандро обижал тебя? Она потрясенно вздрагивает. — Леандро? Обижал? Нет, конечно. С чего ты взял? — Потому что ты не выносишь прикосновений, — отвечает Гай. — Сейчас ты впервые коснулась меня. — Это не из-за Леандро, — говорит она. — Лора тебе это подтвердит. Он и вправду меня спас. Прошу тебя, дорогая моя Белладонна, пожалуйста, заговори. Расскажи ему все, не захлопывай раковину. Он может тебе помочь, может помочь всем нам. Он нам нужен, он так добр с тобой, ну же, раскройся. — Спас — от чего? Белладонна начинает смеяться. Тем же самым смехом, какой я услышал, когда заговорил с ней впервые, когда рассказал о мистере Линкольне. Коротким, лающим, горьким, на грани истерики. Этот смех пробуждает от дремоты ночную сиделку, та входит, велит всем успокоиться и не шуметь, потом возвращается к телевизору. — Гай, ну до чего же ты настойчив! — говорит она ему, утирая слезы. — Ты, как Кассиопея и Гектор, когда они дерутся из-за кости. Как Андромеда, хочет добавить Гай, но сдерживается. Его глаза блестят, он прикусывает губу. — В этом проявляется моя донельзя любознательная натура, — говорит он вместо этого, пытаясь обратить все в шутку. Ого, да этот малый заговорил совсем как я! — Сомневаюсь, — говорит она и встает. — Нам обоим пора в кровать. — Я и так в кровати, — тихо и печально отвечает он. — Ты спасла меня. — По-моему, ты путаешь меня с моей дочерью, — говорит Белладонна. — Она решила, что ты непременно, обязательно должен поправиться. Помнишь хоть что-нибудь, о чем она говорила с тобой, когда ты лежал в бреду? — Гай отрицательно качает головой. — Она сидела у твоей постели и разговаривала часами. Брала с собой Сэма — куклу, не сиделку — и подолгу беседовала с ним обо всем, что вы будете делать вместе, когда ты поднимешься, — продолжает Белладонна. — Сначала ты должен научить ее ездить верхом. А потом возьмешь ее с собой на Цейлон, и там она мухобойкой перебьет всех гадких комаров, которые заразили тебя лихорадкой денге. Внезапно Гай становится похожим на маленького мальчика, который ждет, чтобы мама поцеловала его на ночь. Мне кажется, Белладонна понимает это. Не успев сдержать себя, она склоняется и притрагивается губами к его лбу. Она никогда так не делала — с тех пор, как он пришел в сознание. — Не покидай меня, — шепчет он. — Гай, надо спать, — шепчет она в ответ. — Ты сам не понимаешь, о чем просишь. — Понимаю, — все так же шепотом возражает он. — Обещай, что не покинешь меня. — Ты можешь оставаться здесь, пока не поправишься, — говорит она. — На сколько бы это ни затянулось. И ты это знаешь. Это затянется навсегда, хочет сказать он, но закрывает глаза и делает вид, будто спит.* * *
Недели сливаются в месяцы, и Гай становится такой же привычной деталью пейзажа, как арендаторы и домашние животные. Как только он начинает вставать, Белладонна вручает ему хитроумно украшенную деревянную трость, которую по моей просьбе вырезал Бейнс. Вместе они каждый день совершают прогулки — сначала всего лишь из конца в конец веранды, потом все дальше и дальше. Когда он становится немного крепче, то начинает осторожно ездить верхом на нашей самой смирной кобыле. За ними по пятам бегут мастифы, рядом трусит Брайони верхом на Пабло — последнем приобретении нашего зверинца. Пабло — это лохматый пони, которого Гай купил в подарок своей любимой малышке, и Базилико прямо-таки звереет от ревности. Я, наконец, преодолеваю свой страх перед Гаем, и он становится для меня чем-то вроде Маттео и Джека, тем самым мужчиной в доме, о котором я мечтал. Мы разговариваем часами — о лжецах, о любовниках, о снадобьях, которые любила пить Помпадур, о местах, где он побывал. Однажды холодным вечером, когда Белладонна, сраженная головной болью, пораньше легла спать, я отыскиваю Гая, усаживаю его в комнате для медитаций и спрашиваю, можно ли ему доверять — по-настоящему доверять. Он странно смотрит на меня, затем дает слово чести и говорит, что он признателен мне за гостеприимство, что он навеки мой должник и готов в этом поклясться. — Не стоит заходить так далеко, — поддразниваю его я. — А в чем дело? — спрашивает он. — Я хочу рассказать вам одну историю. Очень неприятную. — О том, что случилось с вами во время войны? Да, конечно, какую же еще? Однако на этот раз мне легче — меня не отвлекают каменное лицо Маттео и слезное сострадание Аннабет. Проклятье. В своем почти старческом слабоумии я становлюсь слишком сентиментальным. — Сочувствую, Томазино, — произносит он, когда я заканчиваю рассказ. — Как бы мне хотелось что-нибудь для вас сделать. Я наливаю себе еще виски. — Мне тоже. — Я бы также очень хотел, чтобы вы рассказали мне, как познакомились с Контессой. Я догадываюсь, что это как-то связано, но понятия не имею, как именно. — Пусть она сама вам расскажет. — Значит, все-таки вы мне до конца не доверяете. — Доверяю, — возражаю я. — Потому что вы не рассказали Контессе о своих подозрениях. Вы уверены, что она и есть знаменитая Белладонна. Глаза Гая широко распахиваются от изумления, и впервые за много дней он громко, от души смеется. — Ну, Томазино, ну, хитрец, — произносит он, подливая мне виски. — Салютую вашему мастерству. — Какому мастерству, дражайший сэр? — спрашиваю я с сияющей улыбкой. — Не гожусь я в шпионы, — признается он. — Сразу выдал себя. А у вас, напротив, природный талант к… как бы это сказать? К маскировке. Простите великодушно, но Контесса даст вам в этом сто очков вперед. — Всецело согласен. — В чем это я дам сто очков вперед? — раздается голос Белладонны. Она, как всегда, подкралась без единого звука. Иногда ее манеры бывают страшно докучны. — В секретности, — бойко отвечаю я. — Мы говорили о всяких гнусных тайнах Каза делла Фениче. — О да, — язвительно откликается она. — У нас знаменитый на весь мир рассадник интриг. Аж земля под ногами горит вместе с постелями. — Ну, моя-то постель холодна, — отвечает Гай. Я рад снова видеть его прежним повесой. — Не смешно, — рявкает Белладонна. Ого, как она разозлилась. Мне пора тихо исчезнуть. — Что, голова снова разболелась? — ласково спрашиваю я и встаю, чтобы уйти. — Нет, спасибо, я в порядке, — отвечает она, и ее голос чуть смягчается. — Просто устала. Устала ждать. Устала желать. Устала не знать, как поступить с человеком, который сидит перед тобой, и его сердце вот-вот разобьется, как и твое. — Хочешь выпить? — спрашивает Гай. Она садится и кивает. Она все еще не может признаться самой себе, как ей хочется быть с ним. Не может признаться, что он больше не пугает ее, даже сейчас, темной ночью, и они сидят вместе в одной из комнат ее дома. Подавая ей бокал, он старается не коснуться ее пальцев. Он никогда не касается меня, вдруг понимает она, глядя на него. И не коснется, если она не попросит. Он так любит ее, он не… — Леандро — не отец Брайони, — неожиданно выпаливает Белладонна. Гай улыбается ей с величайшей нежностью. Он понимает, чего ей стоит такое признание. — Знаю, — ласково говорит он, к ее величайшему изумлению. — Лора рассказывала мне, как она познакомилась с тобой в Мерано. У тебя уже была Брайони. Но спасибо, что сказала мне. Ты должна… — Что еще ты знаешь? — кричит она. Ее настроение мгновенно меняется. — Что еще тебе рассказывал Томазино? Или другие? Что они… — Нет, — поспешно перебивает он ее. — Томазино мне ни слова не рассказывал. Клянусь. Твоему Томазино цены нет. Всякий раз, если я изредка отваживался о чем-нибудь его спросить, он советовал обращаться непосредственно к тебе. А я, естественно, не осмеливался. Разве я о чем-нибудь тебя спрашивал? Она не отвечает. — Спрашивал или нет? — не отстает он. — Нет, — признает она. — Но что еще тебе известно? С минуту Гай молчит, потом не выдерживает. — Мне известно, что ты — Белладонна, — говорит он. — Ты уже однажды пытался… — произносит она упавшим голосом. — Не могу в точности вспомнить, когда я окончательно убедился в этом, только я знаю, ты — Белладонна, — продолжает он, не обращая внимания на ее слова. — Дело не только в твоих зеленых глазах, хотя они, конечно, самые необыкновенные в мире. И не в том, что ты жила в Нью-Йорке, и у тебя есть средства для такого грандиозного дела. И не в том, что Брайони рассказывала о своем ирландском волкодаве Дромеди, что в детских устах звучит весьма похоже на Андромеду. Ты выдаешь себя своими движениями, своей манерой вскидывать голову, когда слушаешь. Наверное, именно так ты выслушивала всех женщин, которые приходили к тебе за помощью. — Ты не понимаешь, о чем говоришь, — бормочет она. — Может, и не понимаю. Но самое неопровержимое доказательство я получил несколько недель назад, когда вдруг установилась жара. Я только что проснулся после дневного отдыха испустился вниз. Ты сидела на веранде и обмахивалась веером. Увидев меня, ты его захлопнула. На свете только одна женщина захлопывает веер с таким характерным щелчком. — Значит, меня разоблачил веер? — язвительно спрашивает она. — Я знаю, ты не станешь мне лгать, — грустно произносит он. — Гай, я не хочу лгать тебе, — говорит она. — И никогда не лгала. — Ты можешь посмотреть мне в глаза и сказать, что ты не Белладонна? Она смотрит на Гая и видит в его глазах лишь обволакивающую нежность, к которой примешивается страх — вдруг она убежит и больше никогда не вернется? Она открывает рот, хочет что-то сказать, но не может произнести ни слова. Она уже сидела однажды вот так, потеряв дар речи. В Бельгии. Когда мы впервые встретились, когда она… Гай встает и подходит ближе, потом опускается перед ней на колени. — Клянусь честью, я не скажу ни одной живой душе, — обещает он. — Встань, — просит она. — Мне невыносимо видеть тебя на коленях. Но он не двигается, и она уже не может совладать со своими руками, с теми самыми руками, которые в отчаянии захлопывали веер. Она проводит пальцами по подбородку Гая, и от этого прикосновения, такого неожиданного, его глаза наполняются слезами. — Что с тобой случилось? — спрашивает он, зная, что ответа ждать не стоит. — Разреши, я тебе помогу. Пожалуйста. Прошу тебя, впусти меня в свою душу. — Я никогда не разрешала этого Леандро, — говорит она Гаю, будто в забытьи. — Никогда не впускала его в душу и за это не могу себя простить. Потому что я ничего не смогла дать ему, не смогла быть ему женой, любить его истинной любовью, так, как положено женщине любить мужчину. — Ее голос дрожит и прерывается. — Не смогла, даже после всего, что он для меня сделал. Хотя он спас и меня, и Брайони, и любил меня, и помог мне понять, и… Я по-другому не умею. Это слишком глубоко во мне, не вытравишь. Ее голос доносится будто из потустороннего мира. — Гай, я не умею прикасаться к мужчине, целовать мужчину, — говорит она. — Это звучит чудовищно. Уже двадцать лет я не прикасалась к мужчине и не целовала, не целовала по-настоящему, всерьез, потому что мне этого не хотелось. Двадцать лет. Ты понимаешь, о чем я говорю? Он медленно качает головой, из глаз по щекам текут слезы. Ее пальцы все еще лежат у него на лице, и она вытирает слезы с той же нежностью, с какой Аннабет вытирала слезы Маттео, когда он думал, что она уйдет навсегда. — Я люблю тебя, — шепчет он. — Я не хочу… Она склоняется и целует его так внезапно, так горячо, что он думает, будто ему это снится. Он обнимает ее, целует в ответ, пока у нее не перехватывает дыхание. Тогда она отстраняется, и он видит, что она дрожит всем телом. — Что я сделала? Я так не могу, — шепчет она. — Я не могу так с тобой. — Не уходи… — Я не могу этого, понимаешь ты или нет? Не могу, не могу, не могу… Гай боится пошевелиться. — Мне нужен Томазино, — говорит она. В ее голосе нарастает паника. — Мне нужен он, скорее. — Я его найду. — Гай до сих пор страшится того, что случилось в прошлый раз, после его признания в любви. Тогда ему тоже пришлось идти искать меня. — Подожди здесь, я его разыщу. Пообещай, что никуда не уйдешь. Белладонна смотрит на него, в ее широко раскрытых глазах стоит мольба, и он поспешно уходит. Надо сказать, я его ждал, так что возвращаемся мы через минуту. — В библиотеке, — тусклым голосом говорит она. — В Библии Помпадур. Я тотчас же понимаю, о чем она говорит. Ну и умница моя дорогая Белладонна. Библия — это последняя книга, куда бы я заглянул в поисках. Со всех ног я бегу к книжным полкам, карабкаюсь по библиотечной лестнице и спешу обратно. Гай протягивает ей бокал, она с жадностью пьет. Мне не нужен бокал. Меня спасет только целая винокурня. Она жестом указывает на Гая. — Certo? — спрашиваю я. — Дай ему, — без выражения произносит она и поднимается. — Тогда он поймет. — Она смотрит на Гая, но уже не видит ни его, ни меня, ни этого дома. И вдруг мне делается очень страшно. Я не могу оставить ее одну, ее нельзя оставлять. Я нажимаю сигнальную кнопку у камина, и через минуту торопливо вбегает Орландо. — Будь добр, проводи Контессу в ее комнату, — говорю я, сохраняя идеально светский тон. — С удовольствием, — говорит он, понимая, что я объясню все, как только смогу. В первую очередь мне нужно позвонить в Нью-Йорк, Маттео. Пусть бросает все свои дела и немедленно приезжает сюда. А Гай тем временем прижимает Библию Помпадур к груди и озирается в полном замешательстве. Всего минуту назад женщина, которую он любит, страстно целовала его, а теперь она словно растаяла в воздухе у него на глазах. — Томазино, помогите, — говорит Гай и бессильно опускается в кресло. — Это дневник, — поясняю я, с трудом сдерживая дрожь в голосе. Наливаю себе бокал, больше расплескав — так трясутся мои руки. Я не видел этого дневника с тех самых пор, как своими руками втайне переписал его по ее просьбе в том доме, в Бельгии. — Спрятан внутри. — Она сама его написала? — Да. И попросила меня переписать его, чтобы стало разборчиво, но я не изменил ни слова. Он написан от третьего лица. Иначе было нельзя. Сами поймете. — Я уже допил бокал и наливаю себе еще один. — Больше я вам ничего не скажу, только одно: этот дневник не читал никто, кроме меня. Самое худшее я рассказал брату. Она дала дневник Леандро в Ка-д-Оро, молила его прочитать, но он отказался. Гай, бледный и измученный, проводит пальцами по гладкому переплету Библии Помпадур. Интересно, считает ли он меня мелодраматичным? Сейчас во мне нет никакой мелодраматичности. — Если вы хоть словом кому-нибудь обмолвитесь, ваши дни сочтены, — говорю я. — Согласны? — Согласен. — Слово джентльмена? — Ты считаешь меня джентльменом? Я улыбаюсь, радуясь, что он еще пытается шутить, потому что у меня на сердце страшно тяжело. Под этой тяжестью я вот-вот рухну на пол и никогда уже не смогу встать. — Я знаю, что вы джентльмен, хотя бы из-за тех слов, которые наверняка ей говорили. — Она и вправду Белладонна, — говорит Гай с некоторым удивлением, зная без сомнений, что предчувствие его не обмануло. Он встает, все еще сжимая Библию Помпадур с такой силой, что я боюсь, как бы он не сломал пальцы. Этот дневник, переписанный моей рукой, уверенным, сильным почерком, заставляет меня трепетать. Будит слишком много воспоминаний, о которых я предпочел бы забыть. Этой ночью в Ла Фениче всем будет не до сна.Часть IV Что скрывала Библия Помпадур (1935 — 1947)
Белладонна, чей тот дом,И кто запер тебя в нем?Света белого не видя,Горько плачешь от обиды…Средь коварства и невзгодБелладонна смерти ждет.
18 Дневник отчаяния
Где-то за городом, май 1935 года
— Кто ты такая? Мужской голос, глубокий и спокойный. Это голос не того, кто пригрозил, что перережет ей горло. И не Хогарта. Кого-то другого. Она не знает, что ответить. Слишком напугана. — Кто ты такая? — спросил он опять. — Кто ты такая? Зачем ты здесь? Что будешь делать? Отвечай. Кто ты такая? — Иза… Изабелла. — Она произнесла свое имя так тихо, что получилось почти «Белла». — Нет. Теперь ты не Изабелла. Та жизнь окончена. Той Изабеллы больше нет на свете. Отныне ты принадлежишь мне. Голос зазвучал ближе. Все ближе и ближе, совсем рядом. Она попыталась отодвинуться, но от страха не смогла пошевелиться. — Твоя жизнь будет очень простой. Совсем простой. — Он коснулся пальцем ее щеки. На нем были перчатки, и она невольно поморщилась от страха и отвращения. — Твоя жизнь ничего не значит. Она стоит ровно столько, сколько я скажу. Твоим миром стал мой мир, и я сам определю его. Твоя единственная цель в этой жизни — ублажать меня. Другой жизни у тебя нет — только ублажать меня. — Она чувствовала на шее его жаркое дыхание. — Ты моя. — Нет. — Она попыталась качнуть головой. — Нет, нет, нет… — Ты одна на целом свете, и никому нет до тебя дела. Кроме меня. Никто не может коснуться тебя, кроме меня. Ты моя. Она почувствовала, что он отодвинулся. Потом услышала, как зазвенели в бокале кубики льда. Наверное, он наливал себе выпить. Потом он засмеялся. — Я купил тебя за довольно занятную сумму, ты не согласна? Такие вложения капитала немного огорчают. — Однако голос его звучал совсем не огорченно. Голос опять приблизился. — Стоишь ли ты этих денег? Стоишь ли ты миллиона фунтов стерлингов? Именно столько я за тебя заплатил. Да, когда-нибудь тебе будет позволено завладеть этими деньгами. Они лежат в известном тебе банке, счет номер сто шестнадцать — шестьсот четырнадцать. Припоминаешь? Хогарт наверняка уже говорил тебе об этом. Никогда не забывай этих цифр. В них твое будущее. Она чувствовала его рядом с собой. Он пристально смотрел на нее. Она чувствовала его взгляд даже сквозь повязку на глазах. — Да, твое будущее, — повторил он. — Но не настоящее. Настоящее твое принадлежит мне и только мне. Поэтому, когда я спрошу, кто ты такая, тебе дозволено отвечать только одно: «Я ваша, мой повелитель». Ты здесь для того, чтобы исполнять мои желания. И за все годы, что ты здесь проведешь, тебе ни разу не будет дозволено узнать, кто я такой, узнать хоть что-нибудь о других членах Клуба. Тебе запрещено спрашивать. Запрещено знать, как я выгляжу. — Он взял ее руку и провел ею по своему лицу, растопырив ей пальцы так, чтобы она нащупала маску. — Теперь ты принадлежишь мне. Я твой хозяин, а ты моя рабыня. — Я не рабыня, — прошептала она. Не смогла промолчать. — Кто же еще, как не рабыня, милочка моя. И хватит этой американской чепухи. На свете миллионы и миллионы рабов. Всегда были и всегда будут. В рабство попадают из-за войн, из-за голода, просто по глупой случайности. Заняты рабским трудом за рабское вознаграждение, прикованы, говоря метафорически, к своим хозяевам. Знаешь, почти все женщины считают своими хозяевами мужей. Мужья — хозяева в доме, а они обязаны им повиноваться. С этими словами он снял перчатки. Провел ими по ее щеке, потом слегка похлопал. Она почувствовала мягкость выделанной кожи, отвернула голову, он повернул ее обратно. — Да, повиноваться, — повторил он. — Не думаю, чтобы ты, маленькая невинная девственница, знала «Кама-Сутру». Ничего, узнаешь, поверь мне. Это войдет в курс твоего обучения, милая моя девочка, станет самой полезной его частью. Полезной для всех нас. Для членов Клуба. Особенно для тех, кому наскучит обыденность. Она поняла — ему хочется поговорить. Хочется говорить и говорить, тянуть и тянуть эту пытку, мучить ее… — В «Кама-Сутре» сказано, что если мужчина хочет жениться на девушке, которая его не желает, он должен всего лишь угостить ее вином, чтобы она не могла сопротивляться. Или даже проще — всего-навсего украсть ее. Как только милая дама похищена, она становится доступной для того, что эти гнусные моголы называли наслаждением. Ее мнение обо всем этом, о мужчине, который опоил и похитил ее, не имело никакого значения. — Я не продаюсь, — промолвила она. — Продаешься, милочка, еще как продаешься! Все женщины продаются, нравится им это или нет. Я уверен, Хогарт говорил тебе это; он сам мне рассказывал, как ты с ним спорила. Да, милая девочка, почти все женщины благодарны за свое падение, им хочется, чтобы в них видели шлюх. Это всего лишь подтверждает их низкое мнение о себе и своем положении. — Он негромко рассмеялся. — Чем скорее ты это признаешь, тем счастливее будешь. — Счастливее? Что за чушь? — Она попыталась лягнуть его, оттолкнуть, заткнуть его мерзкий рот, чтобы он не изрыгал таких гадостей. — Ах вы, негодяй! Кем вы себя возомнили? — Для тебя я Ваша Светлость, — спокойно ответил он. — Я твой хозяин, а ты мне принадлежишь. — Нет! Нет! Не принадлежу! Пусти меня! Пусти! Я не продаюсь! Пусти! — Она больше не могла этого вынести. Страшно было представить, как они обманули ее, что с ней делают, и она завизжала во всю мочь, забилась, пытаясь высвободиться, хотя и понимала, что это бесполезно. Она извивалась, дергала за цепи, пока не почувствовала, что он подошел к ней сзади. Его руки притянули ее — близко, слишком близко. Он плотно прижался к ее спине. Она ощутила под рясой очертания его тела. — Миллион фунтов стерлингов, — сказал он. — Я купил тебя за один миллион фунтов. Следовательно, я имею все основания считать, что ты продаешься. — Он отодвинулся от нее, совсем чуть-чуть. Он еще не был готов. Ему слишком нравилось говорить с ней, смотреть, как она сражается, и он не мог прервать это удовольствие. — Видишь ли, милая моя, практически все взаимоотношения — между мужчиной и женщиной в спальне, между двумя мужчинами в бизнесе — основаны на борьбе за власть, и только на ней. Система очень проста — ты мне, я тебе. У человека, такого, как я, желания очень просты. Я хочу денег и власти, которую можно на них купить. Хочу положения в обществе и власти, которую оно дает. И, конечно, хочу секса — и наслаждения, которое он дает. Почти все мужчины глупы, они слепо повинуются своим сексуальным желаниям и готовы пойти на все, что в их власти, ради удовлетворения собственной похоти. Но мы, члены Клуба, нашли довольно необычный способ удовлетворять свои желания. Он придвинулся еще ближе, она ощутила на теле прикосновение его рук. Никогда ни один мужчина не трогал ее так, как он. Ни разу в жизни. Горячие, сухие пальцы обшарили ее живот и остановились на груди. Она задрожала всем телом. — Мужчина, который повинуется своим сексуальным потребностям, требует удовлетворения, — продолжал говорить он. — И чаще всего, к его огорчению, выходит так, что дама, которую он желает, противится. Мужчина, чьи стремления отвергнуты, вынужден что-то предпринимать для удовлетворения своих нужд. Он осыпает ее подарками, такими, например, как драгоценности, дом или холодные блестящие деньги. Обручальное кольцо и все такое прочее. Эти подарки дают даме иллюзию защищенности, и тогда, естественно, она чувствует обязанность подчиниться его желаниям. Мужчина получает то, что хотел, но вскоре пресыщается. А она тем временем, получив все материальное удовлетворение, о каком мечтала, вынуждена волей-неволей повиноваться этому мужчине, своему хозяину и повелителю. А он свободен и может искать удовлетворения где угодно, прекрасно зная, что она и все щенки, каких она наплодит, полностью зависят от него и от его прихотей. Но чем больше он хочет, тем больше она требует в ответ. Поэтому рано или поздно он решает: в этой тупиковой ситуации надо что-то предпринимать. И ищет удовлетворения своих нужд в других местах. Его ладони обнимали ее грудь, он прижал ее теснее, начал лениво водить пальцами вокруг сосков. Ослепленная, беспомощная, она все-таки пыталась вырваться, и вдруг он выпустил ее. Она услышала шорох, будто расстегивали ремень, и через мгновение он опять очутился сзади, в точности там же, где и был. Чем сильнее она отстранялась, тем крепче он ее сжимал, и она поняла, что он заткнул подол своей монашеской рясы за пояс. Теперь она чувствовала его прикосновение. Именно этого он и хотел. — Здесь начинается твоя новая жизнь, — говорил он, — и цель у этой жизни будет только одна: служить мне. Твоя прежняя жизнь, где ты была свободна, глупа и проводила дни в уютном скучном безделье, окончена. Не желаешь ли принять участие в одном из величайших экспериментов по изучению человеческих поступков? В эксперименте, который ставлю я. Неисчерпаемый источник наслаждения, спрятанный от всего мира с одной целью — служить мне. Мне и только мне. Его голос звучал спокойно и обыденно. — Ты здесь для того, чтобы служить мне, — продолжал он, — и служить всем, кого я выберу. Это высочайшее призвание. Мне кажется, ты должна считать это за честь и великое счастье. Тебя избрали среди многих. — Что? Вы с ума сошли? — Нет, ничего подобного, — отозвался он. — Я схожу с ума только от одного желания — получить вознаграждение за свои расходы. Я хочу обучить тебя всему, что ты должна знать. Обучение будет долгим, медленным и потребует высочайшего напряжения чувств. С этими словами он стиснул ее соски с такой силой, что она вскрикнула от боли. Потом переместил одну руку ей на живот. Другая медленно поднялась вверх и обвила шею. — Видишь ли, милочка, только мужчина, который обладает колоссальным умом, колоссальным богатством и колоссальной властью, такой, как я, может позволить себе подобную роскошь. Я имею в виду тебя, — говорил он ей в ухо, прижимаясь к ней головой. — Редчайшую роскошь — обладать женщиной, с которой можно делать все, все, все… Найти и купить себе собственную рабыню, выучить ее, чтобы она могла стать всем, кем он захочет, и выполнять все, что он от нее потребует. Только такой мужчина, как я, может купить необходимое молчание и устроить все самым лучшим образом. Держать ее вдали от мира, делать с ней все, что вздумается, в пределах времени, ограниченного правилами Клуба. Продолжительность этого времени зависит, как ты знаешь, от уплаченной суммы. И как ты, наверное, уже сообразила, я смогу владеть тобой долго, очень долго. — Он испустил счастливый вздох. Он так тесно прижимался к ней, что она не могла дышать. — Итак, спрашиваю тебя еще раз. Думаю, ты умная девочка и скажешь мне то, что я хочу услышать. Кто ты такая? Моя. Ты моя. Скажи это. — Нет. — Когда я спрашиваю: «Кто ты такая?», ответ должен быть один и только один. Ты моя. Отвечай: «Я ваша, мой повелитель». Я твой хозяин и властелин. Заруби это себе на носу, и тогда ты поймешь, кто я такой и зачем ты здесь. Слугам приказано звать меня Ваша Светлость, и ты будешь называть меня так же. Должна обращаться ко мне «мой повелитель» или «Ваша Светлость», а за глаза называть «Его Светлость». Это мое имя. Запомни его. Другого имени у меня нет. Я твой господин, а ты моя рабыня и должна делать все, что я пожелаю. Надеюсь, я выразился ясно. Он снова выпустил ее и встал с кровати. Она не слышала, что он делает. Толстый ковер на полу заглушал шаги. Нет, нет, нет! Он опять вернулся и сел на кровать у нее за спиной. Его страшные, горячие, сухие пальцы стиснули ее грудь над корсетом, жаркое дыхание опалило ей ухо. Не владея собой, она задрожала всем телом. — Понимаешь, милочка моя, тебе не победить. Отсюда не убежишь, никто тебя не спасет. Если будешь сопротивляться, твоя борьба воспламенит меня. Ты это уже почувствовала. А если подчинишься, я буду наслаждаться твоим полным подчинением. Как видишь, у тебя нет другого выхода — только делать так, как я сказал. Никто не услышит твоих криков. Никто не узнает, где ты, не станет искать тебя здесь. Ты наедине со мной и с моими желаниями. Да и кому на свете есть до тебя дело? — Джун, — еле слышно прошептала она. — Джун? Этой глупой девчонке? Безнадежной, никчемной дуре? — Он отрывисто рассмеялся. — Нет, милая моя, очень скоро Джун уедет домой. До глубины души обиженная на тебя. Она получит звонок от Хогарта и письма от тебя, где ты рассказываешь, что уехала далеко-далеко с неземным красавцем, которого встретила на роскошном костюмированном балу в те самые выходные, когда она лежала дома с расстройством желудка. Да, ты повстречала самого чудесного человека на свете, безумно влюбилась и скоро выйдешь замуж. О деталях позаботится Хогарт. Конечно, Джун очень огорчится и, пылая от негодования, вернется домой с пустыми руками. Зато ее никогда больше не будет обременять красивая, утонченная кузина с ослепительными зелеными глазами. И тебе больше никогда не придется переживать из-за своей бестолковой кузины. Внезапно ее захлестнула слепая, безумная ярость. Она принялась бешено вырываться. — Ну же, кончай со мной, — визжала она в истерическом припадке. — Валяй дальше. Негодяй, подонок, мерзавец! Давай, насилуй меня! Ты этого хочешь? Подлец, подлец, подлец… — Я так и знал, — восторженно рассмеялся он. — Так и знал. Ты меня очень порадовала. Ты настоящий боец. — Одна рука отпустила ее грудь и коснулась бедра. Она попыталась лягнуть его свободной ногой, но он был слишком силен. — Ты не поверишь, если я скажу, что очень скоро ты будешь молить о моем прикосновении. Умолять. Просить, чтобы я, твой хозяин и повелитель, коснулся тебя. Он легко оттолкнул ее, встал, обошел вокруг кровати и очутился лицом к ней. Услышав его смех, она пронзительно завизжала. — Нет, милая моя, терзать тебя предвкушениями — это слишком упоительная радость. Я долго размышлял, что делать — взять тебя без единого слова, как я хотел бы, или поступить иначе? Теперь я знаю, что принял верное решение. Да. Я, разумеется, избавлю тебя от твоей драгоценной девственности. И все-таки я предпочел бы считать это наслаждением для тебя. Мне бы хотелось думать, что ты хочешь избавиться от нее. Хогарт говорил мне правду — ты свободна от условностей. — Хогарт лжец! — завизжала она. — Да, возможно. Но в тебе он не ошибся. Нельзя отрицать, что ты само совершенство. И я давно следил за тобой. — Что? — Да, милая моя девочка, ты понятия не имеешь, кто я такой и как выгляжу, и никогда этого не узнаешь. Но я тебя видел, видел много раз. Хогарт решил, что ты подойдешь, и не ошибся. Ты была избрана. Теперь ты принадлежишь мне и будешь делать все, что я скажу. — Да, конечно, вы считаете, что имеете на это право, — с горечью заметила она. — Да, конечно, имею и дорого заплатил за эту привилегию. И ты будешь униженно молить меня, просить, чтобы я остановился. И как только я покончу с тобой, то начну все заново. Снова и снова. Снова и снова, пока ты не забудешь, какова была твоя жизнь прежде, когда я еще не приказывал тебе, что делать, и ты не исполняла моих приказов в ту же секунду. Все твое существование будет заключаться только в одном — ублажать меня. И только в этом. Больше ничего не существует. Он говорил все быстрее и быстрее, глубокий голос становился глуше. Нет, нет, нет… — Твоя прежняя жизнь окончена. Той девочки больше не существует, — говорил он. — Ее нет, ни ее тела, ни имени. У тебя нет имени. Если мне заблагорассудится назвать тебя, я дам тебе имя Доула. По-гречески это означает «служанка». Ты моя служанка, моя рабыня, существуешь только для того, чтобы ублажать меня. И, как я уже сказал, скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь, ты станешь умолять меня сделать именно то, что я хочу. Если я скажу раскрыть рот, ты его раскроешь. Если скажу встать на колени, упадешь на пол. Если скажу раскинуть ноги и молить, так и сделаешь. Ею овладел неудержимый смех, как тогда, на аукционе. Она никогда не слышала ничего подобного, не думала, что такое возможно. Она не помнила себя, билась в истерике и была уверена, что скоро умрет. — Да вы совсем рехнулись, — говорила она, хохоча вперемежку с рыданиями, как безумная. — Пусти меня, пусти меня, пусти… — Нет, не думаю, — ответил он. — Но я знаю, что ты принадлежишь мне и могу делать с тобой все, что захочу, и это сознание доставляет мне неимоверную радость. Если от этой радости я, как ты изволила выразиться, совсем рехнулся, то, боюсь, тебе не повезло. Она перестала смеяться, но все еще всхлипывала. — Нет, тебе нечего сказать, разве что ответить на один простой вопрос. Кто ты такая? Она ничего не сказала. Он сел позади и дернул ее за волосы так, что голова рывком взметнулась вверх. Чтобы сдержать крик, она прикусила губу. — Когда я спрашиваю: «Кто ты такая?», ты должна отвечать: «Я ваша, мой повелитель». А потом я спрошу: «Зачем ты здесь?», и ты ответишь: «Исполнять вашу волю, мой повелитель». А потом я спрошу: «Что ты станешь делать?», и ты ответишь: «Все, что пожелаете, мой повелитель». Поняла? Она покачала головой. Она дрожала всем телом и не могла остановиться. Кто-нибудь, придите и спасите меня. Спасите, молю вас. Мне всего восемнадцать. Мне еще рано умирать. — Три простые фразы. «Я ваша, мой повелитель. Исполнять вашу волю, мой повелитель. Все, что пожелаете, мой повелитель». — Его руки впились в нее, голос звучал хрипло. — Не так уж трудно, — продолжал он. — Как только я спрошу, ты должна так отвечать. Говорить эти слова каждый день, по много раз, пока они не войдут тебе в плоть и кровь. Она скорее чувствовала, нежели слышала, как в его голосе нарастает ярость, но сама не могла произнести ни звука. Попыталась открыть рот, но губы не слушались. Он выпустил ее волосы и отстранился. Она ничего не слышала. Хотела сесть, но положение было очень неудобным, и она догадалась, что он укоротил цепи, сковывавшие запястья. Руки неподвижны. Кандалы на лодыжке такие тяжелые. Она ничего не могла поделать. Совершенно беспомощна. Из-под повязки по щекам покатились слезы. Помогите мне, кто-нибудь, помогите, почему я здесь, не дайте ему меня обижать, прошу вас, пусть он уйдет, что я такого сделала, за что меня привезли сюда, за что, за что, пусть он уйдет… Она снова почувствовала его рядом и инстинктивно отпрянула. — Все еще сопротивляешься? — сказал он. — Отлично. Он снова обхватил рукой ее шею, зажав локтем, будто в тисках. — Не шевелись, — прошептал он. — Я срежу тебе повязку с глаз. Хочу сначала увидеть твое лицо. Это единственный раз, когда тебе будет позволено взглянуть на меня. Зажмурь глаза, а то ослепнешь. Она услышала щелчки, и в лицо ударил горячий яркий свет. — Не шевелись, — велел он и рукой прикрыл ей глаза так, чтобы она ничего не видела. Потом немного передвинулся. Подсунул ей под спину несколько мягких подушек и усадил почти вертикально. Несмотря на его предупреждения, она попыталась ногой отшвырнуть подушки, но не получилось. — Один раз ты уже не подчинилась мне, — сказал он, отвел руку от ее лица и тихо рассмеялся. — Но я все равно очень рад. За это ты будешь наказана. Ее глаза медленно привыкали к свету. Постепенно она разглядела, что прямо в лицо ей светят лампы, прикрепленные к верхушкам столбов по углам кровати. Вся остальная комната тонула в сумраке. Она повернула голову и увидела какие-то смутные силуэты — наверное, очертания мебели. Цепи, сковывавшие ее запястья и лодыжку, были сделаны из золота, другие концы их прикреплялись к столбам. Их было не четыре, а больше; они окружали кровать, поддерживая балдахин, подобно позолоченной клетке. Потом она подняла глаза и увидела зеркало. Всхлипнув, она зажмурилась. Ей не хотелось смотреть, как он сделает это. Не хотелось видеть, как он ее убьет. Прошло, ей казалось, много лет, хотя на самом деле она лежала всего несколько минут. Она крепко зажмурилась, потому что ей невыносимо было смотреть. Какая-то частичка ее души все еще стремилась сражаться, но она понимала, что он наслаждается ее ужасом, вдыхает его капля за каплей, как благоуханный нектар. Ее захлестнули ненависть и ярость. Придет день, и я освобожусь, сказала она себе, я разыщу его и заставлю отплатить, придет день, и… Она почувствовала, что он стоит у конца кровати и смотрит на нее. Не удержавшись, она открыла глаза. Ей, беспомощно распростертой, показалось, что он возвышается, как гора, и эта его штука торчала из-под пояса, стягивавшего рясу. Она никогда прежде не видела мужской наготы и не могла оторвать глаз от этого страшного зрелища. — Видишь? Ну как, нравится? — Он тихо рассмеялся. Он нависал над ней, как грозный великан, и ярость ее растаяла, сменилась ужасом унижения. Он собирался разорвать ее этой своей торчащей штуковиной. Хотел, чтобы она боролась и визжала. Хотел этого и знал, что получит. Она снова заплакала от страха, заскулила, как загнанный в угол зверек. Пусти меня, пусти меня, пусти… Черная маска под капюшоном рясы скрывала почти все лицо, оставляя лишь две маленькие дырочки для ноздрей да две побольше — для глаз. Виден был только его рот, полные губы кривились в злорадной ухмылке. — Это лик дьявола, — сказал он. — Смотри внимательно, это единственный раз, когда тебе дозволено его увидеть. Он приблизился, подполз по кровати, и она уже не видела ничего, кроме его насмешливой улыбки да пары темных глаз, горящих за черной маской. Он склонился над ней. В ярких лучах света блеснуло золото — кольцо у него на пальце. Она не могла пошевелиться. Он раздвинул ей ноги. Она хотела лягнуть его ногой, которая не была прикована, но колени будто налились свинцом и отказывались повиноваться. — Кто ты такая? — спросил он, нависая над ней. — Нет, нет, нет… — Если хочешь сказать «Нет», говори: «Нет, мой повелитель». — Его руки обшаривали ее тело, острые ногти царапали кожу над корсетом. В его касаниях не было нежности, только неутолимое желание обладать и оставить свою печать. — Будешь ли ты разумной, моя умненькая Доула, или хочешь, чтобы тебе стало хуже? — Прошу вас… — Прошу… кого? — Прошу вас, мой повелитель. — Из ее груди вылетал лишь тихий шепот. Это, должно быть, кошмар. Господи, только бы проснуться, проснуться и оказаться в уютной маленькой квартирке, где Джун болтает по телефону, только бы, только бы… — Вот так-то, — сказал он и опустился на колени между ее ног. Всхлипывая, она закрыла глаза. По ее щекам текли слезы. — Э, нет, — сказал он. — Ты уже видела это и будешь смотреть, как я тебя беру. Будешь следить за своим собственным падением. — Он склонился, положил руки ей на лоб и пальцами раскрыл глаза. — Видишь это? — спросил он, указывая на свой член. Он торчал прямо на нее, огромный и чудовищный. — Я знаю, ты не можешь отвести глаз от его великолепия. — Он снова рассмеялся. — Видишь это? Видишь? Отвечай. — Да, — еле слышно шепнула она. — Да — кто? — Да, мой повелитель. — Правильно, — сказал он. — Я твой хозяин и повелитель, а ты моя рабыня. Ты повинуешься моим приказам, поклоняешься мне и только мне. Повинуешься этой части моего тела и преклоняешься перед ней. — Он почти что сел на нее и шлепнул своей штукой, твердой и торчащей, сначала по одной щеке, потом по другой, потом ткнул в подбородок. От этого гнусного касания она завизжала. Сила вернулась в ноги, она принялась яростно извиваться. — Пусти меня, пусти меня, мерзавец, пусти, прекрати… Она кричала и кричала, но, не прошло и мгновения, он улегся на нее и одним жестоким толчком проник внутрь. Ее тело пронзила жесточайшая, невыносимая боль. Она еще громче завизжала от боли и ужаса. Сквозь крики она слышала его злорадный смех. Он остановился на краткий миг и снова начал двигаться, наваливаясь всем телом, всей своей тяжестью. Она задыхалась от боли во всем теле, от боли в груди, не могла дышать, ее душил корсет, душил он… Он капля за каплей выдавливал из нее жизнь, убивал медленными, невыносимыми ударами. Растягивал свое удовольствие и ее муку. — Хочешь, чтобы я остановился? — спросил он. Она только кричала и кричала. — Хочешь, чтобы я остановился? — повторил он. — Да, — всхлипнула она. — Да — кто? — Он просунул руки под подушку, притянул ее еще ближе. Он разорвет ее надвое. Она умирает. — Да, мой повелитель. Она кричала, не могла остановиться, но это чудовище все так же лежало на ней. Она задыхалась, ощущала только одно — боль. Вдруг он задвигался быстрее и быстрее, сильнее и сильнее, а в ушах все звучал его злорадный смех. Он силой открыл ей глаза, приподнял ей голову, и она увидела его маску, жестокий изгиб толстых губ, а руки его обхватили ее за плечи, и он проник еще глубже. Она умрет. Человек не может пережить такую боль и остаться в живых. Со страшной силой толкнувшись в ней в последний раз, он остановился. И больше не двигался. Он лежал на ней долго — ей показалось, целую вечность. Она не могла дышать. Закрыла глаза, чтобы не видеть ужасной насмешливой ухмылки на его лице. — Ты моя, — сказал он. — Ты принадлежишь мне. Его руки легли на ее лицо, снова заставили раскрыть глаза. Он потянулся к небольшому столику у изголовья и взял стакан воды со льдом. — Выпей, — велел он, поднося стакан к ее губам. Она боялась, опасалась, что это яд, что он, овладев ею, убьет ее, но сопротивляться не было сил. Напиток оказался холодным и очень вкусным. Когда она напилась, он поставил стакан и медленно вышел из нее. Потом придвинулся к ее лицу. — Как много крови, — сказал он. — Великолепно. Теперь, когда пролилась первая кровь, начнется настоящее обучение. — Он коснулся ее и размазал кровь по лицу, по шее, по груди. У нее снова закружилась голова, потянуло в сон. — Добро пожаловать в Клуб, — произнес он.* * *
Она не знала, долго ли пробыла без сознания. Проснулась в полной темноте, голова все так же кружилась, все тело болело, глаза были закрыты повязкой. Будто сквозь пелену, она краем сознания чувствовала, как чьи-то руки осторожно приподняли ее, отнесли в ванную, обтерли между ног прохладной влажной тканью, вытерли липкую слизь, усадили ее на унитаз, отнесли обратно на кровать. Расшнуровали и сняли корсет. Наконец-то она смогла вздохнуть. Она была слишком измучена, сражаться не было сил, и она опять уснула. Когда она снова проснулась, чьи-то руки подложили ей под спину жесткую подушку, усадили ее, накормили с ложечки теплым супом и дали выпить какую-то холодную горьковатую жидкость. Она уснула опять. Проснувшись, она не имела понятия, какой сегодня день, долго ли она находится здесь. Она лежала на боку; обе руки прикованы к боковым столбикам кровати. Он лежал рядом с ней. Она была совсем голая, и он тоже, крепко прижимался к ней сзади. Она чувствовала все его тело, руки стискивали ее в удушающем объятии. Она была так обессилена, что не могла даже отстраниться. — Кто ты такая? — шепнул он ей в ухо. Она ощутила, как в нее упирается что-то твердое. Он раздвинул ей ноги и проник внутрь. Ее пронзила боль, такая жгучая, что она невольно закричала. Он засмеялся. Чем громче она кричала, тем злораднее он смеялся. — Кто ты такая? — снова спросил он. — Если скажешь, я прекращу. Она не могла издать ни звука. Не надо, не надо, не надо, остановитесь… — Ты принадлежишь мне, — сказал он. Боль раздирала ее пополам. — Очень больно? Совсем плохо? — спросил он. — Да, — всхлипнула она. — Да — кто? — Да, мой повелитель, — прошептала она. — Так-то лучше. Хочешь, чтобы я прекратил? — Да, мой повелитель. — Очень хорошо. Кто ты такая? — Ваша. — У нее хватало сил только шептать. Все, что угодно, только бы он остановился. — Ваша — кто? Не слышу. — Ваша Светлость, — прошептала она. — Ты хочешь сказать: «Я ваша, мой повелитель». Вот так. Скажи это. — Перестаньте, пожалуйста, не надо. Не надо, мой повелитель. — Ты меня не слушаешь, — сказал он, но внезапно вышел из нее. — И не повинуешься. Что с тобой нужно сделать? Что мне с тобой сделать? — Уйти. — Не надейся, деточка моя, — ответил он с коротким смешком. — Особенно с учетом твоего беспрерывного неповиновения. Он подполз и лег рядом, лицом к лицу. Провел ладонями по ее волосам, собрал их в тугой хвост. Потом грубым рывком вздернул ей голову — она вскрикнула — и поцеловал в губы так грубо, что она чуть не задохнулась. Его настырный рот душил ее сильнее, чем корсет. — Когда ты наконец поймешь, что принадлежишь мне? — Он снова отодвинулся. — Поцелуй это, — велел он и прижал к ее губам свою твердую плоть. — Поцелуй. Она отвернулась. Ни за что. — Ты должна научиться покорности, — сказал он, опять перебрался через нее и внезапно вошел сзади с такой силой, что она завизжала. — Ты этого хотела? — Нет, нет, нет… — Нет — кто? — Нет, мой повелитель. Перестаньте, прошу вас, не надо… Он оставил ее в покое и встал с кровати, но вскоре вернулся. От него пахло мылом. Он снова лег с ней лицом к лицу. — К счастью для тебя, я чистоплотен, — сказал он. — В отличие от многих. А теперь делай, как я скажу. Открой рот. Она попыталась, но губы едва разжались. Рыдания одолевали ее. Он пальцами зажал ей нос, и она поневоле раскрыла рот. — Я твой хозяин и повелитель, — свирепо проговорил он, запихивая свою штуку ей в рот. Он хочет, чтобы она задохнулась. Это душило ее сильнее, чем корсет. Он хочет убить ее. По ее щекам снова заструились слезы. Она задыхается, задыхается. Умирает. Мужчины так не поступают. Этого не может быть. Боли не было конца. Где она? Какой сегодня день? Какой год? Кто она такая? Что такого сделала? Чем заслужила это? Спасите меня, кто-нибудь, спасите… Наконец она снова смогла вздохнуть. Он лежал рядом, обвив ее руками. — Кто ты такая? — говорил он. — Кто ты такая? Кто ты такая? Кто ты такая? — Ваша, — шепнула она. — Я ваша, мой повелитель. — Зачем ты здесь? Она так устала. Ну почему ей нельзя рухнуть в глубокую темноту и умереть? — Исполнять вашу волю, мой повелитель. — Что ты станешь делать? — Все, что прикажете, мой повелитель.* * *
И так повторялось снова и снова. Она просыпалась в темноте. Кто-то — не Его Светлость — кормил ее, относил в ванную; время от времени ей разрешали понежиться в мыльной пене. Ей расчесывали волосы, высмаркивали нос. Ей казалось, что это тот самый мужчина, который грозил перерезать ей горло, поэтому она не осмеливалась выказать неповиновение. Потом он опять приковывал ее к кровати. Только запястья. С лодыжки цепь сняли. Она не могла бы сделать ни шагу, даже если бы захотела. Она целыми днями спала. А проснувшись, обнаруживала возле себя его — он обвивал ее руками, брал ее… Постепенно ее тело стало меньше болеть. По-своему привыкло к страданиям; подчинилось, потому что другого выхода не было. Жизнь в теле поддерживалась только желанием выжить. Разум перестал работать. Она уже не могла ясно мыслить. В темноте все потеряло смысл. Этого не может быть. Постоянно кружилась голова. Вокруг всегда было темно, и был он, его горячие сухие пальцы пожирали ее тело, в ушах неотвязно звучал его ненавистный голос. — Кто ты такая? — спрашивал он. — Я ваша, мой повелитель, — отвечала она. Теперь сказать это было гораздо легче. — Зачем ты здесь? — Исполнять вашу волю, мой повелитель. — Что ты станешь делать? — Все, что прикажете, мой повелитель. — Я сделаю так, что твой ротик станет самым нежным на свете, — сказал он однажды днем. Или ночью. Она уже потеряла счет времени, не знала, сколько дней, или недель, или месяцев прошло с тех пор, как началась эта пытка. Может быть, в комнате и были окна, но сквозь повязку на глазах она не видела ничего, кроме черноты. — Я сделаю твои пальчики самыми чувствительными, самыми ласковыми на свете. — На него напало разговорчивое настроение. — Сделаю из тебя самое податливое и чувственное существо, какого касался мужчина. Ты, моя сладкая, станешь знаменитой. Точнее сказать, печально знаменитой: женщина, за которую член Клуба заплатил миллион фунтов стерлингов. Твой миллион ждет тебя в швейцарском банке. Никто не узнает, кто ты такая, каково твое настоящее имя и откуда ты родом. Все будут знать только одно — восторг, который ты умеешь дарить, и в какую сумму им это обошлось. Будут знать только одно — ты моя. И только моя. Так он мог говорить часами. А может быть, целыми днями. Пока она не запросит о пощаде. — Когда научишься себя вести, снимем повязку с глаз, — сказал он напоследок. Она ненавидела его всей душой, ненавидела этот спокойный, глубокий голос, ненавидела прикосновение его тела, когда он лежал рядом, ненавидела пальцы, лениво ласкающие ее, когда он исчерпывал себя. — Тебе не обязательно носить повязку, когда меня нет, — сказал он. — Но когда я здесь, научись завязывать ее сама. Потому что ты никогда не увидишь моего лица. Ты считаешь меня чудовищем? — Да, мой повелитель, — сказала она. — Очень хорошо. Хочешь увидеть мое лицо? — Нет, мой повелитель. — Если забудешься и попытаешься увидеть мое лицо, наказание последует быстро и будет очень болезненным. Болезненнее, чем ты можешь вынести. Поняла? — Да, мой повелитель. — Для тебя у меня нет лица. И никогда не будет. — Да, мой повелитель. — Ты целиком отдана в мое распоряжение. Меня не интересует ничего, кроме моих желаний, и я ни перед кем не отвечаю. Ты одна на всем свете. Ты моя. — Да, мой повелитель. — Это твой мир, — сказал он ей. — Твои руки будут возложены туда, куда их возложу я. Куда мне заблагорассудится их возложить. В этом королевстве правлю я, законы устанавливаю я, а ты моя верная рабыня. И ничто не ограничивает мою власть. Он с силой проник в нее, так безжалостно, что она закричала. — Кричи, кричи, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты кричала. Ты ничто. Ты моя и больше никто.* * *
И так повторялось снова и снова. Однажды он не появлялся гораздо дольше, чем обычно. Ничто не изменилось; ее все так же кормили и умывали. Она лежала в темноте и дремала. Думать она не могла. Думать было не о чем, разве что о нем и о том, что он с ней сделал. И что хотел сделать. Легче было не думать. Просыпаясь, она всякий раз вздрагивала от страха — ей казалось, что он лежит рядом, его жаркое дыхание щекочет шею. Однако теперь она боялась, что никто никогда к ней больше не придет. Но однажды она проснулась от внезапного толчка. Он лежал на ней. — Ну что, соскучилась? — спросил он, получив удовлетворение и лежа поверх нее. Она едва дышала под его тяжестью. — Нет, мой повелитель. — До сих пор как девственница, — со смехом сказал он. — Кто ты такая? — Я ваша, мой повелитель. — Зачем ты здесь? — Исполнять вашу волю, мой повелитель. — Что ты станешь делать? — Все, что прикажете, мой повелитель. — Ты меня ненавидишь? — Да, мой повелитель. — Отлично. Теперь у тебя появится еще одна причина для ненависти. Он отстранился, и она услышала, как он берет что-то с небольшого столика у кровати, потом отвинчивает крышку с баночки. Затем он вернулся и начал втирать в нее крем. Снадобье немного жгло и еле уловимо пахло корицей. — Погоди минуту, он окажет свое волшебное действие, — сказал он. — Какое, мой повелитель? — Это подарок, — ответил он. — Сюрприз. Погоди — увидишь. Через минуту ее тело будто охватил огонь. Это был не зуд, а какая-то свинцовая тяжесть и нарастающая невыносимая боль, которая настойчиво требовала коснуться там, где он наложил крем. Эта боль исчезнет только после того, как она прикоснется. Сама того не сознавая, она свела ноги и начала тереть ими друг о друга. Все, что угодно, лишь бы избавиться от этой тяжести, от нечеловеческой боли. Она должна коснуться. — Что это ты задумала? — спросил он. — Я запрещаю тебе шевелиться. — Что вы со мной сделали, мой повелитель? — прошептала она. — Особенное средство, — ответил он. — Ты его заслужила. Он встал и укоротил цепи на запястьях так, что руки оказались закинуты за голову. Потом привязал ее лодыжки к столбам кровати. Она лежала, беспомощная и распростертая, и сгорала от невыносимой боли. Его пальцы двинулись вверх по ее бедрам. — Хочешь, чтобы я коснулся тебя? — спросил он. — Хочешь? Она хотела закричать: «Нет, никогда, негодяй! Единственное, чего я хочу, это увидеть тебя в гробу». Но слова не шли. — Да, мой повелитель, — вместо этого проговорила она. — Ты хочешь, чтобы я тебя коснулся — где? — Вы меня обманули… Он сильно шлепнул ее по бедру. Стало очень больно, но она едва почувствовала удар — такая жгучая боль снедала ее. — Я не спрашивал твоего мнения, — сказал он. — Отвечай. — Прошу вас. — Эта боль сводила ее с ума. Она распространялась изнутри по всему телу, воспламеняла каждый нерв. Просачивалась во все поры. — Прошу вас, мой повелитель. Он опять ее обманул. Обманом заставил полюбить то, что он с ней делает. Обманом заставил хотеть его. — Плохая девочка, — сказал он. Склонился над ней и сильно ущипнул ее за соски. Потом втер в них немного крема и защемил какими-то холодными, неимоверно тугими зажимами, чтобы они остались стоять. Почти сразу соски тоже начали болеть. Она была готова на все, лишь бы утолить невыносимый зуд. — Ты меня хочешь — где? — спросил он. — Там, где вы… — Хочешь меня там? — Да. — Да — кто? — Да, мой повелитель. — Хочешь, чтобы я коснулся тебя. В самом деле хочешь? — Да, мой повелитель. — Хочешь, чтобы я взял тебя? — Его голос звучал хрипло. — Все, что угодно, все, что хотите, мой повелитель. — Она сходила с ума. Он встал с кровати. — Вернитесь, — взмолилась она. — Вернитесь, мой повелитель. — Она не могла удержать этих слов. Пусть сделает хоть что-нибудь. Все, что угодно. Он смеялся над ней. — Ты хочешь, чтобы я вернулся. Я, человек, которого ты ненавидишь, — говорил он. — Который похитил тебя, опоил, изнасиловал, пытал. Кто будет и дальше насиловать и пытать тебя в свое удовольствие. Как восхитительно. — Вы обманули меня, о, прошу вас… — Но сейчас ты хочешь меня. Ее тело взбунтовалось, каждая клеточка пылала огнем. Какой-то крохотной частичкой разума, где еще сохранялся рассудок, она понимала, что во всем виноват крем, что это он заставляет ее произносить эти слова. Что на самом деле она до сих пор ненавидит его и никогда не захочет, никогда не захочет, чтобы он вернулся к ней, никогда, до самой смерти. — Кто ты такая? — Я ваша, мой повелитель. Ваша, ваша, ваша. Его руки коснулись ее тела, поглаживали бедра, медленно приближались. — Прошу, о, прошу вас… Когда он коснулся ее, она чуть не потеряла сознание. Никогда в жизни не испытывала она такого наслаждения, такого чисто физического облегчения, оно накатывало волнами при каждом его толчке. Она не знала, что ее тело способно испытывать такую радость. Как только он отстранился, она застонала. — Не надо, мой господин, вернитесь, — взмолилась она. — Полно, полно, — усмехнулся он. — Как быстро вы, дамы, меняете свои взгляды. Совсем недавно была жалкой девственницей и хлюпала носом — а сегодня уже молишь меня, как последняя шлюха. Ты меня изумляешь. — Казалось, он очень доволен собой. Он развязал ей ноги. — Теперь ты трахнешь меня как полагается, — сказал он. — Мой повелитель, вернитесь, — взмолилась она. Взмолился ее голос, исходящий откуда-то из глубин ее существа. Та маленькая частичка, где еще сохранялся рассудок, пришла в ужас, но тело взяло над ней верх. Если он не станет ближе, еще ближе, она в самом деле лишится рассудка. Не сознавая, что делает, она обхватила его ногами и начала двигаться вместе с ним в едином ритме. — Вот как надо себя вести, — сказал он ей, сдерживая ее пыл. Ей казалось, она закричит, если он не коснется ее снова, сейчас, сию же минуту. — Вскоре тебе не понадобится и крем, ты сама будешь приходить в такое состояние, — сказал он. — Услышишь мой голос — и этого будет достаточно. Он высвободился из ее объятий. — Нет, мой повелитель. Не уходите, прошу вас, мой повелитель. — Я хочу услышать, как ты молишь меня, — сказал он и потянул за зажимы на сосках. Она чуть не умерла от наслаждения, жаркие волны пронзили все ее тело. — Прошу вас, мой повелитель, — застонала она. — Прошу, о, прошу вас…* * *
И так повторялось снова и снова. С той разницей, что теперь он сумел приковать ее тело к своему. И он это знал. Он ушел. Она не знала, много ли прошло времени, но молила его не уходить. Вскоре он вернулся, и, услышав, как он отвинчивает крышечку банки, она взмолилась. Она знала, чего он хочет. Хочет, чтобы она молила его. Хочет… (Примечание от Томазино: несколько страниц отсутствует.)* * *
— Мне будет невыносимо тяжело провести вдали от тебя несколько дней, а может быть и больше, но у меня есть срочные дела, которые не терпят отлагательства, — сообщил он с преувеличенным вздохом. — К счастью, за мое отсутствие твоя ценность для меня значительно увеличится. Где бы я ни был, чем бы ни занимался, все мои мысли будут о прелестной Доуле, которая ждет меня, и когда я вернусь к тебе, то буду рад услышать твои мольбы. Он поцеловал ее и оставил в темноте. Она сразу же провалилась в сон, а когда проснулась, что-то неуловимо изменилось. Она по-прежнему лежала в темноте, но повязки на глазах не было. Когда глаза привыкли к свету, она разглядела в кресле у кровати силуэт Хогарта. Наручник на ее левом запястье был все так же прикован длинной витой цепью к столбику, но она могла сесть и перемещаться по кровати. Смогла накрыться шелковым халатом, который лежал рядом на подушках. — Приветствую тебя, дорогая моя, — радостно воскликнул Хогарт. — Должен сказать, ты выглядишь великолепно. — Пропадите вы пропадом, негодяй. Мерзавец и садист. — О, восторженное дитя. Вижу, ты еще не растеряла боевого задора. Ты делаешь замечательные успехи. Ты оправдала все мои надежды, с лихвой оправдала. Его Светлость очень доволен своей Доулой, очень, очень доволен. Он радостно улыбался. — Удовлетворить его нетрудно, — говорил Хогарт. — В отличие от некоторых. Его желания — это желания тигра, поймавшего добычу: владеть, обладать, пожирать. Особенно если добыча запретна. Ты, естественно, всегда будешь для него запретной, потому что тебя привезли сюда против твоей воли. Он взял со столика книгу. — Разреши, я прочитаю тебе кое-что, — продолжал Хогарт. — Жаль, конечно, что это сочинил не француз, comme d'habitude, но текст, тем не менее, вполне согласуется с нашим положением. Особенно, если учесть, что эти строки были написаны около двухсот лет назад неким доктором по имени Бенджамин Раш. «С того дня, как ты выйдешь замуж, ты не должна иметь собственной воли, — говорил добрый доктор. — Подчинение твоего пола нашему обусловлено законами природы, нуждами целесообразности и Божественным откровением». И так далее, и так далее. Так, так… посмотрим… «Твой муж будет всегда требовать, чтобы ты без раздумий жертвовала своей волей ради его воли. Даже в таких случаях ты должна почитать его и повиноваться. Самые счастливые браки, какие я знаю, наблюдаются там, где рекомендованная мною подчиненность воплощается в жизнь самым полным образом». Этот доктор Раш отличается незаурядной мудростью, вы не согласны? Многие считают его отцом современной психологии. — Я не замужем, — возразила она. Хогарт захлопнул книгу и встал, разглаживая морщины на пиджаке. — Я бы на твоем месте, милая девочка, считал себя замужем, хоть и в самом необычном браке. Внушил бы себе, что жестокая семья и несчастное стечение обстоятельств вынудили меня выйти замуж за человека, которого я не люблю, но мне придется покориться, потому что у меня нет другого выхода. Она не знала, что сказать. — Думаю, было бы неплохо подобрать тебе кольцо. Дабы ознаменовать этот брак. Да, великолепная идея. Надо предложить это Его Светлости. Как ты уже успела заметить, он необычайно щедр. — Хогарт прошелся вокруг кровати, изучая ее критическим взглядом. Потом достал из кармана часы на тонкой цепочке и посмотрел на них. — Как ни печально, — сказал он, — мне придется на время тебя покинуть. Обещаю, что вернусь проведать тебя, как только смогу. А до тех пор я бы на твоем месте не тревожился о кузине. Мы давно сообщили Джун, что ты удачно обручилась и собираешься замуж, так что она отчалила к папе с мамой, в ту Богом забытую дыру, которую они называют домом. Точнее говоря, она уехала довольно давно. И в обозримом будущем я бы не стал ждать визита нашей дорогой Джун. Хогарт ушел. Она осталась в пустой и темной комнате. Сколько времени ее держат здесь? Джун уехала довольно давно. Сколько времени прошло? Никто не знает, где она. Никто не придет на помощь. Никому нет до нее дела. Еще немного — и она сойдет с ума.* * *
Невидимые руки растворили ставни. Изредка ей разрешалось посидеть на небольшой террасе, укрытой за высокими гладкими стенами. Воздух был теплый, часто шел дождь, но она не знала, какой сейчас месяц, где она находится, что будет дальше… Вернулся Хогарт. Когда она проснулась, он сидел в кресле у ее кровати и возился с узлом щегольского аскотского галстука. — Тебе нужно гулять, — сказал он. — Мы не хотим, чтобы ты ослабла или потеряла форму. Она разразилась истерическим смехом. — С каких это пор вы заботитесь о моем здоровье? — спросила она. — Хочешь верь, хочешь не верь, я всегда заботился о тебе, правда, по-своему. С тех пор, когда Его Светлости не было в доме, ей разрешали посидеть на улице или прогуляться после наступления темноты. Она видела сумрачную громаду дома, но в комнатах нарочно гасили все огни, чтобы она не разглядела четких очертаний. По земле среди лесов вились тропинки. С ней гулял Хогарт, сзади шел кто-то еще. Она не знала, кто. Она даже не пыталась убежать. У нее не было сил, не было воли. По ночам холодно, а они кишат кругом, думала она. Эти люди в монашеских рясах и масках, они следят за ней из-за деревьев, не сводят глаз. Комната, где ее содержали, была довольно удобна, ей разрешали читать. Иногда приходил Хогарт и сидел с ней, тоже читая. — Я нашел замечательный рассказ, — сообщил он однажды, подняв глаза от книги. — О некоей мадам по имени Тереза Беркли. Она держала дом терпимости близ Портланд-Плейс. Она считала своих девочек не более чем инструментами. Гм. Она совершенно права. В этом доме вымачивали розги в воде, чтобы они оставались зелеными и гибкими. В китайских вазах держали зеленую крапиву. Подбивали воловью упряжь гвоздями. — Хогарт, вы отвратительны, — сказала она. — Но главное ее изобретение было сделано в 1828 году, — продолжал он, безмятежный, как всегда. — «Лошадка» Беркли, или по-французски chevalet. Что-то вроде раскрывающейся лестницы-стремянки с подбитыми мягкой тканью ступенями, регулируемыми по высоте. Жаждущего клиента привязывали к ней так, чтобы лицо его выступало из одного пролета, а интимные части — из другого. Сзади его хлестали прутьями, а спереди ублажали девочки мадам Беркли. Эти викторианцы, надо сказать, понимали вкус в запретных наслаждениях. — Зачем вы мне это рассказываете? — спросила она. — Это что — новая игрушка Его Светлости? — Только чтобы расширить твой кругозор, дитя мое. Чтобы ты поняла, что ты — не первая, кто пал жертвой царства — как бы это выразиться? — фантазий. — Это не фантазии, — с горечью возразила она. — Маркиз де Сад говорил, что животные поедают друг друга точно так же, как мы едим животных, — продолжал Хогарт. Он отложил книгу и внимательно всмотрелся в ее лицо. — Мы, животные под названием «люди», едим других животных без всяких угрызений совести, потому что считаем животных, которые идут нам на стол, ниже нас; мы правим ими. Так почему же, рассуждает глубокоуважаемый маркиз, мы, люди, не можем использовать других людей для удовлетворения своих желаний, не можем делать с ними все, что захотим? Разве не лицемерие — утверждать, будто между людьми и коровами лежит неодолимая пропасть? — В этом вы находите оправдание тому, что сделали со мной? — спросила она. — Если бы дражайший маркиз сумел хоть немножко обуздать собственную натуру, он бы научил мир множеству интересных вещей, — продолжал Хогарт, пропуская ее вопрос мимо ушей. — В этом его отличие от меня. При высоком самоконтроле временная утрата власти становится куда более приятной. Видишь ли, мужчины по природе своей очень просты. Если вы исполняете их желания, ваша ценность для них увеличивается. Естественно, в разумных пределах. — Он испустил счастливый вздох. — У маркиза в его замке, в Сомане, были великолепные темницы. У нас здесь тоже есть темницы. При одной мысли о них меня пробирает дрожь. Если будешь плохо себя вести, попадешь туда.* * *
Она вернулась с прогулки — и ее уже ждал Его Светлость. Он стоял спиной к кровати, и она не могла увидеть его лица. Ей поспешно завязали глаза, подхватили, бросили на кровать и приковали руки. Его Светлость был не в духе, в его жилах пульсировала какая-то злобная энергия, она делала его ненасытным. Ей казалось, он разорвет ее надвое. Потом он немного успокоился и заговорил. — Согласно правилам Клуба, цена нашей гостьи составляет тысячу фунтов в неделю, — сказал он. — Это значит, что я вправе держать тебя почти двадцать лет. Эта мысль радует тебя так же, как и меня? Ей хотелось закричать: Нет, нет, нет! но она так боялась, что не решилась сказать правду. — Да, мой повелитель. — Когда ты освободишься, тебя в швейцарском банке будет ждать огромное состояние. Естественно, со сложными процентами. Если я устану от тебя, то смогу освободить раньше, но я не вижу для этого причин. Твое обучение только начинается, но я уже очень рад видеть твои успехи. Может быть, я верну тебя в мир, когда ты заработаешь для меня тот миллион, который я был вынужден за тебя уплатить. — Никто не вынуждал вас, мой повелитель, — прошептала она и стала ждать, что он ее ударит, но ничего не происходило. — Нет, миленькая моя, ошибаешься. Вынудили. Меня вынудила ты. Мое желание стоит любых денег. Пойми это. Ты, твое тело имеют конкретную цену. До многих, очень многих мужчин уже дошли слухи о девочке, за которую член Клуба выложил миллион фунтов стерлингов. Они будут на коленях умолять, называть свою цену за то, чтобы отведать тебя. Поэтому я должен тщательно рассчитать, каким образом поскорее вернуть свои капиталовложения. Деньги, которые они заплатят, пойдут на твой счет. Таковы правила Клуба. Но другие договоренности… — Он замолчал. При звуке его спокойного, глубокого голоса она оцепенела от ужаса. Сначала Хогарт, теперь это. Что он говорит… — Твое обучение продолжится. Ты научишься выполнять некоторые обязанности, какими бы неприятными ты их ни находила. Ты так же легко привыкнешь к ним, как привыкла ко всему остальному. Ничего другого тебе не остается. Ты моя, и твоя жизнь тебе не принадлежит. Можешь утешаться сознанием того, что ты была избрана, и каждый раз, проявляя покорность, ты, возможно, приближаешься к окончанию твоих мук. Он встал. Она услышала, как открылась дверь, и вошедший положил что-то на столик возле кровати. — Ты должна носить мою печать, — сказал он. — Пусть все знают, что ты моя. Лежи смирно. Он сел сзади нее. Неведомые люди подошли к краю кровати. Он взял ее за левую руку и крепко сжал запястье. Кто-то осторожно коснулся безымянного пальца, перевернул ладонь. — Совершенно верно, — сказал Его Светлость. Она услышала пронзительный свист. Потом палец пронзила острая боль, снова и снова. Пальцы Его Светлости крепче сжались на запястье. Она заплакала от боли, тихонько и жалобно всхлипывая. Шум прекратился. Ей осторожно перевязали палец. Его Светлость выпустил запястье и встал. Она услышала шаги, открылась и закрылась дверь. Он вернулся. — Великолепная татуировка, — сказал он. — И не менее роскошное зрелище — видеть, как эта игла вонзается в твою плоть. Твоя прекрасная кровь. Ты во второй раз истекаешь кровью. — Он зло рассмеялся. — Когда заживет, все будут рады видеть на тебе мой знак. Я-то уж точно буду рад. Он намазал ее кремом, и она вспыхнула от нечеловеческого возбуждения. Он брал ее снова, и снова, и снова, пока не исчерпал силы. Потом уснул, прижимаясь к ней всем телом.* * *
Ее разбудили и надели на голову капюшон, хотя глаза и без того были завязаны. Туго зашнуровали корсет, так что она едва дышала. Отстегнули цепь от кровати и надели ту самую тяжелую накидку, которую она хорошо помнила, потом подняли, перекинули через плечо и понесли. Вся кровь прилила к голове. Ее несли по коридору, через комнаты, вниз по длинной лестнице. Страшно кружилась голова, она боялась, что ее стошнит. Все ниже и ниже. Наконец, ее осторожно опустили, сняли тяжелую накидку и капюшон. Она сидела на конце какого-то удобного широкого дивана с толстой обивкой. Наручники прицепили к крюкам, вбитым в стену. Потом вокруг шеи обвился ремень, его затянули на затылке. Теперь она не могла пошевелиться. — Тебе удобно? — Над ухом прозвучал голос Его Светлости, тело обхватили его руки. Он сидел на диване у нее за спиной. — Это придумал Хогарт, — сказал он. — Не шевелись, мы кое-что наладим. Он встал, прямо перед ее лицом поднялась панель. В лицо ударил прохладный воздух. Она не могла пошевелиться. Не могла дышать. Ее лица коснулись пальцы, его жаркие, сухие пальцы, она безошибочно различила их прикосновение, они ласкали ее губы. Затем панель опустилась. — Великолепно, — сказал он. Теперь он опять сидел позади нее, усадил ее к себе на колени и вошел. Она вскрикнула от боли и страха. И вдруг он рывком вышел. — Не двигайся, — снова предупредил он. Панель поднялась, ее лицо прижалось к окошку. Он с силой поцеловал ее, потом отстранился. — Открой рот, — приказал он. Она повиновалась. Ей не оставалось ничего другого. Он с силой вошел ей в рот, она начала задыхаться. Он отстранился и обнял ее. — Великолепно, — повторил он кому-то у себя за спиной. — Только нам нужна еще и рука. Пусть сначала увидят татуировку; потом пустим руку в дело. Он встал и через несколько минут вернулся. Послышались другие голоса. Ее левую руку отстегнули от крюка и придвинули к панели. Он снова стоял на другой стороне, сквозь окошко в стене его рука ухватила ее пальцы и вложила в них его член, чтобы она ласкала. Через минуту он опять стал твердым. Твердым и неумолимым. — Прелестно, — сказал он. Так все и началось. И продолжалось снова и снова. — Ты будешь делать, как я велю, — говорил он. — Каждый из них заплатил королевскую цену за ласку твоих губ. Все до единого. Может быть, они члены Клуба. Может быть, нет. Она потеряла счет — сколько раз он заставлял ее делать это. Десятки, сотни. Время потеряло смысл. Она сама потеряла смысл. Она лишилась тела; остались только рука, пальцы, губы, все, чего касался Его Светлость. Как человек она больше не существовала. Ничто не радовало его сильнее, чем ласки, которые он вырывал у нее в этой маленькой комнате. Ему нравилось крепко держать ее на коленях, пока другие пользовались ею. Ее губы ласкали их, а он шептал ей на ухо, указывая, что делать. Иногда, когда она лежала, пристегнутая, он втирал в нее немножко крема и уходил, наблюдая, как она извивается от желания, потом возвращался и с наслаждением слушал ее мольбы. Слушая ее крики, он всегда смеялся от восторга. Потом он начал вывозить ее из дома. Прежде всего ей туго зашнуровывали корсет, надевали на голову капюшон и заворачивали в толстый плащ, чтобы она не могла двигаться. Потом несли по лабиринту коридоров и лестниц в гараж, опускали на заднее сиденье машины. Иногда поездки были такими длинными, что она засыпала. Иногда они долго сидели в машине и ждали. Шелестел гравий, шуршали шины по шоссе. Машина останавливалась. О бегстве нечего было и думать. На ней не было ни одежды, ни обуви, только корсет. И они все были вокруг — всегда, неизменно. Его Светлость сидел в машине — она чувствовала его, ощущала его запах, хоть он никогда не касался ее. Ему нравилось ждать. Ее выносили из машины, несли в дом. Через комнаты, вверх и вниз. Какая разница, куда? Их руки на ее теле, запах, невыносимое прикосновение их тел. Он всегда стоял сзади, шептал ей на ухо. — Кто ты такая? — Я ваша, мой повелитель. Однажды она взбунтовалась. Дорога к этому дому была тряской, тяжелой, все тело болело. Его Светлость оставил ее наедине с человеком, который причинил ей такую боль, что она закричала. И она укусила его. Ей хотелось вонзить зубы в его мерзкую восставшую плоть и держать их так, пока он не закричит громче нее. Ее отвезли обратно в дом, где Его Светлость держал ее, но не отвели в привычную комнату. Ее несли другим путем, вниз по длинной лестнице, дальше по узкому коридору. Чем дальше ее несли, тем холоднее становился воздух, и она начала вырываться. Бесполезно. Раскрылась тяжелая дверь. Ее бросили на кровать, сняли тяжелый плащ и капюшон, пристегнули наручники к цепям на стене и оставили. В корсете она не могла дышать. Ничего не видела. Ее швырнули в темницу, ту самую, о которой рассказывал Хогарт. В темницу глубоко под землей. Она слышала только, как пищат и копошатся крысы, да собственные жалкие всхлипы. Она кричала и звала на помощь, но никто к ней не пришел. Ей оставляли подносы с едой, кувшины с напитками, но ей не хотелось есть. В углу стояло ведро для отправления естественных надобностей. И больше ничего. Ни света, ни звука, только страшный крысиный шорох. Они решили оставить ее здесь навсегда. Когда, наконец, пришел Его Светлость, она впервые по-настоящему обрадовалась его появлению. Она ощущала возле себя другого человека, слышала его дыхание, чувствовала прикосновение, это давало ей понять, что она еще жива. — Ты заслужила наказание, — сказал он. — Ты очень рассердила меня. Твой рот предназначен дарить наслаждение, а не причинять боль. Поняла? — Да, мой повелитель, — прошептала она. Голоса не осталось, не осталось ничего. — Зачем ты здесь? — Чтобы служить вам, мой повелитель. — Я разрешал тебе укусить его? — Нет, мой повелитель. — Ты когда-нибудь еще станешь кусать людей? — Нет, мой повелитель. — Если будешь плохо себя вести, попадешь в темницу очень, очень надолго. Проведешь здесь гораздо больше времени, чем сейчас. Ты этого хочешь? — Нет, мой повелитель. — Она затрясла головой так сильно, что он рассмеялся. Потом прижал ее к матрасу и… (Примечание от Томазино: отсутствует несколько страниц.) Он не выпускал ее из темницы очень долго. Казалось, целую вечность. Нередко он приходил и приводил с собой других. — Ты хочешь меня? — спрашивал он. — Да, мой повелитель. — Ты хочешь его? — Если это угодно вам, мой повелитель. (Примечание от Томазино: отсутствует половина страницы.) Потом за ней пришли и отнесли обратно в комнату. Никогда она еще не испытывала такого блаженства. Как приятно было очутиться в теплой постели, на мягких подушках, принять ванну. Ощутить вокруг себя чистоту. Иметь книги для чтения. Но наружу ее больше не выпускали. Он не возвращался очень долго.* * *
— Помнишь это? — спросил Хогарт. Он вошел в комнату со свертком изумрудно-зеленого атласа. — Тебе очень идет зеленый цвет. — Зачем вы принесли это платье? — спросила она. — Мы едем на самый роскошный костюмированный бал, — сообщил он. Он уже говорил однажды эти слова. Давно, когда еще ничего не было, задолго до того, как они обманули ее. В другой жизни, когда она еще могла думать. Когда еще была жива. Хогарт растянул губы в широкой улыбке. — Время пришло, — сказал он, положил сверток на кровать, достал из кармана ожерелье с изумрудами и бриллиантами и томно помахал им перед ее лицом. — Прошло три года, моя милая. Теперь черед следующего аукциона. — Не может быть, — прошептала она. Значит, минуло уже три года. — И поскольку ты была хорошей девочкой, Его Светлость разрешил тебе оставить это великолепное ожерелье. Своего рода подарок к годовщине. Разумеется, после сегодняшней ночи. Потом он достал из кармана коробочку поменьше и сдул с нее воображаемую пылинку. Открыл и показал ей. Внутри лежало широкое золотое кольцо с большим изумрудом, по бокам которого поблескивали два желтых бриллианта поменьше. — Твое обручальное кольцо, — сказал он. — Неужели забыла? Вскоре оно будет надето на палец. После того, как с тобой будет все улажено. Сегодня все увидят татуировку. Ты носишь на себе печать хозяина. Из всех наших гостей такой чести удостоилась только ты. Он захлопнул коробочку и вышел. Ей двадцать один год. У нее миллионы в швейцарском банке, великолепное изумрудное ожерелье, а теперь и кольцо к нему. Но это ничего не значит. Она — ничто. Никто и ничто… (Примечание от Томазино: отсутствует несколько страниц.)* * *
Она не знала, что хуже: ничего не знать или догадываться, что ее ждет. Но она не могла думать. Мозг разучился работать. Перед ней стояла та же расписная ширма, позади — шест, она притянута к нему широким ремнем. В глаза ей бил яркий свет, у ног стояли мужчины в рясах и масках, они смотрели на нее голодными глазами. В руках они держали наготове карточки для голосования. — Джентльмены, — объявил Хогарт. — Кое-кто из вас, благодаря любезности нашего предыдущего щедрого покупателя, уже втайне отведал изысканный вкус запретного плода. Сегодня, как вы уже догадались, двоим из вас будет предоставлена необычайная и восхитительная возможность — насладиться самым очаровательным существом в мире. Эта особа — а она стоит миллион фунтов стерлингов — одарит вас своими милостями. Мы провели голосование, и решение было единогласным. Два аукционера, предложивших самую высокую цену, получат право провести с ней один час. Всего один час. Разумеется, робких и стыдливых просим воздержаться от участия в аукционе. Послышался приглушенный смех. — Как я понимаю, среди вас нет робких и стыдливых? — хихикнул Хогарт. — Очень хорошо. Аукцион начинается с десяти тысяч фунтов. Десять тысяч фунтов, господа. Пятнадцать тысяч фунтов. Двадцать тысяч фунтов. Как и в прошлый раз, с нее сняли лиф, потом юбку и нижние юбочки. Ей не давала покоя мысль — участвует ли в торгах Его Светлость? Что они с ней сделают, что… — Сто тысяч фунтов, — слышался голос Хогарта. Со стуком опустился его молоток. — Блестяще. Вы, господа, те, кто предложил девяносто пять и сто тысяч фунтов, подойдите ко мне ровно через пять минут. Ширму поставили на место, глаза ей снова завязали плотной повязкой. Она слышала, как передвигают мебель. Ее отстегнули от шеста и передвинули на несколько футов вперед, туда, где стоял Хогарт, потом силой поставили на четвереньки на невысокий узкий стол. Его Светлость был здесь. Она чувствовала его запах, узнала прикосновение его горячих, сухих пальцев. Он провел рукой ей по позвоночнику, опустился ниже, втер немного крема. Нанес каплю крема на соски, ущипнул их. Она прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. — Ты должна делать все, что они захотят, — зашептал он ей на ухо, запустив руки в волосы. — Должна делать, потому что я тебе так приказал. Ты принадлежишь мне, поэтому должна делать все, что я скажу, и молить их, чтобы не останавливались. Потому что я так сказал. Если не угодишь мне, я брошу тебя в темницу и оставлю на съедение крысам. Поняла? — Да, мой повелитель, — прошептала она. Он поцелуем снял слезы с ее щек. — Джентльмены, — объявил Хогарт. — Она вся ваша.* * *
После этого она оставалась в постели много дней. Кто-то принес ей горький чай. Он всегда был горький, этот чай, которым ее поили, но ее все равно заставляли пить. Когда ей стало немного лучше, Его Светлость начал приходить чаще. Он не оставлял ее в покое. Она не понимала, как ему, человеку сравнительно пожилому, удается сохранять такую силу. Знала только одно — он ненасытен. Иногда они оставались в комнате с окошком в стене так долго, что не выдерживали и засыпали на диване. Но потом он будил ее, и все начиналось сначала. Так продолжалось снова и снова, пока однажды днем не появился Хогарт. Он сообщил, что они переезжают. — Приближается война, — сказал он. — Мы слишком долго прожили на одном месте. Она ничего не понимала. Ей казалось, он говорит загадками. Мозг разучился работать. Она не помнила, что случалось в тот или иной день, помнила только голос Его Светлости над ухом, прикосновение его пальцев, запах кожаного подголовника, к которому он любил ее привязывать, чтобы одновременно чувствовать ее и смотреть. Она съела суп, который ей дали, выпила чай и стакан холодного сладкого напитка, а затем почувствовала, что ее одолевает неимоверная усталость. Ей стоило огромного труда держать глаза открытыми. Ее взвалили на плечо, вынесли из комнаты в гараж, усадили в машину. Там ее завернули в одеяла, уложили на заднее сиденье, и она уснула. Поездка растянулась, ей казалось, на много дней. А может быть, всего на насколько часов. Ее уже не волновало, что ее опоили наркотиками, везут неведомо куда и хотят спрятать в еще более отдаленном месте. Ее теперь ничто не волновало. Для всего мира она была мертва. Он никогда не выпустит ее. Стоял туман, дул ветер, лил дождь, и в новом доме было холоднее, чем в прежнем. Когда ставни держали закрытыми, она не знала, день на дворе или ночь. Это не имело значения. Здесь всегда было серо и сыро. Вдоль дома тянулась длинная терраса, ей разрешали погулять там и по двору около дома. Она видела, что вокруг всего поместья высится гладкий каменный забор с колючей проволокой по верху. Дом был большой, каменный, в нем, наверное, было много комнат, но она не видела ни одной, кроме своей собственной. Вскоре приехал Его Светлость. Он оставался дольше обычного. Сначала он почти все время проводил в ее комнате, хотя это было на него не похоже. Сказал, что она, если пообещает вести себя хорошо, может снять повязку с глаз. Он сидел за столом, спиной к ней, и разбирал бумаги, а она читала или дремала. Однажды он потянулся, и она заметила, как у него на пальце блеснуло золото. Кольцо. Ей мимоходом подумалось — где же ее кольцо, то самое, которое показывал Хогарт. Которому предназначено было стать ее обручальным кольцом. Потом Его Светлость велел ей завязать глаза и лечь. Он еще не насытился ею. Снова, снова, снова… Он прервался только однажды, когда раздался стук в дверь. — Не шевелись, — велел он. Он встал, и она услышала голоса. Потом его пальцы стиснули ей левое запястье. Безымянного пальца коснулось что-то холодное. Зажужжал какой-то инструмент. Не иголка для татуировки, звук был погуще. Они что-то делали с кольцом, но было не больно. Она ничего не понимала. Потом он выпустил ее. Голоса удалились. Он лег рядом и взял ее за левую руку. — Ты моя, — заявил он. — Ты его никогда не снимешь. Он долго не разрешал ей встать. Много, много дней. Ее это не волновало. Она была ничем. Была тем, чем хотел он. И все. Она лежала в темноте, он — рядом с ней, на ней, позади. То жестокий, то ласковый. Она забыла, что такое время. Когда он был здесь, время останавливалось. Потом он ушел. Она проснулась — его не было. Повязка с глаз была снята, ставни раскрыты. Она посмотрела на кольцо. В нем был большой изумруд, по бокам — два желтых бриллианта. Она попыталась снять его. Долго крутила, но только растерла палец до крови. Потом заметила, что на столе стоит радио. Тут она поняла, что не слышала радио уже много лет. По радио слышались голоса. Голоса настоящих людей. Из настоящего мира. Она снова вспомнила о времени. Она в последний раз слышала радио пять лет назад. В мире шла война, а она была взаперти. Она задумалась — чем занимается Его Светлость во время войны? Наверное, обычными своими ужасными делами. И Хогарт. Она легко представила его себе в новеньком, с иголочки мундире с сияющими пуговицами. Она слушала радио днями и ночами. Ей было не с кем поговорить, поэтому она разговаривала с радио. Ее собственный голос звучал чужим, далеким. Слуги в доме, те, кто кормил ее и присматривал за ней, не произносили ни слова. Они работали на Его Светлость — это все, что ей полагалось знать. Женщину звали Матильда. Уродливая, приземистая, та самая, что помешивала какое-то варево в котле в ту давнюю, давнюю ночь. В первую ночь. Это Матильда зашнуровала корсет так туго, что она не могла дышать. Матильда давала ей горький чай, приносила еду на подносе. Другого слугу звали Маркус. Она слышала, как Хогарт однажды назвал его имя. Он был сильный, она его боялась. Она задумывалась — не был ли он одним из тех, за окошком. Или тем самым человеком, который пригрозил перерезать ей горло. Ей принесли в комнату много новых книг, стопку блокнотов, палитру с акварельными красками. Однажды вкатили пианино и принесли пачку нот. По книгам она должна была научиться читать музыку и играть. Иногда она почти чувствовала себя человеком, живым человеком. Слушала новости по радио, тревожилась из-за боев, снова начала думать. С каждым днем она думала немного больше. Она начала учиться писать карандашом, который ей принесли для рисования. Сначала получались крохотные каракули, затем слова. Слова складывались в предложения. Она записывала их на клочках акварельной бумаги, всего по нескольку за один раз, потому что боялась, что за ней следят, а потом рвала их на мельчайшие кусочки и глотала. Теперь у нее меньше кружилась голова, мир не расплывался в туманной дымке. Может быть, помогал холодный влажный воздух. Может, дело в том, что Его Светлость не появлялся уже три года. Ни разу. Наверное, за это время прошел еще один аукцион, но ее туда не взяли. А может, торги отменили из-за войны. Никто к ней не прикасался. Никто не разговаривал, кроме голосов по радио. Потом вернулся Его Светлость. Он разбудил ее среди ночи, его руки лихорадочно обшаривали ее тело. В комнате стояла непроглядная темнота, но на нем, как всегда, была маска. Он крепко ухватил ее за запястья и прижал ее руки к своему лицу. Поцеловал ее пальцы. Потом провел ими себе по шее, по груди, все ниже и ниже… — Скучала по мне? — спросил он. — Да, мой повелитель, — ответила она. — Ты стала удивительной лгуньей, — сказал он. — Я тебя научил. Он перевернул ее и взял с нечеловеческой свирепостью, потом опять и опять, пока она не взмолилась о пощаде. Он хотел разорвать ее надвое. И тогда она умрет. Это ее не волновало. Когда она с ним, она все равно что мертва. Она ничто. Принадлежит ему. Когда он приехал, она опять разучилась думать. И не могла думать, пока он был здесь. Он надел ей наручники и завязал глаза. Не отпускал ее целыми днями, неделями. Она опять потеряла счет времени. У нее забрали радио. Вскоре он начал приводить с собой других. Она всегда знала заранее, что они придут, потому что ее уводили в небольшую комнату, укладывали на мягкую кровать с множеством мелких подушек и приковывали цепями, чтобы каждый гость мог переворачивать ее так, как ему заблагорассудится. Они с благоговением прикасались к ее кольцу. Его Светлость шептал ей на ухо, что делать. Потом он снова исчез, ей вернули радио и раскрыли окна. Он пробыл здесь три недели. Ей казалось, что прошел год, а то и больше. Прошло много месяцев, прежде чем она почувствовала себя лучше. Снова начала думать, как раньше. Осмелилась написать хоть слово. Пришел Хогарт. Он рассказал, что состоялся еще один аукцион. Ей повезло оказаться так далеко. Всего сорок тысяч фунтов. Жалкое зрелище. Во всем виновата война, сказал он, трудности и лишения. Пусть благодарит судьбу, что Его Светлость занят в боях. Но скоро война кончится. Он соскучился по тебе. Хогарт ненадолго остался. Говорил с ней о войне. Она задавала вопросы. Она совсем забыла, что такое обыкновенная беседа, разучилась говорить. Казалось, Хогарт помогал ей вспоминать. Хогарт не хотел, чтобы у нее в голове был туман. Однажды Хогарт сказал что-то забавное, и она засмеялась. Ей казалось, она давно разучилась смеяться. Теперь она не хотела умирать. Ей стало намного лучше. Ей хотелось, чтобы война кончилась, но она запуталась в своих чувствах. Если война кончится, он приедет обратно, и все начнется сначала.* * *
Когда она проснулась, Хогарт сидел за столом. Рядом со стопкой бумаг стояло в ведерке шампанское. — Выпей, — предложил он. Вид у него был радостный. Он протянул ей бокал. Она поняла, что в шампанское подмешан наркотик, но все равно выпила. Это ее не волновало — если она откажется, ее заставят выпить силой, а то и хуже. Что-то произойдет. У Хогарта на лице слишком выжидающий вид. — Война окончена, и мы опять переезжаем, — сообщил он. — Очаровательный дом, новые слуги. Матильда и Маркус, естественно, останутся с нами. Но с ними бывает так скучно. У нее закружилась голова. Переезд не означал ничего, только новую комнату, к которой она привыкнет. Она не знала, где провела десять лет. Десять лет? Не может быть! Значит, ей уже двадцать восемь. Не может быть. Это было только вчера — тот бал, где Хогарт обманул ее. Она спит, и ей до сих пор снится кошмар. Она проснется, и ей снова будет восемнадцать, она окажется в Лондоне со своей дурочкой кузиной Джун. Он снова ее обманул. Как тяжелы веки. Ей завязали глаза, застегнули на запястьях наручники, завернули во что-то тяжелое, опять, зачем, не надо… Было холодно, шел дождь. Она смутно слышала, как капли дождя стучат по крыше машины. Проснулась, когда машина остановилась. Кто-то вынес ее на влажный, холодный воздух, пронес по нескользким ступеням вверх, передал кому-то еще, ее уложили на узкую кровать. Вокруг талии застегнули широкий пояс. Взревели двигатели. Наверное, это самолет, подумала она. Они поднимут ее высоко в небо и столкнут оттуда. С тихим шелестом самолет промчался по полосе, потом взмыл в небо. Ей в волосы вплелись пальцы Его Светлости. Ну конечно. — Зачем ты здесь? — спросил он. — Чтобы служить вам, мой повелитель, — прошептала она. — Раскрой рот, — велел он. Когда он закончил, ей подняли голову и заставили выпить что-то горькое. Она сделала вид, что глотает, но потом отвернулась и выплюнула. Она не знала, почему делает так. Ее ничто не волновало. Все начинается сначала. Он здесь, его пальцы царапают кожу под тяжелой накидкой, впиваются в спину, раздвигают ноги, обвивают их вокруг его пояса. Он никогда ее не отпустит. Никогда не отпустит. Самолет замедлил ход, начал снижаться. Ей заложило уши. Ее усадили вертикально, заставили выпить что-то еще, и на этот раз она проглотила. Это ее не волновало. С легким толчком самолет коснулся земли, вырулил на дорожку и встал. У нее опять закружилась голова. Кто-то отстегнул ее от койки, поднял и вынес по ступенькам в машину. Она проснулась на мягкой, удобной кровати. Он был здесь, двигался поверх нее, но она так устала, ноги будто налились свинцом. Ей было все равно. Опять темно. С ним всегда было темно. Она опять проснулась. Его пальцы лениво чертили круги у нее на груди. — Добро пожаловать в новый дом, — сказал он. — Где мы? — спросила она. — Что ты сказала? — Его пальцы стиснули сосок с такой силой, что она вскрикнула. — Ничего, мой повелитель, — прошептала она. — Простите. — Так-то лучше, — сказал он. — Но еще недостаточно. Повернись. Она не успела пошевелиться — он толчком перевернул ее. Взял за одну руку, затем за другую, вытянул руки над головой и пристегнул запястья. — Вижу, ты многое забыла. Начнем обучение сначала? Нет, нет, нет… Он пыхтел ей в ухо. — Не слышу, — сказал он. — Как пожелаете, мой повелитель. Он не останавливался, пока не получил полного удовлетворения. Она так устала, что не могла даже кричать.* * *
— Да, дом очаровательный, — сказал он. — Хогарт говорил правду. Но он не снял с ее глаз повязки. Она все еще была в темноте. Она исчезла с лица Земли. — Если будешь хорошо себя вести, тебе разрешат выходить, — продолжал он. — Здесь есть небольшой садик, за ним неплохо бы поухаживать. В твоей комнате найдешь обширную библиотеку и пианино. У нас будет больше слуг. Мориц — он кузен Маркуса и страшно неприятный тип. И еще близнецы, они работают на меня. Ты ни в чем не будешь знать нужды. Ни в чем, кроме жизни. — К сожалению, мне придется покинуть тебя, но я буду приезжать, как только смогу. Война окончена, и ты не должна забывать, что я твой хозяин. Ты и дальше будешь делать так, как я скажу. Поняла? — Да, мой повелитель, — ответила она.* * *
По утрам она чувствовала себя плохо. От усталости кружилась голова. Матильда принесла ей чаю, она попыталась выпить, но ее вырвало. Когда Матильда отвернулась, она вылила этот чай. А потом Матильда была очень занята, хлопотала по новому дому, наставляла новых слуг. Она сидела в саду и смотрела на новых слуг, близнецов. Оба были толстоватыми, с темными вьющимися локонами, но лица их не были уродливы, как у Морица. Тот регулярно обходил поместье, зажав под мышкой дробовик. Она видела — они тоже боятся Морица. И боятся говорить с ней. Она задумалась — что же такое сделал с ними Его Светлость, почему они согласны жить здесь. Почему они так боятся. Ее одолевали незнакомые чувства. Она словно стала невесомой. Вернулся аппетит, она начала набирать вес. Однажды, когда она стояла у окна, Матильда взглянула на нее — и чуть не выронила поднос. Вскоре приехал Хогарт. Он был страшно озабочен. — Матильда говорит, у тебя неприятности, — сказал он. — Какие еще неприятности? — спросила она. — С животом, — ответил он. Она никогда прежде не видела Хогарта взволнованным. — С животом и с тем, что в нем есть. Ты беременна, правда? — Кажется, да, — ответила она. Ее переполняло спокойствие. У нее будет ребенок. Она не знала, как это произошло и почему не бывало прежде. Скорее всего, это случилось в самолете, когда она выплюнула горький чай. Матильда с самого начала всегда варила ей горький чай. Наверное, в него что-то подмешивали, чтобы она не забеременела. Она давно уже пыталась не пить этот чай. — Такого никогда прежде не случалось, — говорил Хогарт, теребя манжеты. Ее захлестнуло неимоверное счастье. Потому что у нее будет ребенок! Потому что сама мысль о ребенке наполняла Хогарта ужасом. Хогарт привел врача. Перед его приходом ей завязали глаза. Наверное, он тоже из членов Клуба. — Близнецы, — сказал он. — У нее будут близнецы. Близнецы. Она вернется к жизни. Снова начнет думать, как тогда, когдаслушала радио. Заставит себя думать, а потом убежит. Убежит от Его Светлости, от Хогарта, от них всех — членов Клуба. Родит и убежит. Она будет жить. Снова начнет писать на маленьких клочках акварельной бумаги, а когда в комнате будет темно, спрячет эти клочки в старой заплесневелой книге, которую никто не трогает. Будет разговаривать с новыми слугами, с теми пухлыми, которые всего боятся. Она ненавидит и их тоже, но постарается заговорить. Ей нужно тренироваться, чтобы потом разговаривать с детьми. — Надо немедленно сообщить Его Светлости, — сказал врачу Хогарт. Потом они распрощались. Хогарт вернулся и снял ей с глаз повязку. — Я рожу этих близнецов, — твердо заявила она. Хогарт не знал, что сказать. Впервые в жизни. — Хотите почувствовать, как они шевелятся? — предложила она. — Его Светлость захочет, чтобы вы рассказали ему о них. Хогарт изумленно взглянул на нее. Потом робко положил руку на ее твердый, гладкий живот. С каждым днем он вырастал все больше и больше. Она опустила глаза и посмотрела на его руку. На пальце у Хогарта блестело кольцо. Золотое кольцо. Он забыл его снять. Печатка с хитроумным рисунком обнаженной женщины. Она знала — такие кольца носят все члены Клуба. Она не раз чувствовала это кольцо у них на пальцах, когда они хватали ее за руки. Хогарт забылся, и она увидела кольцо. Она улыбнулась Хогарту.* * *
Один из слуг-близнецов заговорил с ней. Она с удивлением узнала, что он американец. Он спросил, не нужно ли ей чего-нибудь. Она не доверяла ему, не доверяла никому, но ей нужно было с кем-то поговорить. Нужно стать сильной, найти помощь, ради детей. Близнецы помогут ей, если узнают, что она носит под сердцем близнецов. Он сказал, что его зовут Томазино Ченнини, а его брата — Маттео. Сказал, что беспокоится за нее, но она не хотела ему верить — а вдруг он шпионит на Его Светлость? Томазино сказал, что они обязаны Его Светлости жизнью, что он спас их от верной смерти. Они родом из Бенсонхерста, в Бруклине, но во время войны очутились в Италии. Его Светлость велел им звать его мистером Линкольном, рассказал Томазино, потому что он освободил их из рабства. При этих словах ее охватил смех, такой неудержимый, что она чуть не задохнулась. Потом он рассказал о том, что с ними случилось, и ей стало его жаль. Впервые за много лет она почувствовала жалость к мужчине. Но сначала она жалела их только потому, что знала — они не могут причинить ей боль. Такую, какую причинял Его Светлость. И все члены Клуба. Потом она долго думала об этих братьях. Они такие же пленники Его Светлости, Маркуса, Морица и Матильды, как она сама. Только они этого еще не поняли. А может быть, и поняли. Но они были молоды и сильны, хоть и толстоваты. Она просмотрела всю библиотеку и нашла старые книги, где говорилось о кастрации. Наскоро прочитала их, чтобы разобраться, не могут ли они все-таки причинить ей боль, и с удовлетворением узнала, что не могут. Набравшись храбрости, она дала Томазино почитать одну из этих книг. На его лице появилось странное выражение. Он попытался пошутить, и она была готова улыбнуться. Значит, она все еще способна улыбаться. Она все еще человек. Она вернется к жизни. В банке лежат деньги. Счет номер 116–614. Она решила, что Томазино достоин доверия. Ей нечего терять. Если Его Светлость что-нибудь узнает, она понесет самое жестокое наказание. Но придется пойти на риск. Ради детей. Томазино и Маттео помогут ей. Они близнецы. Когда-нибудь она даст Томазино те крохотные клочки бумаги, которые стали ее дневником, он прочитает их и расскажет брату, что с ней сделали. Его Светлость и все остальные. Члены Клуба. (Примечание от Томазино: на этом дневник кончается.)* * *
Гай отыскивает меня на балконе возле голубой спальни, том самом, где в вечер нашего грандиозного бала он в темноте любовался Белладонной. Он протягивает мне дневник. Лицо у него серое, как пепел. Я указываю ему на бутылку бурбона, но он отрицательно качает головой. Никакая бутылка на свете не умерит его боль. Мы долго сидим, ничего не говоря, и прислушиваемся к звукам ночи. Шелестит ветер в листве, беззаботно стрекочут цикады, радостно ухает сова, устремляясь на мышь. В небе перемигиваются звезды. Тонны, и тонны, и тонны, и тонны звезд. — Хотите сигарету? — спрашиваю я наконец. — Я помню вас еще по клубу, там вы курили. А однажды, если мне не изменяет память, прикурили от зажигалки на ожерелье. — Память вам не изменяет, — подтверждает Гай. — Но я бросил курить. Мне кажется, ей это не нравится. — Верно, не нравится. — Я тяжело вздыхаю. — Можно спросить у вас кое о чем? — говорит Гай. — Как нам удалось сбежать? Где второй близнец? Почему она не беременела до тех пор? Гай кивает. — Мне кажется, она правильно догадалась — все дело в горьком чае, который готовила для нее Матильда. В него добавляли какую-то траву, — говорю я. — Я искал рецепт в книгах о целебных травах. Может быть, капля кедрового масла, может, ладан. Если доктора ничего не знают о таком снадобье, это еще не значит, что от него нет толку. У членов Клуба была масса возможностей испытать и это средство, и многие другие. — Ох, Томазино. — В его голосе звучит такая мука, что мне кажется, у меня разорвется сердце. — Гай, когда-нибудь я расскажу вам все остальное. Обязательно расскажу. Вы должны знать все. Но не сейчас. Я слишком устал. Вы все понимаете, правда? — Да, — медленно отвечает он. Бедный, милый Гай. Он сгорает от любопытства. Я бы на его месте точно сгорал бы, прочитай я такой дневник. Мы снова сидим в молчании; у меня затекают ноги. Небо начинает светлеть, над горизонтом загорается розоватая полоска. — Я вылетаю в Лондон, — говорит Гай. — Как можно скорее. Я протягиваю ему карточку с контактным телефоном Притча. — Он ждет вашего звонка, — говорю я. — Он о вас позаботится. Мы безгранично доверяем ему. Может быть, какие-то из имен покажутся вам знакомыми. Или вы даже знаете кого-нибудь из них. — Я знаю людей, подобных им. — Губы Гая сжимаются в тонкую черточку. — В школе они были задирами и развлекались, причиняя боль всем, кто слабее их. Таким был мой брат Фредерик. С одним отличием — он предпочитал женщинам животных. То есть стрелял в них. — Где он сейчас? — спрашиваю я, радуясь случаю переменить тему. — В Кении на него напал носорог. Затоптал насмерть. Меня утешает только одно — что его пришлось похоронить там же. Что он не покоится рядом с моей матерью и сестрой. — Осмелюсь предположить, негодяй получил по заслугам? — мрачно спрашиваю я. — После этого я почти поверил в Бога, — с горечью отвечает Гай. — Но не до конца. — Хотел бы я, чтобы все сложилось по-другому, — с тяжелым сердцем говорю я. — Понимаю. Теперь она не захочет меня видеть, правда? — Правда. Но пусть вас утешит то, что меня она тоже вряд ли захочет видеть. Скорее всего, она закроется у себя в комнате на несколько недель. Сюда уже едет Маттео. Он умеет находить с ней общий язык, он всегда утешал ее, когда ей было очень плохо. Но такой, как сейчас, она не была никогда. Это потому… — Потому что никто больше не читал этого дневника, — подхватывает Гай. — Да. — Не знаю, как у нее хватило мужества записать это. — Я тоже не знаю, — отвечаю я. — Я ее не спрашивал. Она попросила меня переписать все это, чтобы получилось разборчиво, вот и все. Она вела записи на клочках бумаги для акварели, когда все думали, что она рисует. Иногда писала на чистых страницах книги, прячась в ванной, или по ночам. Там, где ее не могли увидеть. Она боялась, что за ней следят. Не все время, но очень часто. Вот почему мы так строго соблюдаем меры безопасности. — Не нужно передо мной оправдываться. Честное слово, не нужно. — Гай, мне будет не хватать вас. Почти так же, как мне не хватает мятных джулепов, которые я так искусно смешиваю. — Моя шутка повисает в воздухе. Сейчас не время для шуток. — Благодарю, Томазино. Мне тоже будет не хватать вас. И я буду скучать по Брайони. И по Белладонне. Куда больше, чем… — Найдите их, Гай. Помогите Притчу их найти, — говорю я. Мой голос срывается. Надо пойти прилечь. — Найдите ее ребенка. Найдите этого человека. Мы так близки к цели. Я знаю, очень близки. Они придут, если не будут знать, кто ты такая. — Я его найду, — с жаром обещает Гай. — Не успокоюсь, пока не найду. Не позволяй одиночеству застудить твою душу. Мне хочется сказать ему, что казематы давно ждут, пыльные, сырые камеры глубоко за винным погребом. Хочется рассказать, что мы уже десять лет ждем, когда же кончится этот кошмар. Рассказать, что уже десятки раз мы были готовы в отчаянии опустить руки, уверенные, что члены Клуба безвозвратно ускользнули от нас. Ты навсегда останешься пленницей мести, если дозволишь ей взять верх над твоей душой. Мне хочется рассказать ему, что жизнь в нас поддерживается только силой воли, той силой, которая заставляет рассчитывать и строить планы. «Я не передумаю, — пообещала однажды Белладонна, беседуя с Леандро. — Я не поддамся слабости… И я заставлю их страдать». Белладонна — смерть твоя.Часть V Трудный путь домой (1956 — 1958)
Белладонна месть таит,Злоба пламенем горит.Луч зеленый в небесах.Слезы жгучие в глазах.Белладонна — смертный страх.
19 Члены Клуба
Они похитили у нее жизнь. Теперь она похитит их будущее. Наконец-то мы дождались звонка от Притча. Он назвал имя одного из членов Клуба. Коллега сэра Патти, как мы и думали. — Пришлось долго раскапывать, — говорит мне Притч. — Осторожно, чтобы комар носа не подточил. В такой ситуации нельзя идти на риск, иначе все дело запорем. Все боятся ошибки, однако он абсолютно, на все сто процентов уверен, что нашел именно того, кого надо. Нашему пострелу можно доверять. — Мы нашпиговали «жучками» весь его дом, контору, прослушивали телефоны, — поясняет мне Притч, прихвастнув самую малость. Он заслужил право на небольшую слабость. — Проникнуть в дом оказалось легче легкого: слуги весьма почтительно относятся к людям в форме. Мы представились работниками телефонной станции и сказали, что проверяем линии. Никаких возражений не потерпим, и спасибо за внимание. Наговорили комплиментов служанкам, пригласили их прогуляться. Накупили побрякушек. И, слово за слово, вытянули из них весь семейный распорядок. А потом, естественно, сбежали, разбив бедняжкам сердца. Некрасиво, очень некрасиво. А я и не говорил, что мы приятные люди. От приятных нет никакого толку. Нам нужен хотя бы один, и все они задрожат от страха быть обнаруженными. Одна-единственная ниточка, чтобы вселить в них тревогу и заставить Клуб собраться на экстренное заседание. Дело, конечно, рискованное, но они на это пойдут. Куда им деваться? Особенно если намекнуть им на бесславный конец сэра Патти. Мы полагаемся на их высокомерие. И то сказать, разве не действовала эта организация сотни лет без сучка без задоринки, устраивая встречи каждые три года по строжайшему расписанию? Даже после того, как Эдуард влюбился в эту глупую американку и она грозила проболтаться? Наверное, какая-нибудь девчонка заартачилась и с ней нужно поговорить по душам; а может, другая явилась в слезах домой, и мама с папой настрочили жалобу в полицию. Но им всегда все сходило с рук. Сойдет и сейчас. Самые надежные шпионы из команды Притча продумали операцию с предельной точностью; по правде сказать, эта команда не помнит такого развлечения еще с военных времен, когда они разгадывали вражеские шифры. Мне кажется, сейчас Притч — единственный из нас, кто купается в безграничном счастье. Но Гаю не до веселья. Он снял номер в «Конноте», затаился и выжидает, а однажды унылым промозглым днем идет с Притчем прогуляться по Грин-Парк. Притч искоса разглядывает Гая, потом начинает не в лад насвистывать. — Что, она у вас из головы не выходит? — как бы между делом спрашивает он. — Вот не думал, что это так заметно, — уныло отвечает Гай. — Она умеет взять за душу, — отвечает Притч. — Не забудьте, я встречался с ней всего один раз. В Италии, когда граф был еще жив. — Какая она была тогда? — спрашивает Гай. — Странная. — Притч плотнее запахивает воротник пальто. — Никогда в жизни не встречал женщины, которая умеет вот так, незаметно, подкрадываться. — Она и до сих пор умеет. — Не удивляюсь. Леандро говорил, слуги называют ее la fata. Она похожа не на человека, а на привидение. Иногда кажется, что она вот-вот испарится прямо на глазах. Необычная особа. — Он снова косится на Гая. — Вижу, вы в нее влюблены. — Да. — Лицо Гая мрачно, как сегодняшнее хмурое небо. — Неужели это тоже так заметно? — То, что вы влюблены, или то, что вы считаете свою любовь безнадежной? Гай смотрит на Притча, удивляясь тому, что этот человек так безошибочно вычислил его. Он готов улыбнуться. У нее в самом деле талант нанимать самых лучших людей. Он вспоминает, как однажды уже имел разговор об этом с вашим покорным слугой. Стоял благоуханный вечер, мы сидели на веранде в Ла Фениче и болтали о том о сем. — Ей с вами повезло, — сообщает он Притчу. — Очень рад, — отвечает тот, — что моя работа помогает решить столь важное дело. — Готов помочь, — говорит Гай. — Всем, чем смогу. Мне нужно чем-нибудь заняться. Пожалуйста, дайте мне задание. — Рад бы. Сейчас основная наша работа — ждать. Мы почти у цели. — Понятно. Они прогуливаются в дружелюбном молчании, оба погружены в мысли о Белладонне. — Можно задать вопрос? — произносит наконец Гай. — Конечно. — Кто такой Джек? Брайони зовет его «дядя Джек». Он работал с ними в клубе «Белладонна», верно? — Да. Джек Уинслоу. Достойнейший человек; она решилась довериться ему, — отвечает Притч. Он в точности знает, что кроется за вопросом Гая. — Заметьте, он тоже был влюблен в нее. Я слышал это в его голосе и однажды, когда мы болтали по телефону, спросил напрямик. «Она сказала, что у нее нет сердца», — вот все, что он мне ответил. Это его чуть не убило. — Но он все равно работает на нее, правда? — Да, но косвенно. Координирует ее дела в Нью-Йорке. Он теперь женат. Обзавелся семьей. Стал немного счастливее. — Понимаю. — Простите, — говорит Притч, приподнимая шляпу. — Мне пора. Если все пойдет, как задумано, я вскоре свяжусь с вами. — Спасибо, мистер Притчард, — говорит Гай. — Зовите меня Притч, — откликается тот. — Меня все так называют. Они прощаются, Гай медленно бредет в отель. Притч направляется к ближайшей пивной — поразмышлять над кружечкой «Гиннеса». Он нашел их слабое место — подобрал ключик, по его выражению. Он доберется до Клуба через сына одного из его членов, некоего сэра Бенедикта Гибсона, парламентария, который тоже присутствовал на похоронах. Идеальный случай: мы заманим его семью в сети и пригрозим скандалом. Заставим раскрыть карты. Сэр Бенедикт проводит рабочие дни в городском семейном доме на Итон-сквер, а выходные — в загородном поместье в Глостершире. Его сыну Арунделу скоро исполнится девятнадцать, и его, по нашим расчетам, вот-вот допустят в райские кущи. Очень впечатлительный юноша. В целом добрый и порядочный, разве что немного избалован. Как почти все мальчики его класса преклоняется перед отцом и в то же время ненавидит его, беззаветно опекает мать и младшую сестренку Джорджину, предусмотрительно спрятанную в частной школе. Прогуливая занятия в Кембридже, Арундел нередко проводит выходные на Итон-сквер, в компании одних только слуг. Родители поощряют это времяпрепровождение — раз уж мальчику все равно надо перебеситься, пусть лучше проводит время в достойном обществе. Ничего страшного, скоро остепенится. Верно, очень скоро. Мы отнимем у Арундела всего несколько часов. Притч пошлет свою лучшую команду, и те без лишних трудностей уберут прислугу с пути. На всякий случай пошлем им пару хороших бутылочек. Но они и без того всегда крепко спят, когда Арундел возвращается с вечеринок. Он мальчик разумный, ведет себя тихо, и, кто знает, вдруг ему захочется тайком привести с собой юную леди? А мы будем вести себя еще тише. Сыщики выслеживают его уже не первую неделю, и операция назначена на сегодня. Единственный рискованный момент — не упустить Арундела в клубе, когда его друзья напьются вдрызг. Мы должны быть уверены, что он идет домой один и не слишком пьяный. Серьезные беседы всегда лучше проводить под покровом ночи. В замке скрежещет ключ; дверь приоткрывается и тут же захлопывается, с тяжелым грохотом, как и положено двери старинного богатого дома. Арундел Гибсон кладет ключ на стол в передней. Проходит в гостиную, скидывает пальто на диван, затем подходит к буфету и наливает себе выпить. Эти звуки хорошо знакомы нам. — Чудесный виски, старина, — произносит чей-то голос. — Лучшего не найти, — поддакивает второй. — Составь нам компанию. — Что? Что такое? — Арундел в панике озирается. Незнакомые голоса в отцовской гостиной так пугают его, что он совершенно теряется. Кроме того, его мысли еще немного путаются после приятного вечера с дружеской болтовней и флиртами, а последний мартини явно оказался лишним. — Кто вы такие, черт побери? — Я — Стриж-один, — говорит первый голос, глубокий и хриплый. — Я — Стриж-два, — говорит второй, такой же. — Зови нас просто Стрижами. — Кто вы такие? — повторяет Арундел, постепенно приходя в себя. — Как вы смеете? — Еще как смеем. — Такая у нас работа. — Что вы здесь делаете? — спрашивает Арундел, подходит к столу и откидывает со лба светло-каштановые волосы. Глаза у него карие, немного потемнее волос, он высок и худощав, взгляд у него решительный. — Почему вломились в дом моих родителей? Я звоню в полицию. — Я бы на твоем месте этого не делал. — Это еще почему? — спрашивает Арундел. — Полиция знает, что мы здесь, — самодовольно отвечает Стриж-один. — Точнее говоря, полиция нас и послала, — подтверждает второй. — Просила побеседовать с тобой. — Полиция не хочет вмешиваться в это дело. — В это чертовски трудное дело. — Еще какое трудное. — Что вы хотите сказать? — спрашивает Арундел. — Что хотим, то и говорим, — отвечает Стриж-один. — Но зачем полиции присылать вас? — озадаченно спрашивает Арундел. — Напряги воображение, милый мальчик. — Мы думали, ты умнее. — Ничего не понимаю, — говорит Арундел. — Моему отцу грозит опасность? — Опасность? Нет. — Не грозит. — Я бы лучше сказал — неприятности. — А вот неприятности — грозят. — Вот почему мы здесь. — Предостеречь тебя. — И попросить тебя о помощи. — Мы надеемся на тебя. — Меня? О помощи? — кричит Арундел. — Что вы такое говорите? — Но все-таки он уже не так насторожен. Певучий речитатив Стрижей, их спокойная уверенность убаюкивают его. Он отпивает глоток виски. Они чувствуют себя как дома, замечает юноша, и ему в голову приходит неожиданная мысль: сам он никогда не испытывал под родительским кровом такого спокойствия. — Мне казалось, профессионалы здесь — вы. — Но ты ему родной. — Тебе он доверяет. — И мы тебе доверяем. — Достоин ли ты доверия, Арундел Сирил Сент-Джеймс Гибсон? — Чудесное имя. Просто шикарное, — вкрадчиво сообщает Стриж-один. — Еще какое шикарное, — подтверждает Стриж-два. — Только произносить трудновато. — Верно. Ладно, к делу. Арундел Гибсон, ты человек чести? — Человек слова? — Можем ли мы довериться тебе? — Как мужчине? — Как джентльмену? — Можем? — Можем? У Арундела голова идет кругом от выпивки и потрясения. — Что вы задумали против моего отца? — выдавливает он. — Что, черт возьми, вы затеваете? — Ты не ответил на наш вопрос, — с грустью произносит Стриж-один. Гости переглядываются. — Некогда терять время, — говорит Стриж-два. — Совсем некогда. — Он не тот человек, какой нам нужен. — Не тот, старина. — Они дружно встают. — Скоро увидимся. — Очень скоро. Горячо благодарим за внимание. — Простите, если напугали. — В следующий раз нам больше повезет. — Погодите. Постойте! Не уходите, — останавливает их Арундел, отставляя бокал, и умоляюще воздевает руки. — Расскажите, что вам нужно. Это касается моего отца. Клянусь, я никому не скажу. Честное слово. — Честное слово, — повторяет Стриж-один. — Честное-пречестное, — поддакивает Стриж-два. — Молодец, старина. — Как мы и надеялись. — Да. И даже лучше. — В самую точку. — По этому поводу надо бы наполнить бокалы. — Не возражаю. — Вы говорили о моем отце? — с раздражением перебивает Арундел. — Да, верно. О твоем отце. — Трудный разговор. — Готовься, старина. — Неприятное дело. Может сказаться на всей семье. — И на матушке. Вряд ли она с легкостью перенесет удар. — Старина, мы рассчитываем на тебя. — Рассчитываете на меня? В чем? — Он окончательно выведен из себя. Решительным жестом откидывает со лба кудрявую челку. — Может разразиться чудовищный скандал, — с горечью продолжает Стриж-один. — Вот почему мы здесь, — поясняет Стриж-два. — Чтобы помешать этому. — Перекрыть поток. — Воздвигнуть плотину, вот зачем. — Готовься промокнуть. — Да расскажите же вы мне по-человечески, о чем идет речь! — кричит Арундел. В комнате мгновенно наступает тишина, Стрижи перестают щебетать. Арундел слышит, как в холле громко тикают часы. Он ничего не понимает, эти люди и их мир абсолютно незнакомы ему, он не ведает, что такие беседы отработаны у них до совершенства. Откуда ему знать, что подобные трюки лучше всего срабатывают на людях молодых и впечатлительных, горячих и нетерпеливых? За свою короткую жизнь он не совершал ничего такого, что могло бы свести его лицом к лицу с сыщиками. — Твой отец, — произносит наконец Стриж-один. — Он никогда не упоминал о частном клубе? — О закрытом клубе для мужчин, — уточняет Стриж-два. — Наподобие «Уайтс»? — спрашивает Арундел. — Нет, не «Уайтс». — Мы знаем, что он в нем состоит. — Мы говорим о куда более закрытом клубе. — О таком, какой никто не стал бы обсуждать со своей женой. — Или с маленьким сынишкой. — Вот с сыном постарше — другое дело. — Но только если он осмотрителен. — О клубе для джентльменов. — Если ты нас понимаешь. — Нет, я… — бормочет Арундел. — Думай, старина, думай, — подначивает его Стриж-один. — Никаких идей? — спрашивает Стриж-два. — Он не говорил, куда отведет тебя, когда ты повзрослеешь? — И докажешь свою мужественность? — И докажешь свою осмотрительность? — Не знаю. Ничего не понимаю! — с жаром отвечает Арундел. — Я не могу думать, когда вы оба болтаете наперебой! Снова наступает благословенная тишина. — Можно еще выпить? — спрашивает Арундел. — Ты заслужил. — Еще бы не заслужил, — бормочет про себя Арундел. — Премного благодарен. — Не возражаешь, если я тоже налью? — Стриж-один встает и наливает себе щедрой рукой, не обращая внимания на лепет Арундела. — И я тоже. — Стриж-два в точности повторяет движения напарника. — О, просто превосходно. — Стриж-один с наслаждением причмокивает. — Как раз то, что надо. Мужественность, — повторяет он. — В самую точку, — говорит Стриж-два. — Чрезвычайно закрытый клуб. — Где состоят лишь немногие счастливчики. — Членство переходит от отца к сыну из года в год. — Из века в век. — Там состоял Эдуард Седьмой. — Человек с неистощимым вкусом к жизни. — Его сын совсем не таков. Скучный тип. — А во всем виноват конь. — Во время войны бедняга упал прямо на него. — И раздавил себе… — Сам понимаешь. — Ужасное происшествие. — Об этом каждый школьник знает, — говорит Арундел, снова раздражаясь. — Старый добрый Джорджи. — Но его сын совсем не таков. — Ох уж этот Эдуард. — Стриж-один качает головой. — Странные вкусы. Никакого самообладания. — Связался с этой дурой Симпсон. — Стриж-два тоже качает головой. — Какое бесстыдство. — Он был единственным, кого исключили из клуба. — За сотни лет. — Позор. — Напрасно мы тебе рассказали. — Мимолетный промах. — Больше такого не повторится, — заверяет Стриж-один. — Никогда, — вторит Стриж-два. — Мы знаем, что можем тебе доверять. — Правда, можем? — Конечно, можем. — Только высшее общество. Все до одного. — Все за одного. — И еще за другого. — Туда подкупом не проникнешь, — доверительно сообщает Стриж-один. — Ни ласками, ни сказками, — столь же доверительно поддакивает Стриж-два. — Уж ласками — это точно. — В том-то и загвоздка. Кое-кто собирается заговорить. — Потому-то мы и здесь, старина. — Но почему вы рассказываете мне все это? — спрашивает Арундел. — Почему не пойдете сразу к моему отцу? Неприятности-то грозят ему! Я понятия не имею, о чем идет речь. Отец никогда не рассказывал мне о своих клубах. Я просто ничего не понимаю. — Значит, он тебя туда еще не ввел, — осторожно произносит Стриж-один. — Гм, — тянет Стриж-два. — Не ввел своего единственного сына. — Это настораживает. — Верно, верно. — Никакого намека? — Ни звука? — Нет, клянусь, ничего, — отвечает Арундел. — Я учился в школе и редко видел отца. Только на каникулах. Он страшно занятой человек. — Даже некогда побыть с родными, — печально качает головой Стриж-один. — С самыми близкими. — Стриж-два тоже кивает. — Негде поговорить по душам. — Так, чтобы не подслушали. — Мне это кажется разумным. — Верно, приятель. — Но я все-таки не понимаю. Если вам нужно предупредить его о чем-то, почему вы не пойдете к нему? — кричит Арундел. — Слишком опасно, — поясняет Стриж-один. — Слежка, — говорит Стриж-два. — Вот в чем дело. — А не то все выплывет наружу. — Но тебе, старина, ничто не грозит, — подмигивает Стриж-один. — Мы объясним, — предлагает Стриж-два. — Мы знаем, что тебе можно доверять. — И что же я должен делать? — уныло спрашивает Арундел. — Скажи отцу, что тебе нужно повидаться с ним, — советует Стриж-один. — Очень просто, — подтверждает Стриж-два. — Скажи, дело неотложное. — Связано с девушкой. — Девушка в беде — это всегда срабатывает. — Как по волшебству. — Скажи, что тебе нужно повидаться с ним. — Безотлагательно. — Скажи, что встретишься с ним в городе. — Пусть останется на выходные. — Но в деревне проще поговорить наедине, — возражает Арундел. — Старина, твоя мама ничего не должна знать. — Здесь хорошо и тихо. — Так очевидно, что никому и в голову не придет. — Как в «Похищенном письме». — Спрятано на самом виду. — Но как быть со слугами? — спрашивает Арундел. Оба Стрижа медленно обводят взглядами комнату. — Что-то я их здесь не вижу, — говорит Стриж-один. — Лежат себе в тепле и уюте, — самодовольно усмехается Стриж-два. — Вы им ничего плохого не сделали? — встревоженно спрашивает Арундел. — А не то… — За кого ты нас принимаешь? — обиженно перебивает Стриж-один. — Мы строгие профессионалы, — важно заявляет Стриж-два. — Пойди, убедись сам. — Мирно похрапывают. — Не о чем беспокоиться. — Совсем не о чем. — Если ты позвонишь отцу и сделаешь, как мы просим. — Все очень просто. Неприятности с девушкой. — Скажи, что дело срочное. — А когда он будет здесь, передашь ему вот это, — говорит Стриж-два и достает толстый конверт из плотной бумаги. Он надписан размашистым наклонным почерком, адресован сэру Бенедикту Гибсону и запечатан щедрым куском темно-багрового воска цвета коктейля «Белладонна». На нем печать сэра Патти, извлеченная из его стола при уборке после безвременной кончины. — Здесь все объясняется. — И не о чем беспокоиться. — Замнем дело в зародыше. — Ты же не хочешь скандала? — От скандала одни хлопоты. — Ужасные хлопоты. — Плохо для дела. — Плохо для семьи. — Он будет благодарен, помяни мое слово. — Он наверняка расскажет тебе обо всем, — говорит Стриж-один. — Пора бы тебе вступить в клуб, — добавляет Стриж-два. — Особенно после этого. — Когда ты спас честь семьи. Стрижи улыбаются во весь рот, приподнимают котелки и собираются уйти. — Только и всего? — Арундел потрясенно смотрит на них. — Вы вламываетесь сюда без приглашения, рассказываете мне фантастическую историю о каком-то клубе и о моем отце, а потом встаете и уходите? Что я должен сделать? — Делай, как тебе сказано, старина, вот и все, — отвечает Стриж-один. Его голос внезапно меняется, в нем уже нет прежнего веселья и ветрености. Арундел бледнеет. — Мы не шутим, — добавляет Стриж-два. — Дело серьезное. Не для малышей. Сделай так, как мы велели, и пусть твой отец разбирается с последствиями. Или подожди, пока последствия сами разберутся с тобой. — Но что, если произойдет ошибка? — спрашивает Арундел. Бедняга, он совсем растерялся. Впервые в его безмятежной юной жизни мальчику предстоит принять серьезное решение, и это для него слишком тяжело. Слишком болезненно. — Какая еще ошибка? — Лицо Стрижа-один, скрытое в тени, чуть-чуть смягчается. — Вот, возьми. Если произойдет катастрофа, можешь позвонить по этому номеру. — Он протягивает Арунделу крохотный клочок бумаги. — Спроси Стрижа. Но помни — только если произойдет катастрофа. Я понятно выразился? — Запомни номер, потом уничтожь, — торопливо добавляет Стриж-два. — Мы не любим мальчиков, которые суют нос не в свои дела. — Очень не любим. — Мы знаем, кто ты такой. — Знаем, где ты живешь. Стриж-один хлопает Арундела по плечу, и тот, не удержавшись, вздрагивает. — Не волнуйся. Ты хороший сын. Я горжусь тобой, старина. — Я был бы рад звать тебя своим сыном, — лучезарно улыбается Стриж-два. — Умница. — Возьми с полки пирожок. — Доброй ночи. — Крепких снов. С этими словами они удаляются. Тяжелая дверь медленно закрывается за ними. Арундел спешит к окну, хочет посмотреть им вслед. На Итон-сквер никого нет, не видно ни тени, не слышно ни ветерка. Арундел протирает глаза, потом обводит взглядом комнату. Они умудрились даже запихнуть в карманы свои бокалы для виски. В гостиной не осталось и следа сказочных Стрижей. Арундел падает в кресло и закрывает глаза. Все это ему приснилось, решает он. Выпил с приятелями слишком много шампанского и по глупости залил его мартини, строил из себя взрослого и умудренного. Вот и расплата — причудливые галлюцинации. А теперь он проснулся, можно лечь в постель и забыть обо всем. Но тут его взгляд падает на толстый конверт, адресованный отцу. Запечатанный толстой каплей темно-багрового воска. Пальцы до сих пор крепко сжимают его. Когда сэр Бенедикт Гибсон, парламентарий, увидит восковую печать, его сердце уйдет в пятки, а к горлу подступит горький комок. Ему покажется, что сэр Патти высунул руку из могилы и тянет его прямо в ад. О, все это было не во сне, а наяву.* * *
Их осталось только восемь. Мы узнали это из писем сэра Бенедикта Гибсона, которые он в панике разослал остальным членам Клуба, созывая на экстренную встречу основателей. К сожалению, он обращался только к внутреннему, самому посвященному кругу, не затрагивая молодых. Хенли, Мортон, Томпсон и Таккер умерли. И, конечно, Уилкс — наш почивший сэр Паттерсон Крессвелл. Покойтесь в вечных муках, негодяи. Считайте, что вам повезло отправиться на тот свет прежде, чем мы устроили вам достойное прощание. Пока что все идет хорошо. Мы знаем, где они устроят собрание. И будем их ждать. Наш план, осмелюсь сказать, изящен в своей простоте. Продумала его, конечно, Белладонна и обсудила все подробности с Притчем. Мы заранее проникнем в дом, где они соберутся, и подсыплем в напитки легких успокоительных средств. Угощать собравшихся будет верная нам прислуга. Наши гости тотчас же погрузятся в приятное оцепенение. Добавьте к этому коктейлю легкий привкус угрозы, мастерское владение оружием и непринужденную ловкость рук, и можете сколько угодно устраивать допросы в свое удовольствие. Сначала, пока они не очнулись от оцепенения, мы обшарим их карманы и бумажники, сфотографируем и перепишем все необходимые документы, как некогда поступили в сэром Патти наши официанты в клубе «Белладонна». Узнаем настоящие имена этих трусов — хватит им прятаться под масками и за титулами. Потом мы аккуратно усадим их для группового портретного снимка. Фотографии нужны потомкам! Точнее, я бы сказал, серии фотографий. На первом снимке все члены Клуба будут сидеть в одну шеренгу, облаченные в свои привычные наряды — монашеские рясы с капюшонами, маски и перчатки. Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка. Досужие зрители, сосредоточив все внимание на странных костюмах очаровательной компании, не разглядят, что под своими рясами все эти люди весьма неудобно привязаны к стульям. Досужие зрители будут задаваться только одним вопросом: что все это значит? Особенно когда прочитают подпись под фотографией: «Члены Клуба». На второй фотографии будет открыто лицо только одного монаха — первого слева. Снимок получится весьма расплывчатым, изображение не в фокусе, однако черты лица будут хорошо различимы. А внизу — все та же надпись: «Члены Клуба». Я бы хотел добавить одну приписку сверху: «Кто вы такие? Зачем вы здесь?» Но Притч переубедил меня. — Это будет слишком откровенно, особенно если мы хотим, чтобы эти снимки увидел Его Светлость, — говорит он мне. — Кроме того, откуда мы знаем, означают ли что-нибудь любимые фразы Его Светлости для других членов Клуба? — Я вынужден согласиться. Иногда даже ваш покорный слуга склоняется перед высоким суждением профессионала. Я уверен, вы уже разгадали хитроумные планы Белладонны. В череде снимков будет обнажаться одно лицо за другим, пока не откроются все до единого. Кто вы такие? Зачем вы здесь? Одна за другой эти фотографии будут представлены публике. Тысячи и тысячи снимков загадочных монахов, сидящих в ряд, отпечатанные на хрупкой белой бумаге расплывчатой черной краской, в мгновение ока заполонят наш благословенный остров, служивший прибежищем для их достопочтенного Клуба. Фотографии появятся везде: запорхают, подобно обезумевшим бабочкам, на станциях метро, повиснут вкривь и вкось на стенах и заборах. Мы засунем их под «дворники» машин, под покровом ночи намертво расклеим по фонарным столбам. Разошлем с утренней почтой избранным болтунам из высшего общества. Снимки таинственным образом лягут на столы парламентариев, будут забыты пассажирами на задних сиденьях такси, рассеются по всем лондонским агентствам новостей. Рьяные репортеры начнут смаковать подробности этой возмутительной, беспрецедентной акции. Лучшие снимки будут даже подсунуты под дверь Букингемского дворца. Скандал! Весь Лондон придет в смятение, потому что каждое утро станут появляться новые снимки. Пока со всех членов Клуба не будут сняты маски. Шум станет куда оглушительнее, чем сплетни, которыми сопровождалось открытие клуба «Белладонна». Кто они такие, эти члены Клуба? Что это за Клуб? Кто в него входит — горькие пьяницы или богачи из богачей? Что они там делают — веселятся? Предаются пороку? Бесстыдствам? И что я должен сделать, чтобы меня приняли? Все это Притч спокойным голосом объясняет членам Клуба несколькими часами позже. Они уже очнулись и все еще привязаны к стульям, сидят аккуратным рядком. В глаза им бьет ослепительный свет, они болезненно щурятся. Головы раскалываются от боли, во рту пересохло, ноги онемели. Они потеряли дар речи. Потому что мы заткнули им рты жесткими тряпками. Не тем тонким полотном, к которому они привыкли. Нам желательно, чтобы в эту минуту публика молчала. Кроме того, именно так они поступили с ней. Они получили по заслугам и, кажется, не вполне довольны своей участью. — Итак, джентльмены, — говорит Притч. Он одет так же, как они, в монашескую рясу и черную маску. Они понятия не имеют, кто он такой, но догадываются — он не из их числа. Это выдает, во-первых, его акцент. Во-вторых, руки без перчаток и пальцы без кольца, а также быстрота в движениях. — Мы чрезвычайно рады, что сегодня ночью вы разделили наше общество. Все в сборе: Дэшвуд, Даффилд, Фрэнсис, Ллойд, Норрис, Степлтон, Уайтхед. Я хочу показать вам кое-что необычайно интересное. Надеюсь, вам понравятся мои сюрпризы. Он подходит к столу и берет только что отпечатанную фотографию, потом возвращается и показывает ее гостям. Великолепный групповой снимок. Притч молча демонстрирует его, задерживается перед каждым, приподнимает, подносит к глазам, чтобы все могли его рассмотреть, даже без очков. Стук его шагов гулко отдается в пустой комнате. Больше не слышно ни звука. Будто бы они умерли и проснулись в весьма неприятном жарком месте. Они начинают нервничать. Напряжение нарастает, заполняет комнату тяжелой пеленой, накатывает бурлящими волнами. Они не могут шелохнуться, не могут издать ни звука. Не могут взглянуть друг на друга, спросить совета. Ситуация чрезвычайно неподобающая. Они не могут ничего, только беззвучно корчиться от страха. А Притч тем временем идет обратно к столу, берет семь других фотографий. Показывает каждому его собственный снимок, потом шесть остальных. Я бы на месте членов Клуба пожаловался на качество. Снимки не слишком привлекательны. — Итак, джентльмены, — повторяет Притч, — позволю себе сделать весьма вольное допущение, что до сей минуты ваша репутация сохранялась безупречной. — Он не видит нужды упоминать мелкое упущение сэра Патти. — Я бы на вашем месте в данную минуту задумался о том, продолжатся ли собрания моего любимого Клуба, доселе проводившиеся со строгой пунктуальностью каждые три года. Задумался бы, не означают ли эти события окончание славной вековой традиции. И еще задумался бы, доведется ли мне выйти из этого дома живым. Последнее выразительное замечание повисает в воздухе, как поцелуй под омелой. — Если вы согласитесь сотрудничать с нами, джентльмены, я даю слово, что вам разрешат покинуть этот дом целыми и невредимыми, в том же виде, в каком вы сюда вошли. Если же предпочтете выйти из игры, дело примет совсем другой оборот. Разрешите мне освежить вашу память. Первая из фотографий, которые вы только что видели, появится на публике завтра утром. — Он радостно улыбается, губы кривятся под маской. — А теперь мы побеседуем наедине с каждым из вас, и надеюсь, вы окажете мне честь и станете сотрудничать. Если вы будете сговорчивыми, процесс собеседования пройдет быстро и безболезненно. В противном же случае… — Он пожимает плечами. Улыбка становится проникновеннее. Внезапно в комнате гаснет свет, а на всякий случай мы еще и опускаем их капюшоны. Изысканная деталь, не правда ли? Мы оставляем их сидеть и медленно поджариваться, просто чтобы у них стало тяжелее на душе. Потом первого из них бесцеремонно взваливают на плечо и относят в небольшую комнату чуть дальше по коридору, где его ждем мы с включенным магнитофоном. Там его опять привязывают к стулу, снимают капюшон, вынимают кляп. Он жмурится, потом вздрагивает. Перед ним стоят точные копии его самого — монахи в рясах. И они не улыбаются. В отличие от Притча, который выделяется среди них. — Кто вы такие? — спрашивает несчастный, пыжась в жалкой храбрости. — Чего вы хотите? — Мы знаем, кто вы такой, Даффилд. Даффилд, — повторяет Притч. — Кольцо у вас немножко не такое, как у сэра Хореса Холливелла, не так ли? — Вам это с рук не сойдет, — цедит он. — Что не сойдет, милый Даффилд? Или предпочитаете, чтобы вас называли сэром Хоресом? Как называет вас дорогая супруга Люсинда? И любящие дети Аманда и Кристофер — как они вас называют? Даффилдом или дорогим папочкой? А ваши коллеги, полагаю, величают вас С.К. Вы ведь советник королевы, подумать только! Давний член Клуба. Да, подумать только! Но с одним из Даффилдов некогда вышли неприятности. Помните? В 1787 году. Он вам не родственник? Или вы просто унаследовали его имя? Сэр Хорес ничего не отвечает. Онемел от страха. — В наказание за снятую маску ослушника навеки исключают из Клуба. Такая доля страшнее смерти, — ровным голосом продолжает Притч. Он слушал кассету с записью сэра Патти столько раз, что выучил ее наизусть. — Верно? Сэр Хорес медленно кивает. — Но мы все-таки возложили на себя эту приятную задачу, — продолжает Притч, делая знак сумрачным фигурам у себя за спиной. — Правила больше не действуют. С Клубом покончено. Навсегда. Какой позор — столь чудесные тайные собрания прекращаются таким бесцеремонным образом. Столько очаровательных женщин! Трепетная дрожь общения, зашифрованные письма, тайные встречи. И торги. О, какие были торги! Отменяются навеки. Прекращены людьми, облаченными в такие же маски, как и вы. Неизвестными. Непознаваемыми. Он стоит так близко к сэру Хоресу, что тот видит, как на шее у тюремщика пульсирует синеватая жилка. — Вы готовы к смерти? Молчание. — Готовы? — Он подает знак, сумрачные фигуры подходят ближе к сэру Хоресу, и тот кричит от невыносимой боли. Жаль, что стены в этом доме очень толстые. Остальные члены Клуба не могут слышать его пронзительных криков. — Мы не желаем вам смерти, — говорит Притч, спокойно прихлебывая чай. — Во всяком случае, не сейчас. Не раньше, чем вы предстанете перед публикой и расскажете нам все, что мы хотим. — Но почему я? — шепчет сэр Хорес, перестав стонать. — Такие, как вы, всегда спрашивают: «Почему я?», верно? — голос Притча дрожит от гнева. — Можно подумать, вы ни в чем не виноваты. Можно подумать, мы выбрали вас и всех остальных без всякой на то причины. Глупец. Все кончено. Понимаете? Клуб закрылся. Но с вами мы еще не покончили. Нет, уважаемый, ни с вами, ни с вам подобными. Вы от нас не ускользнете, как не могли ускользнуть женщины, которых вы продавали с аукциона. — Чего вы хотите? — спрашивает сэр Хорес. — Громче, — откликается Притч. — Не слышу. — Чего вы хотите? — повторяет тот, в его голосе звенит ужас. — Чего вы хотите? — Восьмого, — отвечаетПритч. — Здесь вас только семеро. Что касается Хенли, Мортона, Томпсона и Таккера, нам известно, что они уже предстали перед высшим аукционистом, который ожидает их в аду. И Уилкса, конечно, тоже. Прошу прощения. Я хотел сказать — сэра Паттерсона Крессвелла. Где же восьмой? Бейтс. Где Бейтс? Он мертв? Он блефует. Наш Притч — истинный профессионал. Мы еще не знаем, который из них — Его Светлость. И не узнаем, пока люди Притча не доставят Белладонне магнитофонные записи допросов каждого из них. Она ждет этих кассет, вместе с ней ждем и мы с Маттео. Нам нужно услышать звук их голосов. Просто у Притча вдруг возникло предчувствие, что Его Светлость — именно восьмой. Тот, кого здесь нет. Тот, кого зовут Бейтс. Поймать его так, как остальных, — это было бы слишком легко, даже после наших приготовлений. Он очень хитер. И уже девять лет, с тех пор, как она сбежала, он ждет, когда с него сорвут маску. — Не знаю, — говорит сэр Хорес. Имя Бейтса напугало его еще сильнее, чем весь наш спектакль, хотя кажется, что сильнее уже некуда. — Не знаю. — Знаете, — возражает Притч. — Либо вы скажете нам, либо проведете остаток своих дней в мучительной боли и унижении. Когда сэр Хорес устает кричать, Притч снова приступает к расспросам. — Не могу вам сказать, — произносит сэр Хорес после бесконечно долгого молчания. — Почему же? С какой стати вы его защищаете? По спине Притча пробегает дрожь возбуждения. Теперь он знает. Знает наверняка, что нам нужен Бейтс. Наверное, Бейтс каким-то образом шантажировал их, чтобы добиться молчания. «Чем же? — лихорадочно спрашивает себя Притч. — Чем он купил их молчание?» Пленкой, вот чем. То самое хитроумное приспособление в маленькой комнате, которое я, смутно помнится, однажды упоминал. Его Светлость наверняка заснял на пленку всех своих гостей, кто проводил время с ней. Неудивительно, что он был так доволен своим креслом и маленьким окошечком в стене, теми давними днями, когда она лежала, прикованная к стене, а его голос звучал у нее в ушах, приказывал, что делать с гостями. Со всеми членами Клуба. Проклятье. Притчу нужно время, чтобы перестроиться. Он передает сэра Хореса на попечение коллег, зная, что извлек из него все, что возможно. С каждым из них произойдет точно такой же разговор, если только они не скажут, где найти Бейтса. Кроме того, вряд ли вы захотите, чтобы я пересказывал вам подробности беседы с каждым из членов Клуба. А не то вы станете такими же садистами, как они. Нет, они скорее пойдут на риск показаться публике в виде зернистых групповых фотографий, чем посмеют навлечь на себя гнев Бейтса. Иначе он опубликует куда более опасные снимки. Что ж, поживем — увидим. За дело берутся наемные работники. Ночь будет долгой. Надо напечатать тысячи копий первой фотографии, заплатить сотням людей, который будут их распространять. Богатые, как я уже говорил, ничего не смыслят в деньгах. Зато те же деньги творят чудеса, если вам нужно нанять бедняков для серьезной работы.* * *
Вы наверняка помните, какой начался фурор, когда появились первые фотографии. Даже американские газеты написали о таинственных снимках, наводнивших Англию. Кто они такие, эти члены Клуба? Кто взял на себя труд организовать столь хитроумную интригу? Выяснить, что же все это значит, — это, пожалуй, даже интереснее, чем провести ночь в клубе «Белладонна». Если, конечно, вы не один из семерых монахов, глядящих в камеру с непонятным выражением в глазах. Кто они такие? Зачем они здесь? Вся Англия гудит от нетерпения. Кроме нас. Мы ждем. Когда мир увидел без масок пятерых из семи монахов, в конторе у Притча зазвонил телефон. — Слушаю. — Трубку снял один из ассистентов. — Можно поговорить с мистером Стрижом? — Кто его спрашивает? — интересуется ассистент. — Арундел Гибсон. Итак, свершилось. Вот он, достопочтенный сын. Великолепно. Найди у них слабое место, учил Леандро. Найди слабое место и бей прямо в него. — Не вешайте трубку. — Ассистент спешит к Притчу и докладывает о звонке. Глаза Притча вспыхивают, как подбитые бриллиантами каблуки Белладонны, когда она идет от столика к столику у себя в клубе, неторопливо обмахиваясь веером. — Мистер Гибсон, — говорит Притч, слегка понизив голос. — Как я понимаю, произошла катастрофа. — Да. Помоги мне, Господи, да, катастрофа! — Голос Арундела звенит, как натянутая струна. От волнения он даже не понимает, что говорит не со Стрижами. — Мне нужно как можно скорее встретиться с вами. Безотлагательно. — Понимаю, — отвечает Притч. — А откуда мы знаем, что тебе можно доверять? — Проклятье, старик, я звоню из автомата, — кричит юноша. — Мне необходимо встретиться. О моем звонке никто не знает. И уж конечно не знает отец. Даже сейчас. Если узнает, оторвет мне голову. Или лишит наследства. — Не вешайте трубку, — говорит Притч, кладет трубку на стол и дает Арунделу с минуту покипеть. Потом снова начинает разговор. — Встретимся сегодня вечером в «Серой Лисице». Это пивная в Олдгейт-Ист, на Олд-Монтегю-стрит. Ровно в восемь часов. Если придете не один, встреча отменяется. — Олдгейт-Ист? Вы с ума сошли? — восклицает Арундел, не в силах сдержаться. Этот трущобный район Ист-Энда не имеет ничего общего с роскошным миром Итон-сквер. — Ровно в восемь, старина, — повторяет Притч и вешает трубку. Потом перезванивает Стрижам и дает им указания. Ровно в восемь появляется Арундел, испуганный и взволнованный. Стриж-один и Стриж-два уже поджидают его в темном уголке, спиной к стене, и потягивают виски. На столе стоит стремительно пустеющая бутылка, побитое ведерко со льдом и бокал для гостя. — Угощайтесь, старина, — предлагает Стриж-один. Арундел усаживается рядом с ним, встревоженно озирается и хорошо знакомым им нервным жестом откидывает волосы со лба. За единственным столиком рядом с ними сидит, поглощая «Гиннес» пинту за пинтой, взъерошенный пьянчужка. Разумеется, не кто иной, как сам Притч. — Плоховато выглядишь, — замечает Стриж-два, наливая Арунделу виски. — Неудивительно, — поддакивает Стриж-один. — Нелегко тебе пришлось. — Столько хлопот сразу. — Ужасное происшествие. Ужасное. Арундел прячет лицо в ладонях, потом опрокидывает виски. — Ты один, старина? — спрашивает Стриж-один. — Конечно. У кого хватит глупости следовать за мной в эту Богом забытую дыру? — Я не об этом, — тихо возражает Стриж-один. — Мы знали, что на тебя можно положиться, — добавляет Стриж-два. — На случай, если за тобой следят. — Осторожность не помешает. — Вы вдвоем способны поднять мертвого. Хотя бы ради того, чтобы заткнуть вам рты, — раздраженно огрызается Арундел. — Что верно, то верно, — Стриж-один, кажется, обижен. И Стриж-два тоже. — Правду говоришь, — поддакивает он. С минуту все молчат. Потом Арундел высмаркивается и вздыхает. — Катастрофа, — напоминает ему Стриж-один. — Срочное дело, — говорит Стриж-два. — Мы ждем. — Поторапливайтесь же. — Хлопотное дело, — доверительно сообщает Стриж-один. — Не ваша вина. — Как раз моя! — выкрикивает Арундел, потом, испугавшись всплеска своих эмоций, зажимает рот ладонями. — Я отдал отцу письмо, и посмотрите, к чему это привело! О, эти юношеские страсти. Он в самом деле прелестный мальчик. Слишком прелестный, чтобы вводить его в Клуб. Им нужны только испорченные. Те, чья развращенность поможет втянуть их в торги. — Продолжай, — сурово велит Стриж-один. — Слишком самонадеянно, — замечает Стриж-два. — Вина совсем не на тебе. — Послушай, старина, — продолжает Стриж-один, — и послушай внимательно. Тебе не в чем себя винить. Мы избрали тебя именно потому, что на тебе нет никакой вины. Потому что мы знаем, что тебе можно доверять, что ты честен, прямодушен и, осмелюсь сказать, небезразличен к чести семьи. Если бы мы не выбрали тебя, был бы послан другой, менее достойный вестник. Ты мне веришь? Веришь? Он говорит так искренне, что Арундел кивает. Глаза юноши наполняются слезами. Ни разу еще Стриж-один не говорил так много на одном дыхании. — Вина лежит на членах Клуба, — добавляет Стриж-два. — На них и только на них. — Но что они сделали? Такое ужасное? — спрашивает Арундел. — Что они сделали? — Чего они только ни делали! — Обман, старина. — Обман и мошенничество. — Но половина моих знакомых замешаны в тех или иных обманах и мошенничествах, — говорит Арундел. Стриж-два содрогается. — Я бы не назвал таких людей своими друзьями. — А я и не говорил, что они мне друзья, — протестует Арундел. — Где они научились таким проделкам? — продолжает Стриж-два, будто не слышит его. — Может, у дорогого папочки? — предполагает Стриж-один. — Возле папочкиного колена. — Точнее, перекинутыми через папочкино колено. — Суррогатного папочки. — То есть директора школы. — И его хлыста. — Розг. Трости. Плетки. — Или у школьных приятелей. — Или даже у нянюшки. Стриж-два в ужасе отшатывается. — Неужели даже нянюшки? — Боюсь, что да, — откликается Стриж-один. — О чем вы говорите? — раздраженно кричит Арундел. — О том, что сделало их такими, о чем же еще, — поясняет Стриж-один. — Что их сотворило, — добавляет Стриж-два. — Что их изуродовало. — Изуродовало кого? — не понимает Арундел. — Членов Клуба, кого же еще. — Почему они такие жестокие. — Почему их нужно остановить. — Но что натворили эти члены Клуба, кроме мошенничества? — спрашивает Арундел, теряя терпение. Стрижи переглядываются, потом смотрят на Арундела. Тошнотворная тяжесть под ложечкой переходит в мучительную жгучую боль. Его родной отец — один из тех извращенных негодяев, о которых толкуют Стрижи. Его отец — среди монахов, скоро с него снимут маску, и весь мир увидит, кто он такой. Отец знает все о том, что рассказывают Стрижи. Его родной отец. — Тебе можно доверять? — спрашивает Стриж-один. — Доверять безоговорочно? — спрашивает Стриж-два. — Об этом не принято рассказывать. — Тем более детям. — Я не ребенок, — протестует Арундел. — И я дал вам слово. Слово чести. Стрижи переглядываются. — Клянусь, — с жаром добавляет Арундел. — Клянусь честью сестры. — Старина, они обманывали женщин, — тихо говорит Стриж-один. Арундел никогда не слышал в его голосе такой мягкости. — Даже не женщин. Молодых, невинных девушек. Не старше тебя. — Вы хотите сказать — они их соблазняли? — спрашивает Арундел. — Нет, — отвечает Стриж-два. — Отнюдь не соблазняли. Наступает молчание, и впервые за все время знакомства Арундел горячо желает, чтобы они заговорили. — Но что же они с ними делали? — спрашивает он. — Продавали с аукциона, — отвечает Стриж-один. — Обманом завлекали их, одурманивали наркотиком и продавали с аукциона тому, кто заплатит самую большую сумму, — добавляет Стриж-два. — Из расчета — тысяча долларов в неделю. — Тот, кто купил девушку, мог делать с ней все, что вздумается. — Они устраивали собрания каждые три года. В разных домах. — Это продолжалось из века в век. — Традиция, понимаешь. Зашифрованные письма. — Секретность подогревала удовольствие. — Но самым большим развлечением были торги. Они снова замолкают. Лицо Арундела становится мертвенно-серым, как зимнее небо перед бурей. Он с трудом сдерживает тошноту. — И мой родной отец был одним из них, — сдавленно произносит Арундел. — В этих гнусностях участвовал мой отец. — Боюсь, что да, старина, — говорит Стриж-один. — Мать об этом знает? — спрашивает Арундел. — Конечно, нет. — Ну зачем ему это нужно? — вопрошает Арундел. В его глазах стоят слезы. — Зачем ему это было нужно? Он когда-нибудь покупал?.. — Не знаю, — отвечает Стриж-один. — А зачем вообще человеку нужно такое? — Власть, — говорит Стриж-два. — Жажда власти, стремление повелевать. — Порочность. — Неужели я стану таким же, как отец? — чуть не плачет Арундел. — Не станешь, старина. — Ни за что. — Откуда вы знаете? — спрашивает Арундел. — Ты же здесь, не так ли? Говорил, разразилась катастрофа, — напоминает Стриж-один. — Но еще не сказал, какая именно, — добавляет Стриж-два. — Я знаю, что на этой фотографии есть мой отец, — говорит Арундел. Стрижи понимают, какую фотографию он имеет в виду. — И я хочу знать, что я могу сделать, как остановить это, прежде чем его лицо откроется, как лица всех остальных. С тех пор, как начали появляться снимки, отец сам не свой. Заболел, не выходит из дома, а мать страшно беспокоится. Я не хочу, чтобы с моей матерью случилось что-нибудь плохое. Или с сестрой. — Или с тобой, — спокойно добавляет Стриж-один. — Например, подмочит репутацию, — столь же спокойно говорит Стриж-два. — Как вы смеете? За кого вы меня принимаете? — восклицает Арундел, не веря своим ушам. — Я здесь не ради того, чтобы выгораживать себя. Господи, да я и сам не знаю, что делаю. Наверно, схожу с ума, и мне не с кем больше поговорить. Я знаю, мой отец что-то затевает. К нему приходит гораздо больше гостей, чем обычно, и… — Знаем, старина, — перебивает Стриж-один. — Осторожность не помешает, — говорит Стриж-два. — Ради твоей собственной безопасности. — Боже, помоги мне. — Арундел снова прячет лицо в ладонях. — Девушкам никто не помогал. — Никто на всем свете. — Но ты можешь им помочь. — Ты и больше никто. — Что вы хотите сказать? — спрашивает Арундел, выпрямляясь. — Когда маски будут сорваны со всех, Клуб прекратит свое существование, — поясняет Стриж-один. — Давно пора, — добавляет Стриж-два. — Но среди них есть один человек. — Мой отец, да? — спрашивает Арундел. — Нет. Не твой отец, — отвечает Стриж-два. Арундел глубоко вздыхает и допивает виски. — Худший из них, — говорит Стриж-один. — Самый худший. — Ты поможешь найти его? — Поможешь? Арундел вытирает глаза. Его губы сурово сжимаются. В эту минуту он невероятно похож на Гая, будто мгновенно повзрослел, из юного теленка, поглощенного только собой, превратился во взрослого мужчину, способного встретить лицом к лицу жестокую реальность этого мира. Добро пожаловать в Клуб! — Я вам помогу, но при одном условии, — говорит Арундел. Стрижи наливают себе виски и бесстрастно молчат. Они умеют ждать. Арундел набирает полную грудь воздуха. — Условие такое: вы не станете раскрывать лицо моего отца, — говорит он. — И, если он предоставит мне все нужные вам сведения, вы прекратите распространять фотографии. По крайней мере, те, на которых показано его лицо. Я прошу не ради себя. И не ради него, подлеца. Только ради матери и сестры. А что будет со мной — мне все равно, — заканчивает он. — Или с твоим отцом, — говорит Стриж-один. — Нет. С отцом — не все равно, — возражает Арундел, и его лицо бледнеет еще сильнее. — Ты хороший юноша, — серьезно произносит Стриж-один. — Я бы гордился таким сыном. — Я сын своего отца, — с горечью говорит Арундел. — И своей матери, — добавляет Стриж-два. — Сейчас это меня не утешает. — В голосе Арундела слышится бесконечная усталость. — Расскажите, что я должен сделать. — Скажи ему: Бейтс. Бейтс в 1935-м. — Спроси, где сейчас Бейтс. — Бейтс никогда не узнает, как мы его нашли. — Мы умеем заметать следы. — Что верно, то верно, — бормочет про себя Арундел. — Фотографии перестанут появляться. — Клуб будет забыт. — Если у него хватит сил рассказать своему единственному сыну. — Где находится Бейтс. — А иначе мы не можем ничего гарантировать. — Совсем ничего. И они снова замолкают. Время от времени у стойки бара слышится смех, но голосов не разобрать. — Я падаю в кроличью нору, верно? — наконец произносит Арундел. — В эту нору сталкивали девушек, — говорит Стриж-один. Его голос снова становится на удивление мягок. — И не давали им выбраться. — Хочешь, мы зайдем к тебе домой? — предлагает Стриж-два. — Чтобы тебе не пришлось вмешиваться. — С удовольствием, старина, — поддакивает Стриж-один. — Нет, благодарю, — отвечает Арундел. Он так печален и растерян, что я охотно оделил бы его лучшей из своих ослепительных подбадривающих улыбок, если бы я, конечно, был там. В такие минуты моя природная сентиментальность лишает меня воли. — Ты совсем не такой, как он. Намного лучше, — говорит Стриж-один. — Слабое утешение, — отвечает Арундел, затем встает и откланивается. — Позвони нам, когда будешь готов, старина, — говорит Стриж-один и протягивает клочок бумаги с новым телефонным номером. — Мы ждем. — Ты нас не подведешь, — говорит Стриж-два. — Вы упустили свое призвание, — говорит им Арундел, надевая шляпу и застегивая пальто. — Вам следовало бы выступать в мюзик-холле. — Ловко у нас получается, правда? — Молодцы мы, верно? Стриж-один встает, берет Арундела за руку. — Вы храбрый человек, Арундел Сирил Сент-Джеймс Гибсон, — говорит он. — Я считаю за честь быть знакомым с вами. — Я тоже, — говорит Стриж-два, тоже пожимая юноше руку. — Мы тебя не подведем. — Никогда. — Ни за что. Арундел расправляет плечи и выходит — навстречу жестокому миру и своему отцу.* * *
Мы так никогда и не узнали, что же сказал Арундел Сирил Сент-Джеймс Гибсон своему отцу. И что отец сказал другим членам Клуба. Знаем мы только одно: через несколько дней Арундел звонит по номеру, который мы ему дали, и называет имя. Комптон Бейтс. Марракеш. Не появлялся в Англии с 1944 года, но каким-то образом держится в курсе событий. О, у Его Светлости железная хватка. Его жаркие, сухие пальцы в пустыне стали еще горячее. Наслаждается жизнью у себя в гареме, где женщины исчезают без следа. Где тайну можно купить куда дешевле, чем жаждущую плоть. Это все, что мы хотели знать. Еще с одного члена Клуба снята маска, но затем фотографии перестают появляться столь же неожиданно, как и начали. Все желают знать: кто же этот седьмой монах? Что это за Клуб? Кто придумал всю эту затею? Кто в ответе? Шестеро членов Клуба, с чьих лиц были сняты маски, молчат. Их жизнь окончена. Они лишились всего; репутация, работа, если она у них есть, семья, положение в обществе — все разбито, разрушено, загублено навеки. Их будущее развеялось по ветру, сгорело в пламени фотовспышки. Они не заслуживают ничего, кроме гибели и унижения. Мы отыскали их и растерли в порошок, и с этой минуты членов Клуба больше не существует. Некогда такие грозные и могущественные, они стали карликами рядом с Его Светлостью. Нам, по правде сказать, до них теперь дела нет, так же как до Джун и ее загубленной семьи. Мы выбросили их, как лопнувшие воздушные шарики после дня рождения. Наша команда стягивается для решающего удара. Это сейчас самое важное. На взятки уходит куча денег, но мы выкладываем их, не моргнув глазом. Документы и фальшивые паспорта в полном порядке. Комптон Бейтс, видите ли, тяжело болен. Так болен, что, отыскав его, мы вынуждены вывезти его из страны, привязав к носилкам, и на частном самолете отправить к нашему личному онкологу в Вашингтон. Самолеты заранее наняты, пилоты готовы, их время оплачено. Они рады понежиться у бассейна в Мамунии, ожидая сигнала. Сначала они вылетят на небольшом аэроплане в Лиссабон, потом пересядут в самолет побольше для перелета в Вашингтон, затем доставят нас в Кинг-Генри, штат Виргиния, и опустятся на частной взлетно-посадочной полосе посреди плантации. После того бакшиша, который им уплачен, мы могли бы сказать, что таинственный пассажир — Никита Хрущев собственной персоной, и они не моргнули бы глазом. Вы же не хотите узнать подробности, верно? Вот и правильно. Мы совсем близко к цели. Отыскав его в Марокко, мы долго наблюдали. Когда после скандала с монахами прошло шесть недель, мы решили, что его бдительность усыплена, и похитили его. Одурманили наркотиками, завязали глаза, держали его в темноте. Как они держали ее. Потом его привязали к носилкам, опутали веревками, как фаршированную куропатку, и вознесли в ночное небо. Приземлился он сутки спустя на нашей взлетной полосе. Его осторожно вынесли из самолета и доставили в дом. Вниз по лестнице, все ниже и ниже, мимо запыленных бутылок в винном погребе, в глухую темницу. Может быть, когда он проснется, прикованный к шершавой кирпичной стене, то влажный, затхлый запах подземелья напомнит ему о чем-то, затронет позабытую струну. Тогда он поймет, где оказался. Его Светлость неподвижно застыл в наркотическом сне. Притч снимает с его глаз повязку и бросает на пленника последний взгляд. Потом поднимается в кухню, где ждем мы все — Белладонна, Маттео, прибывший накануне ночью вместе с Гаем, и я. Мы просим Гая посидеть у дверей спальни Брайони и проследить, чтобы она не проснулась, и он с неохотой соглашается. Брайони всем сердцем скучала по Гаю, она еще не знает, что он здесь, а Белладонна ничуть не радуется его возвращению. С того дня, как несколько недель назад Притч прислал ей магнитофонные записи голосов, она почти не выходит из своей комнаты. — Рад видеть вас снова, — говорит Притч Белладонне. Она нисколько не постарела, с удивлением замечает он. Наверное, дело в той неземной ауре, которой она себя окутала. Лишь тончайшие морщинки на лбу и в уголках губ дают понять, что она стала тверже и жестче. — Был ли там мой мальчик? — спрашивает она. — Вы видели в Марокко маленького мальчика? Притч отрицательно качает головой. — Мы везде искали, — говорит он. — Следили за ним несколько недель. Но ни разу не видели его с мальчиком. Ни разу. Однако на всякий случай я оставлю своим людям это задание. Белладонна, огорченная, садится. — Я знаю, вы сделали все, что в ваших силах. Я никогда этого не забуду. Ничего не забуду, — произносит она наконец. Понимаете, мы знаем, что это он. Мы не сомневаемся: наш пленник — Его Светлость. Мы с Белладонной прослушали на кассетах голоса всех семи членов Клуба. Я, конечно, не часто слышал его голос, но все равно никогда его не забуду. Его мы на кассетах не нашли — зато теперь он у нас в руках. — Не могу назвать это дело неинтересным, — отзывается Притч. — Лучшая работа, какая у меня была. — Что вы хотите сказать — была? — спрашиваю я. — Мне пора выходить из игры, — спокойно отвечает он, глядя на Белладонну. — Я сделал все, что мог, теперь дело за вами. Только вы знаете, как поступить дальше. — Понимаю, — говорит Белладонна. Проклятье. Мы с Маттео тревожно переглядываемся. Я не желаю ничего понимать; мне не хочется оставаться лицом к лицу с Его Светлостью, или мистером Линкольном, или как его еще назвать, без опытного руководства Притча. Я не хочу думать о маленьком мальчике. Пожалуйста, Притч, прошу тебя. Не уходи. Ты нам так долго помогал… — Мое место займет Гай, — добавляет Притч. — Он очень хочет помочь. Дозвольте ему это. Обещайте. Для него это очень важно. — Он поправляет шляпу, похлопывает себя по животу и откланивается. Он непременно хочет улететь в Лондон сегодня же вечером. Я не могу его за это упрекнуть. Я провожаю Притча к самолету, и он знает, чего я жажду услышать. — По моему мнению, — говорит он, — мальчик мертв, и нам его не найти. Чтобы удостовериться окончательно, я отправлю в Бельгию своих людей обыскать поместье. — До сих пор мы не могли пойти на такой риск — наше появление в поместье могло насторожить Его Светлость, и он понял бы, что мы вышли на его след. — На это, конечно, понадобится время, потому что мы не знаем, где именно надо искать. Но как только мои люди что-нибудь выяснят, они непременно дадут знать. — Хогарт что-то говорил об этом перед смертью. Только я не могу вспомнить, что же именно, — говорю я. — Стараюсь припомнить, но в тот миг я стоял в дверях, а Хогарт разговаривал с Белладонной, а не со мной. Но спрашивать ее бесполезно — она вычеркнула все эти события из своей памяти. — Прекратите думать об этом, и тогда его слова вспомнятся сами собой, — советует Притч. — Вы в самом деле полагаете, что Тристан мертв? — Да. Если бы я считал, что есть хоть капля надежды, то ни за что не отошел бы от дел. Будь малыш ему нужен, он держал бы его при себе в Марокко. Таково мое скромное мнение. — Самое просвещенное мнение на свете, — говорю я ему. — И еще: на прощание хочу вам сообщить, что у некоей пивной в Мэйфэре под названием «Ведьмино зелье» новый владелец. Бумаги ждут вас в вашей конторе. Надеюсь, бочка с «Гиннесом» не опустеет до конца ваших дней. Вы заслужили эту награду. Как я люблю делать широкие жесты! Даже сейчас, когда на сердце у нас невыносимо тяжело. Притч сдавленно благодарит меня, потом удаляется. Кто знает, пересекутся ли когда-нибудь еще наши пути? Когда я возвращаюсь, Белладонна сидит в кухне, рядом с ней на столе лежит маска. Дрожа от холода, просачивающегося из подземелья, она завернулась в плащ, ее лицо залито серой бледностью, как перчатки, которые она только что сняла. Она смотрит в никуда, в пустоту такую страшную, что мне не хочется заглядывать туда. Я сажусь возле нее. Наконец приходят Гай с Маттео. Мы ждем, когда Его Светлость очнется. Наконец Белладонна встает и надевает маску. Мы с Маттео тоже встаем, но она нетерпеливым взмахом велит нам остаться, потом спускается по лестнице. Она хочет увидеть его в одиночку. Хочет быть рядом, когда он проснется и поймет, где находится и кто взирает на него из душного сумрака темницы. Она сидит возле него час за часом. Наконец он шевелится и пытается встать, но не может. Тянет за цепи и понимает, что он прикован. Его глаза щурятся, привыкая у тусклому свету, он снова дергает за цепи, хочет встать. Тут в камере вспыхивает ослепительный свет, и он отворачивается. Потом опять смотрит на нее. Его глаза привыкают к яркому сиянию, и по другую сторону решетки перед ним возникает ее лицо, прикрытое маской. При виде ее он улыбается. Он узнает ее под любой маской. — Давно ждал тебя, — говорит он. Она не отвечает, лишь ставит фонарь у ног. Так проходит час, а то и больше. Мы больше не можем ждать; втроем мы торопливо спускаемся в подвал, и нас окутывает запах страха. Не слышно ни звука, только эхом отдаются шаги да скрежещет наше хриплое дыхание. «Как она может выносить это?» — спрашивает себя Гай. Как ей удается не сойти с ума? Она сидит на низенькой табуретке у дверей камеры, сгорбленная и обессиленная, как сидела, когда мы беседовали с сэром Патти. Смотрит сквозь решетку на Его Светлость, а он смотрит на нее, и на его губах играет странная усмешка. — Белладонна, — шепчу я. — Дай нам увидеть его. Она не шевелится, будто и не замечает нас. Я поднимаю с пола фонарь, камеру заливает яркий свет. Он щурится, потом узнает меня и Маттео. Его улыбка становится еще шире. — Дай-ка взглянуть, — шепчет мне Гай, подходит к решетке и заглядывает в камеру. Его Светлость чуть поворачивает голову и видит Гая. И вдруг разражается смехом. Смехом таким ужасным, что я торопливо ставлю фонарь и инстинктивно зажимаю уши. Это жгучее, язвительное карканье перекатывается по стенам и обрушивается на нас со всех сторон. Он хохочет и хохочет, не умолкая. Фонарь светит так тускло, что я едва различаю Гая, но готов поклясться, что его лицо побелело, как в тот давний день, когда он впервые увидел Брайони. В тот раз его бледность проступила даже сквозь загар. Мое колено подергивается от боли. Белладонна внезапно встает и выходит, мимо винных бутылок поднимается по лестнице. Мы без промедления следуем за ней. — Ты знаешь, кто он такой, — говорит Белладонна Гаю, когда мы наконец вернулись в благословенный уют хорошо знакомой кухни. Ее голос ровен и тускл. — Да, я знаю, кто он такой, — отзывается Гай. Его голос доносится издалека, из той страшной пустоты, куда она глядела совсем недавно. — Скажи, — велит она. Гай смотрит на нее и хочет улыбнуться, но у него не получается. Потом говорит: — Он мой отец.20 Маски спадают
Три коротких слова: он мой отец. Три коротких слова: кто ты такая? — Я думала, твой отец умер, — тем же бесстрастным голосом произносит она, когда мы оправились от удара. Мы вышли на веранду, в ночь, наполненную шорохами, писками, голосами зверей, вышедших на охоту. Мне не хочется оставаться в доме, где внизу, у нас под ногами, заперт он. Никому из нас не хочется. — Я тоже так думал, — бормочет Гай. — Почему ты решил, что он умер? — спрашиваю я. — Наверное, мне так хотелось поверить в это, что в 1944 году, когда он исчез, я сам себя убедил, — отвечает Гай. — Мой брат Джон Фрэнсис сначала думал, что его держат во вражеском плену, потому что он уехал на континент — не помню точно, в каком году это было — и не вернулся оттуда. Я не верил, что он мог покинуть этот мир хоть на миг раньше, чем ему предначертано. Не знаю, почему. Но я предпочитал держаться подальше от Джона Фрэнсиса. — Я искал его в «Дебретте». Твоего отца, — говорю я, раскрывая свою полную неосведомленность в этом вопросе. Неужели я теряю хватку? И мы прозевали какой-то важный намек? После всего, после тонн, и тонн, и тонн шпионов, оказаться раскрытым в «Дебретте»? Когда Хью упомянул графа Росса и Кромарти, я сходил в библиотеку, принес оттуда толстый красный том, где перечислялись все знатные особы королевства, и изучил соответствующую статью. Там говорилось: четыре сына, один из них покойный; одна дочь, тоже покойная. Эти слова приковали мой взгляд, но имена не совпадали. Старшего звали Ивлин Дж., за ним шли Кларенс и Чолмондели. Двух младших, покойных отпрысков, звали Уильям Дейл и Джулия. Я захлопнул книгу, искренне жалея мальчика по имени Чолмондели, и выбросил их из головы. — Но имена были другие. — Верно, другие, — отвечает Гай. Его голос так же бесцветен, как голос Белладонны, будто бы доносится из глубокой подводной пещеры. — На них настоял мой отец, просто для того, чтобы проявить власть. В книге перечислены только первые имена, но у нас у всех было по нескольку имен. Так принято в семействах нашего круга. — Значит, Джон Фрэнсис — это средние имена вашего брата? — уточняю я. Гай кивает. — Ивлин Джон Фрэнсис, Кларенс Фредерик Джордж, Уильям Дейл Артур. Это имена моих братьев. Джулия Клэр Гвендолин — моя сестра. — Значит, твое настоящее имя — Чолмондели? — переспрашиваю я. Не будь наше положение столь чудовищным, я бы покатился с холма от хохота. Ему совсем не подходит уменьшительное «Чамли». — Чолмондели Хорес Гай, — отвечает он. — Я всегда предпочитал зваться Гай. Почему — понятно. — Тогда откуда фамилия Линделл? — спрашиваю я. — Так звали мою прабабушку по материнской линии. Я не хотел носить имя, хоть как-то связанное с моим отцом. — Понимаю. Мы довольно долго сидим в молчании. Я мысленно подсчитываю хронологию. Его Светлость отыскал нас в Италии в 1943 году и отвез в Бельгию. В то время Белладонну все еще держали под замком в мрачном сером доме, где без конца шел дождь — наверное, в Шотландии. Мы залечивали раны, ремонтировали дом и увертывались от шальных пуль Морица, упражнявшегося в стрельбе по мишеням. Ее привезли к нам в середине 1946 года. Брайони и Тристан родились 10 февраля 1947 года. С тех пор прошло почти десять лет. Чем занимался Его Светлость, пока Белладонна носила детей? Где пропадал? Почему никогда не появлялся? Что привело его в Марокко? Собирался ли он отвезти ее туда? Я терялся в догадках. Может быть, он хотел, будто ненароком, потерять ее в пустыне, откуда ей никогда не выбраться? Проклятье. Все эти лихорадочные догадки распадаются в пыль, как корм для рыб, который мы рассыпаем по аквариуму в столовой. А он тем временем спит глубоко под землей. Мы поймали монстра, загнали его в клетку, но это не принесло нам утешения. Лично я испытываю только глубокое разочарование и больше ничего. Маттео на миг оборачивается ко мне, и я понимаю, что у него на уме то же самое. Найдя Его Светлость, мы не знаем, что с ним делать. Проклятье. — Буду держать его там, — внезапно говорит Белладонна. — Столько же, сколько он держал меня. Мне становится очень не по себе. Внутри все сжимается. Не в коленке, а где-то около сердца. — Как же быть с Брайони? — отваживаюсь спросить я. — И со всеми остальными? Как можно держать человека в темнице в подземелье дома, где ты собираешься жить еще… — Скажу ей, что я больна, что у меня мононуклеоз. Сначала скажем ей, что приехал Маттео, а потом приедет Гай, чтобы вылечить меня, — говорит она ровным голосом, не глядя на нас, и я догадываюсь, что она уже давным-давно обдумала и выносила этот сценарий. — Она привыкнет к тому, что ее ко мне не пускают, но не станет слишком расстраиваться, потому что с ней будет Гай. Когда начнутся каникулы, отправим ее на все лето в лагерь. Гай скажет ей, что должен поехать в Лондон по делам, но в дни посещений он будет навещать ее. Тогда она не станет огорчаться. — Она говорит о событиях, которые наступят много месяцев спустя, говорит о Гае так, будто его здесь нет. Он, не веря своим глазам, смотрит в ее бесстрастное, ничего не выражающее лицо. — Все будет так, как я сказала. Если кому-нибудь это не нравится, не нравятся мои слова и поступки, скатертью дорога — я никого не держу. Белладонна встает и, не оглянувшись, уходит. Она не сказала ни слова Гаю. Тот провожает ее глазами, пока ее фигура не растворяется в туманной дымке. Она должна понимать, что он… О, как же она тверда. Тверда, жестока и неумолима, как Его Светлость. Живое наследие членов Клуба. Ночь близится к рассвету, но никто из нас не чувствует ни малейшей усталости. Я вспоминаю лагерь Миннетонка в цветущей зеленой Миннесоте, о котором упоминал Притч, когда впервые рассказал нам о Джун и ее семье. Давно, в другой жизни, когда мы сидели на террасе у Леандро. Эти мысли невыносимы для меня, поэтому я спешу к бару, достаю с полки большую бутылку бурбона и бокалы, бросаю в ведро пригоршню льда, возвращаюсь на веранду и срываю в горшке у окна несколько стебельков мяты. Я боюсь, что, если усну, то во сне услышу грохот цепей. — Можно задать вопрос? — говорит Маттео Гаю, и тот кивает. — Откуда произошло ваше семейное состояние? — Иными словами, как мог мой отец в 1935 году позволить себе выбросить на ветер миллион фунтов стерлингов? — с горечью переспрашивает Гай. — Сахарный тростник на Гаити, опаловые шахты в Австралии, нефтяные скважины в Малайзии. Думаю, подкупы, вымогательство, шантаж. — Однако большинство людей его класса не работает, верно? — говорю я. — Нет, они считают себя выше этого. Дворяне, голубая кровь, — отвечает Гай. — В этом мой отец не типичен для своей среды. Не знаю, каковы были его мотивы. Мне его никогда не понять. Страшно поверить, что все это — правда. Если у меня еще хватает сил думать об этом, значит, я еще не до конца сошел с ума. — Он отпивает виски и долго не выпускает бокал. — Мне помогает сохранить рассудок одна-единственная мысль — что она все это вытерпела и осталась в живых. А иначе… — Почему твоя мама вышла за него? — напрямик спрашиваю я. — Понятия не имею. Наверняка это было подстроено, но матушка отошла в мир иной задолго до того, как я смог бы расспросить ее подробнее, — отвечает Гай. — Подозреваю, ее состояние заложило основу капиталов для многих отцовских предприятий. Когда они поженились, ей было всего семнадцать, а ему восемнадцать. Это было в 1911 году. Через год родился Джон Фрэнсис, затем Фредерик, а я — в 1914 году. После этого она не хотела больше беременеть. Так много детей за столь короткий срок — это лишило ее последних сил. И зачем только он… — Гай прячет лицо в ладонях. — Я жалею, что появился на свет. Прожил сорок два никому не нужных года. А теперь — это. Надеюсь, отец сгниет в преисподней. Ничего, скоро Его Светлость поймет, каково это — когда тебя хоронят заживо, оставляют на съедение крысам. — Perdulo e tutto tempo che in amore non si spende, — говорю я, стараясь хоть на миг выкинуть эти мысли из головы. — Время, не отданное любви, потеряно зря. — Этому научил вас Леандро? — спрашивает Гай после долгого молчания, глубоко вздохнув. — Жаль, что мне не довелось познакомиться с ним. — Больше всего мне хотелось бы, чтобы сейчас он был с нами, — с тоской говорю я. — Он бы знал, что делать. — Вот что мне хотелось бы узнать, — осторожно произносит Гай. — Как вы сбежали из Бельгии? Ты говорил, что расскажешь мне, и, по-моему, время пришло. Вы оба здесь, и мне нужно знать, как это было. Я наполняю бокал и медленно отхлебываю. В моей памяти воскресает старинное шато в Бельгии, колючая проволока над каменной оградой, скрытой в кустах ежевики. Здесь, в Виргинии, мы можем дышать; там мы были скрыты в лесу, таком густом и безмолвном, что, казалось, он высасывает из нас кровь и жизнь. Там мы прятались от мира и оплакивали утраченную мужественность. Там впервые появилась она; Хогарт сказал, что ее зовут Доула. Особая подруга для мистера Линкольна. Нас предупредили: держитесь от нее подальше. Держите двери на замке. А не то… Гай откидывается на спинку кресла и опускает глаза, смотрит на руки, ждет, когда я начну говорить. Его тонкие изящные пальцы созданы для того, чтобы ласкать женскую плоть. Они так непохожи на горячее, сухое прикосновение его отца. Те руки наслаждались, причиняя боль. Упивались страданиями. После маленького приключения в стогу сена Гай ни разу не прикоснулся к другой женщине. Стоит вам подпасть под очарование Белладонны, и других женщин больше не существует.* * *
— Надо бежать. Надо спасаться, — сказал я однажды Маттео в конце октября 1946 года, когда мы уныло сгребали сухие листья с садовых дорожек. — Мы должны спасти ее. И знаешь, что самое странное — мне делается лучше, когда я думаю о бегстве. Это придает мне силы, я вижу цель, сосредотачиваюсь на ней. Здесь мы гнием заживо, и ты это знаешь. Бесстрашные близнецы Ченнини так не поступают. — Некогда бесстрашные, — угрюмо возразил Маттео. — Нам это удастся, — сказал я, с противным скрежетом проводя граблями по гравию. — Мы выжили, верно? Теперь мы должны снова стать мужчинами. Думать, как мужчины, как они. Стать безжалостными, как мистер Линкольн, Хогарт и все остальные. Члены Клуба, так она их называет. Мы знаем, каковы они, а значит, можем их перехитрить. Мы ловчее их. Они считают, что мы сломаны и раздавлены — но это не так. Правда? — с надеждой спросил я брата. Маттео с сомнением покачал головой, но с этой минуты стал больше походить на себя — такого, каким он был прежде. Мы рассказали ей о своем замысле, и ее глаза расширились от страха. — Мы пересечем границы, уйдем в Швейцарию. Я серьезно, — шепнул я ей. — Там лежат все деньги, в Швейцарском Консолидированном банке. После этого мы скроемся вместе с младенцами. Туда, где нас никто не найдет. Она неважно чувствовала себя и дрожала от страха, поэтому мы велели ей ни о чем не беспокоиться — мы все сделаем сами. В голосе моем звучало куда больше уверенности, чем я испытывал на самом деле. Нам было нужно очень многое — одежда, транспорт, паспорта, деньги на проезд в Швейцарию. Я решил, что состряпаю паспорта и удостоверения личности; мы похитим их у наших трех «М», а уж подделать все, что надо, я сумею — этому искусству я научился в годы Сопротивления. Но решить остальные проблемы будет куда сложнее: мы не знали расписания поездов, у нас не было ни машины, ни бензина, мы даже не знали, как называется ближайшая к замку деревня. И просить помощи было не у кого. Был нужен план. Размышлять, рассчитывать. Думай, Томазино, думай. Времени нет. Может быть, удастся выбраться в деревню и найти кого-нибудь, кто нам поможет. Нет, не получится. А если раздобыть кусачки для колючей проволоки и ускользнуть под покровом темноты? Нет, и этого мало. Одними кусачками тут не ограничиться. Нужно убрать с дороги Маркуса, Морица и Матильду. Главным нашим противником был Хогарт. Наверняка он будет здесь, когда придет время родов. Его Светлость не появлялся, и мы радовались этому. Сейчас ей не хватило бы сил вынести прикосновение его горячих, сухих пальцев; от ужаса она могла бы родить раньше срока. Нет, Хогарту не придет в голову, что у нас хватит храбрости решиться на побег. Для начала надо подружиться с Матильдой. Белладонне это удалось без труда, потому что Матильда проявляла ярко выраженные материнские наклонности. Не будь это зрелище таким чудовищным, я бы рассмеялся, глядя, как приземистая угрюмая крестьянка ласково поглаживает Белладонну по растущему животу. Матильда варила ей питательные супы, готовила лучшие блюда, заглядывала к будущей матери чуть ли не каждые полчаса — Белладонна готова была рыдать от такой опеки. Я пытался представить, как вечерами в сторожке у ворот Матильда вяжет малышам носочки и подрубает пеленки, но разум отказывался поверить в эту картину. — Но как мы проскользнем мимо сторожки? — тихо спросил я у Маттео, когда однажды ночью мы вышли прогуляться. Мы помахали рукой Морицу, чтобы он знал, что мы с ним считаемся, и не стал в нас стрелять. — Другого пути наружу нет. — Перережем им горло, — сказал Маттео после долгой неловкой паузы. — Как на войне. Да, мы до сих пор были будто на войне, в плену у врага. — Только хлопотное это дело. — Я заговорил почти как Хогарт. — Много крови. — Я содрогнулся, и мы пошли дальше, обсуждая другие варианты. Наше дыхание клубилось в морозном воздухе белыми облачками. На следующий день Белладонна решила за нас эту проблему. Улучив момент, она сунула под салфетку на поднос тоненькую потрепанную книжечку: «Руководство по ядам для знатоков». — Я нашла ее в библиотеке, спрятанную в другой книге, — шепнула она, внимательно глядя на нас огромными глазами. — Великолепно. Теперь ни о чем не беспокойся, — прошептал я в ответ. — Думай только об одном: родить прелестных малышей, а об остальном позаботимся мы. Книга оказалась необыкновенно интересной, и я поспешил в библиотеку — посмотреть, нет ли там других книг о растениях и грибах. Нам хотелось поскорее начать поиски в лесу. Хорошо подошел бы олеандр. Хватило бы всего одной веточки, нескольких листиков. Или касторовые бобы. Чрезвычайно ядовиты. Но касторовые бобы здесь не растут. Ростки картофеля — но сейчас не сезон для картошки. Очень надежное средство — мышьяк, но я не знал, где его найти. К тому же я не умел отличать мухомор от трюфеля, так что поход за грибами придется отложить. Кроме того, как нам удастся накормить трех М.мухоморами? Они сразу заподозрят неладное. Я читал дальше. Должно же быть что-то подходящее! Ага, безвременник осенний. Ядовито все растение; годится. Погодите-ка… Вот раздел о ботулизме. «Руководство для знатоков» подробно рассказывает, как вырастить плесень в маленьких баночках. Отлично. Мы состряпаем наш собственный, очень вкусный ядовитый коктейль и спрячем его в вырезанной книге, где она нашла руководство. Они не поймут, откуда пришел удар. А когда путь будет свободен, мы возьмем их одежду, деньги и паспорта, над которыми я впоследствии поколдую. А о дальнейшем я предпочитал не думать.* * *
Вскоре после того, как у Белладонны отошли воды, пришел Хогарт и привел какого-то человека, сказав, что это врач. Я помнил его с тех пор, как он впервые осматривал ее, когда она забеременела. Я доверял этому костоправу не больше, чем Матильде с ее материнскими хлопотами, но надеялся, что он сумеет принять роды. Приходилось ему доверять — ничего другого нам не оставалось. Его Светлость до сих пор не появлялся. Его исчезновение тревожило меня, но я догадывался — у него свои причины держаться подальше. Дело не только в том, что он боится своим появлением нарушить течение родов. Причина тут другая, я это чувствовал. Начались роды. Они проходили мучительно. У меня сердце разрывалось от ее криков, бесконечных, час за часом. — Неужели нельзя хоть чем-то ослабить боль? — умолял я врача. Он только качал головой. Он был предельно сосредоточен, и это придавало мне каплю уверенности. Хогарт расхаживал по кухне. Ему невыносимо было думать обо всем этом беспорядке. Наконец, громко вопя, первым родился мальчик. Она назвала его Тристан. Мы с Маттео торопливо обтерли его и не могли не обратить внимания на его прелестные, розовые младенческие яички. Я, естественно, никогда не видал младенцев и не знал, какие у них бывают яички, но эти показались нам непропорционально огромными. Через мои пальцы на новорожденного излилась волна горячей, нежной любви. С последней схваткой из лона Белладонны выскользнула крохотная девочка, и мы, разумеется, сразу же влюбились и в нее тоже. Мы вложили ее в руки Белладонне, рядом с братиком. От изнеможения у Белладонны едва хватило сил поцеловать младенческие макушки, и она тотчас же провалилась в глубокий сон. Врач собрал свои вещи, Матильда спеленала младенцев и взяла их на руки. Она до сих пор не сказала нам ни слова, и мы не ждали, что она станет напевать им колыбельную. Она осторожно уложила младенцев в колыбельки, застланные теплыми одеялами, и поставила их у кровати, потом на цыпочках вышла. Заглянул Хогарт, бросил на младенцев один-единственный мимолетный взгляд, увидел смятые окровавленные простыни и, позеленев, мигом удалился. Впервые за долгое время мы с Маттео не испытывали ничего, кроме полного счастья. Мы хлопотали над младенцами, затем легли на диваны у пианино и тоже крепко уснули. Я проснулся первым и, зевая, подошел к колыбелькам посмотреть на младенцев. Тут я заметил, что в комнате сидит Хогарт, и насторожился. Что-то не так; ему здесь нечего делать. Я взглянул на часы — наступило утро. Младенцы давно должны были разбудить нас пронзительными голодными криками. В Бенсонхерсте вопящие малыши сводили меня с ума; вот, пожалуй, и все, что я знал о детях. Сначала я подошел к кроватке Брайони; она мирно спала. Я бросил хмурый взгляд на Хогарта. — Матильда покормила ее из бутылочки, — прошептал он. Я чуть не взбесился. Белладонна непременно хотела кормить детей грудью — она надеялась, что благодаря этому они оставят близнецов при ней. Я подошел к колыбельке Тристана, но его там не было. Мои нервы трепетали, как натянутые струны; удивляюсь, как их звон не разбудил Белладонну. Я осторожно встряхнул за плечо Маттео, и он тотчас же проснулся. Одного взгляда на мое лицо было достаточно, чтобы он понял: дела идут неладно. — Где Тристан? — громким шепотом спросил я у Хогарта, не желая будить Белладонну. — Нездоров, — прошептал он в ответ. — Что значит — нездоров? — вспылил я. Мне хотелось придушить его. Я знал, что он лжет. Маттео подошел и встал рядом со мной; Хогарт поднялся и попятился к дверям. Ого! Значит, мы еще способны напугать врага! Эта мысли придала нам сил. Или, точнее, придала бы, будь я в ту минуту способен понять, что происходит. Мы ничего не могли сделать. И, естественно, не могли бежать только с одним ребенком. Добравшись в целости и сохранности до двери, где возле него возник из воздуха Мориц, Хогарт обернулся к нам. — У Тристана что-то неладно с грудью, — сообщил он. — Матильда, когда кормила его, обратила внимание, что он очень плохо дышит. Надеюсь, малыш поправится. Врач приехал и забрал его в деревню. Беспокоиться не о чем. Как мы могли не беспокоиться? — Я вам не верю, — заявил я. — Что-то мне, дружище, ваш тон не нравится, — ответил он и зашагал прочь. Это было невероятно. Что я скажу Белладонне, когда она проснется? Они украли ее ребенка, я это знал. Немного позже, когда Белладонна очнулась и через силу съела пару ложек супа, мы положили ей на руки Брайони, и малышка жадно припала к груди. Белладонна была так измучена, что уснула с девочкой на руках, и Маттео долго сидел рядом, держа голову малышки возле груди. Они почти походили на счастливую семью. Почти походили. Когда Белладонна проснулась опять, она все еще была так слаба, что не могла встать с постели. — Где мои дети? — сонно спросила она. Мы принесли ей Брайони, и та снова принялась с жадностью сосать мамину грудь. — Где Тристан? Я присел на край кровати, и она увидела мое лицо. — У него что-то неладно с дыханием, — осторожно сказал я. — Врач забрал его в деревню, чтобы вылечить. Он поправится. А теперь отдохни. Ты нужна Брайони. — Нет, — заговорила она, пытаясь встать. — Нет, нет, нет… Брайони выпустила сосок и громко заплакала. Маттео старался успокоить Белладонну, но та истерически рыдала, и я выбежал в кухню. Там была только Матильда; Хогарта я не нашел. — Где младенец? — закричал я. — Что вы с ним сделали? Я так разозлился, что готов был схватить со стола большой разделочный нож и воткнуть его в широкую спину Матильды, но тут вошел Маркус. Он хмуро покачал головой, и я перестал кричать. Бесполезно. Они, казалось, были огорчены не меньше меня. Матильда, полная недавно обретенных материнских чувств, не находила себе места от тревоги. Хоть Матильда и работала на Его Светлость столько, сколько помнит Белладонна — она-то и шнуровала на ней корсет в ночь аукциона, затянула так, что бедняжка не могла дышать — все равно эта крестьянка была не способна причинить зло невинному младенцу. Либо Хогарт выкрал его, либо тот в самом деле тяжело заболел. Я знаю только одно — ребенок больше не вернулся.* * *
— Верните мое дитя, — скулила она, как побитый щенок. — Верните мое дитя, мое дитя, мое дитя… Наплакавшись, она погрузилась в тяжелый сон. Она была так слаба, что не могла кормить грудью. Брайони охотно переключилась на питание из бутылочки. Я не возражал; по крайней мере, у нас с Маттео появилось хоть какое-то занятие. Хогарт появился неделю спустя и напрямик выложил мне, что Тристан умер. Они, мол, держали его в деревне, опасаясь, что он заразный, и до сих пор не знают в точности, что это была за болезнь. Наверно, одна из тех неведомых хвороб, какие бывают у новорожденных. Скоро его привезут сюда и похоронят. — Хогарт, не лгите мне, — устало произнес я. Как мог новорожденный младенец подхватить кашель, да в придачу и заразный? Почему вы не разрешаете взглянуть на его тело? Я хотел спросить это, хотел вцепиться Хогарту в горло и душить, пока с ворота его белоснежной рубашки не оторвутся золотые пуговицы. Но у меня не было энергии для драки. Кроме того, пусть считает нас слабыми и надломленными. Однако мы не сдались. Мы внимательно изучали указания в потрепанной книжице. Наполнили банки остатками пищи, плотно закрыли и спрятали у меня в комнате, в толстых томах «Потерянного рая» и «Возвращенного рая». В них росла смертоносная плесень. Однажды ночью мы украдкой выскользнули в сад, выкопали цветок безвременника и долгими часами в ванной извлекали из него яд. Не думайте, что я расскажу вам, как это делается. Белладонна не вставала с постели. Если бы не Брайони, у нее совсем не осталось бы воли к жизни. Несмотря ни на что, в Белладонне проснулся материнский инстинкт, и он требовал заботиться о потомстве. Брайони быстро набирала вес и оказалась на редкость спокойным ребенком. Она редко плакала, хорошо спала. Ела, пачкала пеленки. Спала, корчила рожицы, пускала пузыри. Она уже тогда была восхитительна, мой нежный цветочек. Можно подумать, эта крошка понимала, какие невзгоды окружают ее появление на свет, и делала все, что было в ее маленьких силенках, чтобы облегчить мамину жизнь. А может, я просто расчувствовался. Хогарт опять исчез, и мы начали готовиться к побегу. Просчитали каждый шаг. Мы не говорили Белладонне, потому что она была слишком слаба, чтобы принимать участие в приготовлениях, и к тому же отказалась бы пускаться в путь без Тристана. Маттео был согласен со мной. Нас удерживало здесь только одно — мы ждали, пока она наберется сил. Надо было бежать прежде, чем вернется из долгой отлучки Его Светлость. Не теряя времени. Ничего другого не оставалось. Иногда мы давали Матильде подержать и покормить малышку, но только в комнате Белладонны и только под неусыпным присмотром Маттео. Чтобы убрать Маркуса с дороги, мы велели Белладонне попросить Матильду принести из деревни кое-что из вещей, что-нибудь такое, для чего потребуется долгий поход. И вот в один прекрасный день Маркус отправился в сельскую лавку. Список покупок был таким внушительным, что ему пришлось прихватить с собой Морица. Именно этого случая мы и ждали. В тот день, ближе к полудню, я поспешно ворвался в кухню и сообщил Матильде, что Белладонна зовет ее, срочно нужно помочь ей с ребенком, сию минуту. Она почти улыбнулась, так была рада прийти на помощь. Я предложил отнести обед на подносе, и она кивнула. Надевая перчатки, я удивился, что мои руки не трясутся. Они не тряслись и тогда, когда я достал из кармана маленький флакон, побрызгал ядом сахарницу и влил несколько капель в солонку и перечницу. Затем я присыпал хлеб на сэндвиче, который Матильда приготовила для себя, и сдобрил буханку, которую съедят за обедом Маркус и Мориц. Ты станешь убийцей, говорил я себе. Увидишь, как они умирают. Мы заранее приготовили сэндвичи для себя и спрятали их во дворе, позади большого горшка с цветком, чтобы на холоде они сохранились свежими. Больше никогда мы не станем есть того, что приготовлено на этой кухне. Я принес Белладонне супа, а Матильде — великолепный сэндвич из ржаного хлеба с ветчиной, щедро приправленный. Мы с Маттео внимательно смотрели, как она его ест. Ботулизм развивается от двенадцати до тридцати шести часов, говорилось в книге. Мы надеялись, что безвременник ускорит события. К возвращению Маркуса и Морица Матильда лежала в своей постели и громко стонала от жестокой боли в животе. На меня, естественно, подозрение не пало; никто не прикасался к еде, кроме самой Матильды. На всякий случай Маркус и Мориц запретили нам появляться в кухне, и Маркус сказал, что сегодня заночует не в сторожке, а в доме, с Матильдой. Он приготовил себе постель прямо у дверей Белладонны. Честное слово, иногда эта компания страдает паранойей. Уснуть было нелегко. Мы с Маттео проснулись незадолго до рассвета; в доме стояла неестественная тишина. Мы осторожно поднялись наверх и отыскали наших стражей. Маркус ухитрился кое-как вскарабкаться по лестнице, где сейчас стояла невыразимая вонь; мы нашли его на полу возле кровати Матильды. Их рты были разинуты в мучительном крике, широко распахнутые глаза, несомненно, смотрели на адское пламя, в котором им предстоит гореть во веки веков. Мы торопливо накрыли мертвецов простынями. Я бы прочитал молитву, если бы знал хоть одну. И если бы они ее заслуживали. Мы достали из кармана у Маркуса ключи и принялись обыскивать ящики столов, отыскивая документы, деньги и другие полезные мелочи. Затем Маттео поспешил в сторожку. Он хотел собрать все необходимое, чтобы, когда Белладонна проснется, немедленно тронуться в путь. Мы собирались усадить ее на велосипед, крепко привязать Брайони у нее на груди, как носят детей туземцы, и отвезти в деревню, а там нанять автомобиль, грузовик или любой другой транспорт до железнодорожной станции. Все, что угодно, лишь бы уехать отсюда, и поскорее. Я все еще был наверху, обшаривал ящики, в которые нам обычно не было доступа, и вдруг услышал странный шум. Нет, не странный, а просто неожиданный. Автомобиль. К дому подъехала машина. Такого еще не было. Никто сюда не заглядывал, а Хогарт всегда останавливался у сторожки. Кто же это? Неужели Его Светлость? Нет, только не это. Боже мой, прошу тебя, молю, только не он… Это невозможно. Сейчас, когда мы так близки к победе… Я присел на пол, выглянул из окна и увидел Хогарта. Он вышел из машины, хмуро одернул пиджак и пригладил жидкие пряди волос. Наверно, он обнаружил, что в сторожке никого нет, и открыл ворота своим ключом, задаваясь вопросом — что же все это значит? А Маттео, наверное, услышал его и спрятался в стенном шкафу. На наше счастье, Хогарт был один, и я прижал руку к груди, чтобы сердце не колотилось так сильно. Сосредоточься, Томазино, успокойся. Что я скажу ему, когда он войдет в дом и увидит на втором этаже трупы? Его нельзя пускать на второй этаж. Он и шагу не ступит, пока не расскажет нам, что на самом деле случилось с Тристаном. Естественно, первым делом Хогарт пошел проведать Белладонну. Она сидела у камина, смотрела, как горят в огне дрова. Услышав, что он вошел, она не шелохнулась. Брайони мирно спала у себя в колыбельке. — Здравствуй, милая, — сказал Хогарт. — Где остальные? Она пожала плечами. — Откуда мне знать? Где мое дитя? — Она исхудала, как тень, яркие зеленые глаза потускнели от боли. Хогарт едва заметно поправил носовой платок в нагрудном кармане. Темно-бордовый с зеленью шелк, индийский рисунок. Очень утонченная и дорогая вещица. — Как ни печально, твой ребенок мертв, — произнес Хогарт с едва заметным раздражением. — Он умер, и мы похоронили его у опушки леса, по ту сторону морковных грядок. Скоро поставим надгробие и отслужим за упокой. — Вы лжете. — Я бы и рад был солгать, — отозвался он. — Ничто не порадовало бы Его Светлость более, чем сын. Но, увы, этому не суждено сбыться. Эти слова пробудили ее от оцепенения. — Мне казалось, он предпочитает девочек, — с горечью съязвила она. — Милая, ты меня изумляешь, — ответил Хогарт. — Ну-ка, посмотрим, как поживает прелестная Брайони, а потом я должен уехать. — Он подошел к колыбели и долго глядел на Брайони. На его губах играла мерзкая суетливая, чисто хогартовская улыбочка. Я на цыпочках поднялся наверх и смотрел на него из дверей. Зачем он приехал? Только чтобы взглянуть на Брайони? Может быть, он должен был что-то передать трем М. Не хотелось бы мне оказаться на месте того, кто сообщит Хогарту, что он немного опоздал. Наверное, он прокладывает путь, решил я. Следом за ним скоро пожалует Его Светлость. В коленной чашечке запульсировала тупая боль. Может быть, он уже едет сюда, приближается к дому. Что нам делать? Что?.. Я лихорадочно обдумывал варианты, дожидаясь, пока из сторожки вернется Маттео. Вдвоем мы сможем одолеть Хогарта, и тогда… Перед глазами что-то мелькнуло, я услышал тошнотворный глухой удар. Хогарт жалобно пискнул и повалился набок. Раздался еще удар, потом еще и еще. Крови было страшно много, она хлестала из трещин в голове. Он очень огорчится из-за того, что кровь запачкала белый воротничок и носовой платок, сказал я себе и вдруг с дрожью осознал, что Хогарт мертв. Она уронила кочергу, закрыла глаза и покачнулась. Я поймал ее на лету — она упала в глубокий обморок. Я перенес ее на кровать, и тут вбежал Маттео с дробовиком Морица в руках. При виде Хогарта, уродливо распростертого на ковре, он остановился, как вкопанный. Брайони по-прежнему крепко спала. Я не стал ему говорить, что его убила она. Сказал, что это сделал я. — Проверь его карманы. Скорее, — велел я. Нам повезло. Еще один паспорт, водительские права, толстый бумажник с деньгами, ключи от машины. Так хорошо, что даже не верится. Но он был мертв. Все они были мертвы. И никто больше не мог рассказать нам правды о Тристане.* * *
Начало нашего путешествия прошло в страхе. Мы торопливо упаковали в чемоданы и саквояжи кое-что из одежды Белладонны, ее изумрудное ожерелье, детские вещи для Брайони, несколько бутылочек с молочной смесью, подхватили свои, заранее собранные чемоданы, извлекли припрятанные сэндвичи и сложили все в машину Хогарта. Осторожно перенесли Белладонну, все еще лежавшую без сознания, усадили ее на заднее сиденье и накрыли одеялами. Я сидел впереди и держал Брайони, а Маттео сел за руль. Он вел машину так уверенно, будто и не было долгих лет перерыва: не сбавляя скорости, проскочил ворота, которые я торопливо распахнул, затем, не оглядываясь, миновал деревню и покатил дальше по дороге. Наконец, мы въехали в деревню покрупнее, где была железнодорожная станция. Она называлась Намюр. Там мы остановились в отеле, а я поколдовал с паспортами. Белладонна очнулась, мы сказали ей, что отправились в небольшое путешествие, но она была в таком глубоком шоке, что вряд ли поняла хоть слово. Потом она снова погрузилась в крепкий сон, а мы долго обсуждали, какой путь будет безопаснее, где внимательнее проверяют паспорта — в поезде или на границе. Мы решили рискнуть и отправиться на машине во Францию, потому что до нее было недалеко. Лишь когда утомленный таможенник махнул нам вслед на границе, мы вздохнули с облегчением. Кроме того, у нас с собой был набитый деньгами бумажник Хогарта, а я за версту чую человека, которого можно подкупить. Такой запах не забывается. Мы доехали до города Нанси и остановились в самом безобидном отеле. Нам были нужны паспорта получше; я размял затекшие мышцы и вспомнил все премудрости, каким научился в Бенсонхерсте, обчищая карманы. Дело это нетрудное, надо только войти в такт, будто переключаешь передачи в машине Хогарта. Я выследил трех беспечных туристов, немного похожих на нас, и пустил в ход свое искусство. Пока я ходил на прогулки, Маттео с Белладонной и Брайони оставались в отеле. Я сам себе удивлялся — так быстро я привыкал к жизни на воле. Несмотря ни на что, я даже начал находить в этих прогулках удовольствие. Мне нравилось покупать пирожные и журналы, смотреть на наряды, на машины, на радиоприемники, вдыхать запах сигарет и желтого пива в табачной лавке на углу. Куда приятнее глазеть на досужих туристов, чем вспоминать то, что осталось у нас позади. Через два дня наши бумаги оказались в полном порядке, мы были готовы отправиться в путь. Мы решили оставить машину и купили билеты первого класса на поезд до Базеля. Это гораздо ближе, чем Женева. Если Его Светлость прибыл в Бельгию — а мы жили в постоянном ужасе, ожидая этого — он наверняка догадается, что мы как можно скорее направимся в Швейцарию. Наша поездка до Берна прошла на удивление спокойно. Мы остановились в уютном пансионе, который порекомендовал нам таксист. А утром позвонили в Швейцарский Консолидированный банк и справились о состоянии счета номер 116–614. Нам сообщили, что владелец счета должен явиться лично, и мы объяснили это Белладонне. Но она нас не поняла. Она впервые почти за двенадцать лет оказалась на свободе, но целыми днями лежала в постели, погруженная в дремоту. И я ее прекрасно понимал. Но мы не могли ждать, пока она поправится, поэтому усадили ее, тщательно одели, потеплее укутали Брайони — мартовский день был прохладным — и на такси поехали в банк. Маттео остался с Брайони в просторном наружном вестибюле, а нас с Белладонной направили в кабинет, обшитый панелями красного дерева. За столом восседал седовласый господин по имени Этьен де Сен-Суассон. Мы назвали ему номер счета и сказали, что первый взнос был сделан в мае 1935 года. Месье Этьен кивнул и исчез — посовещаться с кем-то еще. Потом вернулся, сел за стол и положил перед нами лист бумаги. На счету было около 3 миллионов фунтов стерлингов — почти 12 миллионов долларов. В 1947 году это была умопомрачительная сумма. Хватит на то, чтобы купить нам свободу, и еще останется. Месье Этьен осторожно кашлянул, и я внутренне сжался. Наверняка он потребует удостоверение личности, а у нас есть только фальшивые паспорта. И ни в одном из них не проставлено имя Изабелла Ариэль Никерсон. Изабелла Ариэль Никерсон признана умершей много лет назад. — Вам нужны удостоверения личности? — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Он кивнул. Белладонна, которая, казалось, не слышала ни слова из того, что он сказал, внезапно вытянула левую руку и сняла перчатку. Потом показала озадаченному банкиру кольцо на пальце. То самое, которое она не могла снять. Но если присмотреться, можно различить под ним едва заметную темную полоску. Татуировка. Месье Этьен тщательно осмотрел кольцо и палец, затем улыбнулся. — Чем могу служить? — весело воскликнул он.* * *
Небо залито бледной голубизной. Мы уже допили весь бурбон из бутылки. — Я так и знал, что это не ты, — говорит Маттео. — Я о Хогарте. — Благодарю тебя, fratello mio, — отвечаю я, но его слова мало утешают меня. — Почему вы поехали в Мерано? — спрашивает Гай. Мне казалось, он будет потрясен услышанным, но ничто не может поколебать его любви к Белладонне. — Нам не хотелось уезжать далеко, она была слишком слаба для еще одного долгого путешествия, — поясняю я. — К тому же мы говорили по-итальянски, — добавляет Маттео. — Я случайно подслушал в кафе разговор туристов, они обсуждали, куда лучше ехать на воды — в Монтекатини или в Баден-Баден, — продолжаю я. — Принять курс лечения на водах — такая идея показалась разумной. Мы решили отправиться на какой-нибудь захолустный курорт в Италии, где нас никто не станет искать. Я расспросил ночного портье в нашем пансионе, потому что слышал, как он говорит по-итальянски с северным акцентом. Я этот говор помню с войны. Он рассказал о нескольких местах и добавил, что брат жены его кузена когда-то работал в Мерано. Это не очень далеко; местечко небольшое, тихое, а после воины растеряло былой лоск. Но тамошние воды, по его словам, очень полезны для почек. И для всех прочих наших немочей. — Там-то вы и познакомились с Леандро, — заключает Гай. — Да, — отвечает Маттео. — И он пригласил нас к себе. — Что случилось с изумрудным ожерельем? — спрашивает Гай. — А, — говорю я. — С тем самым. — И смотрю на Маттео. — Перед отъездом из Берна в Мерано я спросил ее, что с ним делать. Она попросила показать его, я достал его из чулка, в котором оно было спрятано, и с минуту она держала его в руках. — Ее лицо было практически того же цвета, что и изумруды, — тихо добавляет Маттео. — Потом она велела нам избавиться от него. Ей не хотелось никогда больше видеть его и вспоминать о нем. — Я взял ожерелье и вышел, — продолжаю я, — сжимая в кулаке чудесные блестящие камни. Сначала хотел бросить их в сточную канаву, но рука не поднялась. Я решил, что эти камни должны принести добро, чтобы исправить все то зло, какое они причинили ей. Я побродил немного по улицам и очутился около небольшой церквушки. Не помню, когда в последний раз я был в церкви. — Наверно, тогда, когда тебя выгнали в шею за то, что ты вылакал освященное вино и пытался стащить все, что блестит, — поддразнивает Маттео. — Может быть, — соглашаюсь я. — Но я сидел на скамье в этой обшарпанной церквушке и вдруг понял, что мне делать. Я пошел в скобяную лавку, купил кусачки, потом пошел в магазин канцтоваров и приобрел пачку конвертов. Сел в парке на скамью под раскидистым деревом и разобрал ожерелье на отдельные камешки. Разложил по изумруду в конверт и опустил их в ящики для пожертвований возле каждой церкви, какую нашел. Я не мог рисковать, жертвуя целое ожерелье — поползли бы ненужные слухи. — Томазино, ты невозможен, — говорит Гай. — Но я сделал одну ужасную ошибку, — говорю я. — Сжег паспорт Хогарта. Не подумал переписать данные из него — например, адрес. Мы так торопились попасть в Швейцарию, что мне это в голову не пришло. Он пригодился бы в поисках, облегчил бы задачу Притча. — Имя наверняка было вымышленным, да и адрес тоже, — успокаивает меня Маттео. — Да и теперь уже все равно. Да, конечно, теперь уже все равно, потому что мы нашли их, всех до единого. Членов Клуба. — Мне хотелось бы знать вот что, — говорю я. — Почему Его Светлость так и не появился в последние, такие важные месяцы? Что он делал, пока Белладонна была беременна? Где пропадал? Гай и Маттео смотрят на меня, и я зеваю, чтобы скрыть стыд за свою оплошность. Проклятье. Совсем забыл. Я же могу спуститься в подземелье и спросить об этом у него самого.21 Корень зла
— Маттео! — радостно кричит Брайони в тот же день, завидев моего брата. На счастье, она не очень огорчается, когда он говорит, что ее мать нездорова и что он приехал позаботиться о ней. — Мама и так почти не выходит из своей комнаты, — говорит Брайони и убегает искать Сюзанну. Маттео смотрит на меня, и я качаю головой. Не знаю, как девочка воспримет то, что мы собираемся ей сказать чуть позже, когда Гай выйдет из комнаты в Доме Тантала, где он сейчас выжидает, и переселится в желтую спальню. Брайони очень чутка, она сразу поймет, что с мамой случилось нечто очень серьезное, но, может быть, появление обожаемого дяди Гая немного смягчит удар. Короче говоря, через пару дней, когда Брайони приходит домой из школы и швыряет стопку книг в угол, мы с Маттео поджидаем ее. — Милая девочка, нам надо с тобой поговорить, — начинает Маттео. — У нас есть новости, хорошие и плохие. — Мама умерла? — дрожащим голосом спрашивает Брайони, и у меня сердце разрывается при мысли о том, кто в эту минуту спит глубоко внизу, у нас под ногами. — Нет, мой ангел, не умерла. Но доктор Гринуэй говорит, она подхватила вирус со страшным названием мононуклеоз, и ей нужно очень долго лежать в постели. Это плохая новость. Ты будешь храброй девочкой? Поможешь маме поскорее поправиться? Брайони кивает, но ее божественное личико омрачается таким горем, что я тотчас же добавляю с сияющей улыбкой: — А хочешь услышать хорошую новость? Помнишь, что случилось в тот раз, когда мама сказала, что у нее есть хорошие новости и плохие? — Нет, — отвечает Брайони, и ее губы дрожат. — Не помню. — Не помнишь? — говорю я. — Тогда иди на веранду. — Брайони медленно выходит. И тотчас же раздается ее радостный крик: — Дядя Гай! — Она повисает у него на шее и заливается слезами. — Это еще что? — ласково спрашивает Гай, целует ее в макушку и крепко прижимает к себе. Она утыкается ему в плечо и громко рыдает. — Не плачь, моя красоточка, не плачь. Мама поправится. Честное слово. Ведь вы с мамой вылечили меня, правда? — Да, — кивает Брайони, утирая слезы и всхлипывая. — Ты останешься у нас навсегда? — Сколько смогу. Давай не говорить о разлуке, потому что я только сейчас приехал и страшно по тебе соскучился. Знаешь, сколько раз я о тебе вспоминал? — Сколько? — с восторгом спрашивает девочка. — Столько, сколько Базилико вилял хвостом! — отвечает он. — Пойду его поищу, — восклицает она, выскальзывает из его объятий и убегает. — Спасибо, Гай, — со вздохом говорю я. — Какими мы все стали великолепными лжецами, правда? — Что такое ложь, если правда невыносима? — спрашивает он. Но мне не приходится отвечать — к нам подбегает Брайони, у нее на руках извивается Базилико, следом ковыляют слюнявые мастифы. Девочка и Гай весело играют с собаками, и на миг я задумываюсь — слышит ли их Его Светлость, хотя прекрасно знаю, что толстые стены его темницы не пропускают ни единого звука, кроме тихого шороха приближающихся шагов. — Пойдем, моя маленькая красоточка, — говорит, наконец, Гай, поглядев на часы. — Пора навестить твою дорогую маму. Радость в его голосе не наиграна, вопреки тому, что она сказала ему три дня назад, когда он произнес три коротких слова. Гай почти не видел Белладонну после того, как она попросила меня дать ему дневник, а с тех пор прошло уже несколько месяцев. Брайони взбегает по лестнице и врывается в мамину спальню, где тихо играет радио. — Мама, смотри, — радостно восклицает девочка. — Дядя Гай приехал! Теперь ты поправишься! Белладонна выдавливает из себя улыбку. Надо сказать, на ней лица нет. Щеки бледны, как пергаментные абажуры настольных ламп, движения вялы и безжизненны. Только глаза сверкают жизнью, горят безумием, светятся зеленой лихорадкой. Если бы я не знал, что ее болезнь вымышлена, то решил бы, что она в самом деле подхватила мононуклеоз и доктор Гринуэй велел ей лежать в постели и ни в коем случае не вставать. — Прости, милая, — говорит она дочери. — Не волнуйся. Просто я очень устала. Знай: если ты вдруг подойдешь к моей двери и она будет заперта, значит, я всего лишь легла спать. Я скоро поправлюсь. — Знаю, — самодовольно отвечает Брайони. — Мы с дядей Гаем будем хорошо о тебе заботиться. Может быть, привести сестру Сэм? Белладонна качает головой. — Не надо, милая. Зачем мне сестра Сэм, если у меня есть ты? — И дядя Гай, — подсказывает Брайони. — И дядя Гай, — эхом откликается Белладонна, только чтобы порадовать дочку. Она до сих пор боится встретиться с ним взглядом, хотя он не сводит с нее глаз. Брайони склоняется над кроватью и целует маму в щеку. — Вот, — говорит она. — Это поможет тебе поправиться. — Спасибо, ангел мой, — со слабой улыбкой говорит Белладонна. Она изо всех сил старается держать себя в руках. Больше всего на свете ей хочется, чтобы ее оставили в покое, но она не может сказать этого дочери в лицо. Она и так слишком много лжет. — Теперь очередь дяди Гая. Поцелуй маму, и ей станет лучше, — певучим голосом велит Брайони. — Поцелуй, поцелуй, поцелуй. Ей станет лучше, лучше, лучше. Белладонна встречается глазами с Гаем, они смотрят друг на друга, не зная, что сказать. Прошу тебя, хочется воскликнуть Гаю, пожалуйста, не прогоняй меня больше. Умоляю, мне этого не вынести. Я знаю, кто он, знаю, что он с тобой сделал. Пожалуйста, впусти меня к себе в сердце. Я ненавижу его не меньше, чем ты, и он мой… Он склоняется над ней, его губы на краткий миг касаются ее лба. Этот жест полон невыразимой нежности. — Прошу тебя, — шепчет он. — Прошу… — Гай. — Вот все, что она может сказать. Произносит это слово одними губами. Он приподнимает ее руку, целует ладонь, потом улыбается, взглянув на Брайони, и Белладонна не отдергивает руку. — Пойдем, поиграем с собачками, — говорит он, призвав все силы, чтобы голос звучал легко и весело. — Талли-хо, талли-хо, буфф, квак-квак! — Рыбы, цыплята и старый флаг! — подхватывает Брайони, выбегая из комнаты. — Сказку расскажешь, — говорит он, многозначительно глядя на Белладонну, — вернусь просто так.* * *
Мы привыкаем к нашему странному распорядку дня, как привыкали раньше ко многим другим. Гай, обосновавшийся в желтой спальне, по утрам неизменно отвозит Брайони в школу, а Белладонна встает и идет в темницу. Там она садится на табурет перед решеткой и ставит тусклый фонарь у ног. — Где мое дитя? — снова и снова спрашивает она у Его Светлости унылым монотонным голосом. Вот и все, что она говорит. Не задает вопросов, не расспрашивает о том, почему он держал ее в плену, не заговаривает о других членах Клуба. День за днем она спускается в подвал и долгими часами сидит на табуретке напротив его темницы, спрашивая о ребенке. Гай знает, что она там, и в порыве раздражения нередко садится на Гермеса и скачет галопом по окрестным полям, но, когда школьный автобус высаживает Брайони у ворот, неизменно выходит ее встречать. Тибо впускает девочку и угощает ее пралине — привет из Нового Орлеана, говорит он. Брайони и Гай идут проведать Белладонну — та опять лежит в постели, слушает радио и почти ничего не говорит. Если день прошел неплохо, Брайони разрешают делать уроки в маминой спальне. Потом она идет поиграть к Сюзанне или еще к кому-нибудь из подруг, или отправляется с Гаем «в экспедицию». Белладонна остается у себя в комнате, где компанию ей составляют только голоса по радио, а мы, если позволяет погода, ужинаем на веранде, болтаем о том о сем, будто бы внизу, под винным погребом, глубоко во тьме, и не заперт прикованный к стене человек. Мы пытаемся делать вид, будто жизнь идет как обычно. Иногда Белладонна, набравшись сил, дозволяет Брайони и Гаю почитать ей сказку на ночь, потому что девочке это доставляет столько радости. Или же смотрит, как они играют в карты. Гай обучает Брайони играть в кункен и покер, и девочка выказывает изрядный талант блефовать — может с честью выпутаться даже при самой пустой сдаче. А иногда, когда Брайони уже легла спать, Белладонна встает и опять спускается в подвал. Где мое дитя? Так звучат в ее устах те вопросы, которые он задавал ей. Кто ты такая? Зачем ты здесь? Гай отказывается спуститься к отцу. Я его не упрекаю. И он, и Белладонна заперты в собственных казематах — в темницах своих душ, сражаются с одним и тем же чудовищем.* * *
Сегодня я осторожно, на цыпочках, прокрадываюсь вниз, стою за дверями в подземелье и прислушиваюсь. — Твоему сыну скоро десять лет, — говорит Белладонне Его Светлость. Он скажет все, что угодно, лишь бы помучить ее. Ему хочется услышать звук ее голоса. — Он уже не дитя. — Где он? — Ты не задумывалась о наших милых беседах? — спрашивает он. Его голос звучит совершенно спокойно, будто бы он здесь хозяин, а она все еще его рабыня. — Тебе не кажется, что ты, наслаждаясь моим пленением, ничем не отличаешься от меня? — Нет тут никакого наслаждения, — отвечает она. — Неужели? — говорит он. — Никакого наслаждения в том, чтобы сразиться со зверем, победить врага? Никакого наслаждения посадить меня на цепь, лишить свободы, подчинить своим капризам? — Нет, — отвечает она. — Можете молчать, можете говорить, но никакие ваши слова не заставят меня выпустить вас. Вы останетесь здесь столько же, сколько держали меня, или пока вас не сожрут крысы. Смотря что наступит быстрее. — Неужели? — Да, именно так, — говорит она. — Верните мое дитя. — Я скажу, где твое дитя, — говорит он. — Я вам не верю. — Кто ты такая? — спрашивает он. — Кто ты такая? Ее губы раскрываются. С них готов слететь ответ: «Я ваша». Но она вовремя удерживается. Он улыбается. — Я скажу, где твое дитя, но только в том случае, если ты дозволишь мне сделать то, что я хочу. А чего я хочу, ты знаешь. Прекрасно знаешь! Она встает так внезапно, что я вынужден метнуться в сторону и укрыться за одним из стеллажей с бутылками. На счастье, она не заперла дверь наверх, а иначе мне пришлось бы торчать в погребе, пока Маттео не принесет узнику еду на подносе. Я рассказываю Маттео о том, что услышал. Правда о Тристане — единственная сила, которая осталась у Его Светлости. Да еще воспоминания о том, как она стала такой. В тот же вечер, немного позже, я отношу Его Светлости вместе с ужином на подносе стопку книг. Я почему-то больше не могу называть его мистером Линкольном, или графом, или еще как-нибудь. Он сохраняет выражение неколебимого превосходства и выглядит на удивление хорошо для человека шестидесяти четырех лет, которого против воли держат в сырой темнице. Он, разумеется, понятия не имеет, в каких краях находится; знает лишь, что у него бескрайнее море времени, он может сколько угодно сидеть и вынашивать планы нечеловеческих пыток, которым он ее подвергнет. Я бы не назвал Его Светлость красивым мужчиной, потому что в его чертах слишком много жестокой властности; но он достаточно соблазнителен для женщин, которые любят, чтобы мужчины причиняли им боль. Он среднего роста, худощав, его пальцы длинные и тонкие, он до сих пор носит свое знаменитое золотое кольцо. Глаза у него блеклого темно-голубого оттенка, в их глубине нет тех искорок, какие сверкают в глазах Гая; нос прямой и тонкий, губы на удивление полные. В густой шевелюре много седины, подбородок, не прикрытый бородой, чуть скошен. Это, да еще длинноватые волосы, придают ему вид рассеянного профессора, но это впечатление исчезает, стоит присмотреться к Его Светлости повнимательнее. В его лице нет улыбки, нет радости. Когда он вглядывается в вас при тусклом сиянии фонаря, вам хочется зажмуриться и убежать. Он рассматривает книги, потом издает короткий лающий смех, будто койот над звериным трупом. Смех страшный, скрежещущий. — «Жизнь знаменитых распутников», — читает он вслух один из заголовков. — До чего утонченно. — Да. Необычайно увлекательное чтение. Я постепенно принесу вам все остальные тома. В одном из них рассказывается о тезке основателя вашего Клуба, первом Дэшвуде, — говорю я, беру одну из книг и раскрываю на заранее помеченном отрывке. На короткий миг я чувствую себя немножко Хогартом — тот всегда цитировал книги французов. — «Если человек от рождения обладает высоким положением, неограниченным богатством и широчайшим влиянием, но все-таки за всю свою долгую жизнь не сумел совершить ничего, помимо удовлетворения своих непомерных желаний, — читаю я, — стоит ли удивляться, что такого человека, при всех его изысканных манерах, личном обаянии и тому подобном, в любом обществе считают никчемным дармоедом». — С глухим стуком я захлопываю толстую книгу. — Ты смешон и нелеп, никчемный толстый дурень. Даже если считаешь себя молодцом. Ты и твой жалкий братец, — с едва заметной ухмылкой говорит Его Светлость. — И она. Повесила себе на шею тревоги о моем сынке. Нажила себе такое состояние. Наверняка все деньги, какие я ей выплатил, давно растрачены в столь утомительном поиске. Я стараюсь не выказывать злости: терпеть не могу, когда меня называют толстым. — Почему вы сделали это? — Что я сделал, дурень толстопузый? Спас тебя от верной смерти? Или избрал ее для своих наслаждений? О чем ты? Я-то считал тебя умным. — Ради забавы, — отвечаю я. — Потому что вам это ничего не стоило. Потому что вам так заблагорассудилось. — Неплохо, Томазино. Ты близок к истине. — Почему вы не приехали, когда она забеременела? — Глупо с моей стороны, верно? — говорит он. — Да, глупо. Я тебя недооценил. — На его лице пролегают резкие морщины. — Ошибка в суждениях. К несчастью, в годы войны неотложные дела удерживали меня за границей. — Точнее говоря, вы сотрудничали одновременно с нацистами и союзниками, обманули и тех и других и боялись за свою шкуру, поэтому вам пришлось скрываться подальше от Европы, чтобы вас не нашли и не повесили как предателя. — Может быть, — гнусно ухмыляется он, и я понимаю: хоть в чем-то я его уличил. — Тогда-то вы и уехали в Марракеш? — Неужели ты искренне думаешь, что я открою что-нибудь мало-мальски важное такому толстому дурню? — насмешливо говорит он. — Нет, — отвечаю я. — Но, по моим расчетам, вы сначала, сразу после войны, поехали в Малайзию, туда, где у вас были нефтяные скважины, нужные связи и припрятанные горшки с деньгами, туда, где вы могли подкупить местное население, чтобы они помалкивали, когда вас будут искать сильные мира сего. Таким образом, когда вас наконец настигла весточка от Хогарта, вы оказались слишком далеко и не успели вернуться к благословенному дню. Да, серьезная ошибка в суждениях. Очень серьезная. Его улыбка меркнет. Стреляй не торопясь, говорю я себе. Целься в сердце. — И впоследствии, — продолжаю я, — когда вы сумели добраться до Бельгии, вас встретил чрезвычайно неприятный сюрприз. Вы поспешили в Швейцарский Консолидированный банк, и вам сообщили, что счет номер сто шестнадцать — шестьсот четырнадцать был закрыт совсем недавно, и след уже простыл. Вам ничего не оставалось, кроме как поддерживать контакты очень необычного свойства с другими членами Клуба, в надежде, что угрозы или шантаж разожгут в них бдительность и они вовремя предупредят вас, если им покажется, что за вами кто-то следит. Они, разумеется, не подозревали, что ваша обожаемая, драгоценная собственность отважилась бежать. Я смотрю в стену, мимо него. Мне страшно увидеть его лицо, пусть даже он прикован к стене и не может схватить меня за горло. — В конце концов, — добавляю я, — вы решили, что самое подходящее прибежище — Марокко. Там вы без помех сможете предаваться любимому занятию — похищать и истязать женщин. В этой стране бакшиш творит чудеса, не так ли? Вам помогали толстые стены и верные слуги. Я прав? Близок к правде? Он ничего не говорит. — Что вы чувствуете, зная, что там, наверху, ваш сын? — не отстаю я. — А что я должен чувствовать? — шипит наконец Его Светлость. Разговор о Гае переполнил чашу его терпения. — Жалкий мягкотелый дурень, такой же, как вы все. Всегда был маменькиным сыночком, хлюпик безвольный. На миг мне вспоминается мальчик в Лондоне, который нам помогал. Притч сказал, его звали Арундел Гибсон. Он предал отца, чтобы защитить мать и сестру. Интересно, смогу ли я когда-нибудь увидеть Арундела и сообщить ему, какую грандиозную услугу он нам оказал. Вряд ли. Он слишком далеко отсюда, а мне сейчас нелегко общаться с людьми — взор мне застилает туман. Мне виден только один человек — с блеклыми голубыми глазами, тот, кто сейчас сидит, развалясь, будто он и не в подземном каземате, а у себя в гостиной на Итон-сквер. Кто вы такой? Зачем вы здесь? — Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему тебя схватили? — говорит мне Его Светлость. — Интересовался, кто вас предал? — Да не очень, — отвечаю я. — С тех пор прошло много лет. И ущерб, нанесенный нам, не исправить. — Верно, не исправить. Ущерб, нанесенный вашей драгоценной мужественности, — продолжает он, потом вдруг разражается жутким лающим смехом. — Но я знаю, кто вас предал. Хочешь знать? — Нет, — отвечаю я, но мой голос дрожит. — Когда я покупал вашу свободу, мне рассказали, кто вас предал, — продолжает он. — Если бы не я, ты бы не стоял сейчас здесь и не помыкал своим бесценным узником. Но я все равно скажу. Ты должен знать. Наступает краткая, напряженная тишина. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не ответить ему, но сил не хватает. Я спрашиваю его, кто же это был. Слова сами соскальзывают с языка, я неуспеваю остановить их, хотя и понимаю: он всего лишь дразнит меня, чтобы отомстить за мое превосходство в разговоре. Эти слова повисают в воздухе, будто удушливый дым, будто воспоминание о том, как вонял Мориц, с дробовиком под мышкой возвращаясь с ночного обхода. Кто это был? Кто вы такой? Зачем вы здесь? Он опять смеется. Он чуть ли не счастлив. Его скрежещущий смех гулко перекатывается по склизким кирпичным стенам. — Да твой же родной брат, толстый ты дурень, — говорит он. — Вас предал Маттео. Как ты думаешь, почему ему отрезали язык? Чтобы он не сумел рассказать о своем падении. Но эти итальяшки ничего не могут сделать как следует. Никчемный народ. — Он все еще смеется. — Нехорошо поступил твой любимый брат-близнец, очень нехорошо. Желал тебе смерти. Разве можно так поддаваться ревности? Где-то возле моей лодыжки зарождается болезненная дрожь, она поднимается все выше, к сердцу, сжимает его тугим кольцом, охватывает мое тело, как корсет, зашнурованный так туго, что я не могу дышать и хватаю воздух ртом. — Иди же, спроси его, — говорит Его Светлость. — Я тебе разрешаю. Вот как он этого добивается, осознаю я. Вот как он правит ими — членами Клуба. Вот почему слуги так преданы ему. Вот почему и мы были ему верны; вот почему мы остались в Бельгии. Он находит у каждого человека слабое место и наносит убийственный удар. Неужели Леандро был так же безжалостен с врагами? Нет, Леандро, наверное, был достойным противником. Леандро знал бы, что делать, как обезвредить эту бомбу, пока она не взорвалась и выстроенное нами здание не рухнуло с чудовищным грохотом. — Я так и знал, что вы это скажете, но я вам не верю, — говорю я, стараясь не выдать голосом своих мыслей. Я не доставлю ему удовольствия, не покажу, как больно он ранил меня. — От всего вашего могущества вам остался только язык. Вид у вас куда более жалкий, чем вы полагаете. Он опять мерзко хихикает. Я оставляю его и иду искать Маттео. Он в бассейне, плавает кругами, соблюдая идеальный ритм, туда — обратно, туда — обратно. Я долго сижу и смотрю. Наконец он вылезает из воды и по-собачьи встряхивает шевелюрой. Проклятье. Волос у него гораздо больше, чем у меня. Это несправедливо. Наверно, женитьба действует, как тоник для волос. Этого мне никогда не узнать. — Седеешь, — замечаю я, когда он вытирается полотенцем. — Как и ты, fratello mio, — отвечает он. Его Светлость плохо действует на нас. Нам кажется, что мы опять очутились в Бельгии. — Что случилось? Он говорил тебе всякие гадости? — Как ты догадался? — Потому что он говорил те же самые гадости мне. Тяжелое кольцо вокруг моего сердца мало-помалу распадается. — Догадываюсь, — говорю я, и мы оба улыбаемся. — Почему ты сразу мне не сказал? — Хотел посмотреть, выкинет ли он тот же фокус с тобой. — Премного благодарен, fratello mio, — говорю я. — Не за что. Я лениво болтаю ногой в теплой воде бассейна. — Что будем делать? — спрашиваю я. — С одной стороны, нам нужно, чтобы он сидел взаперти и страдал много-много лет, но, пока он здесь, пока он жив, мы тоже взаперти, страдаем вместе с ним. — Леандро говорил: если мы не знаем, что делать, значит, мы еще не готовы к этому, — говорит Маттео. Размышлять и планировать, подразумевает он. Планировать и размышлять. — Нам поможет вот это, — добавляет он и протягивает мне книгу, которую читал. Толстый том в кожаном переплете. «Повесть о двух городах». Потом открывает ее. Внутри спрятана потрепанная книжечка, которую я ни разу не видел после холодного зимнего дня в Бельгии. «Руководство по ядам для знатоков». — Знаешь, пора нам прекратить потрошить книги, — говорю я. — Я опять подумывал о ботулизме, но это слишком рискованно. В доме очень много народу, — говорит Маттео голосом таким беспечным, будто речь идет о том, чтобы забрать Брайони из школы. — Нет, мне этого не сделать, — отвечаю я. — Ни с безвременником, ни с чем-то другим. Больше не смогу. — Понимаю, — говорит Маттео. Он закрывает Диккенса, и мы долго сидим, вытянув ноги в воде. Вдруг он смеется. — Ну о чем мы беспокоимся? — говорит он. — Решение здесь, у наших ног. — Хлор, что ли? — спрашиваю я. — Нет, drogato. В саду. В Саду Адского Пламени. Я не сразу понимаю, о чем он говорит, и вдруг до меня доходит. Впервые за много месяцев я широко улыбаюсь. — Мой милый старший братец, ну и хитер же ты, — говорю я ему, сияя. — Гениальная идея. Та самая штука, которая прикончила нашего гнусного страуса. — Поганца Пушистика. — Да, поганца Пушистика. Прикончит и Его Светлость. Он имеет в виду мандрагору. Mandragora officinarium. Божественное растение, любимый талисман колдунов. Досточтимый корень, символ мужественности, он прокладывает себе дорогу сквозь толщу земли и изгибается, принимая очертания главной сущности секса. Растет здесь, в нашем собственном Саду Адского Пламени. «Выкапывай его только на закате, — говорила Катерина. — Не дергай сильно, а то закричит. Заверни в саван и храни в темноте». — Но мы же не знаем, как им пользоваться, — говорю я. — Наверняка у Помпадур была книжечка по садоводству, где говорится о мандрагоре, — отвечает он. — Если она на латыни, попрошу Матушку Хаббард перевести нужное место. — Пойду поищу, не откладывая. — Только смотри, чтобы тебя не увидела Белладонна, — предупреждает он.* * *
Хаббард охотно переводит главы из найденной мною книги. Ее пергаментные страницы пожелтели от времени, но содержание их не растаяло в веках. — По словам мадам де Леспинасс, достопочтенной авторессы, признанного авторитета в садово-парковом искусстве середины восемнадцатого века, мандрагора имеет два ценных свойства, — говорит он ровным голосом, хотя в душе наверняка кипит от любопытства. Мысленно я еще раз благодарю Джека за ту дальновидность, с которой он подбирал нам персонал. — Это афродизиак и яд. Другими словами, служит для возбуждения и для смерти. Мадам де Леспинасс приводит несколько различных, необычайно сложных формул для каждого из этих применений. Переписать их для вас? — О да, пожалуйста, — отвечаю я таким же ровным голосом, хотя в душе у меня все трепещет от волнения. — Если вам не трудно. Слова Хаббарда помогают мне прийти к решению. Афродизиак и яд. Для возбуждения и для смерти. Аромат убийцы — сильнейшее возбуждающе средство. Да, мы приготовим афродизиак, белый крем в маленькой баночке, с легким запахом корицы, и спрячем его, пока не понадобится. Однажды ночью, когда она, измученная, погрузится в сон, мы с Маттео крадучись выйдем в сад и выкопаем корень мандрагоры, который она выращивала годами, поливала медовой водой, шептала заклинания, которым научила ее Катерина. Мы будем ждать, что он закричит, но не услышим ни звука, кроме уханья совы, мышиного писка да прочих ночных шорохов. Мы завернем корень в саван, высушим его, разотрем в порошок. Запах у него странный, очень едкий, и я опасаюсь, что кто-нибудь уловит этот запах на моих пальцах. На всякий случай мы не снимем кожаных перчаток и каждый день будем протирать руки целыми бутылями лосьона, так что никто ни о чем не догадается. А если дела пойдут совсем плохо, приготовим яд, медленно действующий и неотвратимо смертоносный. Его Светлость никогда не догадается, что его еда отравлена. Мы будем кормить его, пока не появятся первые симптомы, но действие наступает так постепенно, что поначалу отравление будет похоже на обычное недомогание, и Белладонна ничего на заподозрит. А потом, когда ему станет хуже и он не сможет больше изрыгать ненависть, я шепну наш секрет ему на ухо, и он будет знать. Он узнает, что его отравили самым могучим колдовским символом мужественности, и поделать ничего нельзя. Противоядия не существует. Мы будем увеличивать дозу очень медленно, осторожно, о, как тщательно мы спланируем его смерть, будем выжидать, пока он не захлебнется собственным ядом. А потом наступит конец. Он будет кричать, корчиться в мучительной агонии, и смерть покажется ему благословением, и никто не придет утолить его боль, кроме призраков замученных рабынь. Я и не говорил, что мы приятные люди. Белладонна — смерть твоя. У нас только одна сложность — на ком испытать средство? Об этом никого нельзя попросить.* * *
И так опять и опять. — Где мое дитя? — спрашивает она, и он ее дразнит. Неделя идет за неделей, месяц за месяцем. Лицо Белладонны стало таким же пепельно-серым, как у Его Светлости. Изнутри ее гложет червь, он взрастает на ее муках, кормится ядовитыми мыслями. Теперь ей тяжело говорить с людьми, даже с Брайони. На наших глазах она превращается в живое привидение. Жажда мести победит тебя, если ты не победишь ее. Мы с Маттео больше не можем этого выносить, и однажды, когда Гай уехал на верховую прогулку, а она медленно поднимается по лестнице из винного погреба, мы поджидаем ее в кухне. — Знаешь, он тебя одолевает, — говорит ей Маттео. — Не позволяй ему этого. — Это все, что ты хотел мне сказать? — ледяным тоном отвечает она, прочистив горло. — Нет, — добавляю я. — Мы просто хотели напомнить, что у тебя здесь есть нечто очень ценное. Такое, чего нет у него. — Да неужели? Ты говоришь о моей свободе? — с глубочайшей горечью спрашивает она. — Не только. Кое-что еще. Она смотрит на меня. В ее пустых глазах — бездна. — Я говорю о человеке, — продолжаю я. — Нет, — отвечает она. — Да. — Я набираюсь храбрости и стою на своем. — И осмелюсь предположить, что Его Светлость грызет изнутри дух соперничества с этим человеком, хотя он и никогда не признается в этом. Откровенно говоря, я бы даже допустил, что Его Светлости причинит боль одна-единственная мысль: представить, что между тобой и его ненавистным потомком происходит что-то интимное. — Я не могу, — произносит она после долгого, скованного молчания. — Откуда ты знаешь? — спрашиваю я. — Разве ты пыталась? Она оборачивается ко мне, и ее глаза внезапно вспыхивают огнем. Она не понимает, что я стараюсь разозлить ее, вывести из себя, чтобы она сделала хоть что-нибудь, все, что угодно, только не сидела возле Его Светлости на низенькой табуретке в бездонной черноте у нас под ногами. — Знаешь, Гай так любит тебя, что не ждет слишком многого, — спешит добавить Маттео. — Тебе не кажется, что Его Светлость взбесится, если увидит у тебя на пальце некое кольцо? В конце концов, он большой любитель всяких колец. Она смотрит на Маттео, переводит взгляд на меня, прикусывает губу и бежит наверх. Потом говорит Орландо, что неважно себя чувствует и не хочет видеть ни Брайони, ни Гая вплоть до особого распоряжения.* * *
Мы с Гаем сидим на веранде и смотрим, как в сумерках гоняются друг за другом мотыльки. Я вспоминаю Италию, запах подсолнухов на полях, горячий ручей в Сатурнии, и вдруг в памяти воскресает одна картина. — У Леандро в коридоре была скульптурная мраморная панель. Ахилл на пути в Трою, — говорю я Гаю. — Он рассказал нам связанный с ней миф. Однажды Ахилл ранил копьем местного царя. Рана никак не затягивалась, и Ахилл пошел за советом к оракулу. Прорицательница сказала, что он доберется до Трои только в том случае, если его согласится вести царь, которого он пытался убить. — Иными словами, переспать с врагом, — тихо говорит Гай. — Вроде того, — соглашаюсь я. — Выяснилось, что король тоже советовался с оракулом. И ему было сказано, что он, раненый, может исцелить того, кто его ранил. — Ты хочешь сказать, только сам раненый может исцелить врага, который его ранил. — Совершенно верно. — Почему ты вспомнил эту историю именно сейчас? Намекаешь, что речь идет обо мне и о моем отце? Думаешь, он каким-то образом способен исцелить меня? И я должен спуститься в его обиталище и сказать пару ласковых? — печально спрашивает Гай. — Пожелать ему доброго пути в преисподнюю? — Не знаю, Гай, — устало отвечаю я. — Не знаю, что думать, что делать. Мне просто вспомнилась Сатурния, теплые источники. Леандро рассказывал, что в таких местах даже злейшие враги складывали оружие, чтобы вместе исцеляться. — Что ответила Белладонна, когда он рассказал ей об этом? Я изо всех сил стараюсь припомнить. — Кажется, Маттео сказал, что он никогда бы не смог сложить оружие рядом с врагом, и Белладонна с ним согласилась. И тогда Леандро сказал: «Они придут к тебе, если не будут знать, кто ты такая». И отсюда, я уверен, у нее возникла идея организовать клуб «Белладонна». — Сдается мне, ты, Томазино, пытаешься в своей окольной манере сказать мне, что я рано или поздно должен увидеться с отцом. — У него поубавится бодрости, когда он увидит кольцо, — говорю я. Гай опускает глаза на свои руки, на пальцы без колец, потом глядит на меня, и на его губах появляется тень улыбки. Из-под рубашки он вытягивает цепочку. На ней позвякивает тонкое золотое кольцо. — Может, ты кое-чего не заметил? — Надеюсь, заметил, — самодовольно отвечаю я, стараясь не выказывать обиды на то, что они с Белладонной не пригласили меня на свадебную церемонию. Наверное, все устроил Хаббард по просьбе Белладонны — оформил документы, организовал анализ крови, пригласил мирового судью, и тот незаметно проскользнул в Дом Тантала. — Жаль, что там не было Брайони. Может быть, однажды вы устроите нормальную свадьбу, и она будет держать вам букет. — Прости. Знаешь, мне, честное слово, очень неудобно перед тобой за то, что тебя там не было, — говорит Гай. — Но ничего поделать было нельзя. Все произошло в мгновение ока. — Она не хочет, чтобы ты носил кольцо, потому что боится, как бы его кто-нибудь не увидел, да? Кто-нибудь, кроме него? — Да, — отвечает он. — Я ношу его на цепочке на шее. — Он молчит и вздыхает. — Жаль, что его не видит Брайони. Она всей душой мечтает о папе. — Да, знаю. Скажи, ты удивился, когда Белладонна… — Видел бы ты мое лицо. Но все было не так. Она не подошла и не попросила напрямик. Конечно, не попросила. Делать предложение мужчине — это совсем не в духе Белладонны. — Она постучалась ко мне в дверь, вошла, села в шелковое кресло и сгорбилась, как всегда. Очень долго не говорила ни слова. Я был счастлив просто смотреть на нее. Потом она прокашлялась и спросила, могу ли я сделать ей одолжение, — продолжает Гай. — «Конечно, могу, — ответил я. — Все, что угодно». Она бледнела все больше и больше, будто вела тайный разговор с демоном, видным только ей одной. Потом ее щеки вдруг вспыхнули, она попросила меня немедленно одеться и встретить ее возле Дома Тантала. Выбежала из комнаты, я накинул одежду и бросился за ней. В дверях меня встретили Хаббард и тот странный парень — Билли. Не успел я опомниться, глядь — мы уже женаты. Я был так ошарашен, что не мог и слова сказать. Я взял ее в законные жены, или как там говорится в этой чертовой стране, а Хаббард протянул мне кольцо. — Он вздыхает. — Она закрыла глаза, сняла кольцо, которое обычно носит на пальце, дала мне надеть обручальное кольцо, а поверх надела свое старое. Его и не заметишь, если не приглядываться. Потом мы пошли обратно к дому, и я дал ей слово, что не прикоснусь к ней, как муж касается жены, если она сама этого не захочет, — продолжает Гай. — Она ничего не говорила, пока мы не дошли до лестницы, потом обернулась и посмотрела на меня. В первый раз посмотрела. «Прости», — сказала она и убежала вверх по лестнице. Его голос дрожит, и у меня заходится сердце. Я достаю один из драгоценных носовых платков Леандро и вытираю нос. Сентиментальный я дурачок. Гай, в отличие от Леандро, не стар и не лелеет воспоминания о былой любви. Еще ни одна женщина не дарила Гаю настоящих восторгов, догадываюсь я, глядя на его лицо, искаженное бурей чувств. Ни одна женщина не обвивала руками его шею, не любила его с истинной страстью, какой он заслуживает. И ни одна женщина никогда не полюбит меня. — Он поймет, что она меня не коснулась, — говорит Гай. — Мерзавец, он сразу все поймет. Долго ли он выдержит там? — Он прячет лицо в ладонях. — Как ему удается сохранять такое дьявольское спокойствие? — Он — исчадие тьмы, — отвечаю я. — Она его породила. — А он породил меня, — стонет Гай. — Тогда пусть он же тебя и исцелит. Гай глубоко вздыхает и встает. — Ладно, черт побери, я иду вниз. Никуда не деться. — Он вытягивает цепочку, расстегивает ее, снимает обручальное кольцо и желает мне доброй ночи. Я иду за ним на почтительном расстоянии. Он медленно спускается по лестнице, зажигает фонарь и садится на низенькую табуретку Белладонны, сцепив руки перед собой. От шороха его отец просыпается, замечает в тусклом свете блеск золотого кольца и смеется своим страшным скрежещущим смехом. — Я-то думал, ты избавишь меня от удовольствия еще раз беседовать с тобой, — говорит Его Светлость. — Тебя, очевидно, нельзя назвать человеком слова. — Этому я научился у тебя. — Ну, как она? Оправдала твои надежды? — ухмыляется Его Светлость. — И не стоит сверкать передо мной твоим кольцом, меня не обманешь. Мог бы порасспросить об ее искусстве своих старших братьев. Я хорошо ее обучил, она умеет услужить мне. Я сбился со счета, сколько раз они оба имели ее. Его братья и все члены Клуба. — Ты лжешь, мерзавец, — говорит Гай. — С чего мне лгать в таких вещах? — саркастически усмехается Его Светлость. — Я страшно гордился, предлагая такое наслаждение своим детям, плоти от плоти моей. В один торжественный момент Фредерик даже имел возможность продемонстрировать ее навыки перед избранной группой джентльменов. — На аукционе, через три года после того, как ты похитил ее, обманул и купил, — с горечью говорит Гай. — Фредерик был одним из тех, кто предложил наивысшую цену, правда? Его Светлость откидывается назад и молчит. Гай внезапно осознает, что отец понятия не имеет, много ли этот сын знает о Клубе и его членах. — Мне все известно, — говорит Гай, и в этот миг его голос становится до изумления похож на голос человека, которого он ненавидит всей душой. — Как ни жаль, вынужден сообщить, что она вела дневник и дала его прочитать мне. Она делала записи на клочках бумаги для акварели, которой ты предусмотрительно снабжал ее, а Томазино переписал обрывки в одно целое. Твои слуги ни разу не застукали ее за этим занятием; и ты не сумел разыскать ее после бегства. Его Светлость сверкает глазами и встает. — До чего трогательно, — шипит он, брызжа слюной. — Только вряд ли она записала, как сильно ей это нравилось. «Я не сдамся, — говорит себе Гай. — Слова — это единственное оружие, какое у него осталось». Он ловит себя на том, что в неимоверном ужасе смотрит в лицо отца и не знает, что сказать. Потом вдруг выпаливает: — Почему ты женился на моей матери? — На твоей матери? Потому что она была слаба и покорна, во всем слушалась меня. Она обожествляла меня, по крайней мере до первой брачной ночи, — отвечает Его Светлость. — А потом было уже поздно. Бывшая благочестивая девственница не могла вернуться в слезах к мамочке, истекая кровью, запятнанная позором. — Он улыбается и разглядывает ногти. — Но, говоря по правде, должен признаться, что она обладала весьма завидным состоянием. Как больно тебе, поди, сознавать, что твоя родная мамочка во многом обеспечила мне необходимые средства для того, чтобы купить твою собственную жену. — Моя жена сама пришла ко мне и предложила руку и сердце, — говорит Гай, покривив душой совсем чуточку. — Ты никогда не сможешь похвастаться этим. — Думаешь, твоей жене пришло бы в голову выходить за тебя, если бы я заранее не обучил ее всем премудростям? — поддразнивает Его Светлость. Гай торопливо удаляется из камеры, спешит скрыться в темноте, пока отец не произнес еще хоть слово.* * *
Маттео хочет вернуться домой, но понимает, что это будет нечестно — оставлять меня, когда еще ничего не улажено. К тому же еще не пришло время вручать Белладонне два наших свадебных подарка. Первый подарок — результат частных консультаций с Его Светлостью. Он знал, что время для таких консультаций рано или поздно придет. Я справедливо рассудил, что у Белладонны не хватит сил встречаться с ним сразу же после свадебной церемонии, поэтому мы попросили помощи у Орландо. Нам хотелось закончить дело как можно скорее. Орландо прекрасно знает, что делать, его методы эффективны и в то же время не оставляют видимых следов, которые могли бы навести Белладонну на подозрения. Но что бы мы ни делали с Его Светлостью, он не сдается. Через несколько мучительно долгих часов Орландо возвращается к нам и пожимает плечами. Его лицо изборождено морщинами. Мы готовы признать поражение. Его Светлость лежит на боку, стонет и что-то бормочет. Маттео склоняется к его лицу, потом выпрямляется и выходит из камеры. — Что он сказал? — шепотом спрашиваю я. — Что-то вроде «морковь», — отвечает мой брат. Морковь? Что за чертовщина? Мы поднимаемся наверх, совершено разбитые. Я устало карабкаюсь по лестнице к себе в комнату и падаю без сил. Он сказал: «Морковь». Что-то о моркови. «Если хочешь о чем-то вспомнить, перестань думать об этом, и тогда озарение придет само», — говорил мне Притч. Они сами придут к тебе, если не будут знать, кто ты такая. «Да был ли он вообще, этот клуб „Белладонна“?» — спрашиваю я себя и проваливаюсь в глубокий сон. Обрету ли я когда-нибудь покой? Проснувшись, я уже знаю, о чем говорил Его Светлость. Морковь. Морковные грядки в Бельгии. «Твой ребенок умер, мы похоронили его возле леса, по ту сторону морковных грядок». Вот что шептал ей тогда Хогарт, смутно припоминается мне. Незадолго перед тем, как… Я сразу же звоню Притчу, он обещает мне безотлагательно поставить на ноги бельгийскую команду. Теперь у них есть точные указания — где вести раскопки. Мне кажется, я развалюсь на части, как голова Хогарта. Через три недели звонит человек из команды Притча. Он представляется Стрижом и вкратце сообщает, что они нашли в огороде крохотный скелетик и патологоанатом подтвердил, что останки человеческие. Я благодарю его и вешаю трубку. Докладываю Маттео и Гаю, и мы обдумываем, как рассказать об этом Белладонне. Вечером, когда Брайони легла спать, мы поднимаемся к ней и сообщаем новость. Она долго сидит в постели, оглушенная. — Я не верю, — произносит она наконец. — Я хочу вернуть свое дитя и буду держать его там, пока он не расскажет, где Тристан. — Как ты можешь продолжать эту пытку, когда твое дитя, то, которое у тебя осталось, невыносимо страдает? — взрывается Гай. Она оборачивается и смотрит на него. В ее глазах все та же ужасающая пустота. — Если бы ты дала себе труд подумать о ком-то, кроме себя самой, то заметила бы, как переменилась Брайони. Она больше не поет, растеряла всю свою веселость, тревожится за тебя. Ей кажется, что она сделала что-то очень плохое, из-за чего ты заболела, и что теперь ты наказываешь ее. Жестоко так поступать с ребенком. «Что ты понимаешь в детях?» — хочет осведомиться Белладонна, но вовремя вспоминает о его сестре Гвенни и прикусывает губу. На миг по ее лицу пробегает тень, будто бы она готова уступить, покориться ему, Гаю, своему мужу, который всей душой любит ее и ребенка. И в этот миг мне кажется, что я вижу ее такой, какой она была давным-давно, в восемнадцать лет. До того, как ее нашли и обманули. До всего. Потом она снова надевает маску, становится жесткой и колючей, как обычно. Я моргаю, спрашивая себя, не привиделось ли мне это. — Кроме того, он уже все сказал, — говорю я. — Среди нас ты одна не хочешь поверить в очевидное. Сам Притч признался мне, что не удалился бы от дел, если бы считал, что остается хоть капля надежды отыскать Тристана. А если твоего сына не нашли в Марокко, значит, его нет в живых. Не думаю, что даже Его Светлость способен… — На что? — перебивает она. — Положить в могилу труп другого младенца и похитить мое дитя, чтобы терзать меня? Откуда ты знаешь? Откуда? — Когда она сердится, то не повышает голос; наоборот, он становится глухим и низким. Очень низким, почти как у него. — Зачем ты убил Хогарта? — говорит она яростным шепотом, чуть ли не шипит. — Он был единственным, кто мог сказать, что они сделали с моим ребенком. Зачем, зачем ты поступил так со мной? Нет, она перешла все границы. Кровь во мне вскипает, железное кольцо боли, стягивающее мое сердце, раскаляется жарким пламенем и выжигает на нем огненное клеймо. В том, что наша жизнь превратилась в ад, она винит меня! От этих ложных обвинений я перестаю владеть собой. — Как ты смеешь упрекать меня? — рычу я в ответ. Маттео кладет мне руку на плечо, но я стряхиваю ее и встаю, чтобы моя тирада звучала еще выразительнее. — Как ты смеешь? Ты считаешь, что право на страдание принадлежит только тебе, что оно снимает с тебя бремя заботы о других, прежде всего о тех, кто любит тебя? Ты думаешь, мы с Маттео не страдаем ежедневно, ежечасно из-за того, что сделал с нами некий человек? Думаешь, Гай не страдает, зная, кто его отец и что этот человек с тобой сделал? Думаешь, он не понимает, что ты заставила его жениться на тебе только ради собственных прихотей? Кем ты себя вообразила? Кто ты такая? Она не привыкла к возражениям, моя дражайшая Белладонна. Она смотрит на меня, и в глазах ее застыла та ужасающая пустота, которая всегда пугала меня, но я не обращаю внимания и продолжаю говорить. Я больше не могу сдерживаться. — Это ты убила Хогарта и благополучно вычеркнула сию неприятную подробность из своей памяти, — сообщаю я, и в моем голосе звенит сарказм. — Это тебе вдруг взбрело в голову схватить кочергу и шарахнуть его по макушке. А на мою долю выпало заметать следы. Тут до меня доходит смысл моих слов, я падаю в кресло с такой внезапностью, что пружины протестующе взвизгивают. Я сгибаюсь пополам и утыкаюсь лицом в ладони. Ох, Томазино, Томазино, как мог ты быть таким жестоким? Я же поклялся, что никогда, ни за что не расскажу ей правды. А сверчкам за окном ее спальни дела нет до наших разговоров. Они стрекочут и стрекочут. В окно влетает теплый ветерок, он щекочет мне затылок, как бахрома на белом шелковом шарфе, который Хогарт любил перекидывать через плечо. — Это правда? — спрашивает она у Маттео. Ее голос глух, будто доносится из глубокой подводной пещеры. — Да, — со вздохом отвечает он. — Но я на твоем месте сделал бы то же самое. Она встает с постели, выключает радио и опять идет в темницу, вниз, туда, где ждет ее он. Денно и нощно она станет терзать себя мыслями о том, что своими руками убила человека, который мог бы рассказать ей тайну, единственную тайну, которая, как спасательный круг, удерживает ее на поверхности, не дает погрузиться в бездну, в царство теней, где обитает Его Светлость.* * *
После того вечера отношения между нами никогда уже не станут такими же, как прежде. При случайных встречах со мной она подчеркнуто вежлива, будто с незнакомцем. Я уже не могу предчувствовать ее желания и страшно скучаю по ней, несмотря на то, что мы все еще живем под одной крышей. Маттео беседует с ней так же, как раньше беседовал я, но ему не терпится поскорее навестить свою семью. Однажды днем, накануне отъезда, он садится рядом со мной возле бассейна. Мы обсуждаем, как вручить ей наш второй свадебный подарок, который мы состряпали и аккуратно переложили в маленькую белую баночку. — Ты обязательно передашь его Гаю? — с надеждой спрашиваю я в конце разговора. — Да, и если он не пойдет в дело прежде, чем я вернусь, то я сам начну готовить еду для Его Светлости, — говорит Маттео и заключает меня в крепкие объятия. Он единственный человек, от которого я могу вытерпеть такое. Потому что он почти такой же крупный, как и я. — Думаю, ты сам догадываешься, что я постараюсь убедить Аннабет и детей переселиться сюда, когда все кончится. — Да, климат здесь здоровый, — саркастически замечаю я. — И хозяйка такая приветливая. И в темнице уйма свежего воздуха. — Не понимаю, как я тебя еще терплю, — с нежностью говорит Маттео. — Если они переедут, это будет хорошо для всех. У Брайони появятся новые друзья, а у тебя — еще четыре человека, о которых можно хлопотать. Он знает, как я переживаю из-за того, что Белладонна не замечает меня, и я ощущаю укол ревности. Ему всегда лучше меня удавалось справляться с ней, когда она была не в настроении. — Ну, чего же ты ждешь? — говорю я. Маттео машет мне на прощание и идет к дому. Там он найдет Гая и перебросится с ним парой слов. Гай дождется, пока Белладонна поднимется наверх после еще одного долгого, бесплодного разговора с Его Светлостью. А я спрячусь в кустах возле веранды, на которой он усадит ее. Мне нужно услышать, что он ей скажет. — Чего тебе? — грубо восклицает она, заметив его. — Маттео уехал домой на несколько недель, — говорит он, делая ей знак сесть рядом. Она подчиняется, но не спускает с него настороженных глаз. — Он и Томазино просили меня передать тебе свадебный подарок. Она отворачивается. — Не надо, — шепчут ее губы. — Надо. — Гай откидывается на спинку и с наслаждением вдыхает ароматный ночной воздух. Он хочет, чтобы она оставалась рядом, возле него. — Мой… Он спрашивал тебя о кольце? — говорит он наконец, и она медленно качает головой, не желая встречаться с ним взглядом. — Спрашивал, зачем я здесь? Или как мы познакомились? Или как ты отыскала его в Марокко? — Она все еще медленно покачивает головой из стороны в сторону, будто марионетка без веревочки. — А тебе никогда не казалось, как кажется мне, что это немного странновато? Человек заперт в темнице и абсолютно не хочет знать, каким образом он попал из своего роскошного марокканского прибежища в эту дыру, незнамо на каком краю света, не хочет знать, почему его преследовала и загнала в ловушку та самая женщина, которую он всю жизнь старался завоевать? Тебе это не интересно? Она поднимает темно-зеленые, беспомощные, мятущиеся глаза и смотрит на него. — Потому что желания его просты, и ты их удовлетворяешь всякий раз, когда спускаешься в его логовище, — тихо произносит Гай, изо всех сил стараясь, чтобы его голос звучал ровно. — Ему нужна ты, нужно видеть тебя, чувствовать твой запах, видеть твою слабость. Он наслаждается, глядя, как ты дрожишь и безмолвствуешь. И никакое кольцо, даже если его надел тебе на палец я, его презренный сын, не уменьшит его наслаждения. Пока он не убедится, что ты преодолела свою слабость. — Нет, нет, нет, — шепчет она. — Я не могу этого сделать. — А я и не просил тебя ничего делать, — чуть громче отвечает Гай. — Ни о чем не просил. Хоть я и твой муж, но никогда не возьму на себя смелость диктовать тебе, что нужно делать. Будь она способна заговорить, она бы ответила. Она раскрывает рот, но с губ не слетает ни звука. — Он не знает твоего имени, не догадывается, что ты Белладонна, — не отступает Гай. С каждым словом он чувствует себя смелее. — Он не знает, кем ты стала, потому что у тебя не хватает сил показать ему это. Для того ты и привезла его сюда? Чтобы терзать себя до конца его дней? Чтобы разбить жизнь всем, кто тебя любит? Чтобы жить в страхе? Ее голова опять начинает медленно покачиваться. Гай глубоко вздыхает, затем достает из кармана незапечатанную коробочку. — Они просили меня передать это тебе. Для нас обоих. Свадебный подарок. Возьми. Он вкладывает коробочку ей в руку. Она сидит и смотрит на нее, не зная, что делать. Гай опять вздыхает, с трудом сдерживая раздражение, и раскрывает для нее коробку, достает маленькую белую баночку. При виде нее от лица Белладонны отливает вся кровь.. — Где они взяли это? — шепчет она, ее голос прерывается. — Маттео сказал, он приготовил крем по рецептам из книги по садоводству мадам Помпадур. Она берет баночку у него из рук, медленно отвинчивает крышку и вдыхает аромат. Ее лицо внезапно меняется, она начинает бешено хохотать, чуть ли не впадает в истерику. Грудь вздымается так тяжело, что кажется — она рыдает. Как давно она не смеялась, вдруг понимает Гай. В ее жизни больше нет места смеху. — Они сами его случайно не испытывали? — сквозь слезы выдавливает она, все еще заходясь от смеха. — Подумать только! Из всех людей на свете — именно Томазино и Маттео. Евнухи.* * *
Неделя идет за неделей, и ничего не меняется, разве что лиловые круги под глазами Белладонны становятся все чернее. Я прошу Маттео оставаться в Нью-Йорке, пока я не позову его обратно, и он соглашается, не слишком настаивая. Однажды утром я просыпаюсь и понимаю, что учебный год у Брайони скоро закончится. Гай отвезет ее в летний лагерь в Поконосе, а потом не вполне искренне сообщит ей, что дела зовут его в Лондон. В Филадельфии он сядет на самолет и улетит. Дела неотложные, ничего не поделаешь, объясняет он девочке, но не волнуйся, скоро я вернусь. Мне кажется, Брайони, бедняжка, даже рада уехать подальше от бледной больной мамы. Гай клянется всеми взмахами хвоста Базилико, что обязательно навестит ее в родительский день. Нет, нет, больше он ни за что не поедет на Цейлон, где кусачие комары заражают людей лихорадкой денге; он непременно заберет ее в конце лагерной смены и отвезет домой, потому что вряд ли у мамы хватит сил на такое долгое путешествие. Он уже написал пятьдесят шесть открыток, адресованных его маленькой красоточке, по одной на каждый день лагерной смены, и отправил их в контору Притча. Тот будет пересылать их заказной почтой каждый день, а Брайони сможет хвастаться подружкам, какой чудный у нее дядя Гай в Лондоне, и считать дни до его возвращения. После отъезда Гая и Брайони я остаюсь в доме один. Наедине с ней — отстраненной, как призрак, и с ним — безмолвным мучителем. Я не могу спросить ее, что она собирается делать. Она больше не хочет говорить со мной, со своим верным Томазино, с шедевром разрушенной цивилизации. Мне остается только одно — не попадаться ей на глаза. Я сижу на веранде и подремываю, размышляю о несправедливости бытия и вдруг слышу, как возле моего локтя позвякивают в бокале мятного джулепа кубики льда. Я открываю глаза — на меня, устало улыбаясь, смотрит Гай. — Знаешь, твои джулепы намного лучше, — сообщает он. — Я приготовлю тебе еще один, — говорю я, просияв. — Как Брайони? Обжилась в лагере? — Надеюсь, да, — отвечает Гай. — Я уже успел по ней страшно соскучиться. Где Белладонна? — Хотел бы я знать, — отвечаю я. Гай кивает, затем идет к себе и ложится спать. Я еще немного сижу на веранде, прислушиваясь к стрекоту сверчков. Каждая ночь похожа на предыдущую; дни недели проходят в монотонном ожидании. В родительские дни Гай ездит навестить Брайони и снова возвращается. Мы сидим и пьем джулепы или бесцельно бродим по плантации, где туман сгущается все плотнее и плотнее. Однажды днем она сидит на своей низенькой табуретке перед его камерой и задает один и тот же вопрос. Она боится, что он так никогда и не даст ответа, сколько ни расспрашивай. Где мое дитя? Даже Его Светлость стал на вид таким же измученным, как она. Неволя берет с человека страшную плату, высасывает его плоть. Пора бы Его Светлости это узнать. Где мое дитя? — Это все, о чем ты можешь спросить? — насмехается он. — Я бы не удивился, приди ты ко мне за советом. Ты катастрофически нерассудительна. Замужество тебе не к лицу. Потому что ты один раз уже была замужем, у тебя была семья, куда лучше подходящая к твоим специфическим, хоть и весьма ограниченным, талантам. — В первый раз он намекает на кольцо у нее на пальце, и ее сердце начинает бешено колотиться. Наконец-то он заговорил об этом. Она вдруг понимает, что ему отчаянно хочется услышать ее ответ. — Однако не могу сказать, что сильно удивлен твоим молчанием, если учесть, за кого именно тебя угораздило выскочить замуж. — Вы ревнуете, — шепчет она. Он смеется. — С ума сошла? Пусть даже у тебя хватило глупости выскочить за моего никчемного сына, мы оба прекрасно знаем, что ты его и близко к себе не подпустишь. Ты можешь прикоснуться только к одному человеку — к твоему господину и повелителю. Такая хорошо обученная особа, как ты, должна бы это понимать. — Его голос становится глухим, он встает и подходит ближе к ней. Она отшатывается, и он снова смеется. — Даже если ты отдашься ему, все равно ты принадлежишь мне, — говорит он. — Ты моя. Всегда будешь моей. Скажи это. Скажи, что ты моя. Скажи! Кто ты такая? — Нет, — еле слышно всхлипывает она. — Нет… — Твоя жизнь — ничто, — продолжает он и старается подойти к ней еще ближе. Его страшный голос окутывает ее. — Без меня ты ничто. Ты — это то, что я из тебя сделал, и ничего больше. Ты принадлежишь мне. Я твой хозяин. Я всегда буду владеть тобой. Ты моя. Скажи. — Не скажу, — яростно восклицает она, обретя наконец дар речи. — Скажи! — кричит он. — Скажи! — Нет, нет, нет! — кричит она в ответ и выбегает из темницы, вверх по лестнице, в кухню, оттуда — к себе в комнату, захлопывает дверь с таким грохотом, что будит меня. Я лежу в постели, не зная, что делать, как вдруг через пару минут раздается громкий стук в дверь. К моему удивлению, в комнату торопливо вбегает Белладонна. На ней белый шенилевый купальный халат. В такую-то жару? Она опускается на колени возле моего лица. Ее волосы растрепаны, щеки пылают, перепуганные глаза горят изумрудным огнем. Она бессильно опирается на край кровати. — Томазино, — умоляюще шепчет она. — Нарцисс… Я — Нарцисс? Да что это с ней? Мои глаза наполняются слезами, не только от жалости к ее огорчениям и обиде, но и потому, что меня радует этот дивный звук: моя милая наконец-то просит о помощи. — Что? — поспешно спрашиваю я. — Что случилось? Чем я могу помочь? Ее руки отчаянно трясутся. Она протягивает мне большой коричневый пакет из-под печенья; в нем что-то громко клацает. Я вытряхиваю его содержимое на кровать. Четыре длинные цепи с кожаными манжетами на концах, застегнутые хитроумными замочками. И еще несколько длинных полос черного шелка и маленькая белая баночка — наш свадебный подарок. Господи, где она взяла эти жуткие цепи? Перед глазами у меня туман, внутри все переворачивается. Я складываю все обратно в пакет и заворачиваю верхушку, чтобы не видеть того, что внутри. Я понимаю, чего она от меня хочет. Она хочет, чтобы я все уладил. Не делай этого, все должно быть не так, хочется мне сказать ей, но я быстро вскакиваю и бегу в Комнату Нарцисса, золотую, зеркальную. Она уже сложила на полу груду подушек. Я перебрасываю их обратно на кровать и пристегиваю цепи к четырем столбикам, укладываю их аккуратными витками. Ставлю возле кровати, рядом с шелковыми повязками, белую баночку и задумываюсь — что делать дальше? Оборачиваюсь, обвожу взглядом комнату и вдруг вздрагиваю — она стоит в дверях, будто привидение. — Где Гай? — спрашиваю я, стараясь, чтобы мой голос звучал обыденно. — Не могу, — говорит она. — Не могу, не могу, не могу… — Она выбегает из комнаты, и я слышу, как щелкает ключ в замке. С минуту я стою, снова беспомощный, потом выхожу, закрываю дверь и запираю ее, как она только что заперла свою. Она не выходит из комнаты до самого вечера и весь следующий день. Когда я, как обычно, приношу еду на подносе, то слышу по радио голоса и вижу, как она расхаживает взад-вперед, взад-вперед. Она не смотрит на меня, не говорит ни слова и едва прикасается к еде. Вы должны смириться с возможностью того, что ваши планы закончатся не так, как вы желаете, — говорил Леандро. Комната Нарцисса стоит запертая, к цепям никто не прикасается. Мое место займет Гай, — сказал Притч. — Дозвольте ему помочь вам. В тот раз, я хорошо помню, она ничего не ответила ему. Но теперь она должна подпустить его. Должна. Это невыносимо. Человек не может выдержать такое и сохранить рассудок. Пожалуйста, прошу тебя, молю… Небо начинает светлеть. Белладонна идет к стенному шкафу, достает коричневый пакет, и внутри у нее что-то щелкает. Она закрывает глаза. Она знает, что делать, может справиться с этим на ощупь. Достает изнутри золотой парчовый корсет и обертывает его вокруг талии, шнурует так туго, как способна без посторонней помощи. Расправляет пальцами пару прозрачных шелковых чулок и надевает их, потом натягивает золотистые подвязки. Нашаривает толстый шенилевый халат и накидывает его, потом открывает глаза, отпирает дверь своей комнаты. Я слышу, как она бежит по коридору, вниз по лестнице, вниз, к Его Светлости. Стреляй не спеша. Целься в сердце. Чтобы разбудить его, она стучит по прутьям решетки. Он в испуге вскакивает. Она распахивает халат и скидывает его на пол. — Смотри на меня, — велит она скрежещущим, еле слышным голосом. — Смотри! Запомни мой облик, негодяй, ибо ты видишь меня в последний раз. Я иду к нему, к твоему презренному сыну; иду, потому что я этого хочу. — Голос ее звенит почти в истерике. — Ты слышишь меня? Я этого хочу, и ничто меня не остановит! — Кто ты такая? — злобно спрашивает он, пока его глаза с наслаждением блуждают по ее роскошному телу, о котором он мечтал каждую ночь с тех пор, как обстоятельства вынудили его покинуть ее. — Я тебе запрещаю, слышишь? — Ты не можешь ничего мне запретить, — в ярости восклицает она. — Это я тебе запрещаю. Теперь он принадлежит мне. А у тебя нет ничего. Ты и сам — ничто. — Шлюха! Не смей! Нельзя! Не делай этого! Ты моя и только моя! — визжит он. — Ты моя. Скажи это. Скажи! — Я больше никогда этого тебе не скажу, — кричит в ответ она. — Никогда, никогда, никогда… — Ты здесь, чтобы служить мне, — вопит он. — Ты моя! Она молча слушает его крики и брань, окидывает его ледяным взором и старается успокоить дыхание, чтобы хватило сил стоять спокойно. Внезапно он замолкает. «Он боится меня, — с удивлением осознает она. — Он меня боится!» Она натягивает халат и делает шаг к нему, но он, даже вытянув руки, не может ухватить ее. — Раскрой рот, — произносит она громким жарким шепотом. — Раскрой рот, и я дозволю коснуться меня. Он зажмуривается и открывает рот, но она уже исчезла.* * *
Гай просыпается и чувствует, что в комнате что-то не так. Он открывает глаза и садится на постели. Ему кажется, будто он видит сон: в кресле, сгорбившись, сидит Белладонна и смотрит на него. В эту душную знойную ночь на ней толстый купальный халат. — Что случилось? — в страхе спрашивает он. Она по-прежнему смотрит на него. Сердце Гая начинает бешено колотиться, он задыхается. Он ждет ее. Всегда будет ждать. — Ты… — еле слышно произносит она. — Ты меня любишь? — Да, — серьезно отвечает он. — Люблю. Очень люблю. — Почему? — Как ты можешь спрашивать? —говорит он ей с пылкой страстью. — Как же мне не любить тебя, даже такую невозможную, какой ты стала? Я тебя люблю, и все. Ничего не могу поделать. Верю в тебя — и больше ничего. Когда-то, давным-давно, то же самое говорил ей Леандро. — Как ты можешь? — кричит она, как кричала тогда. — Ведь я не женщина! — Неправда! — кричит и Гай. — Зачем ты меня терзаешь? Она не отвечает, только прикусывает губу и опускает глаза. Ее дрожащие руки лежат на коленях, на пальце блестит кольцо. Потом она, трепеща, встает. — В Комнате Нарцисса. Через пять минут, — говорит она дрожащим голосом и выбегает. Гай смотрит на часы. Медленно проходят три минуты, самые долгие в его жизни. Три крошечных минуты. Три коротких слова. Кто ты такая? Где мое дитя? Он мой отец. Нет, нет, нет… Позволь мне войти. Я люблю тебя. Гай встает с постели и торопливо идет в Комнату Нарцисса, выжидает еще минуту, открывает дверь и запирает ее за собой. Ставни закрыты, шторы задернуты, в комнате стоит непроглядная тьма. Когда его глаза привыкают, он видит на одном из стульев белое пятно — ее купальный халат. Потом ему чудится, будто он видит на постели Белладонну. Возле запястий и лодыжек что-то поблескивает. «Что она с собой сделала?» — думает он и подходит ближе к кровати. Она лежит на груде подушек, глаза завязаны черной шелковой лентой, запястья и лодыжки прикованы цепями к столбикам кровати. Нет, нет, нет… — Возьми меня, Гай, — шепчет она, и он слышит в ее голосе мольбу пополам со страхом. — Возьми, скорее. — Не так. Не так, как он, — шепчет в ответ Гай. — Я не могу так поступить с тобой. Это должно произойти не так… — Ты должен, — говорит она, мотая головой из стороны в сторону. — Должен, должен, должен… Он подходит ближе и осторожно садится возле нее на край кровати. Не может удержаться. Склоняется к ее лицу так близко, что мог бы поцеловать ее, но не смеет. Потом видит, что из-под повязки по ее щекам медленно текут слезы. Белладонна, его дорогая, горячо любимая, в слезах. Та, что никогда не плакала, рыдает в плену. — Я тебя люблю, — шепчет Гай и склоняется так близко, что мог бы губами снять слезы с ее щек. — Я тебя люблю. — Пожалуйста, — молит она. — Прошу тебя, скажи это. «Что сказать?» — чуть не вскрикивает Гай, но уже понимает, что она хочет услышать. — Кто ты такая? — спрашивает он. — Я ваша, мой… — произносит она дрожащим голосом, но Гай ласково касается пальцами ее губ, и она замолкает. — Никогда больше не говори «мой повелитель», — тихим голосом велит ей Гай, поцелуями осушая ее слезы. — Я тебе не господин и не повелитель, и никогда им не стану. Я твой муж, а ты моя жена. А теперь я спрошу снова. Кто ты такая? — Я твоя, — отвечает она. — Зачем ты здесь? — Чтобы исполнять твои желания. — Что ты станешь делать? — Все, чего ты захочешь. — Я хочу тебя, — говорит Гай, и у него перехватывает дыхание. Он трепещет от ее голоса, от запаха, от ее тела, такого близкого к нему. Она этого не скажет, никогда больше не скажет «мой повелитель». Он не может устоять, целует ее шею, выпуклости грудей, кончик носа, губы. Целует ее, и она целует в ответ, очень крепко, будто хочет с его дыханием впитать в себя жизнь и снова вздохнуть свободно. — Перестань, — вдруг вскрикивает она, и Гай в ужасе отстраняется. Неужели она прогонит его? «О нет, прошу тебя, только не сейчас, когда мы так близки, не надо, не гони меня…» — Раскрой ее, — шепчет она. Гай поднимает глаза на столик возле кровати и видит маленькую белую баночку. — Ты этого хочешь? — Ему кажется, что она кивает. — Я не причиню тебе боли, — произносит он с неизмеримой нежностью. — Честное слово, я никогда тебя не обижу. Он достает из баночки немного крема и касается ее там, где она хочет, где ни один мужчина не касался ее с тех пор, как… Он сидит рядом с ней и ждет. Он все еще не снял пижамы. В комнате душно, но он застыл, как ледяная статуя, и ждет. Ждет. Прошу тебя, молю… Проходит несколько минут. — Гай, — шепчет она, и ее спина выгибается дугой, ноги сдвигаются. — Гай… — Чего ты хочешь, моя милая? — шепчет он. — Тебя, — отвечает она. — Я хочу тебя.* * *
Я приношу им завтрак на подносе и оставляю у дверей, чтобы Гай мог забрать. Стараюсь не попадаться им на глаза, но на сердце у меня гораздо легче, так легко, как не было уже очень, очень давно.С каждым днем Гаю требуется все меньше и меньше крема. Постепенно, одну за другой, он отстегивает цепи, потом снимает повязку с глаз и, наконец, медленно раскрывает ставни и отдергивает шторы.
Его Светлость сам не свой. Я звоню брату, все рассказываю ему, и он обещает прилететь, как только сможет.
Туман, застилавший мне глаза, начинает рассеиваться. Особенно после того, как прилетает Маттео и начинает сам готовить пищу для Его Светлости. Мы не обсуждаем его действий. Честно говоря, не могу сказать, что я рад, но должна же эта сага когда-нибудь, наконец, закончиться, верно? Гай отрывается от Белладонны лишь затем, чтобы, как и обещал, съездить в Поконос и привезти Брайони домой. Увидев Гая, девочка повисает у него на шее и вглядывается в его лицо. — Маме стало лучше? — допытывается Брайони. — Да, лучше, я по твоим глазам вижу! — Да, моя красоточка, — отвечает он. — Ей лучше. — И всю дорогу домой они распевают веселые песенки. Как только машина останавливается, Брайони выскакивает и бежит по лестнице к маме. Белладонна с книгой в руках сидит в кресле возле кровати. Она крепко обнимает дочь. — Как твой мононуклеоз? Прошел? — осторожно спрашивает Брайони. — Да, совсем чуть-чуть осталось, — отвечает Белладонна и находит в себе силы улыбнуться по-настоящему. Брайони прикусывает губу — жест такой знакомый, что мне на глаза навертываются слезы. — Дядя Гай помог мне выздороветь. Да, ей лучше, но трудно выздоравливать, когда внизу, в темноте, томится человек, бормочет проклятия и лязгает цепями, растирая в кровь кожу на руках. У меня больше не хватает сил спускаться в подземелье; я ни на что не пригоден. Но каждый день Маттео докладывает мне, что Его Светлость стал еще более сонлив. На это мы и надеялись — он начнет болеть, постепенно ему будет делаться все хуже, здоровье его будет разрушаться очень медленно, так, что никто ничего не заподозрит. Если, конечно, учесть, где он находится. С того дня, как Гай впервые пришел в Комнату Нарцисса, Белладонна и Гай совсем не спускаются в темницу. Он переселился в желтую спальню, но каждую ночь либо она приходит к нему, либо он прокрадывается к ней в постель, а потом, пока Брайони не проснулась, возвращается к себе. Еще слишком рано рассказывать что-либо девочке, хотя она, когда придет время узнать, запрыгает от радости. Мне кажется, им обоим страшновато. Их счастье такое хрупкое, что они боятся искушать судьбу.
* * *
Однажды октябрьским днем Маттео сообщает мне, что Его Светлость выглядит намного хуже. Я говорю Гаю, что наш пленник, кажется, нездоров, и не удивляюсь, когда несколько ночей спустя вижу, как он, рука об руку с Белладонной, крадучись спускается по лестнице. Я никогда не видел, чтобы она вот так касалась мужчины. Этот жест такой естественный, такой живой, даже в спертом воздухе подземелья. — Пришли позлорадствовать? — саркастическими словами встречает их Его Светлость. — Вам меня не одурачить. — Я не спрашивал твоего мнения, — перебивает его Гай. Белладонна сжимает его руку и подходит ближе к Его Светлости. Тот не отрываясь смотрит на нее. Она долго молчит, потом улыбается. — Кто ты такой? — спрашивает она. Его Светлость так ошеломлен этим вопросом, что невольно делает шаг назад, но вскоре собирается с духом. — Ты прекрасно знаешь. Я твой господин и повелитель, — отвечает он, снова придвигаясь ближе. — Ты принадлежишь мне. Белладонна бледнеет, но и только. Гай становится позади и целует ее в шею. Она поворачивается к нему и на кратчайший миг ласкает его щеку левой рукой. В свете фонаря поблескивает золото ее колец, и, если бы в этот миг она обернулась к Его Светлости, то была бы потрясена внезапной свирепостью, исказившей его лицо. Но, когда она обращает взгляд к нему, тот уже успокоился. Ни следа эмоций. — Какая трогательная картина, — насмешливо фыркает Его Светлость. — Не хотелось бы мешать такому нежному единению, но искренне полагаю, что между мной и этой леди осталось кое-что недосказанное. Гай чувствует, что Белладонна в его объятиях напрягается. Ее губы шевелятся, с них готов сорваться вопрос: Где мое дитя? Он целует ее так страстно, что она не может не ответить. Но все-таки она поспешно отстраняется. — Пусти, — шепчет она, и Гай делает шаг в сторону. Но его рука все еще лежит у нее на плече. — Я знаю, где твое дитя, — небрежно бросает Его Светлость. — У меня есть то, чего ты хочешь. — Это все что у тебя осталось, лжец, — яростно бросает она, и Гай испуганно вздрагивает. — Ты ничто! Ничтожество! — Она убегает. Гай безуспешно окликает ее. — Ну как, хорошо я ее обучил? — спрашивает Его Светлость, трясясь всем телом от гнусного каркающего смеха. — Покорна ли она, как ты и надеялся? Откликается ли на любое твое ненасытное желание? Тебе не хватит мужского задора, чтобы совладать с ней. Пороха маловато. — Она права, — отвечает Гай, бледнея от гнева. — Ты и впрямь ничтожество. — Я рассчитывал увидеть побольше пороха в существе, которое называют моим отпрыском. — Его Светлость садится, сложив руки, будто паша, занимающийся делами государства. В этот миг он не похож на узника, который заперт от всего света в черном подземелье и каждый день поглощает с едой щепотку яда. — Но, честно говоря, не могу не признать, что для тебя я значу несколько больше, чем просто ничтожество. — Зачем ты вообще завел детей? — кричит Гай. — Неужели только для того, чтобы убить мою мать и прикарманить остатки ее богатства? — Ах ты, жалкая дрожащая тряпка. Неужели тебе хочется знать? — шипит Его Светлость. — Я отвечу тебе, с преогромным удовольствием отвечу. Сразу же после того, как сообщу твоей возлюбленной, где находится ее драгоценное дитя. Гай, пятясь, удаляется из темницы. В темноте эхом перекатывается торжествующий смех его отца.* * *
У Его Светлости затруднилось дыхание. Он с трудом говорит, лишь слабо стонет и просит воды. — Может быть, позвать врача? — бормочет Гай, когда Маттео сообщает ему эту новость. Как будто мне ничего не стоит поднять трубку и вызвать доктора Гринуэя в темницу. — При необходимости Хаббард мог бы все устроить, — угрюмо отвечаю я. — Но мне кажется, не нужно. — Мне вспоминаются слова, которые он произнес однажды в Клубе «Белладонна». Finita la commedia. Мы с братом переглядываемся. Сказать больше нечего, хотя мы рассчитывали, что человек с таким железным здоровьем, как Его Светлость, протянет немного дольше. Он пробыл у нас меньше года. Не сравнить с теми двенадцатью годами, которые она провела у него в плену, замученная и истерзанная. Нет, мы не скажем ни Белладонне, ни Гаю, кто отравил его отца и чем. Пусть считают, что Его Светлость умирает своей смертью, задушенный собственной бурлящей ненавистью. Злоба пламенем горит. Пока Гай наверху разговаривает с Белладонной, Маттео тащит меня вниз, в темницу. Мы шепнем на ухо Его Светлости несколько подходящих к случаю слов, как он нередко шептал ей. — Кто ты такой? — ласково спрашиваю я. — Ты покойник, — объясняет Маттео. — Зачем ты здесь? — продолжаю я. — Чтобы медленно сдохнуть от яда, — добавляет Маттео. — Что ты станешь делать? — Терпеть перед смертью невыносимые муки. Он смотрит на нас и хочет рассмеяться, но уже поздно. Мы сидим, забившись в уголок, и ждем Гая с Белладонной. Наконец мы слышим их шаги. Они медленно приближаются к камере, все так же держась за руки. — Встань, — велит Белладонна Его Светлости, но потом замечает зеленоватый оттенок его кожи, выпускает руку Гая и приближается к койке, на которой лежит узник. Дыхание со скрежетом вырывается у него из груди, он так слаб, что не может сесть, но в глазах сверкает невыразимая злоба. Белладонна садится на свою табуретку и дрожит всем телом. — Где мое дитя? — спрашивает она, стараясь скрыть панику в голосе, но ей это не удается. Губы Его Светлости кривятся в злорадной ухмылке. — Ты должен поправиться! Я запрещаю тебе умирать! — кричит она. — Запрещаю умирать, пока ты не скажешь, где мое дитя! Колено мне пронизывает нестерпимая ноющая боль, и я зажимаю рот ладонью, чтобы не закричать. Маттео берет меня за локоть, но этот сочувственный жест не утешает меня. Слишком поздно. Того, что мы натворили, не исправить. Его Светлость едва шевелится, и мы остаемся возле него. Долго, очень долго — кажется, несколько часов. Наконец он пытается протянуть руку к ней, тянет свои страшные, горячие, сухие пальцы. Белладонна встает с табуретки, подходит ближе, опускается на колени, но он все равно не может дотянуться. «Кто ты такая?» — безмолвно шевелятся его губы. Ее губы шевелятся в ответ. «Я ваша», — хочет произнести она, но с губ не слетает ни звука. Его Светлость закрывает глаза, его тело содрогается, из горла доносится леденящий душу хрип. Она всматривается в его лицо пустыми, невидящими глазами. — Нет, — промолвила она. — Нет, нет, нет… Его Светлость мертв, и Тристан пропал навсегда. — Надо его похоронить, — говорит Маттео Гаю. — Нет, я не хочу, чтобы он лежал в могиле. Он останется здесь, пока не скажет, где мое дитя, — говорит Белладонна, ее голос переходит в истерический визг. — Заложите его темницу кирпичом и оставьте, пока он не скажет, где мое дитя! — Белладонна, — останавливает ее Гай. Ее слова стряхнули с него оцепенение. — Он мертв. Так нельзя. — Можно! — орет она. — Можно! И нужно! Убирайтесь! Прочь отсюда! Я сама заложу стену, кирпич за кирпичом. Вон отсюда, оставьте меня! Гай, оторопев от ужаса, смотрит на нее, потом бесцеремонно хватает поперек туловища и взваливает на плечо. Белладонна вырывается, визжит и молотит его кулаками, но она слишком измучена для долгой борьбы. Он несет ее мимо винных бутылок наверх, в кухню. — Ему не место там, где мы живем и дышим. Если оставить его в доме, его призрак не даст нам покоя, — сурово говорит Гай. — Я этого не потерплю. — Но я хочу вернуть мое дитя, — произносит она голосом таким упавшим, что я не выдерживаю, выхожу из кухни и сажусь на веранде. Она даже не замечает моего ухода. Для нее я больше не существую. — Пойдем со мной. — Гай снова подхватывает ее на руки и несет по лестнице наверх, словно она весит не больше Брайони. Она прячет лицо у него на плече. Маттео смотрит им вслед, потом делает мне знак идти за собой. Той же ночью мы выкапываем в лесу глубокую могилу, потом заворачиваем Его Светлость в саван, будто корень мандрагоры. Несем его наверх, выносим на веранду, кладем на тачку и везем к могиле. Там сваливаем его в яму, закидываем землей и известью — я еще несколько недель назад предусмотрительно попросил садовника сложить ее для нас в сарае. Мы тщательно утаптываем землю, потом кладем поверх глины камни и снова утрамбовываем. Куда бы ни привела тебя тропа, не сдавайся.* * *
Маттео уезжает в Нью-Йорк, и наша жизнь постепенно возвращается к привычному ритму. Туман перед моими глазами становится все тоньше, вскоре он едва различим. Но я чувствую свою полнейшую никчемность. Проклятье. Такое уныние не идет к моей комплекции. Поэтому я держусь особняком и размышляю, что станет со мной дальше. Но однажды днем, когда я сижу у себя в спальне и читаю книгу стихов из библиотеки мадам Помпадур, ко мне приходит Белладонна. Она хлопает дверью, запирает ее, и при виде ее лица мое сердце начинает учащенно биться, а перед глазами мгновенно сгущается прежний туман, будто я вступил в густое облако дыма. Она бросает мне на кровать лопату. — Ты выкопал мою мандрагору и отравил его, — заявляет она. Я захлопываю книгу. Сейчас я не могу ей лгать. — Да, — отвечаю я. — Потому что он отравлял тебя. — Не твое дело принимать за меня такие решения, — гневно заявляет она. — Как ты посмел? Как ты посмел? Я решил не говорить ей, что мне помогал Маттео: незачем рушить остаток жизни и ему тоже. Тогда она не разрешит ему поселиться здесь, а они с Аннабет уже продали квартиру и отправили багаж. Сами они не торопясь едут из Нью-Йорка и со дня на день будут здесь. Я считал часы до счастливого мига, когда мой брат навсегда поселится под одной крышей со мной, а Брайони невероятно радуется тому, что Маршалл и Шарлотта тоже будут жить здесь. Она еще сильнее обрадуется, когда Белладонна и Гай объявят о своей «помолвке». Ее обожаемый Гай будет ей и отцом, и братом. — Посмел и все, — коротко отвечаю я, стараясь с достоинством принять обрушившийся на меня гнев, хотя мое сердце безумно колотится. — Это казалось единственным выходом. — Теперь я никогда не узнаю правды о Тристане, — говорит она. — Никогда не найду мое дитя. Из-за тебя. Я тебе этого до конца жизни не прощу. — Она отпирает дверь и, уходя, хлопает ею так сильно, что заснеженный пейзаж Утрилло, когда-то подаренный ею, падает со стены. Умение прощать — это дар, — говорил нам Леандро. — Это единственное средство, которое может освободить нас от груза ненависти… Пока мы не способны простить, мы держимся за руку своего обидчика. И эта рука будет вечно тянуть нас назад. Ее слова разбивают мне сердце, обрушиваются, как кочерга на голову Хогарта. И мое сердце рассыпается на сотни брызг, блестящих, как бриллианты на каблуках золотых парчовых туфелек некой женщины, которая прохаживается по ночному клубу, и вдогонку ей несется приглушенный смех. Это слишком несправедливо. Мне ничего другого не остается. Только одно. Белладонна — смертный страх!Часть VI Последняя веселая припевка (1958 — 1982)
Белладонна прочь ушла,Демонов отозвала.Ветер плач ее уносит,И никто уже не спросит,Чью судьбу она сгубила…Белладонна отомстила.
22 Время, не отданное любви, потеряно зря
Если я стар, это еще не значит, будто я забыл, что такое любовь. Нечто наподобие этого говорил Леандро; только я забыл, где именно. Проклятье. Память у меня уже не такая ясная. А ведь всегда все помнил. Знал, что хорошо, что плохо, помнил собаку у дверей клуба «Белладонна». Как обдумывали, рассчитывали, строили планы, как лязгали цепи в подземной темнице. Леандро вел беседы со мной в сумерках, когда вокруг прогуливались отдыхающие. Наверное, где-то на водах. Так нежно журчали фонтаны. Здесь, во Флоренции, где я сейчас живу, в саду Боболи тоже есть очень красивый фонтан. Он называется «Океанус», окружен рвом и обсажен цветами. Вокруг него, смеясь, бегала маленькая девочка с рыжеватыми соломенными кудряшками. Она искала свою звезду желаний. «Закрой глаза и загадай желание», — сказал однажды Хогарт Белладонне, а потом обманул ее. Я закрываю глаза, но желаний больше не осталось. Вспоминать становится все труднее. Она здесь, но ее здесь нет. Живой призрак — так назвал ее однажды Притч. Он тоже ушел. Вышел однажды из дверей пивной «Ведьмино зелье», поскользнулся и разбил себе голову. Чудесную лысеющую голову, полную гениальных идей, планов и расчетов. Она разбилась и истекает кровью. Или это был Хогарт? Его голова тоже раскололась. Так ему и надо, правда? Растерял волосы, а потом потерял и голову. Но получил по заслугам, ни больше ни меньше. Хогарт и все остальные. Члены Клуба. Будь внимательнее, Томазино, ты стал старым дураком. Проворство покинуло меня. У меня много лет была цель в жизни. У нас у всех была цель. Мы действовали, обдумывали, строили планы, а потом нашли его, и все окончилось. Секрет вечной молодости — в вечном движении. Мне кажется, эти слова тоже принадлежали Леандро, но он умер, покинул нас, потому что мы уже были готовы действовать без него. Мне пришлось покинуть Белладонну. Она нарочно обвинила меня. Я был ей больше не нужен. Я, ее верный Томазино. Я побоялся, что она никогда не простит меня. А тогда у меня не будет причины оставаться в живых. Я сжимаю тросточку Леандро с золотой львиной головой на рукоятке. Она поддерживает меня, когда я выхожу на прогулку. Я часто гулял с Маттео по саду Боболи. Он долго жил с семьей в Ла Фениче, пока дети не выросли и не разлетелись по свету. Когда Аннабет внезапно заболела и умерла, Маттео послал мне письмо через контору Притча. Через некоторое время я разрешил ему отыскать меня в Италии. Он тоже чувствовал себя неважно, поэтому мы не обсуждали ни его больные темы, ни мои. Я сказал ему только одно: нам нельзя ехать в Ка-д-Оро — там живет слишком много воспоминаний, которые мне хочется забыть. Мы поселились в просторной квартире с широкой террасой на крыше, где выращивали в горшках базилик и сидели в мягких креслах, любуясь закатом. Именно в Италии все это и началось. Закончилась наша прежняя жизнь, началась новая.* * *
В ту ночь я разбудил привратника Тибо, рассказал, что меня призывают безотлагательные семейные дела, и попросил подвезти в аэропорт. Дескать, я не хочу будить Белладонну. Я взял с собой всего пару чемоданов с вещами, небольшую стопку книг из библиотеки Помпадур, лаковую автоматическую ручку, тросточку и «кошачий глаз» — подарки Леандро, да несколько фотографий. Я не мог взять больше — иначе Тибо заподозрил бы неладное. К тому же мне не хотелось обременять себя багажом, особенно той коллекцией блестящей мишуры, которая скопилась у меня за долгие годы. И уж тем более нельзя было брать с собой заснеженный пейзаж Утрилло. Денег у меня хватало — точнее говоря, я был несметно богат. Я мог купить себе все необходимое там, где пожелаю остановиться. Я вылетел в Нью-Йорк и позвонил Джеку. Он встретил меня в аэропорту Айдлуайлд. Мы сидели в зале ожидания, глядели, как спешат мимо нас усталые путешественники, и рассказы лились рекой. Джек слушал без улыбки, изредка кивая, и мне почему-то вспомнился наш давний разговор в «Уолдорфе», когда мне не терпелось поделиться с ним замыслами относительно клуба «Белладонна». Потом он сказал, что хотел бы в трудную минуту оказаться рядом с нами, чтобы помочь, и мне стало немного легче. Он позвал меня к себе на Горацио-стрит поздороваться с Элисон — та носила под сердцем их первого ребенка, пригласил пожить, сколько мне захочется, но я отказался. Этот дом больше не был моим. Коридор, ведущий в клуб «Белладонна», был давно перекрыт, интерьеры изменены. От былого величия не осталось и следа, пурпурную дверь заложили кирпичом. Об этом клубе говорили вполголоса, будто о призраке. Словно он существовал только в сказочных снах. Мне это зрелище было невыносимо. Джек бросил на меня проницательный взгляд и спросил, не хочу ли я передать кому-нибудь письмо. Я отрицательно покачал головой. — Рано или поздно она позвонит, станет меня искать, — сказал я. — Но я не скажу, куда направляюсь, ни тебе, ни даже моему брату — никому. Я знаю все ваши уловки, мистер Уинслоу, и уловки Притча тоже. Я не допущу, чтобы меня нашли. — Томазино, не делай этого, пожалуйста, — сказал он. — Так надо, — ответил я. — Просто скажи ей, что я не хочу, чтобы меня нашли. Она поймет. Джек не стал спорить. Он слишком хорошо знает меня. Приподняв шляпу, он зашагал прочь и вскоре растворился среди толпы пассажиров так виртуозно, что я мысленно поаплодировал ему. Я сел на самолет, потом пересел на другой и только затем улетел. Осторожность никогда не помешает. Время от времени я давал о себе знать в контору Притча — просто затем, чтобы они знали, что я еще жив и мой брат не слишком волновался. Изредка я звонил ему, но всегда — заранее договорившись о времени, и никогда не звонил в дом на плантации. Однажды он стал уговаривать меня вернуться; мол, он объяснил Белладонне, что на нем вина лежит не меньше, чем на близнеце, и она нас простила, но я, не дослушав, повесил трубку. Много лет я прожил на Мадагаскаре, в Тунисе, на Тасмании, в Чили, в Ириан-Джайе. Иногда просил туристов отправить мои нечастые письма из того места, куда они направляются, чтобы меня не выследили. Я прекрасно научился обдумывать, строить планы, держаться впереди них всех на один шаг. В конце концов я привык путешествовать по свету, прикрываясь бесчисленными поддельными паспортами. Я менял имена так часто, что почти забыл свое прежнее имя. Когда-то меня звали Томазино. Секрет вечной жизни… Проклятье. Я начинаю повторяться. Трудно вспомнить подробности. Предпочитаю смотреть, как люди приходят и уходят, вышагивают с чувством собственного превосходства, как я ходил когда-то. Болтовня туристов иногда страшно раздражает. Особенно не люблю американцев в коротеньких юбочках или уродливых синих джинсах, с длинными сальными волосами. Ужасные неряхи и болтуны. При виде их Хогарт брезгливо поднес бы платочек к носу. Но Хогарт мертв, не так ли? Его идеально круглая лысеющая голова раскололась, как вареное яйцо, стукнувшееся о тарелку. Говорил ли я уже об этом? Иногда на прогулках я разговариваю со встречными. Мне нравится гулять по музею Барджелло, а больше всего я люблю зал делла Роббиа. Я втискиваю свое могучее тело в одно из деревянных кресел в коридоре, потому что я устал, а день такой жаркий, потом выглядываю во двор. Когда-то здесь стоял эшафот. Интересно, есть ли в Барджелло подземные темницы? Двор наполняют шумом громкоголосые американцы в грязных джинсах, с путеводителями в руках. Если тот, кого бросили в темницу, на съедение крысам, начнет просить о помощи, его криков не услышат за этой суетой. Я мимолетно улыбаюсь, и один из туристов с интересом смотрит на меня. Я тоже американец, но не чувствую никакой общности с этими деловитыми пустозвонами. Я становлюсь забывчив. Потертый ногами рисунок на каменных плитах дарит странное успокоение. Маттео тоже любил заходить в этот музей. Когда у него было настроение поболтать, я оставлял его посидеть возле привратников, и он, стыдливо шепелявя, беседовал с ними, как со старыми друзьями. А я отправлялся навестить одну из моих любимых церквей — Санта-Мария-де-Черки, или Сан-Лоренцо, или Санта-Кроче. Под плитами из выщербленного серого мрамора похоронено множество знаменитых итальянцев. Я смеюсь, глядя на восторженных туристов, которые дома даже под страхом смерти не зайдут в церковь поставить свечку. Когда человек путешествует, для него все меняется. В обычных кирпичах и камнях под ногами таится волшебство. Если, конечно, этими камнями и кирпичами не выложены стены темницы. Туристы в церкви исчезают, скрытые дымкой моего безразличия. Меня больше ничто не интересует. Бог, какой бы он ни был на небесах, давно забыл про нас. Я ставлю свечку в Санта-Кроче. Я всегда вычисляю точную сумму, какую попросят служки, а если не угадал — плохая примета. Боги признают только ритуалы. Катерина разбиралась в ритуалах, но она тоже ушла. Все ушли. Я опускаюсь на колени перед трепещущим пламенем свечей и сцепляю ладони, глядя в побитые мраморные плиты у подножия алтаря. У меня под коленями — могила. От нее остались только едва заметные очертания; под шагами сотен и тысяч ног буквы потускнели, черты покойного на портрете расплылись. Остались лишь тонкие линии на мраморном полу. Я выхожу из церковных теней на яркий солнечный свет, в нос мне ударяет прокисший запах дешевой кожи, разогретой на солнце, — привычная вонь городского рынка. Погодите-ка — я ошибся. Я по-прежнему в музее, жду Маттео. Звенит колокольчик — музей закрывается, нам пора идти. Захлопываются двери, в темных коридорах шелестят торопливые шаги. Хнычет малыш, но ворчливые родители обещают ему мороженое, и плач сменяется писклявым смехом. Мы с Маттео идем к садам Боболи, мимо витрин с перчатками, бумажниками и вручную расписанными блюдами, с красивыми лаковыми авторучками и туфельками на высоких каблуках. Привратники хорошо знают нас и не спрашивают пропусков. Они думают, что нас зовут Тонио и Марчелло. Хотя Маттео и рассказал мне, что Белладонна, узнав, что я не хочу показываться на глаза, перестала искать меня, все равно нелегко избавиться от старых привычек. Я угощаю привратников приторно-розовыми марципановыми свинками и ангелочками из ближайшей кондитерской, и они смеются. — Чао, Тонио, чао, Марчелло, — окликают бакалейщики, когда мы проходим мимо их лавочек шириной чуть больше меня самого. Я приветственно приподнимаю трость. — Чао, Тонио, чао, Марчелло, — говорит владелец табачной лавки. Иногда в Боболи, если покрепче зажмурить глаза и как следует сосредоточиться, мне удается представить, будто я сижу на веранде огромного дома в Виргинии, у моих ног расстилаются бескрайние плантации. Вдалеке лают собаки, ржут лошади, мелодично клацают колокольчики на шеях у коров. На полях зреет зерно. Солнце садится, поднимается легкий ветерок, я прижимаю к запястью серебряный бокал с мятным джулепом, чтобы остудить пульс. Старый прием южных красавиц. Я открываю глаза. Я по-прежнему во Флоренции, сижу с моим дорогим страшим братом на скамье, в кружевной тени переплетающихся ветвей, протянувшихся над аллеей, как жадные, цепкие руки. Хочу пересчитать бабочек, но их слишком много. Ползут по своим делам ящерки и жуки. Но, заслышав тяжелые шаги старого дряхлого евнуха, в страхе разбегаются. В самые жаркие дни мы никого не видим в саду целыми часами. Я сижу со своими тетрадями и термосом холодного чая, сдобренного виски. Маттео читает или дремлет. Говорить нам не о чем. Я почти закончил свой рассказ. Работа оказалась тяжелее, чем я предполагал. Нелегко пересказать все, что было, по порядку. Я рассказал вам все. Как и обещал. Старался не лгать, но иногда не мог не прихвастнуть, самую капельку. Вы, наверное, уже и сами об этом догадались? И не приставайте ко мне с настырными расспросами, мои уста на замке. Мы умеем хранить тайны. Все мы. Я и так рассказал достаточно.* * *
В конце кипарисовой аллеи, у фонтана, есть звезда желаний. Так ее прозвала Брайони. Девочка увидела ее и радостно подбежала, таща за собой Маттео, ее белокурые локоны развевались на ветру. Смотри, Маттео, это наша звезда. Встань посередине, вот сюда. Встань и загадай желание. Потом Брайони отскочила и побежала к воде, к саду на острове посреди фонтана «Океанус». Там в терракотовых горшках, расписанных рисунками, которые ни разу не повторялись, росли ароматные лимонные деревья. Uno, due, tre, — считала Брайони и бежала наперегонки с Маттео вокруг пруда, смеялась от чистой, детской радости. Брайони назначила меня арбитром, велела засекать время. Но я ей был не нужен, потому что Маттео всегда поддавался. Загадайте желание, — говорила она ветру и бабочкам. Загадай желание. Однажды зимним днем я хочу прогуляться к фонтану «Океанус», но Маттео говорит, что очень устал. Дует пронизывающий ветер, от холода завяли все цветы на берегах пруда. Мы садимся на нашу привычную скамью, Маттео опирается на мое плечо и погружается в дрему. Я покрепче обвиваю его рукой и укладываю голову к себе на грудь, чтобы он получше поспал. Вокруг его шеи обмотан поношенный светло-серый ангорский шарф, который когда-то связала Брайони. Его чудесные волосы, густые и вьющиеся, почти не поредели, хотя и стали совсем седыми. У нас остались волосы — и больше ничего. Мне нравится чувствовать возле себя теплую тяжесть брата. Во сне он вздыхает — и вдруг вес его куда-то уходит. Нет, нет, нет. Не может быть. Если я не шелохнусь, не посмотрю на него, то ничего этого не было. Маленький немецкий мальчик смахивает со скамейки напротив сухие листья и пыль. Аккуратный малыш. Он смотрит на меня и робко улыбается, и эта улыбка чуть-чуть утешает меня. Потом он убегает к родителям. Да, я всегда был чересчур сентиментален. Я сижу и глажу волосы Маттео. Они все еще шевелятся под легким дуновением ветерка, тихо шелестят в холодном воздухе, они еще живы. Он немного побледнел, но кожа еще теплая. Он долго останется теплым. Если я просижу здесь до темноты, нас будут искать. Все забеспокоятся, когда не увидят, что мы, как обычно, ровно в 6:37 вечера направляемся в тратторию на углу съесть вечернюю порцию спагетти, завершая трапезу легким вином и бисквитами. Мимо плетется, закинув грабли на плечо, старый садовник. Увидев нас издалека, он приветственно кивает. Но, приглядевшись к моему лицу и заметив неподвижного Маттео, в ужасе останавливается. — Per favore, — еле слышно говорю я. — Per favore. Он роняет грабли — те падают на гравий с кощунственно громким стуком — и убегает, поспешно крестясь. Через миг он исчезает в сумерках. Больше никогда я не видел того садовника. Интересно, что с ним стало. Мне хотелось подарить ему что-нибудь на память. Может, он решил, что встреча с нами — дурной знак, а может, одна из племянниц наконец уговорила его удалиться на покой, найти уютный домик на юге, где можно погреть ревматические косточки на теплом солнце и без помех возделывать помидоры. Не знаю. И никогда не узнаю. Но это не имеет значения, говорю я себе, сидя на скамейке в саду и любуясь на бабочек. Покоя все равно нет. Иногда я пытаюсь писать в тетради. Сжимаю в руке красивую лаковую авторучку, но слова не приходят. Я закончил начатый труд, верно? Прошел весь путь от начала до горького конца. Знаю, прошел. Проклятье. Вспоминать становится все труднее. Какой жаркий день. Я почти закончил. А что потом? Потом я буду грезить наяву.* * *
Я сижу на моей скамье, погрузившись в дремоту. Перебираю пальцами светло-серый ангорский шарф, тот самый, который был на Маттео, когда он умер. Он любил этот шарф, его связала Брайони много-много лет назад. Петли наползают одна на другую, бахрома неровная. Потом я убираю шарф обратно в карман. Погода слишком жаркая. Я слышу шаги, но от усталости нет сил открыть глаза. Кто-то трогает меня за рукав, осторожно, как призрак. Мои глаза все еще закрыты. Вот, значит, каким бывает конец? Я не хочу смотреть. — Томазино, — слышу я свое имя. — Томазино, проснись. — Я, наверное, умер, и меня зовет мой брат. Ради него я готов открыть глаза. Но потом чувствую легкое прикосновение пальцев к руке. Она терпеть не могла прикосновений. Ветер шелестит в опавшей листве, до меня доносится едва уловимый аромат. Ее — и в то же время не ее. Наверное, я сплю. И мне приснились мои былые желания, звезда желаний, которая исполняла их для меня. Я всегда желал услышать этот знакомый, любимый голос. — Томазино, — слышу я опять. Голос не ее. И не Брайони. Голос принадлежит призраку, он пришел дразнить меня. Белладонна — сладкий звук. На краткий миг я вернулся в молодость. Снова стал хитрым, самовлюбленным охотником строить козни. Я — шедевр разрушенной цивилизации, так она называла меня, когда я сидел под маской рядом с ней, всемогущий властелин клуба «Белладонна». О, как я был счастлив тогда! Продумывать, строить планы, наслаждаться их страданиями. Я сделал это для тебя, Белладонна. И для себя. Если попросишь, я опять сделаю то же самое. Мне кажется, я умер. Меня зовет Маттео. Я чувствую на руке щекочущее прикосновение его пальцев. Я ему нужен. Я жду его здесь. На этой скамье он меня оставил. Он вернулся; я знал, что он не оставит меня надолго. Однажды он уже оставил меня, женившись на Аннабет. Тогда я радовался за него, искренне радовался. Но, когда она умерла, он сказал, что никогда больше меня не покинет. Он вернется, мы пойдем гулять, как привыкли, я стану болтать, а мой любимый старший брат — молча слушать с восторженной улыбкой. Я открываю глаза. Моложе я не стал, а мой брат по-прежнему мертв. Я похоронил его рядом с Леандро, на склоне холма в Тоскане. А возле меня стоит девочка. Она очень похожа на Брайони, у нее синие, как море, глаза, но волосы прямые, светло-каштановые. Это не Брайони. Всего лишь жестокий обман зрения в жаркой дымке полуденного солнца. — Вы Томазино? Вы, наверное, Томазино. Вы очень похожи на Маттео, только толще, — говорит она, потом испуганно зажимает рот ладонью и оборачивается к кому-то позади. Я зажмуриваюсь, но ее тоненькие пальчики барабанят по моему колену, требуя внимания, и я снова открываю глаза. Мое колено больше не подергивается. Оно молчит, как молчу и я. — Томазино, Томазино, — щебечет малышка. — Я знаю, вы Томазино. А я Анжелика, — представляется она. — Мама послала меня поискать вас. У вас в самом деле на тросточке лев? — Да, золотой лев, — с трудом произношу я, прочистив горло. Мне не хочется разочаровывать малышку, которая похожа на Брайони. — А кто твоя мама? Она озадаченно смотрит на меня, потом весело смеется. Думает, я ее разыгрываю. — Моя мама — миссис Гибсон. Ее зовут Брайони. Брайони Брайони Брайони Гибсон, — нараспев говорит она, как любила делать Брайони. — А я Анжелика, как цветок. Цветок Анжелика. А мой папа — мистер Гибсон. По-настоящему его зовут Арундел. Вы знаете, что это означает? Арундел — значит «орлиное ущелье». Арундел Арундел Арундел Сирил Сент-Джеймс Гибсон. Анжелика — дочь Брайони, которая вышла замуж за Арундела Гибсона. Как я мог забыть о них, об этой парочке? Как они познакомились? Знает ли Брайони, кто отец Арундела? Кажется, Маттео рассказывал мне о них; наверняка рассказывал. Кто приложил к этому руку — Притч? Или Стрижи? Проклятье. Эта история такая сложная, что мне не под силу оказалось припомнить ее и записать. Я укоряю себя. Нет, дело не в этом. А в том, что они нашли свое счастье. В моих тетрадях нет места счастью. Я улыбаюсь Анжелике. Еще один прелестный цветочек, веселое бойкое дитя. И тогда я вижу саму Брайони. Анжелика подбегает к ней и жалуется, что я ее не узнал. Брайони сейчас в том же возрасте, в каком была когда-то Белладонна, намного старше, чем была ее мать, когда мы впервые встретились. Брайони очень похожа на мать, только глаза у нее яркие, сине-зеленые, и в лице нет ни жесткости, ни страха. А в сердце нет гнева. Брайони робко улыбается. — Томазино, я так скучала по тебе. Все эти годы, — говорит она, садясь рядом со мной на скамью, туда, где всегда сидел Маттео, и ласково кладет руку мне на локоть. — Наконец-то мы нашли тебя. Нам позвонили из Ка-д-Оро после того, как твой брат… После похорон Маттео. Тогда мы узнали, что ты дозволишь нам найти тебя. — В самом деле? — говорю я, делая вид, что очень удивлен. Мне не хочется говорить о брате. Лучше я буду любоваться Брайони. Она так похожа на мать. Кажется, я уже говорил это; простите, забыл. — Ты скучала по мне? — Ах ты, милый мой сумасброд. — Брайони целует меня в щеку. Белладонна никогда не целовала меня. Она терпеть не могла прикосновений. И вдруг я вижу, что по щекам Брайони струятся слезы. Почему она плачет? Неужели я стал до того уродлив? — Конечно, скучала, — говорит Брайони, утирая слезы. — Мы все страшно скучали. А больше всех — моя мама. Лопух ты, лопух. Как же ей не скучать? Я была уверена, что ты приедешь на свадьбу, и все утро плакала, потому что ты не видел меня в праздничном платье. А ведь я держала букет… И на фотографиях мое лицо получилось опухшим. — Правда? — с восторгом спрашиваю я. — А что за свадьба такая? — Мамина, — говорит она дрожащим голосом. — Мама вышла замуж за Гая. — Она достает из сумочки белый носовой платок и вытирает нос. — А потом я, вопреки всему, надеялась, что ты приедешь на мою свадьбу. Даже Маттео сказал, что, может быть, ты приедешь. — Ты всегда больше любила Маттео, — возражаю я. Она горестно смеется. — Томазино, ты нам нужен. Она не может без тебя; так и не привыкла, за все эти годы. Никто с тобой не сравнится, даже Гай. — Брайони вздыхает, потом печально смотрит на меня. Я рад, что она не называет Гая «мой отец». Интересно, много ли ей известно? Рассказали ли они ей правду? Я никогда не задам ей этого вопроса. — Томазино, пойдем со мной, — просит Брайони. — Я хочу загадать желание. Я отрицательно качаю головой. Я слишком устал, нет сил встать. И боюсь, что я вижу сон; стоит мне пошевелиться — видение исчезнет, и я проснусь в одиночестве. — Пожалуйста, — умоляет Брайони. — Прошу тебя. Пойдем к звезде желаний. Ты мне нужен. Проклятье. Я никогда не мог отказать тому, кто нуждается во мне. Брайони осторожно тянет меня за руку, и я встаю. Анжелика скачет на одной ножке впереди нас, отбрасывая ногами камушки с дороги, и распевает веселые песенки, которые так любила ее мама. Мы идем медленно, я стараюсь не слишком тяжело опираться на трость. Очень жарко, я страшно устал. — Томазино, — слышен чей-то голос. Я закрываю глаза. Все-таки я умер, на сей раз по-настоящему. Мы все умерли и перенеслись на небеса. Здесь со мной — все, кого я любил, и в саду на ярком солнце весело журчит фонтан. — Томазино, — повторяет она. Я знаю — она близко. Чувствую ее рядом, ощущаю аромат ее духов, такой утонченный, такой нежный, аромат растений, которые могут убить вас одной каплей своего сока. Она всегда умела мгновенно появляться из ниоткуда, когда ее меньше всего ждешь. Никогда не мог понять, как ей это удается. Я многого никогда не пойму. Я открываю глаза, и она передо мной — отрада моего сердца, моя милая Белладонна, она стоит возле меня. В ярких зеленых глазах блестят слезы, и она тоже прикусывает губу. Она, неколебимая Белладонна, в слезах! Наверное, стряслось что-то очень серьезное. — Почему на твоих глазах слезы? — спрашиваю я, стараясь говорить легкомысленно. — Ты не из плаксивых. Ее волосы собраны на затылке в совсем не модный в эти дни пучок, и на первый взгляд она совсем не постарела с того дня, как я в последний раз видел ее, с того дня, как я двадцать пять лет назад бежал из Ла Фениче. Нет, лицо у нее другое. Щеки округлились, стали мягче, женственнее. Печать ярости не искажает ее лицо, не сковывает его в непроницаемую, пугающую маску. Но, хоть она и стала мягче, она не забыла. И никогда не забудет. Мне надо идти, хочу сказать я ей сейчас, надо идти. У тебя есть Гай и мой брат, перед вами расстилается долгая жизнь, которую вы проведете вместе, и я тебе больше не нужен. Увидев меня, ты каждый раз будешь вспоминать… — Я хотел найти покой, — говорю я ей. — О, Томазино, — молит Белладонна. — Вернись ко мне, прошу. Умоляю. Я не могу без тебя. Честное слово, не могу. Ты мне нужен. Три коротких слова. Так мы просим друг у друга прощения. Слова остаются непроизнесенными, но отзвук их мерцает в солнечной дымке, будто крылья бабочки. Будто эхо шагов, что замирают в коридоре темницы, навсегда исчезая в темноте. Белладонны не существует; она никогда не была настоящей. И навеки останется недосягаемой, неумолимой, таинственной богиней темного подземного царства. А я навсегда останусь ее верным Томазино. Потом я вижу Гая — он прислонился к ограде фонтана. Он по-прежнему ослепительно красив, хотя лицо прорезано глубокими морщинами, а в волосах даже больше седины, чем у меня. Насчет Гая я был прав, самодовольно говорю я себе. Вокруг него тот же легкомысленный ореол, какой я заметил, когда впервые подслушал в клубе «Белладонна» его разговор — он со смехом рассказывал о социопатическом сквайре и прикуривал от зажигалки в дамском ожерелье. Гай машет рукой худощавому мужчине со светло-каштановыми волосами, ниспадающими на лоб. Взгляд у него хмурый. Он немного похож на Хью, решаю я. Наверное, таким был Хью в молодости. Он представляется: Арундел Гибсон. Муж Брайони, отец Анжелики. Вот мы, наконец, и встретились. Когда-то, давным-давно, этот человек оказал нам неоценимую услугу. Неужели Брайони уже выросла, у нее муж и ребенок? Не может быть. Ведь я уехал от них только вчера, разве не так? — Томазино, пойдем с нами, — говорит Гай. — Пойдем домой. Ты нам нужен. Ты нужен мне. Горничная вынесла все книги из библиотеки Помпадур, чтобы стереть с них пыль, и оставила их в полнейшем беспорядке. Вернись, прошу тебя. Скоро приедут в гости Хью и Лора. Вернись, пожалуйста. Кроме того, — заговорщически подмигивает он, — никто не умеет готовить мятный джулеп так, как ты. Книги Помпадур, Библия Помпадур. Тайна в… Белладонна сквозь слезы улыбается мне. Ее ладони смыкаются на моих руках, лежащих поверх головы золотого льва на тросточке Леандро. Анжелика бегает вокруг звезды желаний, ее волосы развеваются за спиной. — Загадай желание, — со смехом кричит она. Загадай желание! Мы стоим в лучах солнца и смотрим, как она бегает наперегонки с отцом. Он всякий раз поддается ей. Как Маттео поддавался Брайони. Порыв ветра доносит едва уловимый пряный аромат. Наверное, Nerium oleander. Цветки такие нежные, такие пахучие. Нет, нет, нет. Это Atropa belladonna. Цветки — прелестные красные колокольчики, ягоды черные и блестящие, как шерстка коккер-спаниеля. Что же это, если не Белладонна? О, сладкий, сладкий яд!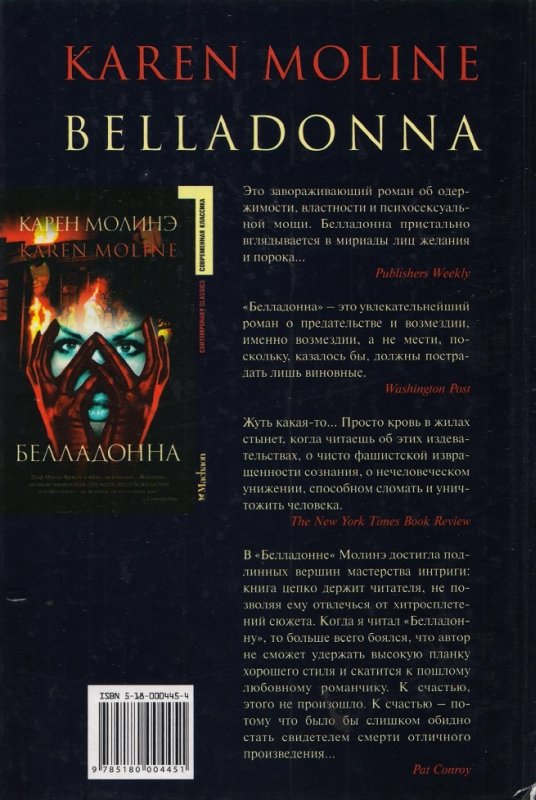
Последние комментарии
3 дней 5 часов назад
3 дней 17 часов назад
3 дней 18 часов назад
4 дней 5 часов назад
4 дней 23 часов назад
5 дней 12 часов назад