Пирогов [Владимир Ильич Порудоминский] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Памяти моего отца,
профессора И. М. Порудоминского,
посвятившего жизнь
служению медицине


Научный консультант
профессор А. М. ГЕСЕЛЕВИЧ
Издание второе, дополненное

НАШ ПИРОГОВ
Б. В. ПЕТРОВСКИЙ, академик, лауреат Ленинской премииВосемь десятилетий отделяют нас от Николая Ивановича Пирогова. И не только годы. За это время множество больших открытий обогатило медицинскую науку, которую создавал, которой верно служил Пирогов. Великий хирург, никогда не устававший учиться, искать новое, с гордостью за своих потомков вошел бы в сегодняшнюю лабораторию или операционную. Эта гордость была бы тем более законна, что в хирургии восторжествовали идеи, за которые он боролся всю жизнь. «В медицине, — писал Пирогов, — я, как врач и начальник с первого же моего вступления на учебно-практическое поприще, поставил в основание анатомию и физиологию в то время, когда это направление, теперь уже общее, было еще ново, не всеми признано и даже многими значительными авторитетами… вовсе, и даже для хирургии, отрицаемо». Пирогов сделал хирургию наукой, открыл в ней новую эпоху. Нет надобности перечислять великие заслуги Пирогова. Всякий врач на каждом шагу встречается с пироговским наследием. Образцовые по точности анатомические атласы, которые и по сей день служат путеводителем для хирурга. Предложенные Пироговым операции, открывшие новые пути в хирургии. Труды по обезболиванию. «Начала военно-полевой хирургии» — они и в годы Великой Отечественной войны стояли в боевом строю. Поле деятельности Пирогова поистине необъятно!.. Не только замечательные открытия позволяют нам называть Николая Ивановича Пирогова своим учителем. Но и его подвижническое трудолюбие, неутомимость в поиске, умение отстаивать свои взгляды, безупречная научная принципиальность и честность. Пирогов учит нас интересы дела, интересы общественные ставить выше личных, выше самолюбия и мелкого тщеславия. Он «положил себе за правило» открыто признаваться в своих ошибках и заблуждениях, чтобы их не повторяли другие. Даже в свой «жестокий век» он старался, чтобы каждое деяние «не противоречило долгу и обязанности», осуждал людей, не желающих понять, «что есть обязанности в обществе, которые требуют войны против личности». Широко известны примеры гражданского мужества Пирогова: его самоотверженная работа в осажденном Севастополе, где «возможность умереть возрастает… до 36 400 раз в сутки (число неприятельских выстрелов)», его поездка, уже стариком, на театр русско-турецкой войны. «Народ, имевший своего Пирогова, — говорил Н. В. Склифосовский, — имеет право гордиться, так как с этим именем связан целый период развития врачебноведения. Начала, внесенные в науку (анатомия, хирургия) Пироговым, останутся вечным вкладом и не могут быть стерты со скрижалей ее, пока будет существовать европейская наука, пока не замрет на этом месте последний звук богатой русской речи». Многие годы отделяют нас от пироговского времени. Колоссальные изменения произошли с тех пор. Но и сегодня мы стараемся трудиться «по Пирогову». Но и сегодня Пирогов остается примером для нас, для нашей молодежи. И можно от души порадоваться тому, что серия «Жизнь замечательных людей» пополнилась книгой о замечательном ученом и человеке Николае Ивановиче Пирогове.
I. МОСКВА. СЫРОМЯТНИКИ 1810—1824
Откуда-то из далекого-далекого детства осталось в его памяти странное видение: ослепительно яркая звезда, огромная, лохматая, повисшая прямо над головой. Как попало в его жизнь непонятное это видение? То ли было оно сверкающим следом каких-то забытых рассказов, то ли и впрямь оттиснулось во впечатлительном детском мозгу изображение знаменитой кометы 1812 года… Николай Пирогов родился 13 ноября 1810 года.Человек еще не осознал себя — уже играет. Во что? В то, что его окружает. Охотнее — в то, что поражает. В детских играх великих людей стараются угадать ростки будущего. Иногда и впрямь игра оказывается пророческой. Сильное впечатление извне находит в душе ребенка благодатную почву. Едва темнело, раздавался стук у крыльца пироговского дома. «Лекарь приехал!» Нянька торопилась открывать. Всей Москве известный врач торжественно вступал в дом, скидывал на руки няньке тяжелую шубу. Важно шествовал к больному. Щупал пульс. Смотрел язык. Выписывал рецепты. Давал советы. Учил варить декокт, то бишь отвар. Уезжал — и снова возвращался. Каждый вечер. Несколько раз за вечер. Пирогова-ребенка поразил Мухин. Медицинское светило, профессора Ефрема Осиповича Мухина [см.портрет] пригласили к больному брату Николая. Ждали. Николай волновался со всеми — суетился, то на крыльцо бежал, то в гостиную. И вот… Качнувшись, остановилась у крыльца карета четвернею, ливрейный лакей открыл дверцы, и в дом вступил некто большой, торжественный, значительный. Николай не то чтобы увидел, скорее почувствовал его. А запомнил массивный, сильно выступавший подбородок. И голос. Убедительный. Не верить такому нельзя. Брат выздоровел. В семье только и разговоров, что о Ефреме Осиповиче. Словно чудодей посетил. А Николай стал играть. В лекаря. В Мухина. Едва темнело, раздавался стук в дверь: «знаменитый врач» важно вступал в комнату. Игра не надоедала. Менялись «больные»: их изображали братья, сестры, матушка, служанка Прасковья, няня Катерина Михайловна, даже кошка, одетая «дамою». Но «лекарь» всегда был один и тот же: Николай Пирогов.
По любопытному стечению обстоятельств постоянные гости пироговского дома были причастны к медицине. Григорий Михайлович Березкин служил лекарем в воспитательном заведении. Лекарем он был, наверное, неплохим. В воспоминаниях, написанных много лет спустя, Пирогов отдает одному из советов Березкина предпочтение даже перед мухинским советом. Позже, когда Николай стал учиться, его увлек не только Березкин-лекарь, но и Березкин-латинист. Латынь учебника была языком вялым и мертвым, навевала дремоту. Латынь Григория Михайловича поражала энергией, искрилась афоризмами, шутками, манила точным словом и неожиданным оборотом. Латынь Григория Михайловича была нужной. Это была латынь медика. Березкин подарил Николаю справочник растений, в медицине употребляемых. Не в пример томительным периодам из учебника латинские наименования справочника не приходилось заучивать. Они сами запоминались, разбегались по полкам в бездонном хранилище детской памяти. С этого справочника начался первый пироговский травник — так тогда часто называли гербарии. Страсть к собиранию растений жила в Пирогове долго. Другой гость, Андрей Михайлович Клаус, был весьма известным акушером и оспопрививателем. Клаус отличался колоритной внешностью и добрым умением дружить с детьми. Таким он запомнился и Николаю Пирогову и Сергею Аксакову. Свой человек в доме Аксаковых, Клаус увековечен в «Семейной хронике». Старый врач носил совершенно желтый парик, короткие штанишки выше колен, мягкие плисовые сапожки. Клаус не расставался со своим знаменитым черным ящичком — в нем хранилось самое интересное. Николай торопил Андрея Михайловича: — Скорей! Скорей! Старик нарочно тянул время, тщательно жевал свой любимый бутерброд с редискою, мучительно долго стряхивал крошки с галстука. Наконец извлекал из ящичка небольшой блестящий микроскоп, обрывал с цветка крохотный лепесток, чинно расправлял его иголкой на стеклышке и торжественно делал ручкой: «Прошу!» Николая не оторвать от прибора. Вот клеточки, вот жилки, по коим в цветок поступают соки. Что бы еще рассмотреть? Цветок, рассмотренный по клеточкам, был для Николая еще прекраснее прежнего. Надо поддерживать игру, чтобы она питала призвание, вливалась в него. Два старичка — Березкин и Клаус — важны в биографии Пирогова, потому что поддерживали игру в лекаря, не давали зачахнуть ростку.
Пирогов-врач открывался в игре, которая случайно вошла в их дом вместе с Мухиным и навсегда слилась с призванием. Пирогов — гражданин, боец создавался и открывался в игре неизбежной, в игре своего поколения. Лютые войны сотрясали московские переулки. На мостовых, истоптанных сапогами, иссеченных подковами, исполосованных колесами орудий, яростно рубились мальчишечьи армии. Щербатые Кутузовы и веснушчатые Платовы оспаривали друг у друга победу. «Победа» была любимым словом. Николай умел побеждать. Он не отличался силою, но был храбр и упорен. О двенадцатом годе не переставали говорить и в тринадцатом, и в четырнадцатом, и в пятнадцатом. Война не стиралась в памяти народной. Младенцы всасывали рассказы о войне с молоком матери, заглатывали с нянькиной кашкой. «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей», — писал человек, который родился двумя годами позже Николая Пирогова, — Александр Герцен. Эти рассказы были колыбельной песнью целого поколения. Няня Катерина Михайловна брала Николая за руку, вела гулять. Они выходили из дому. Дом пахнул рубленым деревом, свежей краской. На улице пахло мокрым углем. Черные страшные печи с мольбой протягивали руки к небу. Тут, там, со всех сторон веселыми упрямыми дятлами стучали топоры. В приходе церкви святой Троицы, что в Сыромятниках, сгорело при французах сорок четыре дома из пятидесяти. Няня вела его к Земляному валу. Здесь пахло золой и вскопанной землею. Частным владельцам предписано было по обеим сторонам улицы сажать на пожарище сады. Отсюда, с Земляного вала, кольцо вокруг центра начинало превращаться в Садовое. На Елисейских полях в Париже белели под деревьями палатки казаков. В Москве праздновали победу. Няня останавливалась с Николаем на углу Покровки и Земляного вала. По Покровке тянулась к Разгуляю вереница карет. Оттого и Разгуляй, что гулянье, да катанье, да всякое веселье. Люди знатные подбирали коней кровных, одномастных и запрягали цугом. Пара считалась мещанской ездой. Кареты, покачиваясь, неслись мимо; брызги грязи летели из-под копыт породистых красавцев; на свежевыбеленных стенах пустых, выгоревших изнутри домов отпечатывались черные звезды; простые горожане, пачкая побелкой спины, жались к стенам и утирали рукавом лицо. На боковых улицах и в переулках веселились по-своему. Развалившись в санях, пели, свистели, галдели мохнатые медведи, долгошеие журавли, уродливые петухи, козлы бородатые да черти рогатые. Ряженые! Следом за большими санями подпрыгивали, кувыркались на ухабах, летели чуть не по воздуху привязанные сзади маленькие салазки. По вечерам ряженые врывались в дома, развлекали хозяев, сами развлекались. Про майора Ивана Ивановича Пирогова, казначея из провиантского депо, знали, что хлебосолен. Козлы и медведи в вывернутых полушубках кувыркались в зале. Иван Иванович громко хохотал, притопывал ногой в такт веселой песне. Командовал: — А ну-ка, для дорогих гостей ржаного молочка да заедок разных! Служанка Прасковья Кирилловна тащила бутыль с вином и закуски на блюде. Победу праздновали в четырнадцатом году, праздновали и зимой пятнадцатого. Николай с нянею возвращались с прогулки в сумерках. Темные обычно переулки таинственно светились. Многие ворота и окна украшены были разноцветными плошками и транспарантами. На транспарантах же смешные картинки, именуемые карикатурами. Николай возле каждой останавливался. Нянька тянула его за руку, он упирался, разглядывал картинки, смеялся. Карикатур было множество. Тогда была мода на карикатуры. Победители радовались, что могут от души посмеяться над прежде непобедимым, кичливым и грозным врагом. Под самый 1815 год издали собрание карикатур — «Подарок детям в память 1812 года». И в доме Пироговых появилась коробочка, словно от игральных карт, а в ней карточки с карикатурами, и под каждой подпись. На первой карточке глухой мужик указывает бегущим французам на удалого казака. И стихи:
По первой букве карточка означала «А». Вторая карточка была на букву «Б». Наполеон вместе с приближенными удирает в санях.
А на третьей карточке французские солдаты раздирают на куски несчастную ворону.
Означало — «В». Вместе получалось: А, Б, В — аз, буки, веди — азбука. По карикатурам двенадцатого года выучился грамоте Николай Пирогов. Только ли грамоте?.. Воображая себя удалым казаком, оседлывал скамью, сплеча рубил врага палкою: на весь сад выкрикивал гордые, из азбуки, стихи на букву «М»:
Понятия Россия, Родина рано пробуждались в лучших людях поколения, вскормленного рассказами о двенадцатом годе.
Корабли Васко да Гамы рвали килями зеленую океанскую воду. Ветер бил в паруса. А людям радостно было и тревожно. Что там, за краем океана? Гибель? Удача? Плыли на поиск… Рассказы про Васко да Гаму печатались в «Детском чтении» — первом русском журнале для детей. Некогда просветитель Новиков издавал журнал выпусками — по шестнадцати страничек в неделю. Во времена пироговского детства журнал читали частями — по тридцать выпусков в каждой. Плотные томики не надоедали: увлекали разнообразием. Трогательные повести сменялись статьями о чудесах природы, нравоучительные «письма» — занимательными «разговорами», исторические «пиесы» — описаниями путешествий Кука и Васко да Гамы. Николай читал охотно и много. Одна из первых его книг — «Зрелище вселенныя»: картинки с объяснениями по-русски, по-немецки, по-латыни. Маленькая детская энциклопедия — восемьдесят иллюстраций в красном сафьяновом переплете. Короткие рассказы о земле и небе, о металлах и камнях, о животных и растениях, о человеческих занятиях — словом, о «неодушевленных телах» и «одушевленных тварях», какие «мир содержит в себе». Привычные вещи — дверь, колодец, цветок — вдруг становились интересными, сложными. Понятое из сложного снова становилось простым. Тщательно выполненные картинки вскрывали непростое устройство простых вещей, помогали понять суть. Иллюстрации были не приложением к тексту, а началом и продолжением текста. Картинки из детских книжек Пирогов помнил всю жизнь. В глубокой старости он перечислял книжные картинки и карикатуры, увиденные шесть десятилетий назад. Зрительные образы были яснее, отчетливее и долговечнее словесных. От скрупулезных рисунков детского чтения не протянулась ли нить к знаменитым своей наглядностью атласам Пирогова-хирурга?.. Дети всегда любили приключения. В десятых годах прошлого века увлеченно читали «Дон-Кихота» и «Робинзона Крузо». «Робинзона» тогда печатали полностью: после известного рассказа о необитаемом острове следовала вторая часть — поездка героя в Бразилию, на Мадагаскар, по Сибири. Николай доставал из отцовского шкафа толстые, в кожу одетые томы — дневники Палласова путешествия по разным провинциям Российского государства. Академик Петр Паллас ездил по Забайкалью и Сибири, Башкирии и Уралу, Поволжью и Северному Кавказу — собирал материалы геологические, ботанические, этнографические, описывал животных, птиц, насекомых, сообщал о нравах и обычаях, одежде и занятиях разных народов. Палласовы дневники тоже звали на поиск. На книжных полках уживались век нынешний и век минувший. Жуковский был в моде. Державин оставался патриархом. «Радости певец» Батюшков соседствовал с Херасковым, российским Гомером. Крылова читали вперемежку с Лафонтеном и древними баснями Эзоповыми и Пильпаевыми. Крыловские басни Николаю нравились. Они были похожи на излюбленные карточки с карикатурами. Они запоминались сами, сразу. Николай читал «Демьянову уху», «Тришкин кафтан», охотнее всего — «Квартет». Домашний учитель объяснял, как разбирать предложения по частям речи. Николаю занятно. «О-сел, Ко-зел да косолапый Мишка затеяли…» Думалось, простые слова — нет! Существительные, прилагательные, глаголы. Вот так все время: привычное, простое поворачивается интересным и сложным, чтобы стать понятным и оттого опять простым. Урок окончен — в сад. Полководец на горячем коне сплеча рубит гибким прутом лопухи, кричит в самозабвенье: «Ась, право, глух, мусье!..» Зеленая трава морщится морскою рябью — Робинзон ищет свой остров. Корабль причаливает к крыльцу — Николай стучит в дверь. «Знаменитый лекарь» скидывает тяжелую шубу на руки подоспевшей няньке. На улице темнеет. Прасковья Кирилловна вносит лампу. Теплое прозрачное золото льется в комнату. Вместе с переплетом «Детского чтения» открывается окно в иной, до краев наполненный событиями мир. …Васко да Гама поднялся на мостик. Матросы поставили паруса. И ударил в них соленый и могучий океанский ветер. Поплыли корабли. Далеко. В неведомое.
Окна небольшого дома внимательно разглядывали переулок. Переулок изгибался дугою, и название ему было — Кривоярославский. По переулку метался колокольный звон. Неподалеку в старинной церкви Троицы, освященной при Борисе Годунове, кончалась вечерняя служба. Николай прилип к стеклу: во все глаза смотрел на окно соседнего дома. В окне паясничал череп: скалил зубы, кивал и кланялся богомольным людям. Прихожане Троицкой, что в Сыромятниках, церкви, махнув рукой на благочиние, ускоряли шаг, отплевывались. Иные бранились, не удержась. Грех! И где? У отца дьякона в доме. А череп скалился, кивал — и громко хохотал вертевший его на пальце студент-медик, дьяконов племянник.
Бог жил в евангелии — тяжелой книге в зеленом бархатном переплете, закрытом серебряными застежками. Евангелие стояло в углу перед кивотом с образами. С богом говорили так: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и, живый в помощи вышнего, в крове бога небесного водворится». Отец и мать проводили долгие часы за молитвою, читали и по требнику, и по псалтырю, и по часовнику. Николай знал наизусть множество молитв и псалмов, он повторял их, не понимая. Бог был сразу сложен и от знания не становился простым. Вслед за старшими Николай твердил: «Блажен муж, иже не иде…» Разговаривать с богом понятными словами считалось грехом. Бог был заперт от понимания торжественными серебряными застежками. Свято блюли посты. В великий пост даже кошке не давали скоромного. По праздникам выстаивали в церкви долгие службы. Николая, сонного, одевали, вели к заутрене. От духоты, усталости и ладана кружилась голова. С ним выходили на свежий воздух. Ненадолго. Убежать от бога в сад было нельзя. Николаю хотелось видеть божественную историю ясной и простой, как картинки из «Зрелища вселенныя», как рисунки из Палласова «Путешествия», как карикатуры на французов. Священник спросил его о сновидениях фараона. «Ему грезилось…» — начал Николай. «Снилось, снилось», — поправил законоучитель. И заметил колко: «Не столь живо!», когда Николай, жестикулируя, принялся рассказывать о тучных и тощих коровах, приснившихся фараону. О боге не разрешалось говорить живо. Николай сдавал экзамен в частный пансион Кряжева.
Сколько книг написал, перевел, издал этот полный седой человек с красным лицом, угреватым носом и умными добрыми глазами за блестящими стеклышками очков — Василий Степанович Кряжев! Учебники французского языка, и английского, и немецкого, и арифметику, и географию всех стран света! А декламирует Василий Степанович так, что, вылетая из уст его, сами врезаются в память строки французских и немецких стихов. Любимейший из уроков — русская словесность. Читали оды Державина, басни Крылова и Дмитриева, баллады Жуковского. Стихотворные образы Николай ощущал осязаемо, как иллюстрации или геометрические фигуры. Словесник Войцехович учил не только слушать — учил понимать. Николай с охотой разбирал произведения. Зримый образ складывался в его сознании как результат анализа. Разбор не уменьшал, а приумножал наслаждение от прекрасных стихов. Войцехович часто спрашивал Николая. Учителю нравилось, как загорался, отвечая, этот маленький Пирогов. Нравилась речь юнца, осязаемая, как лепка. Через несколько лет Николай навестил в университетской клинике тяжело больного Войцеховича. В больших голубых глазах учителя светились квадратики окон. Войцехович долго не выпускал пальцев Николая из вялой и влажной своей ладони. Вздохнул: — Жаль, что пошли на медицинский. Надеялся увидеть вас знаменитым нашим филологом. Алгебра Николаю не нравилась. Он отыгрывался на геометрии, наглядной, зримой. Николай решительно вспарывал фигуры линиями, рассекал плоскостями. Самое ненавистное в пансионе — танцы. Они не были ни простыми, ни сложными. Они вообще не требовали понимания. Бесили ненужностью. Николай не собирался отплясывать на балах. Он собирался лечить людей, как Мухин, воевать, как Кутузов. От бездумных па, назойливого «раз, и два, и три», от обтянутых толстых ляжек танцмейстера неизменно хотелось сбежать домой.
Дома у Николая была своя тайна — тетрадь, сшитая из толстой серой с желтизной бумаги. Она называлась «Посвящение всех моих трудов родителю» и предназначалась в подарок отцу. Николай заносил в тетрадь собственные сочинения в стихах и прозе, переложения прочитанного, а также свои мысли, «рассуждения», и мысли, почерпнутые из книг. В тетради есть рассуждения ординарные, наивные, явно заимствованные, но есть и такие, что не могут не привлечь внимания. Во многих отрывках тринадцатилетний ученик частного пансиона ищет, плутая, ответа на вопрос о задачах просвещения и воспитания. Его мысли, поначалу нечеткие, растекающиеся, находят, наконец, строгую формулу: «Истинный предмет учения состоит в приготовлении человека быть человеком». Это уже открытие не для мальчика Николаши, а для самого Николая Ивановича Пирогова. Готовить человека быть человеком — идея, которую через три десятилетия он положит в основу своего педагогического учения.
Семья Пироговых была патриархальной, устоявшейся, крепкой. Она казалась вечной — со своими упорными законами и канонами, неизменным укладом. Такие семьи словно забывают, что они вписаны в большой мир, что сами состоят из разных, друг на друга не похожих людей, забывают — и оттого рушатся особенно быстро. …Какие-то люди лениво сталкивают заступами землю в могилу. Дьякон бродит между мокрыми травяными холмиками. Приподняв щепотью полу (видны черные шелковые чулки), с трудом высвобождает ноги из вязкой ярко-рыжей грязи. Священник что-то бормочет. Нищие делают горестные глаза, гнусаво просят милостыню. А ямы уже нет, и новый холмик уже выпирает из земли. Брат Амос всю жизнь был рядом: ел, пил, спал, болел ревматизмом, ходил в пансион, заболел корью… И вот нечто неумолимое своей дорогой увело его навсегда. Навсегда! Это Николай знал. Год назад умерла старшая сестра — и чудилось, только тело ее ушло, душа же навеки осталась с живыми. Но память оказалась зыбкой. Дьякон провозгласил что-то, и все пошли прочь от мертвых. Живые же остались рядом и продолжали приносить друг другу горе. …Николаю виделось: брат Петр встает, расстегивает на груди мундир, сует руку за пазуху и, презрительно ухмыляясь, швыряет на зеленое сукно толстую пачку ассигнаций. Стараясь держаться твердо, шагает к двери. Суетливо и беспомощно ищет дверную ручку. А дома — плечи ходуном, захватанный белыми от мела пальцами мундир, жалкая золотая пуговка, висящая на одной нитке. И всхлипывания: «Папенька… казенные… Сибирь…» Не всегда то, что поражает, вызывает подражание. Иногда, наоборот, отпугивает на всю жизнь. Николай Пирогов никогда не играл в карты. Хотя был азартен и любил рисковать. В сорок лет Пирогов признавался, что по натуре принадлежит к картежникам и банковским спекулянтам. Он победил себя не тем, что затоптал со страху смелость и страстность, а тем, что повернул их в другое русло. Быть может, он победил благодаря поражению брата Петра. Непохожесть братьев часто кажущаяся. Одни и те же черты ведут их в разные стороны. Николай упрямо играл в Мухина, был Кутузовым в мальчишеских баталиях. Смерть ребенка не могла разрушить семью Пироговых. Она была из тех старинных многолюдных семей, в которых дети рождались каждый год, умирали тоже довольно часто. Неизбежные рождения и смерти стали семейными законами, предусматривались канонами. Николай был тринадцатый ребенок. Карточный проигрыш, если он не чрезмерно велик, тоже не мог разрушить такую семью. Он был тоже в какой-то степени канонизирован. Дети росли и должны были делать глупости: напиваться с непривычки, проигрывать в карты, тайно венчаться. Семью разрушило неожиданное обеднение. Законы, традиции, уклад — все выросло на материальном благополучии. Из-под здания выбили фундамент — оно развалилось. Построить новый образ жизни и довольствоваться им труднее, чем возвести заново дом взамен сожженного при французах. Некто Иванов, отцов сослуживец, повез на Кавказ тридцать тысяч и пропал. Деньги взяли с Пирогова. Привычные разноцветные птицы, изображенные на стенах доморощенным живописцем, показались Николаю стремительными и встревоженными. Словно вспорхнули они, испугавшись грубых и шумных движений чужих людей. Чиновники описывали имущество. Мебель нехотя подавалась с насиженных мест. Заслышав чужие шаги, вздрагивала, дребезжа, в буфете посуда. Платья, перегибаясь в талии и всплескивая с отчаяния рукавами, безжизненно падали на пол. Отец ходил из комнаты в комнату, пробираясь среди сдвинутой с места мебели, грузно стукался о шкафы, спотыкался о сундуки. Обеднение вытолкнуло семью из привычного круга жизни. По естественным законам ей полагалось упасть на круг ниже — и приноравливаться. Но патриархальные семьи часто не желают подчиняться естественным законам и тем ускоряют свою кончину. Они цепляются за традиции, за привычки, чтобы удержаться, чтобы совсем не упасть, и в итоге оказываются между кругами. Их размалывает словно жерновами. Как ни странно, но все сходится к тому, что нежданная бедность, крушение семейного уклада помогли появлению великого Пирогова. «Комиссионера 9-го класса сын Николай Пирогов обучался в пансионе моем с 5 февраля 1822 года катехизису, изъяснению литургии, священной истории, российской грамматике, риторике, латинскому, немецкому и французскому языкам, арифметике, алгебре, геометрии, истории всеобщей и российской, географии, рисованью и танцеванью, с отличным стараньем при благонравном поведении… Надворный советник и кавалер Василий Кряжев». Из пансиона Николая забрали потому, что не стало средств платить за учение. Курс в пансионе был рассчитан на шесть лет. Пирогов проучился всего два года. В пансион принимали детей «благородного звания» — здесь их готовили для чиновной службы. Майор-папенька из провиантского депо, пристроив Николая в «благородный» пансион, вряд ли замышлял для сына медицинскую карьеру. Юнцу из семьи разбогатевшего чиновника полагалось двигаться «дальше» — выбиваться на «благородное», дворянское поприще. Медицина была занятием разночинцев. Но когда деньги кончились, а желание учить сына осталось, схватились за соломину. Пирогов-отец бросился по знакомым — просить совета. Дошел до профессора Мухина. Ефрем Осипович сказал: — Мальчик у тебя, говорят, способный. Учить надобно. Нету денег держать в пансионе — посылай прямо в университет. Пособлю. — Да ведь в университет-то с шестнадцати. А Николаю всего четырнадцать годков. — Закон что паутина: муха увязнет, шмель проскочит. Придумай. Проскочи. Пусть учится. В доме появился студент-медик Василий Феоктистов — стал готовить Николая в университет. Между тем Иван Иванович бегал по канцеляриям, бил челом, сгибался перед тяжелыми, потемневшими столами, совал «под локоток», и 1 сентября 1824 года «по императорскому указу» было удостоверено, что в формулярном списке Ивана Пирогова «значится в числе прочих его детей, законно прижитый в обер-офицерском звании сын Николай, имеющий ныне от роду шестнадцать лет». Иван Иванович Пирогов успел вовремя. Через год он умер. И не пристрой он сына сейчас — что стало бы с Николаем Пироговым?
Бумажка, раздобытая папенькой, была «липой». Но на экзаменах Николай приложил к ней подлинную зрелость и обширные знания. Маститые профессора составили донесение в правление университета: «По назначению господина ректора университета, мы испытывали Николая Пирогова, сына комиссионера 9-го класса, в языках и науках, требуемых от вступающих в университет, в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании». 22 сентября 1824 года Николай Пирогов стал студентом Московского университета. Дома Николай убрал подальше в шкаф старые книги — «Зрелище вселенныя» в красном сафьяне, любимые томики «Детского чтения». Не до них теперь! Теперь надо читать анатомию, и физиологию, и переведенную с немецкого фармакологию Шпренгеля. Детское чтение кончилось. Пришла пора чтения взрослого.
II. МОСКВА. УНИВЕРСИТЕТ 1824—1828
Николай привез из университета кулек с человеческими костями. Бойко и не без важности раскладывал содержимое кулька по комодным ящикам. Няня качала головой: — Вот вышел бесстрашник!..Правление университета потребовало от четырнадцатилетнего «бесстрашника» расписку: «Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежу и обязываюсь впредь к оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь. В чем подписуюсь. Студент медицинского отделения Николай Пирогов». [см.илл.]
Он и не знал ничего ни о каких тайных обществах, четырнадцатилетний мальчик-студент. Но они были и собирались — в Петербурге, на юге; в них, по свидетельству Пущина, говорили «о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей, о возможности изменения, желаемого многими втайне». Они были и собирались. Пестель возил в Петербург свою «Русскую Правду», в которой «уничтожение рабства и крепостного состояния» провозглашалось «священнейшей и непременнейшей обязанностью». Они собирались, они готовились к выступлению — был на исходе 1824 год. Ничего не знал о тайных обществах мальчик-студент Николай Пирогов. Но стены и скамьи аудиторий Московского университета помнили тех, кто жаждал теперь обновления России, — Каховского и Бестужева-Рюмина, Никиту Муравьева и Николая Тургенева, Якубовича и Трубецкого. Дух этих людей, их слово обитали в мрачноватых коридорах и тесных студенческих комнатах. По рукам ходили «возмутительные» стихи и песни Рылеева, Бестужева, Пушкина. Худой, взъерошенный студент Полежаев сочинял какую-то буйную поэму. Читали из нее строчки — призыв свергнуть бремя палачей. До чего не похожа была жизнь в университете на жизнь в Сыромятниках!
От университета до Сыромятников далеко; обеденное время Николай проводил у бывшего своего учителя Феоктистова — в 10-м «нумере» для казеннокоштных студентов. Все здесь необычно: и вынутый из-за пазухи штоф, и дым столбом из длинных трубок, и вольное обращение, и острый, живой разговор. Только что один из обитателей «нумера», задумчивый и поэтичный, лежа на кровати, плавно скандировал Овидиевы «Метаморфозы», но уже перебил его некто бледный, растрепанный — кричит, захлебывается от волнения: — Да что Александр Первый, куда ему! Революция нужна, революция, да с гильотиною! А третий, восторженный обожатель Мочалова, выскакивает на середину комнаты: «Слушайте, подлецы!» И во все горло, потрясая стулом, закатывая глаза, скрежеща зубами:
Николай слушает. С замиранием сердца, с нервной дрожью. Кто-то прижимает его к стене и, горячо дыша в лицо: — Знаете ли вы, что у нас есть тайное общество? — А что это такое? — Да так, надо же положить конец! — Чему? — Да правительству, ну его к черту! Гильотина! Конец правительству! Тайное общество! Вот это да! — Погиб увенчанный злодей… — грохочет посреди «нумера» обожатель Мочалова. Гул голосов. Табачный дым… Далеко от университета до Сыромятников…
Далеко. Один день отбивался от другого долгим путешествием на Волочке — так именовались незатейливые дрожки. Пассажиры садились по бокам, свесив ноги. Возница чмокал губами, покрикивал; покорная лошаденка тащилась по непроходимой грязи; пассажиры дремали, ноги их едва-едва не волочились по земле. Для прикрытия колен выдавалась им дерюга, что, однако, не спасало от липкой грязи ни колени, ни самую дерюгу… Переваливаясь, ползет неторопкий волочок по темным московским переулкам. От университета — в Сыромятники. И с каждым вечером все больше наполняется тихая детская в доме Пироговых новым, острым духом, привезенным с другого конца Москвы, из 10-го «нумера». Воротились от исповеди. Николай уверенно: — Сделайте милость, маменька, рассудите сами, ведь бессмыслица. К чему оно — отпущение грехов? Раз бог всеведущ, то знал заранее, что я согрешу. А коли знал и по-иному не сделал, зачем ему теперь прощать меня или наказывать? — Грех и думать так, Николаша! Ты что же, без бога прожить хочешь? — Ах, маменька, религия везде, для всех народов была только уздою. — Ну, бог с тобою! Вот время настало! Куда свет идет? Маменька крестится, глядя в угол, где под образами, запертый в зеленой книге тяжелыми застежками, живет непонятный бог, с которым смеет теперь спорить ее Николаша. Новое мировоззрение врывалось в изукрашенный живописцем-самоучкою домик Пироговых.
«Мы врывались в мир другой, — писал декабрист Поджио, — и думали предугадать судьбу его, вместе и нашу, нераздельно с ним связанную… мечтали, обманывались, надеялись». Жажда перемен, мечта и надежда жили в удобных кабинетах, где собирались деятели тайных обществ, и в солдатских казармах, куда из этих кабинетов люди с пылающими глазами несли призывные песни, и в опальном домике поэта, сочинявшего трагедию о неправедных царях и судьбе народной, и в страшных военных поселениях, живших памятью о Стеньке Разине я Емеле Пугачеве, и в прокуренных студенческих «нумерах». Осенью 1824 года, в тот самый день, когда «сын комиссионера 9-го класса» Николай Пирогов подавал прошение о зачислении студентом Московского университета, адмирал Шишков, министр народного просвещения, произнес речь, требуя «оберегать юношество от заразы лжемудрыми умствованиями». Царю же министр и боевой адмирал писал испуганно и откровенно: «Прошу высочайшего позволения… потушению того зла, которое хотя и не носит у нас имени карбонарства, но есть точно оное…» «Потушение зла» было высочайше позволено. Гонение науки стало политикой. Из Царскосельского лицея изгнали пушкинского наставника профессора Куницына за его книгу «Право естественное». В Петербурге судили профессоров истории и философии. Петербургский попечитель Рунич кричал, что труды их подобны тлетворному яду и заряженному пистолету, ибо вселяют в умы «идеи разрушительные для общественного порядка и благосостояния». Ученых обвиняли в «маратизме» и «робеспьеризме». Запрещали читать лекции о Копернике, Ньютоне, Бюффоне. Изымали из университетских библиотек «подозрительные» сочинения. Студентам не разрешали посещать театры. Казанский попечитель Магницкий снискал в истории русского просвещения геростратову славу. Истово проповедовал с кафедры: «Сам князь тьмы, видно, подступил к нам… Слово человеческое есть проводник сей адской силы, книгопечатание — орудие его; профессоры безбожных университетов передают тонкий яд неверия и ненависти к законным властям несчастному юношеству». Профессорам медицинского факультета предложено было «принять все возможные меры, дабы отвратить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подвергались от удивления превосходству органов и законов животного тела нашего, впадая в гибельный материализм». Анатомический кабинет в Казани был закрыт, препараты положили в гробы и, отслужив панихиду, похоронили на кладбище. Можно связать человека по рукам и ногам, нельзя запретить ему думать. Убить человека можно, убить мысль нельзя. В Казани профессор математики вещал проникновенно, как во храме, что «треугольник есть святой Троицы символ». И там же, под носом у Магницкого, вызревал гений Лобачевский, человек величайшего бесстрашия мысли. Нельзя убить мысль — потому наука не останавливается. Воевали с наукой, но воевали и в науке. Здесь борьба была нужнее, интереснее, перспективнее. Когда естествознание уже смогло описать многие факты, но еще не сумело построить систему, быстро двинулась вперед натурфилософия. Она «заменяла неизвестные еще ей действительные связи явлений идеальными, фантастическими связями и замещала недостающие факты вымыслами, пополняя действительные пробелы лишь в воображении. При этом ею были высказаны многие гениальные мысли и предугаданы многие позднейшие открытия, но не мало также было наговорено и вздора»[1]. Но время брало свое. Естествознание из «преимущественно собирающей науки» становилось, по определению Энгельса, «упорядочивающей наукой». Лучшие умы искали точных способов исследования, правильного толкования явлений. Фантастике, вымыслу и вздору противопоставляли достоверность. Борьба шла всюду: в пределах целой науки, в стенах научного учреждения, иногда замыкалась в одном человеке. Не так-то легко менять убеждения, даже неправильные на правильные. Убеждения не перчатки. Нередко ученый приходит к новым идеям, накапливает новый материал — и до смешного упорно заталкивает их в старую форму. Сует в старые перчатки выросшие и отмытые от прошлого руки. Противоречия ученого снижают, но не отрицают его научной ценности. Перчатки рано или поздно расползутся по швам, но идеи высказаны, и весомый материал положен в ладони будущего. Московскому университету до поры везло. Он дольше других удержался в стороне от бдительного попечения начальства. В Петербурге, Казани, Харькове неугодных профессоров гнали за ворота. В Москве профессора свободнее искали истину, боролись друг с другом, сами с собой. Профессор Перевощиков основывал свои работы по астрономии не на «слове божьем», а шел вослед «пагубным» учениям Коперника и Ньютона. Поклонник натурфилософии профессор Павлов, читавший курс физики, минералогии, сельского хозяйства, доказывал, что «сведения умозрительные, составляющие философию, возможны только при опытных, составляющих науку». Опытный участок на Бутырском хуторе приносил ему ценные сведения о питании растений, обработке почвы, применении севооборотов. Точные препараты и коллекции, открывавшие путь к истине, располагались на полках, а над ними висел на стене крест и выведена была надпись: «С крестом к свету». Сегодняшнее и вчерашнее уживалось в зданиях и в людях. И не только во времена пироговской юности. В науке всякое время по-своему переходное. Через полвека сам Пирогов, построивший просторное здание новой науки, будет так же забиваться в низкую келью старого мировоззрения. Утверждая материалистические представления в медицине, будет морщиться от «клички» — материалист. Разрушая ножом привычные взгляды, будет говорить о «предопределении». Идя к нему в гости, можно выбирать — куда? Защитники вчерашнего ползли в низкую келью. Миллионы людей будущего выбрали новый светлый дом. Николай Пирогов сел на студенческую скамью в годы, трудные для науки и сложные в науке. Впрочем, науке никогда не бывает легко, а в науке никогда не бывает просто. В то время бой вели учителя Пирогова. Поколение Пирогова еще обучалось владеть оружием, готовилось к своим тяжелым и упорным баталиям. Пирогов сидел на узкой и жесткой студенческой скамье, перед ним один за другим поднимались на кафедру его учителя.
Юст Христиан (он же Христиан Иванович) Лодер, сухонький, невысокий, [его портрет] — одно слово старичок-невеличок, — легко входил на кафедру, начинал, пришамкивая: — Sapientissima natura… — останавливался, будто спохватившись, и поправлялся: — …aut potius Creator sapientissimae naturae voluit… To есть: — Мудрейшая природа… вернее, создатель мудрейшей природы пожелал… На студенческих скамьях хохот: — Вот так оговорочка — «вернее, создатель»! Всегда Лодер со своей оговорочкой! Христиану Ивановичу — за семьдесят. Прежде чем обосноваться в Москве, он был профессором в Иене, Галле, Кенигсберге, знал анатомию, физиологию, хирургию, повивальное искусство, медицинскую антропологию и естественную историю. Лодер читал курс в университете и служил главным доктором московского военного госпиталя. Руководил постройкой городской больницы и еще лечебницы для врачевания минеральными водами. Создавал труды по анатомии и практической хирургии. Предложил несколько новых операций. Сорок лет неустанно пополнял анатомическую коллекцию университета — готовил и подробнейше описывал препараты. «Создатель пожелал!..» — это была анатомия не для Лодера. Позже Герцен вспоминал о нем: «…Друг Гёте, учитель Гумбольдта, один из той плеяды сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о которой она не мечтала… Лодер никогда не согласился бы читать анатомию по Филаретову катехизису…» В ту пору вошла в моду «анатомия на платках». Препараты отпевали и хоронили, а профессора прикалывали к сюртуку платок, один конец к лопатке, другой — к плечу: «Вот вам дельтовидная мышца». Лодер создал в университете анатомический театр, во время лекций препарировал трупы.
Профессор терапии Матвей Яковлевич Мудров пил на завтрак вместо чая отвар излистьев черной смородины, съедал же лишь пятикопеечную просфору, поднесенную бедняком вместо гонорара. Ранним утром Мудров уже выезжал из дому в своей карете четверкой. У ног кучера стояли корзины с лекарствами, бутыли с вином и чаем — для раздачи неимущим пациентам. Однако в богатых домах Мудров гонорар брал большой. «Научитесь прежде всего лечить нищих, — говаривал студентам Матвей Яковлевич. — Богатого легче вылечить. Бедняку же я снадобье из аптеки выкупить не на что».[Портрет М.Я. Мудрова] Получалось: болезнь одна, а лечится по-разному. Ибо, повторял в лекциях Мудров, врачевание состоит не в лечении болезней, а в лечении больного… И не только снадобья приносят исцеление, но также избранная диета, полезное питье, чистый воздух, движение или покой, сон или бдение в свое время, чистота постели, жесткость ее или мягкость. Не менее важны душевные лекарства. Они сообщают больным твердость духа, который побеждает телесные болезни. Первый же рецепт для здравия роду человеческому — в поте лица твоего снеси хлеб свой. То есть труд. То было время господства в медицине умозрительных теорий Броуна и Бруссе. Согласно этим теориям жизнь поддерживается возбуждением, от слишком сильного или слишком слабого возбуждения появляется болезнь. Значит, и лечить просто: нужно применять средства, повышающие или снижающие возбуждение. Теории Броуна и Бруссе — как раз одна из попыток заменить сложные, действительные связи явлений идеальными, фантастическими. Мудров, хоть, следуя моде, и объявлял себя «бруссеистом», противопоставил лжемудрым учениям практику у постели больного, опыт, основанный на точных данных, и рассуждение, основанное на опыте. Он твердил, что из «поврежденного строения надо объяснить болезнь», а не «искать умственных причин, отвлеченных от материи и формы». В свободные часы, которые выпадали редко, Матвей Яковлевич любил предаваться философическим размышлениям, прежде был он и масоном, однако с полки охотнее всего доставал книжки, куда заносил подробные сведения о лечившихся у него больных: «Сие сокровище для меня дороже всей моей библиотеки». Приятели находили у Матвея Яковлевича склонность к мистицизму, но профессор Мудров беспрестанно толковал о пользе патологической анатомии, протаптывал тропу от анатомического театра к клинике: «Будучи поучаем ежегодными переменами модных теорий, я не вижу другой дороги добиться истины, кроме строгого исследования болезненных произведений… Над трупом мы будем ближе подходить к истине, исследывая произведение болезни и сравнивая минувшие явления с существом оной. Разбогател в сих данных истинах, кои суть награды беспрестанных трудов, мы дойдем со временем до важных открытий…»
— Величие, слава и польза отечества суть главнейшие предметы ученого, деятельного и опытного врача. Голос Ефрема Осиповича Мухина звучал властно. Массивный подбородок выдавался над высоким белым воротником. На шее — орденский крест. Ефрем Осипович имел право толковать о пользе отечеству. Операций хирургических сделал сотни. Первые — еще под Очаковом, на поле битвы. Добивался в России всеобщего оспопрививания. С утра до ночи трудился в больницах. Изобретал новые способы лечения — электрические, гальванические, паровые. Переводил учебники. Сам написал «Начала» костоправной науки и «Руководство» по анатомии. В университете читал анатомию, физиологию и судебную медицину. Лекции Мухина походили более на свободную беседу. Записывать их было трудно. Мухин не придерживался строго темы, легко перебрасывал мостки от одного предмета к другому. Размышления прорезали пласты знаний поперек. Чтобы так читать, надо много знать. Мухин как бы мимоходом говорил о вещах важных, щедро сыпал направо, налево золотой песок мыслей. Он разбирал функции отдельных органов и тут же высказывал идею целостности организма: «Иные считают, будто болезнь поражает отдельную часть тела. Полагаю, что не так. Все части тела человеческого имеют взаимное между собой сообщение». Он искал место человеческого организма в природе и пришел к той же «лестнице», о которой писал Радищев: «В лестнице существ от червя и насекомого до животного и человека растут способности чувств и движений соразмерно с развитием органов». Он устанавливал связь человека с окружающим миром и опровергал идеализм натурфилософов: «Говорят иные, будто чувствования наши не достоверны, будто меж ими и наружным миром — пропасть. Никакие чувствования не возникают без надлежащего стимула. Нервная система есть связь, соединяющая организм со всеми предметами, его окружающими. Впечатление сообщается по нервам общему чувствилищу». Повороты в лекциях бывали иной раз совсем неожиданными. Как-то Мухин замолчал, не окончив рассуждения, помедлил и сказал совсем о другом: — Народное здравие немыслимо без хороших жилищ, одежды, питания. Врач, ставящий превыше всего пользу отечеству, должен думать и о сих предметах. Ныне в деревнях неурожай. Голод. Вот и взял я себе задачей отыскать заменители хлебных злаков…
Мудров, Мухин, Лодер… Их именами, по словам Пирогова, мог похвалиться Московский университет того времени. Трудами этих ученых, трудами их коллег закладывались основы передовой русской медицины, основы патологической анатомии, физиологии, терапии. Так почему же в предсмертных записках подводящего жизненные итоги человека не нашел Пирогов достойных слов, чтобы обрисовать нелегкую и обширную деятельность своих учителей? Почему вспоминал все больше о том, что указывало на их «комизм и отсталость»? Вспоминал, как Мудров заставил какого-то кутилу петь на занятиях молитву, как вместо лекции повел студентов поздравлять Лодера с анненскою звездою и декламировая при этом нараспев собственные вирши: «Красуйся светлостью звезды твоея, но подожди еще быть звездою на небесех». Вспоминал, что Мухин читал курс невнятно, перескакивал с одного предмета на другой и только о деторождении никак не мог сообщить слушателям, ибо «скоромная» сия тема ежегодно приходилась на великий пост. Отмечал профессора Гильдебрандта как искусного и опытного хирурга, но вспоминал тут же, что был Гильдебрандт гнуса» и курил постоянно сигарку, так как страдал хроническим насморком. Вспоминал, что фармаколог Котельницкий по рассеянности и слабому зрению вместо «кожицы придают клещевинному маслу горький вкус» читал «китайцы придают…» — выходило смешно. Что профессор естественной истории Ловецкий перепутал однажды органы петуха и курицы… Велик соблазн, зацепившись за эти высказывания Пирогова, представить его учителей в основном косными и невежественными, показать, как «из ничего» вырос великий хирург. Но правда не позволяет ограничиваться пироговскими характеристиками. Пирогов и сам чувствовал несправедливость своих оценок. Он сослался на снедавшую его болезнь: «…Университетская жизнь в Москве и Дерпте писана мною… в дни страданий. Dies illае, dies irae[2]». То ли и впрямь ожесточили его страдания?.. То ли так устроена стариковская память, что всего легче всплывают в ней на поверхность занимательные эпизоды и курьезы? Ведь и на самом деле слишком много было курьезов в те далекие дни, когда химию в университете читали, не показывая опытов, физику — не демонстрируя приборов, когда всякий профессор выбирал тему, какую ему заблагорассудится, а рядом с большим ученым взбирался на кафедру тоже именуемый профессором человечек, так и не выучивший русский язык и уже подзабывший свой немецкий, — взбирался и бубнил по-латыни текст из скучной, опухшей от старости книжки. Сегодняшнее и вчерашнее жило в учителях Пирогова. И сегодняшнее, а подчас и завтрашнее в них наталкивалось на вчерашнее в жизни, в науке, в университетском преподавании. Лодер препарировал трупы, он зажег в Пирогове любовь к анатомии. Но студент Пирогов изучал анатомию по картинкам и не вскрыл ни одного трупа. Мудров ратовал за практику, не уставал говорить о врачебном опыте. Но студент Пирогов написал всего одну историю болезни единожды виденного больного. Мухину не трудно было в лекциях перескакивать с одного предмета на другой: множество знаний накопил он в больнице и у операционного стола. Но студент Пирогов за годы учения не сделал ни одной операции, даже кровопускания; он только описывал операции в тетради. Прав, наверное, и академик Бурденко, объясняя пироговские жестокие оценки «сожалением старика о даром и непроизводительно потерянном времени в молодости». И все же так ли уж даром, так ли уж безнадежно было потеряно время? Тогда почему, едва окончив университет, едва получив возможность перейти от умозрительного постижения наук к практике, Пирогов тотчас показал себя самостоятельным зрелым работником? Тогда почему талантливый химик и фармаколог, адъюнкт университета Александр Иовский, горячий сторонник эксперимента и противник натурфилософии, выбрал себе в друзья мальчика-студента Пирогова и, задумав издавать серьезный журнал «Вестник естественных наук и медицины», заручился его сотрудничеством? Тогда почему сам Пирогов, вдоволь посмеявшись над своими учителями, одной фразой весомо оценил в них сегодняшнее и завтрашнее: «Но, несмотря на комизм и отсталость, у меня от пребывания моего в Московском университете вместе с курьезами разного рода остались впечатления, глубоко, на целую жизнь врезавшиеся в душу и давшие ей известное направление на всю жизнь»? «Направление на всю жизнь» — значит университет был для Пирогова университетом. И не здание, не аудитории, не коридоры дали ему направление, а люди, которые творили и учили в этом здании, в этих аудиториях, и совершали не одни только смешные поступки, и произносили не одни только смешные слова. Эти люди — учителя Пирогова. Они боролись в науке, двигали науку вперед. Чтобы правильно оценить их, мало сопоставить сделанное ими с тем, что создано сегодня. Надо по лестнице годов спуститься во вчера, в их время. Характеристики, которые дал своим учителям Пирогов, даже самые комические, совершенно точны, но далеко не полны. Пирогов смотрел на учителей из своего времени, когда сегодняшнее и завтрашнее в них тоже стало вчерашним. Полвека пропастью отделили студенческую жизнь Пирогова от воспоминаний о ней. И какие полвека! За эти полвека и медицинская паука и университетское образование гигантски шагнули вперед. В эти полвека уложились и теория Дарвина, и периодический закон Менделеева, н учение о клетке. В эти полвека было открыто обезболивание, введена антисептика, впервые широко применены микроскопические исследования, изготовлено множество нужнейших инструментов и приборов, множество нужнейших лекарств. Это были полвека, насыщенные творчеством Сеченова и Боткина, Клода Бернара и Гельмгольца, Пастера и Мечникова. Полвека, наполненные до краев его собственным — пироговским — творчеством. Со своей наукой, которой служил Пирогов беззаветно и доблестно, поднимался он вверх и вверх по крутым тропам находок и открытий. Да простится ему, что, подводя итоги и глядя вниз с этих горных высот, не все рассмотрел он ослабшим взглядом стариковской памяти. Пирогов прославил своих учителей уже тем, что стал великим учеником. Потомки воздают им должное. Не по пироговским словам, а по пироговским делам оценивают их. И даже тот, кто по постиг сути сделанного ими самими, охотно повторит вслед за Герценом: «Московский университет свое дело сделал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей».
Ивану Ивановичу Пирогову привиделся накануне странный сон. Будто кто-то сказал ему очень внятно: «Слышали ли, что Иван Иванович Пирогов умер?» День стоял майский, теплый. Гулянье в Сокольниках. Решили ехать. Николай торопился из университета. Думал дорогою: до чего изменился отец с тех пор, как ушел в отставку. Словно сбросил вместе с майорским мундиром нетерпеливую живость и горячность, словно непривычный темно-коричневый фрак сковал его, сделал неподвижным и равнодушным. Похититель, увезший казенные деньги, так и скрылся бесследно в кавказской дали. Дом Пироговых был описан в казну, имущество тоже. Долги росли. Чтобы свести концы с концами, отец вел частные дела. Ему бы прежний огонь, может, и поднялся бы. Но он обмяк, устал, днем вдруг засыпал, ночью задыхался, рвал ворот на полной шее и просил отворить кровь. Николай быстро шел Кривоярославским переулком. Отпертые ворота невольно привлекли его внимание. Почему это у них ворота отперты, ведь всегда закрыты? Чужие люди на крыльце… Ступеньки… Сени… Передняя… Зала… Отец на столе в майорском, с золотыми петлицами мундире. Мундир пропахан прямыми глубокими складками — два года лежал в сундуке. Николай покачнулся, упал на руки к подбежавшим сестрам… …Переулок изогнулся дугою, а в самой середине дуги — бывший дом Пироговых. Не их отныне переулок, не их дом. Имущество, жилище — все отняли казна, кредиторы. Николай в последний раз прошел но пустым комнатам. Нарисованные на стенах доморощенным живописцем птицы повисли жалко, будто подстреленные. Только они и остались в доме — все вывезено. Да вон еще в передней, в углу, позабытые отцовские галоши. Николай припомнил: в детстве любил он окунать ножонки в их глубокую темную мягкость, спрашивал: «А я вырасту такой большой, как папенька?» — «Вырастешь, Николаша, вырастешь…» И снова, как некогда, сунул ноги в галоши, шагнул за порог, хлопнул дверью. На пыльном полу чернели два больших следа. Явилась баба с ведром, махнула тряпкой — и следов не осталось. Прежде были изразцовые печи и золотой наперсток, белая колоннада тарелок и евангелие с серебряными застежками. И все, казалось, нужно; и без всего, казалось, но обойтись. Теперь в нескольких наспех связанных узлах уместился семейный скарб. Узлы перекатывались, подпрыгивали в простой телеге. Телега, пыля, ползла по улицам. За телегою шли Пироговы — мать, сестры, Николай. Впереди же, рядом с возницей, семенил, указывая дорогу, тщедушный сутулый человек в потертом чиновничьем мундире — троюродный брат отца Андрей Филимонович Назарьев. Андрей Филимонович, заседатель в суде, сам бедняк, да еще обремененный семьею, не дал пропасть родне — подобрал едва не на улице, привез в свой домишко и уступил мезонин с чердачком. У дядюшки Андрея Филимоновича жили год. Совестились — дядюшка перебивался с трудом: в суде писал и домой приносил кипу бумаг. Писал, прислушиваясь к веселой канарейке, прыгавшей в клетке у окна. Откладывал перышко, тянул дымок из длинной трубки. Откладывал трубку и снова писал. Жалел Пироговых молча, по-бедняцки. Водил иногда Николая в трактир — чай пить, а однажды, повздыхав с неделю, купил ему сапоги. Мать и сестры принялись за мелкие работы (благо, были рукодельницы). Одна из сестер, радуясь крохотному жалованью, поступила надзирательницею в благотворительное детское заведение. За год подкопили деньжонок, продали что возможно, съехали от дядюшки. Сняли себе квартирку — и половину ее тотчас сдали внаем студентам. Как жили, и сами не знали. Николай услышал однажды — о них сказали: «Нищенствуют». Тотчас вспомнилось: матушка уговорила его как-то пойти с хлебом-солью на свадьбу к генералу Сипягину, знававшему покойного отца. Генерал хлеб-соль принял и велел дать Николаю двадцать пять рублей. Когда вышел приказ: без мундира в университет не являться, — пришлось сестрам состряпать наскоро из старого фрака куртку с красным воротом. Чтобы не обнаружить несоблюдения формы, Николай сидел на лекциях в шинели: из-под нее торчал наружу только красный ворот.
Носить мундиры строжайше повелел студентам генерал-майор Писарев, назначенный попечителем Московского университета летом 1825 года. Собрав профессоров, генерал снял с бюста Александра I покрывало («дабы сам государь был свидетелем наших чувствований»), перед лицом монарха изложил свое кредо: «Начало премудрости — страх господень». Идеальная жизнь есть «военный формуляр». Посему вводятся в университете «строгость и подчиненность», а также «необходимое единообразие». О многих книгах новый попечитель высказался неодобрительно: «суть хитрые увертки и извороты разума, под которыми в наше время разврат и неверие распространяют». В общем: «…уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да…» Летом 1825 года Грибоедов проехал из Петербурга, где встречался с северными декабристами, в Киев, где встречался с декабристами южными; оттуда — на Кавказ. Рукопись знаменитой комедии уже ходила по рукам. По Москве, по России ходили герои комедии. Генерал Писарев был фельдфебель, данный в Вольтеры Московскому университету. Наподобие Рунича в Петербурге. Наподобие Магницкого в Казани. Дошла очередь. В Москве Писарева прозвали, как Скалозуба, — «фагот». В ноябре 1825 года почил в бозе император Александр I. Москва присягала Константину. Студентов посылали присягать в университетский приход Георгия на Красной горке. 16 декабря в Москву сломя голову прискакал в открытых санях гонец. Привез весть о подавлении восстания на Сенатской площади, приказ присягать новому императору — Николаю. В столице началось следствие. Людей, подозреваемых в заговоре, арестовывали и в Петербурге и в Москве. С Кавказа обратно в Петербург провезли через Москву арестованного Грибоедова. Фамусовы, скалозубы и молчалины блаженствовали на свете. На университет смотрели косо. В списках бывших университетских воспитанников и в списках участников восстания было много одних и тех же имен. В коридорах и студенческих комнатах говорили теперь шепотом. Писарев свирепствовал, добиваясь строгости, подчиненности и единообразия. Требовал, чтобы при виде его студенты вытягивались «смирно» и кричали разом, по-военному: «Здравия желаем!» Сочинял проект нового университетского устава, в коем утверждал, что «чинопочитание — первый шаг к порядку и устройству» и что надобна в учебных заведениях «бдительная полиция», дабы «поветрие умов тем прекратить». В июле 1826 года в Петербурге повесили пятерых руководителей восстания. В Москве били в колокола, палили из пушек. Встречали царя. Николай I приехал в древнюю столицу на коронацию. Университет готовился к императорскому визиту. Попечитель, стремясь блеснуть, писал бесконечные подробнейшие формуляры: о швейцарах, о зажигании и тушении фонарей, о «запирании и отворянии» ворот, даже о сквозном ветре. Боялся, что царь явится неожиданно, и посему решил ввести дежурства профессоров. Хирург Гильдебрандт дежурить отказался. Подал рапорт: занят по службе и лечением больных, в делах, не относящихся к науке, неопытен. Писарев умолял министра выразить непокорному профессору «высоконачальническое негодование»; не доверяя более «досужным энциклопедистам», все вечера дежурил сам. И дождался. Царь заглянул в аудитории, проверил, единообразно ли застланы постели в студенческих комнатах, и приказал попечителю направить инспектора в Петербург «для изучения устройства в тамошних военных учебных заведениях». Но знакомство Николая с «крамольным» университетом началось не визитом. Государю был подан донос, именуемый «О Московском университете». Автор доноса, отставной полковник Бибиков, писал: «Профессоры знакомят юношей с пагубной философией нынешнего века, дают полную свободу их пылким страстям и способ заражать умы младших их сотоварищей. Вследствие таковой необузданности к несчастью общему видим мы, что сии воспитанники не уважают закона, не почитают своих родителей и не признают над собой никакой власти». Как пример вольнодумия полковник привел отрывки из поэмы Полежаева «Сашка». Полежаева нашли спящим, растолкали и на заре привезли в Кремлевский дворец — к царю. Николай протянул ему тетрадку. — Ты сочинил эти стихи? — Я. — Читай. Полежаев читал: — Когда ты свергнешь с себя бремя своих презренных палачей? Министр народного просвещения стоял тут же и закрывал глаза от ужаса. — Вот вам образчик университетского воспитания! — скрежетал царь. — Что скажете? Я положу предел этому разврату, это все еще следы, последние остатки; я их искореню.
Николай сослал Полежаева в солдаты, но «искоренить остатки» было трудно. Четырнадцатилетний Герцен, стоя на Красной площади в день торжественного молебна по случаю «избавления от крамолы», клялся отомстить за казненных декабристов. Пушкин, которого по приказу царя фельдъегерь вез из Михайловского в Москву, сочинял по пути новую строфу для своего «Пророка»: с петлей на шее пророк является к «убийце гнусному». Передавали, будто, поднимаясь по лестнице Кремлевского дворца, Пушкин уронил листок с этими стихами и едва сумел подобрать его. В тот самый день, когда поэт въезжал в Москву, там арестовывали людей за распространение изъятых цензурой строк из пушкинского стихотворения «Андрей Шенье» («…Убийцу с палачами избрали мы в цари!») и предсмертного письма Рылеева к жене. Несколькими месяцами позже москвичи провожали жен декабристов в Сибирь. Профессор Матвей Яковлевич Мудров ездил прощаться с Муравьевой. Она везла ссыльным декабристам послание Пушкина. Вскоре в Москве обнаружили тайное общество, основанное братьями Критскими; двое из трех братьев были студентами. И некоторые другие студенты университета состояли членами этого тайного общества, которое ставило целью «сделать революцию». Полежаев, брошенный за связь с кружком Критских в подземный каземат, писал горестно:
Но в 1829 году, через год после того, как окончил университет Николай Пирогов, поступили туда Герцен и Огарев, из Пензенской губернии приехал Виссарион Белинский и по соседству с 10-м «нумером», навсегда связанным с именем Пирогова, основал свое «Литературное общество 11-го нумера». «Искоренить остатки» было трудно.
На что мог рассчитывать семнадцатилетний Николай Пирогов после окончания курса?.. Его жгло «неотступное желание учиться и учиться». Заняться наукой? Он с горечью гнал от себя эту мысль. Для него, юнца без средств, без связей, отправиться лекарем в дальний полк было вовсе не худо. Пристроиться в московскую больницу — совсем хорошо. Но он не хотел ни в полк, ни в больницу. Полтора десятка известных профессоров оценивали его познания единым словом — «превосходные». Студенты указывали на него как на лучшего. Мысль о науке возвращалась, не давала покоя, звала вперед. Он забывался, начинал всерьез размышлять, прикидывать, что мог бы он сделать и как. Спохватывался. Уходил от навязчивой мысли, и возвращался, и вышагивал вокруг да около, словно был прикован к ней цепью. В нем горело уже «известное направление». А голову буравило: «Куда идти?»
«Вы шествуете к славе», — пела Натали Лукутина своим нежным голоском. У Николая в глазах сверкали слезы. Он был влюблен. Не чувствуя земли под ногами, обутыми в большие, не по размеру галоши, летел во всякую свободную минуту на другой конец Москвы — на Басманную, в дом крестного своего, купца Лукутина. Там, там она, Натали! С золотистыми локонами и прозрачной синевой под глазами. Дочь крестного. Вечера пробегали в играх, сочинении шарад и шуточных стихов. Николай все искал случая поцеловать милой Натали ручку. А однажды — о блаженство! — она и сама поцеловала его. В щеку. (На следующий день Николай попросил у сестер щипцы, пыхтя, крутил редкий хохолок.) — Спойте, спойте, Натали, — умолял счастливый влюбленный. «Vous allez á la gloire», — нежно выводила она его любимый французский романс. — «Вы шествуете к славе».
И снова Мухин. Ефрем Осипович мял в пальцах подбородок, внимательно, будто видел впервые, разглядывал Николая. — Открывается в городе Дерпте профессорский институт. Будут в нем своих, русских, профессоров готовить. Вот, поехал бы! Ну? — Да я согласен, Ефрем Осипович… — А согласен, так требуется непременно объявить, которою из медицинских наук желаешь исключительно заняться… — Да я… физиологиею, Ефрем Осипович… Мухин поморщился, коротко и ясно решил: — Нет, физиологиею нельзя. Поди придумай что-нибудь другое… Николай всю ночь ворочался. Назавтра явился к Мухину, назвал: — Хирургия… Этот наспех и небрежно записанный в «Дневнике старого врача» диалог требует особого внимания. Ведь он оказался решающим, он повернул всю жизнь Пирогова. С этого диалога начинается Пирогов-профессор и Пирогов-хирург. Почему же вначале будущий великий хирург выбрал физиологию? В стариковских записках Пирогов часто говорит о себе с иронией не меньшей, чем о своих наставниках. Он объясняет: в «ребяческих мечтах представлял себе», будто с физиологией знаком едва ли не более, чем с другими науками; «физиология немыслима без анатомии», а уж анатомию, ему казалось, он знает, «очевидно, лучше всех других наук»; наконец, Мухин — физиолог, значит, «такой выбор придется ему по вкусу». Мудрый старик иронизирует над своей молодостью. Однако его усмешка не должна затемнять истину. Пирогов действительно хорошо знал физиологию. Мухин, по тем временам бесспорно образованный физиолог, неоднократно оценивал его успехи как отличные. Физиология была тогда наиболее теоретической из всех медицинских дисциплин и вместе с тем больше, чем все другие, опиралась на эксперимент. Это отвечало «направлению» Пирогова. Ироническое замечание — физиология-де была названа в надежде, что такой выбор придется по вкусу Мухину, — тоже может быть прочитано с другой интонацией. Не в угоду Мухину, а вослед ему. Не: «Мухин — физиолог, скажу и я, что буду физиологом», а: «Мухин — физиолог, и я буду физиологом». Мухин, уважаемый ученый, человек, «в которого» Пирогов играл с детства, чудодей-благодетель, творивший пироговскую судьбу, был и имел право быть предметом преклонения и подражания. «Играть в Мухина» стоило и взрослому. Мухин продолжал творить судьбу Пирогова. Не утруждая себя объяснениями, он коротким «нет» запретил Пирогова-физиолога. Пирогов не сдается, ищет свой путь. «Физиология немыслима без анатомии, а анатомию-то уже я знаю, очевидно, лучше всех других наук». Об успехах Пирогова в анатомии можно судить не только по высоким оценкам в ведомости. Современники свидетельствуют, что Пирогов-студент выделялся среди других своими анатомическими познаниями. И на первый взгляд удивительно, что, услышав от Мухина «выбери другое», Николай тотчас не назвал анатомию. Ответ на загадку найдем опять-таки у самого Пирогова. «Кроме анатомии, есть еще и жизнь», — говорит он, и уже безо всякой иронии. Это говорит великий анатом на закате дней своих. Не мудрено ли? Нет. Медицина была для Пирогова наукой жизни, наукой исцеления больных. Он хотел «иметь дело не с одним трупом», но с живыми людьми. Анатомию считал он прочной базой, фундаментом для других медицинских наук. Но ему мало только закладывать фундамент, он хотел строить здание. Хотел сам нести в палаты к больным то, что открыл и понял в анатомическом театре. Не случайно же Пирогов ребенком играл во врача-практика, во врача-исцелителя. Не случайно же накануне смерти назвал он свои мемуары «Дневником старого…» — не профессора, не учителя, не вообще человека — «врача». И, быть может, по той же причине, по какой не выбрал он анатомию, Пирогов, который через год готов был пожертвовать всеми прочими занятиями ради своей хирургии, так легко отказался и от физиологии: не привел Мухину доказательств «за», не попытался сопротивляться. И анатомии и физиологии, которые он знал лучше других наук, предстояло служить какой-то неведомой третьей. И тут последний вопрос: почему он назвал хирургию? Ответ Пирогова: «Так как физиологию мне не позволили выбрать, а другая наука, основанная на анатомии, по моему мнению, есть одна только хирургия, я и выбираю ее». И еще: «Какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию». «Внутренний голос» подсказал ему, что именно хирургия станет той третьей наукой, в которой с помощью анатомии и физиологии пойдет он вперед. Характерно, что Пирогов также не избрал своим будущим ни «ужасно любимую» химию, ли «весьма занимательную» фармакологию — не потому ли, что и они только база, фундамент, что и они далеки от клиники, от больных? «Внутренний голос», подсказавший хирургию, был не чутьем, а раздумьем. Не надеждой на «авось», а выработкой плана. В Москве Пирогов «не делал ни одной операции, не исключая кровопускания и выдергивания зубов; и не только на живом, но и на трупе не сделал ни одной и даже не видал ни одной сделанной на трупе операции». А в Дерпте первые же его шаги поражают самостоятельностью и уверенностью. Он получил в Москве «известное направление». Он приехал в Дерпт с программой — вот в чем дело. — Хирургия, — наутро сказал Пирогов. — Ну вот и отлично! Кем был Мухин в данном случае — самодуром или пророком? Он лишил Россию Пирогова-физиолога, зато подарил ей Пирогова-хирурга. — Хирургия! Благословляя его новый выбор, не знал Ефрем Осипович, что это будет уже не та хирургия, в которой трудился он сам и его современники. Он благословлял новую хирургию я ее творца.
III. ДЕРПТ. ГОДЫ УЧЕНИЯ 1828-1832
У заставы Николай прощался с матерью. Заходящее солнце обагрило золото церковных куполов. По-вечернему ленивые, пламенеющие облака, цепляясь за кресты, неподвижно повисали над городом. Впереди лежали зеленые, уже чуть сумеречные поля, прорезанные бурой морщиной дороги. Из переднего экипажа свесилась нога, потом показалась и голова профессора математики Щепкина, коему велено было везти учеников профессорского института в Петербург на экзамен. — Поехали, господа, поехали!.. Поля сплошной темной полосой текли навстречу. По серому, а у горизонта еще голубому небу расползались дымчатые облака. Кибитку качало, на ухабах встряхивало. Мысли сбивались. Николай думал о неведомой хирургии, об операциях, которых и не видал почти, о том, что сам он даже зуба не вырвал. Он видел себя с ножом в руке, видел корчащегося на столе больного. У будущего профессора хирургии холодели пальцы, сжималось внутри. При мысли об операции ему становилось страшно.Многого из того, что прочно связано для нас с понятием «операция», не было и в помине в далекое время, когда начинал Пирогов. Не было вылизанных до блеска операционных, сверкающей белизны халатов и простынь, не было погруженных в кипящий раствор инструментов, не было упрятанных под маску лиц и затянутых в перчатки рук, страшащихся прикоснуться к чему-либо, кроме инструментов и операционного поля. Засучив, чтобы не запачкать, рукава сюртука, оперировали и в зловонной «гошпитальной» палате и прямо на дому. Дома было чище, чем в госпитале, меньше заразы — операции на дому сходили удачнее. А несколько раньше оперировали и в ярмарочной палатке, где располагался зашедший в город вместе с комедиантами бродячий хирург. Не знали причин заражения ран. Потому и средств для борьбы с ним в обиходе хирурга почти не было. Чуть ли не всякое хирургическое вмешательство завершалось нагноением. «Простых случаев» не встречалось. Открытый перелом, пулевое ранение конечности, даже нарыв так же часто вели к ампутации, как ампутация — к смерти. Ни один самый искусный хирург не мог предсказать финала ни одной, казалось бы, самой удачной операции. Не было обезболивания. Решиться на операцию означало подчас не меньше, чем пойти на пытку. От больного требовалось мужество, от хирурга — быстрота. Ампутации, вылущивания суставов, камнесечения умелые хирурги укладывали буквально в считанные минуты. Если во время операции больной не умирал от шока, а после — от заражения, он титуловал такого оператора именем «великого». Но чтобы действовать быстро, кроме умения, нужно было еще и желание. Иные опытные хирурги ратовали за медлительность, видя в ней синоним тщательности. Иные же считали муки и вопли больного не только неизбежным, но и необходимым спутником операции. Профессор Текстор в Вюрцбурге оперировал так. Больной, приготовленный к ампутации, лежал на столе. Профессор как можно тише и медленнее вкалывал ампутационный нож насквозь через мышцы бедра. Оставив нож, принимался подробно объяснять аудитории, что и почему он намерен делать дальше. Затем, выкроив по мерке один из кожных лоскутов, снова бросал нож и, стараясь перекричать жертву, рассуждал, как лучше выкроить второй. Мудрено ли, что многие больные предпочитали смерть в собственной постели от собственной болезни мучительнейшим, хотя, быть может, и спасительным пыткам на операционном столе. — Она не хочет операции! Она согласна умереть! — кричала молодая девушка, не допуская в дом, где лежала ее больная мать, известного немецкого хирурга Диффенбаха. — Я лучше умру! — вторила дочери из-за двери больная. Диффенбах ушел, но ненадолго. Он вернулся через полчаса с двумя женщинами. — Я сделал сотни удачных грыжесечений, — сказал Диффенбах. — У нас мало времени, и я привел лишь двух дам, оперированных мною. Я не хочу, чтобы вы остались сиротой. Пустите нас к вашей матушке. Эти дамы убедят ее в том, что я следую девизу знаменитого медика древности Цельза, оперируя tuto, cito et jucunde, то есть безопасно, быстро и приятно. Все вместе с трудом уговорили больную… Выступая против бездушных «тексторов», Диффенбах писал: «Самым необходимым свойством хирурга считалась жестокость. Но спокойствие и непоколебимость совсем иное, чем жестокость, и при столь болезненном акте, как хирургическая операция, необходимы нежность и бережное отношение». Матвей же Яковлевич Мудров повторял избравшим хирургию: — Операция будут совершаться тем реже, чем пристальнее мы будем исследовать ход раздражения натуры. Не спешите с назначением. Не торопитесь клином клин… — Клин! Да проснись же, Пирогов! В Клин приехали! По светлому небу ползли разорванные дымчатые облака. Николай не мог вообразить: то ли еще не стемнело, то ли начинало светать. За последние годы он отвык даже от Волочка. По карману было только пешком ходить. И вдруг кибитка, тракт, да сразу — из Москвы в Петербург! Кони несли весело. Клубилась над дорогой густая, горьковатая пыль. По сторонам менялись картины. То скудный песчаный пейзаж (Николай вообразил даже, что едет по степям аравийским), то ярко-зеленые, радующие глаз холмы, то подступившие к самой дороге густые леса — шорох деревьев, свист и щебет птиц сливались с песней ямщика и однообразным звяканьем колокольчика. Древний Новгород ослепил белой крутизной соборных стен, сияньем упершихся з небо звонниц. Сменяются одна за другою картины, а пути-то всего от Москвы до Петербурга. Наконец и он, Николай Пирогов, сдвинулся с места. Вспомнились любимые в детстве дневники Палласова путешествия. Сколько же еще непройденного, неизвестного! Вперед! Вперед! Пирогов сдавал экзамен при Академии наук. Его экзаменовал профессор Иван Буш [портрет]. Профессор Буш был учителем Пирогова, хотя лишь на экзамене они встретились впервые и после не встречались много лет. Учителя — не только те, кого человек видит перед собою на кафедре. Предшественники — тоже учителя. Они расчищают, утаптывают дорожку для разбега. С ними соглашаются, спорят, подчас их отрицают — во всех случаях у них учатся. И уединенный дуб не сам по себе вырастает среди чиста поля. И он начинается с желудя, который другое дерево бросило в почву. И он, как всякое растение, вскормлен соками своей земли. К тому времени, когда Пирогов только избрал хирургию, в Петербурге уже сложилась первая в России научная хирургическая школа. Путь к ней начался давно, узкой тропкою. Начинали его костоправы. При войске российском, в битвах с иноземными захватчиками набирались они опыта, становились искусными лекарями. Уже при царе Алексее Михайловиче доносили воеводы, что без лекаря «в полку у нас никоторыми мерами быть не мочно», а полки похвалялись врачами «добрыми и учеными», умеющими «пулки вырезывать», «раны отворять», «выводить» камни и «убирать» из гнойников «вредительную мокротность». Потом настало время, и сам царь отправился слушать медицинские лекции, изучать препараты, «разнимать» в театре анатомическом мертвые тела. Петр носил при себе два футляра: один — с математическими инструментами, другой — с хирургическими. Умел делать разрезы, пускать кровь, перевязывать раны, выдергивать зубы. Произвел он, известно, и полостную операцию; у жены голландского купца, страдавшей водянкою, выпустил из брюха двадцать фунтов жидкости. Главное же — пошли от Петра госпитали, а при них училища медико-хирургические, которых цель — «доставлять… природных российских докторов для занятия мест, званию их соответствующих». В Европе чуть ли не до конца XVIII века спорили: кто такие хирурги? Представители медицины или цеховые ремесленники, подобные цирюльникам и банщикам? Профессора анатомии в черных мантиях трясли париками на университетских кафедрах, а хирурги в ярких одеждах зазывали на ярмарках пациентов в свои фургоны. Во Франции бились над тем, чтобы созданная Академия хирургии приравнена была к медицинским факультетам. В Германии студенты пообещали профессору, говорившему о равноправии хирургии и медицины, что подожгут его дом. В России же с первых лет века, с первых петровских школ хирургия преподавалась вместе с анатомией. В XVIII столетии украсили русскую медицину многие славные имена. На пути к научной хирургической школе не обойти «русского ученого лекаря» Мартына Шеина. Это ему обязана наша наука появлением первого анатомического атласа. Это от него пошли такие, кажется, «вечные» термины, как «сотрясение мозга», «кровеносные сосуды», «рана», «язва», «воспаление», «перелом», «отек», «насморк», «мокрота», «беременность», «цинга». Это он первый перевел на русский язык учебники анатомии и хирургии. Десять лет был Мартын Шеин главным лекарем Санкт-Петербургского адмиралтейского госпиталя. Делал сложные операции. До нас дошли описания с успехом произведенных им трепанаций черепа. Рядом с Шейным — Алексей Протасов, сын солдата Семеновского полка, первый наш академик-анатом, ученик Михаилы Ломоносова. Одновременно с многотрудной научной деятельностью выпала на его долю тяжелая борьба с академическими властями из иноземцев за утверждение отечественной медицины. А следом — первый русский преподаватель хирургии Константин Иванович Щепин, талант яркий, широкий, равно прославивший себя в медицине и в ботанике. Щепин учился за границею, прошел затем отличную практику на полях сражений и стал, наконец, сам учить других: составил новые программы; преподавал курс с показом на трупах («кадаверах») и демонстрацией больных: читал хирургию, анатомию, физиологию, кроме того, «в свободное время» — фармакологию и ботанику, к тому же «в промежутках» — патологию и клинические лекции, и читал не на латыни и не на немецком, а, как никто до него, на исконном русском языке. Пути к первой русской хирургической и первой русской анатомической школам во многом совпадали. Оба здания часто строились из одних и тех же камней, и часто одни и те же люди несли эти камни на стройку. В 1802 году основатель школы анатомов академик Петр Андреевич Загорский издал первое оригинальное руководство на русском языке — «Сокращенная анатомия, или Руководство к познанию строения человеческого тела». Пять лет спустя появилось и «Руководство к преподаванию хирургии» — труд, замечательный своей обширностью (полторы тысячи страниц), детальной подробностью, стройной системой. В нем вдумчивое обобщение сделанного другими и собственные взгляды — детище огромного опыта. «Руководство» показало: хирургия в России — уже наука, фундамент русской хирургической школы заложен. Книга многократно переиздавалась; лучшие же из тех, кто учился по ней, становились зодчими и каменщиками, возводившими стены этой славной школы. Главным архитектором был сам автор «Руководства» — профессор Медико-хирургической академии Иван Буш. Учитель должен быть щедрым. Буш был щедр. Буш хотел, чтобы ученики знали не только все то, что и он; он был рад, если они знали больше. Он отдавал себя ученикам в аудитория, у кровати больного, у операционного стола; позже сам не гнушался учиться у них. Подлинные ученики в отличие от подражателей лишь вначале следуют за учителем, потом обгоняют или находят свой путь. Только в этом случае школа — стройное здание с растущими стенами, а не башня, окруженная невысоким забором. После того как талантливейший из учеников Буша несколько раз выручил его и помог удачно довести до конца трудные операции, учитель честно признал себя побежденным. — Даю слово, что без тебя, Илья Васильевич, — сказал он, — не предприму никакой мало-мальски важной операции. Талантливейшим из учеников Буша был Илья Буяльский [портрет]. Характерно: он был одновременно талантливейшим из учеников Петра Загорского. Анатомом и хирургом Буяльский достиг совершенства. Хирургия знает чудеса. Тогда чудеса творил Буяльский. Он впервые в России произвел резекцию верхней челюсти, первым оперировал на нервных стволах. Одну из его операций повторили только через сто лет. Как раз в 1828 году вышли из печати составленные Ильей Буяльским «Анатомико-хирургические таблицы, объясняющие производство операций перевязывания больших артерий». Таких сочинений прежде в науке не было. В атласе на основе анатомических изысканий построено руководство по операциям на сосудах. Очень возможно, что Пирогов накануне экзамену в Москве или в Петербурге познакомился с «Таблицами» Буяльского. И, конечно, восхищался, глаз не мог от них отвести, любовно разглаживал ладонью огромные листы, на которых — в натуральную величину, в «средний рост взрослого человека», иллюстрации. Думал: по таким рисункам оперировать можно. И, наверное, мечтал, что, быть может, когда-нибудь сам создаст такое, и уж никак не полагал, что через десять лет создаст нечто более значительное и станет к тому же опровергать те самые «Таблицы» Буяльского, которые так потрясли не только его, вступающего в науку, но и маститых ученых мужей. И возможно, что Илья Васильевич Буяльский, начинающий полнеть человек со спокойным красивым лицом, высоким белым лбом и холодными, чуть насмешливыми глазами, заглянул в аудиторию в тот самый момент, когда отвечал Пирогов.Разглядывал забавного юнца, похожего на утенка — на макушке редкий пушок торчком» на смешном, сапожком, носу поблескивает пот. Усмехнулся, когда господин будущий профессор обмолвился, вместо «epigastrica» сказал «hypogastrica». Тихо притворил дверь. И, конечно, не думал Илья Васильевич, что пройдут годы и «утенок» заявит откровенно: «Мы все желаем добра академии, но наши взгляды на то, что может принести ей благо, различны». Николай трусил, потел. Однако отвечал верно, обстоятельно. Буш, слегка наклонив голову, слушал Николая с интересом. Он любил обстоятельность, потому спрашивал подробно, не перебивал. Шел к концу второй час экзамена, когда Буш задал последний вопрос — о грыжах. — Optime, — проговорил, наконец, Буш. — Превосходно. Махнув рукою, отпустил Пирогова. И позабыл. До времени. И так же спокойно, не предвидя будущего, экзаменовал другой профессор, Велланский, другого кандидата в профессора, Алексея Филомафитского из Харькова, избравшего специальностью физиологию. Мог ли думать известнейший физиолог-натурфилософ Велланский, что через восемь лет появятся в России одновременно две книги — его и вот этого стоящего перед ним юноши? Что книги эти обозначат два полюса во взгляде на науку? И Филомафитский даст им оценку: «Если мы хотим получить понятие о жизни, то пред нами только один путь — путь опыта и наблюдения. Есть два пути познания — путь умозрения и путь опыта. По первому идут натурфилософы, которые увлекаются игрой воображения, выдумывают объяснение явлений. Этот путь притупляет здоровую критику, которая требует проверки опытом». Николай Пирогов, Алексей Филомафитский… Сдавали экзамены и другие кандидаты. Григорий Сокольский — будущий терапевт, пропагандист передовых методов обследования, автор классических работ по туберкулезу легких. Загорский Александр — сын академика Петра Андреевича, один из основателей экспериментального метода преподавания физиологии. Федор Иноземцев — будущий хирург и организатор, ученый и воспитатель ученых… Молодая поросль русской медицинской науки выходила на передовые. Только ли медицинской?..
В университетах Петербургском, Московском, Казанском, Виленском, Харьковском от каждого факультета назначили достойнейших — послали в Дерпт. Из сотен студентов отобрали всего два десятка. Профессорский институт «придумал» академик Паррот, физик и педагог, ректор Дерптского университета. Институт должен был быстро подготовить группу молодых профессоров для российских университетов. Доклад об устройстве профессорского института благословил сам Николай I. Написал: «…Лучших студентов человек двадцать послать на два года в Дерпт, а потом в Берлин или Париж, и не одних, а с надежным начальником на два года; все сие исполнить немедля». Попечителям учебных округов было предложено избрать, «отличнейших студентов», причем «при выборе обращать особое внимание на нравственные свойства и поведение избираемых». В инструкции директору профессорского института термин «нравственные свойства» расшифровывался: «религиозные чувства и преданность престолу». Николай I полагал, что лучше, ежели звание ученого не заслуживают, а выслуживают. Титул «ученого» он выдавал верноподданным, как майорский чин или анненский крестик. Благословляя устройство института, самодержец не знал, что выйдут из стен его многие профессора, подлинные слуги науки, а не престола, проповедники «губительного материализма», а не «религиозного чувства». Не знал, что один из них, Степан Куторга, станет замечательным пропагандистом дарвинизма, учителем Тимирязева. Что другой Куторга, Михаил, окажется основоположником исторической школы, учителем Чернышевского. Что третий, Дмитрий Крюков, профессор римской словесности и древности в Московском университете, станет участником герценовского кружка.
Вперед! Вперед! Близ Нарвы, ночью, с фонарями, отправились под проливным дождем смотреть водопад. А назавтра Николай, выпрыгнув из кибитки, спотыкался, бежал глядеть: — Море! Устремленный сверху вниз грозный поток и раскинувшийся вширь безбрежный простор. И оба существуют рядом. Сколько нового! Сколько разнообразного! Верста за верстою — и опять переменилась картина! Милый сельский пейзаж. Все спокойное, ласковое радует взор. Аккуратные домики, круглые купы деревьев. Тонко звенящая нива. В круглом озерце повторяется небо. Трава шелком играет на солнце. — Вперед! Вперед! Трава оборачивалась зеленой океанской водой. Кибитки, словно каравеллы, стремились к островерхому, краснокрышему Дерпту.
На узких улицах бурливым потоком текла студенческая жизнь. Дерпт называли городом студентов. Повсюду: вокруг университета, на площади перед ратушей, в зеленых аллеях стоящего посреди города Домского холма, на берегах неширокой реки, — перекликаясь и шумно беседуя, бродили бурши-корпоранты. У каждой корпорации свой устав, свой суд, своего цвета шапочка, своих цветов перевязь через плечо. У многих буршей на лице шрамы — следы дуэлей. Шрамы считались украшением, свидетельством чести и храбрости. Гордостью студенческого жилища были скрещенные на стене шпаги и эспадроны, небрежно брошенные на подоконнике дуэльные перчатки. На дуэлях убивали редко. Противники наносили по семь ударов каждый и расходились. Чаще всего вместе отправлялись пить. Потом до полуночи колобродили, распевая на улицах песни. Песен в Дерпте было множество. Русские песни сочинял поэт и студент Николай Языков. Языков жил в комнатенке на чердаке, под красной черепичной крышей Его любили за хорошие стихи, за общительность и доброту. Бутылкой рома, деньгами, сукном на сюртук Языков, не задумываясь, делился с другими. Русские студенты читали стихи и пели песни языковские. Про веселых мудрецов, которые с утра до вечера сидят над Кантом, а с вечера до утра — над чашей с добрым винцом; про табак, без которого так же трудно обойтись молодцу, как деве без наряда и государю без вахтпарада. Всего же охотнее затягивали любимую:
Ради сладкого труда… Собака протяжно выла, напрягая мускулы, пыталась выдраться, — крепкие ремни не пускали. Пирогов злился, кривил губы. Две оплывшие свечи давали мало света. Время шло к зиме, темнело рано. Пирогов низко нагнулся над столом: главное — не повредить аорту. В анатомическом театре свечи ставили прямо на труп, но на живого пса свечку не прилепишь. Теплая влага залила пальцы. Собака устало пробормотала что-то, дернулась, победив напоследок крепкие ремни, и вытянулась неподвижно. Пирогов швырнул нож на стол. Окрашивая воду в розовый цвет, ополоснул в тазу руки. Сердито хлопнул дверью. Вышел на улицу. Ради сладкого труда. …Это пироговское — невыносимая, непреходящая жажда работы, удивительная способность трудиться без отдыха часы, недели, месяцы, не теряя физических сил, не утрачивая ясности мысли, свежести догадок, остроты наблюдений. После университетской умозрительности и несамостоятельности засучив рукава залез Пирогов в эксперимент, в практику. Слушал лекции профессора хирургии Мойера, присутствовал на операциях, ассистировал, дотемна засиживался в анатомическом театре, препарировал, ставил опыты; в комнате его свеча не гасла и после полуночи — читал, делал заметки, выписки, пробовал свои литературные силы. С французского Пирогов перевел статью для «Вестника естественных наук и медицины» Александра Иовского. Статья была не медицинская — из физики: о свойствах пламени. Привлекало в ней уверенное утверждение, силы эксперимента, опыта: опыт — главное доказательство. С особым удовольствием переводил Пирогов конец статьи: «Часто одно какое-либо новое исследование уже переменяет теорию и даже иногда совершенно оную опровергает и разрушает». Опыт проясняет голову, придает уверенность руке, держащей не только хирургический нож, но и перо. Пирогов теперь работал над собственной статьей. Название ей: «Анатомико-патологическое описание бедренно-паховой части относительно грыж, появляющихся в сем месте». Неизбежно частые операции, совершаемые по поводу грыж, и неизбежно частые печальные исходы, следовавшие за операциями, делали тему своевременной и значительной. Но не только о наиподробнейшем описании бедренно-паховой части заботился Пирогов. Хотел высказать в статье важную общую идею. Всякий ли человек, называющий себя хирургом, имеет право без колебаний приступить к операций? Всякий ли человек, называющий себя хирургом, может быть уверен, что точно исполнит свои обязанности, сделает все, чтобы предупредить несчастный исход? Увы, не всякий… Пирогов писал: «…Чтобы наслаждаться таковою уверенностью, для сего требуется многое; для сего требуются отличные сведения анатомические и патологические, для сего нужно, чтобы искусившаяся в исследовании частей человеческого тела рука не была приводима в сотрясание легкостью анатомико-патологических сведений: нужно, чтобы голова была ни легче, ни тяжелее руки». Давно уже хирурги перестали быть цехом ремесленников, давно получили почетное право именоваться врачами, но, как и в далекие времена, многие из них полагаются более на ловкость рук и смекалку, нежели на глубокие научные познания. Не все в России Буши и Буяльские. В Европе же, по слухам, и знаменитости не очень-то помышляют об уравновешении руки и головы. Один в анатомический театр ни ногой — режет, как бог пошлет, да еще и подшучивает над осторожными. Другой приводит на операции анатома, дабы предупреждал, где пролегают крупные сосуды. Третий вообще объявил иные артерии (любой студент мог показать их на трупе) праздной выдумкой. Пирогов писал решительно, словно выносил приговор: «…Мало того, ежели искусно разрезывает части хирург, надобно, чтобы он имел самые тонкие анатомико-патологические познания о тех частях, которые он разрезывает; иначе он не заслуживает имени хирурга».
«Здравствуй, милая, хорошая моя… Та-ра, та-ра, та-ра, та-ра, та-та-та…» На немецком губном органчике высвистывали под окном прерусскую песню. В лунном свете четко вырисовывался острый, долгоносый профиль. Даль! Всегда спокойный, всегда веселый, умница и всезнайка Даль! Владимир Иванович Даль — человек удивительный. Он служил на флоте — на морях Черном и Балтийском, позже служил в армии — участвовал в кампаниях турецкой и хивинской; он был врачом, важным чиновником в столице, управляющим конторой в Нижнем Новгороде; он основал Краеведческий музей в Оренбурге, написал учебники ботаники и зоологии, оказался в числе учредителей Русского географического общества. Под именем Казака Луганского Даль вошел в литературу с повестями, рассказами, очерками. Он любил также, по собственному его признанию, «занятия ремесленные»: столярничал, резал по дереву, умел строить мосты и выделывать тончайшие украшения из стекла. К тому же всю жизнь собирал народные песни, сказки, пословицы, лубочные картинки, а главное, слова. Универсальность натуры дружит с цельностью. Иначе она не более чем дилетантизм. Цельность всей жизни Владимира Даля — в ее неизменной цели. Пятьдесят три года из семи прожитых десятилетий он отдал работе над своим «Толковым словарем живого великорусского языка». Даль был на девять лет старше Пирогова. Ко времени их встречи он уже успел выйти в отставку с флота (говорили, что скорой отставке помогла едкая сатира, написанная молодым офицером на адмирала), но не начал еще службу сухопутную. В этот промежуток и оказался Даль на медицинском факультете Дерптского университета, увлекся хирургией, стал искусным оператором, защитил диссертацию. У Даля все получалось хорошо. Умел он, между прочим, смешно и на редкость точно копировать других. Даль изменялся мгновенно. Только что шел рядом, весело высвистывая что-то на своем органчике. И вдруг весь как-то вытянулся, точно аршин проглотил, походка сделалась размеренной, настороженной, губы поджались, в больших серых глазах появилась безжизненность, мертвенная пустота. Пирогов услышал осточертевший скрипучий голос, медленную, с расстановкой речь: — Какую рекомендацию о вашем поведении, господин Пирогов, могу я сделать высшему начальству? Пирогов ахнул: «Перевощиков!»
В отличие от брата своего Дмитрия Матвеевича, московского математика и астронома, профессор российской словесности Василий Матвеевич Перевощиков был ученым фельдфебелем. Его и поставило правительство надзирать за нравственностью учеников профессорского института. Как-то Пирогов не сдернул шапку, идя мимо ученого надзирателя. Посылаемые в Петербург сообщения профессоров о научных успехах Пирогова Перевощиков дополнял отныне собственными мнениями: поведение «не всегда рассудительное», «недостает ему еще твердости рассудка». Наконец получил от министра приказ объявить Пирогову, что он может навлечь на себя справедливое негодование правительства (!) и сам будет причиною своего несчастья (!). Вопросил медленно, с расстановкой, осточертевшим скрипучим голосом: — После тех знаков неуважения к начальству, судите сами, господин Пирогов, могу ли рекомендовать вас с хорошей стороны? — Да в чем дело, Василий Матвеевич? — Как же! Вы ведь при мне шапку не изволили снять! — Но я вас не заметил!.. — Тем более… Пирогов едва сдерживал гнев. — Вы, конечно, можете очернить меня, но я требую, чтобы вы мотивировали рекомендацию тем фактом, на котором основываетесь. Щелкнул каблуками, повернулся, вышел…
Даль шел рядом и копировал Перевощикова. — Могу ли рекомендовать вас с хорошей стороны? Походка Даля из размеренной сделалась энергичной, порывистой, физиономия округлилась, лоб выдался вперед; удивительно знакомый, резковатый голос: — Вы можете очернить кого угодно… Пирогов хохотал. Кондитерская Штейнгейзера славилась бутербродами и пирожками. Стол в углу заняли коллеги Пирогова по профессорскому институту. Потеснились, освободили место для Даля и Пирогова. Заказали еще бутербродов, вина, пива. Даль говорил, потягивая из высокого стакана дрянное, дешевое винцо: — Ах, господа, сколько интересного узнаешь, изучая народные обычаи! Возьмите врачевание: от всякой хвори свое лечение. От глазных болей двенадцать раз росою умываться, от отека овсяный кисель с воском есть, от лихорадки класть конский череп под изголовье, от оспы горох перебирать… Эгей, Пирогов! О скатерть руки утирать — заусеницы будут!
Едва светало, Пирогов стучал по лестнице стоптанными каблуками, под хозяйкиной дверью раздавалось его торопливое «ауфвидерзеен». Лекции, клиника, опыты, анатомический театр. Он жил в напряжении. Он жил среди огромной работы, которая ждала его. Он находил работу там, где другому нечего было делать. Работы всегда оказывалось гораздо больше, чем времени. Это продолжалось потом всю жизнь. Это был характер. Он ушел в хирургию и анатомию, словно вскрыл золотую жилу. Драгоценный запас был неисчерпаем. Он разрабатывал его, не видя нужды искать что-либо на стороне. Он перестал посещать лекции по другим предметам. Рядом с похвальными оценками по хирургии и анатомии в ведомости появилось указание: «Должно ему заметить, чтобы он с большим прилежанием занимался вспомогательными науками». Он взбеленился, решил заниматься лишь избранными предметами, экзамена же на докторскую степень не держать. Профессор Мойер уговорил его не делать глупостей.
Иван Филиппович Мойер [портрет] был главным учителем Пирогова в Дерпте. Талантливый хирург, он изучал медицину в Геттингене, Павии, Вене. Среди его наставников были славившиеся во всей Европе Скарпа и Руст. В 1815 году Мойер стал профессором Дерптского университета. Получивший известность как отличный оператор, он не создал из своей кафедры цитадели науки. Мойер, по определению Пирогова, был «талантливый ленивец». Скорее он относился к людям, которые не умеют увлекать других; он сам нуждался в том, чтобы его увлекали. Это было не под силу практичным, расчетливым буршам, приезжавшим в Дерпт не за наукой, а за докторским дипломом, цветной корпорантской шапочкой и обеспеченной невестой из добротной бюргерской семьи. Увлечь Мойера сумели нетерпеливые, жадные до знаний ученики профессорского института Федор Иноземцев [портрет], Николай Пирогов [портрет того периода]. Рядом с Пироговым и Иноземцевым Мойер раскрылся как талантливый педагог. Он стал охотно проводить время в клинике, часами заниматься в анатомическом театре. Мойер не только передавал ученикам знания и навыки — он воспитывал их. Отличительная черта Мойера — благородство. Он проповедовал верность делу, благородные отношения между людьми. Он рассказывал: — Послушайте, что случилось однажды с Рустом. Я приехал к нему в Вену из Италии, от Скарпы. Руст показал мне в госпитале одного больного с опухолью под коленом. «Что бы тут сделал старик Скарпа?» — спросил он у меня. Я ответил, что Скарпа предложил бы ампутацию. «А я вырежу опухоль», — сказал Руст. Подлипалы и подпевалы уговаривали его показать прыть перед учеником Скарпы, и Руст тут же приступил к операции. Опухоль оказалась сросшейся с костью, кровь брызгала струей, больной истекал кровью; ассистенты со страху разбежались. Я помогал оторопевшему оператору перевязывать артерию. И тогда Руст сказал мне: «Этих подлецов я не должен был слушать, а вот вы не советовали мне начинать операцию — и все-таки не покинули меня, я этого никогда не забуду». Мойеру не нужны были подлипалы и подпевалы. Он радовался, что появились ученики. Гордился ими. Не боялся, что вырвутся вперед. Однажды после трудно проходившей, затянувшейся литотомии, которую делал Мойер, Пирогов сострил: «Если эта операция кончится удачно, я произведу камнесечение палкою». Передали Мойеру: он не обиделся — смеялся от души. Может быть, подумал с улыбкою, что Пирогов, дай срок, и впрямь сумеет такое сделать. Мойер уже поручал ему сложные операции: перевязки артерий, вылущение кисти руки, удаление рака губы. В двадцатилетнем Пирогове профессор видел не просто ученика — наследника. Отношение Мойера к Пирогову сродни отношению Жуковского к Пушкину. Это отношение побеждаемого учителя к побеждающему ученику. Жуковский, приезжая в Дерпт, от городской заставы поворачивал прямо на кладбище, долго сидел у родной могилы. В его альбомах часто встречается рисунок: белый, занесенный вьюгами холмик, следы на снегу, склонившаяся возле памятника мужская фигура в плаще. На дерптском кладбище спала вечным сном Мария Андреевна Протасова — великая любовь в жизни Жуковского. Поэт писал:
Мария Андреевна была племянницей Жуковского, дочерью Екатерины Афанасьевны Протасовой, сестры поэта по отцу. Екатерина Афанасьевна действительно сказала: «Вам розно быть», — но не в ее силах было разорвать союз сердец». Этот союз, «неразрешенная Любовь», сохранился — внешне почти не проявляемый, не высказываемый, лишь угадываемый в стихотворениях Жуковского и некоторых письмах Марии Андреевны. Союз сохранился и после того, как Мария Андреевна вышла замуж за дерптского профессора хирургии Мойера. Разорвала союз смерть. Мария Андреевна внезапно умерла в 1823 году, совсем молодой, оставив Мойеру малолетнюю дочку Катеньку. Приезжая в Дерпт, Жуковский проводил вечера у Мойеров. Читал невесело стихи:
Слушая игру Мойера на фортепьяно, задумчиво рисовал в альбоме мрачные замки на суровых скалистых берегах. Мойер играл самозабвенно. Песнь скорби и отчаяния сменялась весельем народного празднества, ожесточенные звуки решительной битвы — торжественным победным гимном. Мойер играл Бетховена. Композитор и хирург были добрыми знакомыми — они близко сошлись в Вене. Мойер слышал, как играл сам Бетховен, и это жило в музыке. Бетховенские сонаты спорили с Жуковским. Слушая их, хотелось не только «пользоваться жизнью», а сражаться, добиваться своего, идти вперед. Когда приезжал Жуковский, когда Мойер садился за фортепьяно, Пирогов бросал книги, проводил вечера в гостиной. Пирогову казалось, что в доме Мойера он свой человек. Наверное, для этого были основания. Некоторое время он вообще жил в семье профессора, опекаемый «добрейшей Екатериной Афанасьевной». Но «свой» «своему» рознь. Пирогов был свой, потому что был любимый ученик, наследник, будущее, которому отдавал себя Мойер. В Пирогове с избытком жило то, чего не хватало Мойеру: горение, страстность, одержимость в работе. Человека справедливого (а Мойер был справедлив) часто влечет к тем, в ком находит он качества, недостающие ему самому. Пирогов поражал всех трудоспособностью. Не мог не поражать и Мойеров. Человек, позабывший о празднике и работавший всю рождественскую ночь напролет. — событие для умеренного, благовоспитанного семейства. Люди, живущие спокойно и аккуратно, большей частью иронически-доброжелательно относятся к одержимым. Наверное, профессор порой охотно отвлекался от Бетховена и от Жуковского, чтобы поговорить с Пироговым о хирургии. Ведь она была делом его, Мойера, жизни, а лучшего собеседника, чем Пирогов, ему не найти. Мойер чувствовал, что он продолжается в Пирогове, и продолжается блистательно. Мойер любил Пирогова-продолжателя. Семейство доброжелательно относилось к одержимому. «Опекать» бездомного, голодного юношу, которого жизнь научила знать цену тарелке супа и охапке дров, было нетрудно. И Пирогову, не привыкшему, чтобы интересовались его делами, давно отвыкшему от уюта и пылающего очага, казалось, что он свой в доме Мойеров. Но было еще одно понятие «свой» — человек своего круга. «Родство по кругу» — большая сила в человеческих отношениях. Иногда решающая. В мойеровской гостиной собирались поэт Жуковский и будущий прозаик граф Соллогуб, сыновья историка и придворного историографа Карамзина и сыновья фельдмаршала, графа Витгенштейна, поэт и профессор Воейков и поэт Языков, который в Дерпте жил под крышею, а вырос в родовом симбирском имении и воспитывался в Петербургском кадетском корпусе. Все это были люди одного круга — «свои» люди. У них были свои темы для бесед, свои правила поведения, свои манеры. А Пирогов был мальчик из чиновно-купецких Сыромятников, не окончивший пансион для детей «благородного звания» и прошедший сквозь прокуренный разночинный 10-й «нумер» в университете. В этом смысле он казался, наверно, провинциальным в мойерской гостиной, хотя приехал в Дерпт из древней столицы. Он был дельным человеком, но не думал о красе ногтей. Ему приходилось думать о том, чтобы сапоги были целы, а не о том, чтобы они сверкали. Он таскал поношенный сюртук, не следил за чистотой манжет и говорил за столом о вскрытиях и трупах. Он жил делом, думал о деле, говорил о деле и не считал нужным сопрягать свое дело с, кем-то выдуманными внешними формами. Это вошло в привычку, стало характером, своего рода стилем. Быть, а не казаться. Он делал удачный эксперимент и бежал к Мойеру рассказывать. Он не считал при этом нужным терять время и давать крюк, чтобы надеть чистую сорочку; тем более что потом он бежал делать новый эксперимент. Другое дело его препараты или его иллюстрации к работе. Они были красивы, изысканны, артистичны, безошибочно точны. Это была не «внешность». Так нужно было для дела. Такой Пирогов поражал, вызывал восхищение, но не мог быть принят в «свои». Он больше помалкивал в мойеровской гостиной, слушая, как хозяин играет Бетховена или как Жуковский читает Пушкина. И лишь когда десятилетняя Катенька, от раннего сиротства и всеобщего обожания уже державшая себя барышней, твердила неприязненно, что господин Пирогов «режет» телят и овечек, и Жуковский морщился: «Жестоко», — не выдерживал: — Можно ли оспаривать право ученого делать вивисекции после того, как люди убивают и мучают животных для кулинарных целей? Теленок, который ждет моего завтрашнего опыта, принесет человечеству более пользы, чем его собрат, съеденный нынче за обедом.
Теленок с печальными глазами томился в станке, ждал своей участи. Останется он жить или умрет — это зависело не только от искусства Пирогова. Путешествие в область неведомого редко обходится без жертв. Гибнущие на трудном пути дарят свою жизнь науке. Николай Пирогов особенно интересовался операциями на сосудах. Избранное им направление было важным и перспективным. И теперь, почти через полтораста лет, оно остается одним из ведущих в хирургии. Пирогов изучал главным образом вопросы, связанные с перевязкой больших артерий. В конце 1829 года медицинский факультет Дерптского университета предложил список тем для научных сочинений. Выбор Пирогова свидетельствует о его интересах, оценка работы — о его познаниях. Сочинение Пирогова на тему «Что наблюдается при операциях перевязки больших артерий?» удостоено золотой медали. Руководители медицинского факультета признали сочинение «превосходнейшим» и выразили надежду, что работа юного автора «сможет заслужить признание широкой публики». Научные занятия ученика профессорского института Николая Пирогова лежали в русле основных исследований русской хирургической школы. Последователи Ивана Буша Илья Буяльский и Христиан Саломон успешно оперировали на сосудах. Буяльский, «исторгая людей из челюстей смерти», перевязывал «со счастливым успехом» не только артерии бедренную и плечевую, но также «самые большие стволы артерий, как то сонных, подключичных, крыльцовых, даже безымянных и подвздошных». Первым в России произвел перевязку внутренней подвздошной артерии Саломон. С необходимостью перевязывать сосуды часто сталкивались хирурги, военные врачи. Эта операция была основным способом лечения аневризм. Учение об аневризмах — расширениях артерий, возникающих в результате изменения или повреждения стенки сосудов, — не было «белым пятном» в медицине. Еще в начале века Буш назвал аневризмы болезнью, составляющей предмет хирургии. Аневризмам посвящена диссертация Буяльского. Защищенная в 1823 году, она тотчас привлекла внимание специалистов Европы и Америки. Практические результаты операций Буяльского по поводу аневризм были для того времени блестящими. Его коллега Саломон говорил: «Если б мне пришлось подвергнуться операции аневризмы, то я во всем свете доверился бы только двоим: Эстли Куперу и Буяльскому». Петербургские предшественники Пирогова близки ему не только темами изысканий. Они обладали многими качествами, которыми, по его мнению, должны были обладать хирурги истинные. Они «заслуживали имени хирурга». Подводя жизненные итоги, они приходили к тому, с чего смело начал их юный современник. Знаменитый атлас Буяльского назывался не «анатомическими таблицами» и не «хирургическими», а «Анатомико-хирургическими таблицами, объясняющими производство операций перевязывания больших артерий».
В своих «Таблицах» Буяльский перечисляет артерии, перевязываемые «смелыми операторами». Но не все. Для одной делает исключение: «…умолчу только о начальственной брюшной, которую также Эстли Купер осмелился перевязывать». Профессорский кандидат Николай Пирогов осмелился на большее. Всесторонние исследования, связанные с перевязкой брюшной аорты, сделал темой своей докторской диссертации; к тому же раскритиковал серьезнейшие ошибки знаменитого Эстли Купера. Диссертация Пирогова «Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством?» — это творческая смелость, стремительный полет мысли, научная обстоятельность. Все в ней новаторство: и постановка задач, и методы их решения, и полученные ответы — теоретические и практические выводы. Ответить на вопрос, ставший заглавием диссертации, означает для Пирогова изучить все изменения в организме, которые происходят под воздействием операции. Никто до Пирогова не ставил такой всеобъемлющей задачи. Купер, в 1817 году впервые перевязавший аорту, не вскрыл даже грудной полости умершего больного и объяснял причину его смерти нарушением кровообращения в «поврежденном члене» (левом бедре). Пирогов отметил узость такого взгляда, приводящую к «явственным парадоксам». Купер не увидел главного — серьезных нарушений кровообращения именно в грудной полости: они-то и вызывали тяжелые расстройства дыхания, сердечной деятельности. Пирогов отыскивал причины паралича задних конечностей у животных после перевязки брюшной аорты. Не страшась авторитетов, опроверг мнение другого видного ученого, французского физиолога Легаллуа. Юный диссертант изучал явления всесторонне. Точке зрения Легаллуа, основанной на единственном (!) опыте, противопоставил обобщенные выводы, полученные в результате целой серии экспериментов. И тут Пирогов действовал по-новому: брал для опытов различных животных — кошек, собак, телят, овец. Выяснилось, что они по-разному реагируют на одно и то же вмешательство. Это потребовало сравнительного изучения проблем, дополнительных объяснений. Задача стала еще шире. Диссертация Пирогова — пример экспериментального метода исследования в хирургии. Тогда это было новостью. Выводы молодого ученого были одинаково важны и для теории и для практики. Он первый изучил и описал топографию, то есть расположение, брюшной аорты у человека, расстройства кровообращения при ее перевязке, пути кровообращения при ее непроходимости, объяснил причины послеоперационного паралича. Он доказал, что перевязывать брюшную аорту нужно не моментально, а путем постепенного стягивания сосуда, и с важными для хирурга подробностями сообщил, как лучше всего проделать эту операцию. Он предложил два способа доступа к аорте: чрезбрюшинный и внебрюшинный. В те времена, когда всякое повреждение брюшины грозило смертью, второй способ был особенно необходим. Эстли Купер, в первый раз перевязавший аорту чрезбрюшинным способом, заявил после выхода в свет диссертация Пирогова, что, доведись ему делать эту операцию вновь, он избрал бы уже иной способ — внебрюшинный. Диссертация Пирогова была защищена 31 августа 1832 года. Это первое его путешествие в страну неведомого. Он разобрался в картах накопленных знаний и показаниях навигационных приборов эксперимента. Он точно проложил курс теории. Его руки уверенно держали штурвал практики. Он оказался отличным мореплавателем.
Пирогов ласково погладил теленка по влажной, потемневшей от пота шее: «Еще поживешь, сосунок!» Ополоснул в тазу руки. Вышел на улицу, хлопнув дверью. Тотчас вернулся, дал служителю двугривенный, кивнул на теленка: — Накормите его получше. …У Штейнгейзера Пирогов взял большую кружку пива, полдюжины бутербродов. Откинулся на стуле, окунул нос в теплую пену и только тут почувствовал, что устал. За соседним столиком рассказывали о том, как накануне ночью был наказан Фаддей Булгарин. Печально известного редактора «Северной пчелы» Пирогов встречал в доме Мойера. Фаддей поражал развязной наглостью. Слухи о нем ходили разные. Друзья по секрету советовали держать при Булгарине ухо востро, а язык за зубами. Однако на днях Булгарин сам накликал на себя беду: будучи в гостях, насмехался над университетскими порядками. Корпорации решили устроить в Карлово, на булгаринской даче, «кошачий концерт». Несколько сот студентов, вооруженных тазами, горшками, плошками, выстроились перед домом Фаддея, потребовали извинений. Булгарин струсил, униженно просил пардону. Бурши рявкнули громко: — Poreat calumniator! — Да погибнет клеветник! Ушли. Пирогов хмыкал в кружку: Булгарин был ему противен, раздражал кичливым нахальством, неумеренной болтовней. Не знал Пирогов, что через два десятка лет придется ему один на один столкнуться с наглой Фаддеевой клеветой. Пока посмеивался. Вспоминал заодно, как студенты «выбарабанили» Перевощикова — целую лекцию колотили по столам кулаками. Когда же вдобавок выбили стекла в профессоровой квартире, ученый фельдфебель запросился обратно в Казань. Без Перевощикова жить сразу стало легче. Тем более что во главе профессорского института каким-то чудом поставлен был профессор Иоганн Эрдман — человек начитанный и ученый, специалист в физиологии, патологии, фармакологии, диетике, истории медицины, а также в науке о проявлениях, симптомах болезней — семиотике. Пирогов снова хмыкнул (в клочковатой пене появилась темная проталина): то-то была физиономия у ненавистного Перевощикова, когда целый час гулкими африканскими барабанами гудели вокруг столы! Жаль, нет Даля, уж он бы изобразил незадачливого профессора! Даль отправился на турецкую войну полевым лекарем — оперировал в мрачных палатках под Шумлой или под Силистрией. Пирогов завернул в платок знаменитый штейнгейзеровский яблочный пирожок, сунул в карман. — Кельнер, получите. …Буйная, свежая зелень заполонила парк. На переброшенном через густую аллею мостике-арке латинская надпись: «Отдых возобновляет силы». Студенты развлекались: жгли костры, устраивали факельные шествия. Собирали корпоративные пирушки — комерши. Привозили в специально подготовленную за городом квартиру целую фуру провизии и бутылок. На столах дымилась жженка. В огромных мисках налит был крепчайший напиток — «дубина». О нем говорили: «Единственная дубина, которой бурш разрешает сбить себя с ног». Для «сбитых с ног» отводилось особое помещение — пустая комната, устланная свежей соломой. Пили и пели, курили длинные трубки с огромными «головами» для табака, на которых вырезаны были подписи членов корпорации, клялись на шпагах следовать правилам чести и всегда быть бравыми буршами. Пирогов на комерши не ездил, хоть и приглашали, — раз или два заглянул из любопытства. Не было у него потребности ни в отдыхе, ни в развлечениях. Он отдыхал и развлекался работая. По собственным его словам, бросился в работу очертя голову. Готовился к докторским экзаменам, заканчивал диссертацию, писал сразу несколько статей. А тут еще новое увлечение — фасции. Роль этих оболочек, покрывающих отдельные мышцы или группы их, была неясной. Между тем, как вскоре выяснил Пирогов, фасции связаны с пролеганием кровеносных сосудов и могут служить отличным путеводителем для хирурга. Фасциями до тех пор почти никто не занимался. Пирогова ждало новое путешествие в страну неведомого.
Он жил прямо в клинике. Мойер выхлопотал для него и Иноземцева просторную комнату. Отношения с соседом не ладились. Хоть и роднила их одинаковая страсть к своему делу, очень они были разные — Федор Иноземцев и Николай Пирогов. Это был тот случай, когда даже внешняя разница подчеркивает разницу внутреннюю. Иноземцев был красив, элегантен, изысканно одет. Неказистый Пирогов пять лет таскал привезенный из Москвы, ношенный уже сюртучишко и не особенно следил за чистотою белья, считая, что при вскрытии трупов оно все равно пачкается. За этими внешними приметами чувствуется не только характер, но и разные взаимоотношения со временем. Иноземцев распределял время, ему хватало времени на все. Пирогов все свое время отдавал работе. Их отношения с первого дня знакомства сложились как соревнование. Это было неизбежно. На «пятаке» мойеровской клиники — всего два хирурга из профессорских кандидатов, и оба талантливы. Соревнование не всегда приводит к сближению, чаще разъединяет. Отягощенное завистью, перерастает в соперничество. Иноземцев был старше и опытнее. До зачисления в профессорский институт он уже оперировал. Пирогов завидовал. В науке до щепетильности справедливый, он поставил Иноземцева головою выше себя, однако тотчас решил — догнать. Иноземцев чувствовал на затылке торопливое, горячее дыхание Пирогова. Можно было лезть на стену или сдерживать бешенство, не меняясь в лице, улыбаясь все так же спокойно, чуточку высокомерно, — преимущество уплывало между пальцами. Можно было злиться, выходить из себя, но поневоле приходилось поражаться, глядя на этого одержимого, для которого ничего не стоило работать день и ночь, для которого и не существовало ничего, кроме работы. Встречаться с Иноземцевым в обществе Пирогов не любил. В двадцать лет хочется «блистать», а это слово было всегда не в ладах с пироговской внешностью. Чтобы «блистать», нужны ловкость, изящество, умение поддерживать разговор. Он не умел быть не самим собой, говорил о том, что его занимало. С досадой наблюдал, как девицы (нож в сердце!) весело смеялись, окружив Иноземцева, но не мог ничего поделать — бубнил свое о трупах, препаратах, операциях; Мойер и Эрдман слушали с интересом, кивали головами. Иноземцевских гостей Пирогов тоже не любил. Они раздражали его звонкими голосами, табачным дымом, шелестом сдаваемых карт, щелканьем извлекаемых пробок. Для Иноземцева комната была местом отдыха после работы, для Пирогова — рабочим кабинетом. Он и жалованье-то все тратил на подопытных телят и баранов. В конце месяца сидел без копейки. Обедать бегал к Мойеру. Дома глотал пустой кипяток. Как-то взял из жестянки Иноземцева три куска сахару. Тотчас спохватился — да поздно! Сахар таял, густые дымчатые струи расползались в кипятке. Иноземцев, придя домой, открыл коробку, вскинул брови, промолчал. На жестянку повесил замочек. Пирогов никак не мог позабыть этого сахара. Даже через полвека писал: «Повинюсь еще и в воровстве… О позор!»
Докторант присылал на дом к декану сахар, чай, несколько бутылок вина, торт и шоколад. Для угощения профессоров. Следом являлся сам. Так в Дерпте сдавали экзамены на степень доктора медицины. Профессорский кандидат Пирогов нарушил традицию. Он попросту явился сам, не выслав вперед установленного оброка. Деканше, фрау Ратке, пришлось подать господам экзаменаторам свой чай да еще стать свидетельницей полного успеха этого несносного «герр Пирогофф». Экзамены сдавали в два круга. В первом предлагали по два вопроса из десяти научных дисциплин, во втором — из двенадцати. В списке экзаменаторов — известные имена физика Паррота, минералога Энгельгардта, физиолога и эмбриолога Ратке, фармаколога и терапевта Эрдмана, хирурга Мойера. В списке нет имени Вахтера. Он не был профессором, зато был одним из истинных учителей Пирогова. Доктор Вахтер преподавал анатомию, к тому же оперировал, неизменно приглашая Пирогова в ассистенты. Лодер в Москве читал анатомию всем студентам. Вахтер не поленился прочитать целый курс с демонстрацией на трупах и препаратах одному Пирогову, — чудак и острослов Вахтер, живший «в контрах» чуть ли не с целым светом, первым увидел в Пирогове ПИРОГОВА. Кроме устных экзаменов, требовалось выступить с публичной лекцией, а также представить несколько историй болезни и две письменные работы. Темы, избранные Пироговым, — «О кровохаркании» и «Об удалении щитовидной железы». Во второй работе — хирургической — чувствуется глубина познаний и уверенность специалиста. Здесь сформулированы некоторые общие принципы. Пирогов перенес их потом в начало своей диссертации. Он писал: «Рассуждая о какой-либо хирургической операции, я имею обыкновение всегда ставить перед собой следующие вопросы: 1) Каково строение и функция того органа, который мы подвергаем операции? 2) Каково положение этого органа относительно соседних? 3) В чем заключаются заболевания этого органа? 4) Наконец, как действует на него наше механическое воздействие?» Это голос человека, начинающего в хирургии новый этап.
Профессорские кандидаты приехали в Дерпт на два-три года, просидели целых пять. Поездка за границу, которой должен был завершиться курс учения, откладывалась. Помешали французская революция 1830 года, польское освободительное движение 1830—1831 годов. Царь не желал пускать своих подданных в «крамольную» Европу. Пирогов отправился в Москву. Четыре года не видал матери, сестер, А тут подвернулся дешевый возница. Товарищи понаходчивее помогли сбыть кое-какие вещицы: ненужные книги, старые серебряные часы, подержанный самоварчик. В пасмурный декабрьский день Пирогов, натянув поверх нагольного полушубка шинель на вате, уселся в простую тряскую кибитку, чтобы испытать все превратности санного путешествия. Казалось, все было предпринято, чтобы отнять у России будущего гениального хирурга. Возница терял дорогу в темной снеговой пустыне. Под полозьями кибитки трескался лед; она каким-то чудом удерживалась на краю полыньи, чтобы вскоре все-таки провалиться в другую. Пирогов замерзал, промокал до нитки и снова замерзал. Но всего страшнее показалась (и запомнилась на всю жизнь) заброшенная рыбацкая деревушка — грязные, смрадные лачуги, похожие на звериные норы; забитые, загнанные люди, почти потерявшие облик человеческий, — ужасающий портрет-сгусток крепостной деревни. Лишь на исходе второй недели матово засветились в морозном рассвете золотые луковицы московских церквей и колоколен.
Спины у людей были обтянуты мундирным сукном, спины сутулые или подчеркнуто прямые, разогнутые строевой выправкой, — спины без крыльев. Летать запрещалось. Летать осмеливались немногие. Пирогову не повезло: в кругу семейных и университетских знакомых он встретился лишь с теми, кто ходил или ползал. Он убегал от почтенных семейств, где непривычное считали крамольным, ругали ученых, докторов, студентов, якобинцев и развлекались сальной шуткой и жирным поросенком с кашей. Огорчался в университете. Профессор хирургии не верил в эксперименты на животных, в перевязку больших артерий, даже в астрономию — ни во что не верил, чего не знал. Иовский показался усталым, надломленным. Бороться за истину в науке было не легко. И снова московская застава, и мать торопливо крестит его на дорогу. — Скоро свидимся, маменька, скоро!.. Он и впрямь верил, что скоро. Чувствовал уже свою силу. Надеялся, что здесь, в Москве, быть ему профессором. А где же еще? Москва его на учение посылала, в Москву ему, ученому, и возвращаться. А там — дай срок! Придет в университет, в клинику, все по-своему переделает. …Мчится по белой сверкающей дороге почтовая тройка. «Вы шествуете к славе,— насвистывал Пирогов, — но не забывайте и меня». За дерптскими делами, заботами образ белокурой прозрачной Натали забылся, поблек. Николай писал ей поначалу, потом недосуг стало — бросил. Но в Москве не удержался — зашел. И хотя Натали, по-прежнему прекрасная, все так же проникновенно пела его любимую песенку, чувствовал Николай — не та, не та… А может, и не в Натали дело? Может, это он не тот? Исчезла Натали, словно растворилась в памяти. Одна лишь песенка и осталась: «Вы шествуете к славе…»
IV. ЗАГРАНИЦА 1833—1835
На великолепном здании берлинского Цейхгауза застыли в предсмертных муках трагически искаженные лица воинов, изваянные Андреасом Шлютером. В зловонном здании берлинской больницы «Шарите» люди мучались и умирали от госпитальной нечисти и гнойного заражения. С них не ваяли прекрасных трагических масок — просто уносили в маленькую покойницкую. В покойницкой часами работал Пирогов. Вскрытый труп рассказывал ему не меньше, чем прекрасная скульптура. Пирогов сам был творцом. Скульптор ваял резцом, он — ножом. «Разнимал» трупы, разделял целое — и ваял цельное: точное и законченное представление о человеческом теле, о положении органов. Творил анатомическую карту человека и намечал маршруты возможных операций. За узким оконцем стоял чопорный Берлин. Мимо холодных торжественных зданий ездили в каретах знаменитые берлинские профессора. Мимо Новой гауптвахты с дорическим портиком, мимо музея с ионическим фасадом, мимо роскошного Большого дворца и монументального бронзового коня, несущего бронзового великого курфюрста, парадно проезжали Руст, Грефе, Диффенбах. В покойницкой больницы «Шарите» Пирогов изучал свой Берлин — берлинскую хирургию. «Разъятые» трупы — беспристрастные свидетели — говорили о ее достоинствах, пороках, просчетах. Какие имена!.. Руст, Диффенбах, Грефе!.. Их называли: «оракул» Руст, «великий» Диффенбах, «маэстро» Грефе! Голова может закружиться от такого созвездия имен!.. Двадцатидвухлетний Николай Пирогов явился в Берлин не для того, чтобы ощущать приятное головокружение от пребывания среди признанных авторитетов. Легенды о них не повергали его в слепой восторг. С юных лет правилом Пирогова было: больше видеть, чем слышать. Он обладал высокой точностью видения. Его ум — скальпель анатома, привыкшего препарировать: проникать в суть, отсекать лишнее, оставлять нужное. Пирогов приехал в Германию через год после смерти Гегеля. Но философ оставался по-прежнему властителем дум. Ревностные последователи, которых расплодилось с избытком, подменяли гегелевское учение собственными измышлениями, барахтались в бессмыслице и мистицизме. На лекции в Берлине можно было услышать такое: «Природа представляет нам всюду выражение трех основных христианских добродетелей: веры, надежды и любви. Так, целый класс млекопитающих служит представителем первой из них — веры, земноводные как бы олицетворяют надежду, а птицы любовь». Молодые российские профессора Алексей Филомафитский, Степан Куторга, Николай Пирогов признавали рациональный взгляд на вещи, точное знание, опыт. Они были предтечами Писаревых и Базаровых. Не робкими незнайками-учениками, не восторженными эпигонами приехали они за границу, а строгими критиками, беспощадными рационалистами, умеющими брать нужное и отбрасывать лишнее, людьми, уверенными в своих силах, и не только завтрашних, но и сегодняшних. Не зря же диссертацию Пирогова, едва он появился в Берлине, перевели с латыни на немецкий, издали. Видно, не знали прежде «оракулы» и «маэстро» того, что написал Пирогов!Научное путешествие в Германию было хорошей школой. Пирогов учился соглашаясь; гораздо больше учился отрицая. Он точно знал, что хочет взять от своих немецких учителей; за малым исключением они не могли дать ему того, что он требовал. Практическая медицина жила в Германии совершенно изолированно от анатомии и физиологии. Знаменитые хирурги анатомии не знали. «Анатомикус хирургикус» (хирург-анатом) в их устах было почти ругательством. Это «оракул Руст» говорил, читая лекцию: — Я забыл, как там называются эти две кости стопы: одна выпуклая, как кулак, а другая вогнутая в суставе… Это «великий Диффенбах» объявил некоторые всем известные артерии «выдумкой». Это «маэстро Грефе» приглашал на операцию профессора анатомии Шлемма; делая разрез, справлялся: «Не проходит ли здесь сосуд?»
Грефе был опытный хирург. Опыт подсказывал ему дорогу. Он шел по правильным, подчас ему одному известным приметам — и не мог быть уверен, что идет правильно. Бывалый путешественник без карты и компаса. А рядом стоял и видел недоступное для «маэстро» штурман Шлемм. Грефе хорошо умел, Шлемм хорошо знал. Пирогов пришел к Грефе, взял его умение — и пошел за Шлеммом. Профессору Шлемму был по душе этот русский — любознательный и дьявольски трудолюбивый. С ним было интересно беседовать. Об анатомических препаратах «герр Пирогов» говорил, как о произведениях искусства. Препараты Шлемма были действительно великолепны. Во внешности немецкого профессора и русского ученика была общая черта: Шлемм косил, Пирогов тоже слегка косил. Сходящийся в одной точке, словно в фокусе, взгляд Шлемма был остер и точен. «Герр Пирогов» доказал остроту своего взгляда, заметив на тончайшем препарате профессора один потаенный нервный узелок. С этим русским стоило заниматься. Начиная всякую фразу со своего излюбленного вежливого «Видите ли…», Шлемм открывал перед Пироговым драгоценные россыпи своих бесчисленных наблюдений, учил его технике препарирования, показывал операции на трупах. «Видите ли…» — начинал он спокойно и приветливо. Шлемма стоило видеть и слышать. Он занял почетное место в ряду анатомов — наставников Пирогова: Лодер — Вахтер — Шлемм.
Знаменитые хирурги парадно катили в каретах мимо холодных величественных зданий — ездили от одного пациента к другому. Окруженные почтительными ординаторами, важно шествовали по больничным палатам. Умерших больных служители уносили в покойницкую. Там учился оперировать Пирогов. Покойницкая больницы «Шарите» была царством мадам Фогельзанг. Пирогов замер от удивления, увидев впервые эту худощавую женщину с подвижным обезьяньим лицом, в чепце, клеенчатом фартуке и нарукавниках. С непринужденной ловкостью вскрывала она один труп за другим. Как не удивиться! В ту пору и мужчина-врач был нечастым гостем в анатомическом театре. Тем более работником. Мадам Фогельзанг, в прошлом повивальная бабка, занялась анатомией, по ее словам, «из любви к искусству». Пирогов ценил в ней и любовь к своей работе и искусство. Он свидетельствовал, что мадам Фогельзанг достигла совершенства в определении и разъяснении положения внутренних органов; вылущить сустав или найти артерию было для нее «плевым делом». Пирогов всегда трудился увлеченно и умел воспламенять других. В мадам Фогельзанг горел тот же огонь. На рассвете, ночью, когда пустыми глазницами зияли темные окна дворцов, без спроса и стеснения являлась к нему эта женщина с изрытым морщинами лицом и волосами, похожими на паклю, — приносила новый препарат, сообщала о предстоящем интересном вскрытии. Днем долгие часы стояла рядом у стола, соглашалась, спорила, доказывала. Ах, мадам Фогельзанг! Глубокоуважаемая мадам Фогельзанг! Ее низкий с хрипотцой голос и впрямь казался ему нежным пением птицы… Пирогов не щедр был на похвалу. Немногих спутников своей жизни назвал он дорогими для себя людьми. А уж если кого назвал, те, право, заслужили добрую память. Мадам Фогельзанг называл Пирогов дорогим для себя человеком.
В анатомических театрах Берлина Пирогов постигал и патологическую анатомию, изучающую изменения, которые вследствие болезни происходят в строении органов и тканей. Патологическая анатомия давала ключ к познанию причин и следствий. Берлинские профессора ею не занимались. В руках у студента, работавшего в «анатомичке», Пирогов увидел однажды редкий образец легочной аневризмы и посоветовал показать его профессору терапии, в клинике которого лежал перед смертью больной. — Да что ж тут наш Горн поймет? — простодушно удивился студент. Юный Пирогов много раньше германских знаменитостей понял значение патологической анатомии — пути к к разгадке болезненных явлений. Через десять лет после пребывания Пирогова в Берлине другой молодой русский ученый, А. И. Полунин, впоследствии выдающийся патолог, жаловался в отчете о поездке в Германию: «Число вскрытий чрезвычайно ограничено», «Вскрытия производятся большей частью небрежно, поверхностно», «Вообще нельзя не упрекнуть клинических преподавателей берлинских в неуважительном небрежении к патологической анатомии».
Руст уже не оперировал. Он являлся в аудиторию в большом зеленом картузе, из-под которого свисали длинные седые космы, усаживался в кресло, долго и бережно располагал на теплом коврике обутые в плисовые сапоги непослушные подагрические ноги. Руст ставил диагнозы. Он считал, что незачем опрашивать больных, — они только путают врача своими рассказами. Есть объективные признаки болезни, на них надо строить диагноз. Принцип Руста был идеален. Но и теперь, не говоря уже о Рустовом времени, недостает знаний, полноценных методов обследования, чтобы осуществить его, — приходится спрашивать больного: «На что жалуетесь?» И теперь жалоба больного — первая путеводная ниточка в поиске болезни. Потом вступают в дело объективные методы научной разведки, путеводная ниточка помогает им или теряется по дороге. Медицина развивается, врач чаще поправляет пациента — пациент жалуется не на то. К идеалу упорно и долго стремятся. Если идеал притягивают к себе за уши, рождается обман. В теории принцип Руста мог увлечь, на практике превращался в шарлатанство. Руст поудобнее усаживался в кресле и приказывал начинать. Больных вводили одного за другим. Не поднимаясь с места, профессор бросал лишь взгляд на каждого вновь приведенного и тотчас объявлял диагноз. Руст жаждал слыть оракулом. Его оракульство было примитивным фокусом: помощники заранее обследовали пациента и сообщали профессору результат осмотра. Иногда Руст путался — забывал, в каком порядке должны показывать больных. Впрочем, даже самый нелепый диагноз опровергнуть было невозможно. Предсказания «оракула» не проверялись: в палаты «Шарите» Руст никого не пускал. Больной, увиденный единожды, исчезал навсегда. В груде Рустова фокусничества Пирогов нашел жемчужное зерно. Он пришел к мысли о предварительном диагнозе, построенном только на объективных признаках. Он имел в виду по-мудровски детальное обследование, а не оракульский взгляд из-под картуза. Следовавший затем тщательный опрос больного, критически оцененный, уточнял предварительный диагноз — подкреплял или опровергал его. В сопоставлении рождался диагноз окончательный. Так что и уроки Руста не пропадали даром.
У Диффенбаха и Грефе Пирогов учился технике операций. Надо было обладать поистине необыкновенным чутьем и великим опытом, чтобы, не имея широких и прочных научных познаний, изобретать столь сложные операции и производить их с таким совершенством, как гениальный самородок Иоганн Фридрих Диффенбах. Его коньком были пластические операции. Предложенные им способы восстановления носа, губ, щек, век, ушей, устранения косоглазия и заячьей губы навсегда остались в истории хирургии. Диффенбах понимал, что хирургия не терпит шаблона, что не бывает двух совершенно одинаковых операций, — огромный опыт позволял ему импровизировать у операционного стола. Он говорил: «Лишь тот является истинным хирургом, кто знает и умеет то, о чем нигде не написано, который всегда является изобретательным Одиссеем и который умеет, находясь в самом трудном положении, выиграть бой, не прибегая к военному совету… Можно научиться резать, но часто приходится резать иначе, чем этому учились». У Грефе не было Диффенбахова полета; он радовал глаз аккуратностью, чистотой, скоростью. Грефе и внешне был всегда затянут, прилизан, вежлив. Высокая техника операций сочеталась у Грефе с образцовой организацией. Сработанность с ассистентами была доведена до совершенства: все инструменты наготове, ни шума, ни суматохи, четкость и быстрота. Грефе и Диффенбах лучше других лечили послеоперационные раны, этому тоже стоило поучиться. В то время удачная операция и на сотую долю процента еще не гарантировала жизни. Страшный палач — заражение — день и ночь стоял с топором над кроватью больного. Пирогов перенял изобретательность и совершенную технику Диффенбаха, быстроту и ювелирную тщательность Грефе — перенял не для того, чтобы подражать, а чтобы развивать. Учителя, сочетавшего в себе те многие качества, которые хотел видеть в хирурге Пирогов, нашел он не в Берлине, а в Геттингене — в лице профессора Лангенбека-старшего. — Кейн друк, нур цуг, — приговаривал Лангенбек, оперируя. — Не нажим, только тяга. Нож должен быть смычком в руке настоящего хирурга. Пирогов глядел в оба, учился не держать нож полною рукою, учился не давить, а тянуть. Лангенбек был силен в технических приемах. Он показывал, как приспосабливать движения ног, положение всего тела к действиям оперирующей руки. И на то есть правило, рожденное опытом. Пирогов упражнялся на трупах, отрабатывал приемы, подсказанные Лангенбеком. Геттингенский профессор на чем свет стоит распекал сторонников медлительности в хирургии и сам оперировал на редкость быстро. Рассказывали: один английский хирург не поверил, что Лангенбек вылущивает плечо из сустава всего за три минуты, и явился с часами в руках следить за операцией. Англичанин еще надевал очки, как вдруг нечто пролетело перед самым его носом. Это рассвирепевший Лангенбек пустил в Фому неверующего вылущенное уже плечо. В скорости Лангенбек не уступал Грефе, но если, по отзыву Пирогова, Грефе оперировал «скоро, ловко и гладко», то Лангенбек — «скоро, научно и оригинально». В одном слове «научно» коренилась для Пирогова вся ценность Лангенбека. Конрад Лангенбек был единственный в тогдашней Германии хирург-анатом. Познания его в анатомии не уступали его обширным познаниям в хирургии. Именно научная образованность определяла и другие качества Лангенбека: быстроту и оригинальность. Он имел право на скорость и выдумку, потому что не шел вслепую. Лежащее перед ним операционное поле освещали знания. Подводя итоги своей научной командировки, Пирогов отделил Лангенбека от тех «весьма знаменитых иностранных хирургов, которые вообще даже отрицают пользу хирургической анатомии для хирургов». Он подчеркивал, что критикует «оракулов» и «маэстро» не из личной неприязни, не из зависти к их заслугам, справедливо оцененным Европой, но потому, что их воззрения были совершенно противоположны его взглядам и научному направлению. Негодование Пирогова — это негодование молодого врача, едва не из детства затвердившего мухинский афоризм: «Врач-неанатом не только бесполезен, но и вреден», слышавшего на студенческой скамье мудровские слова о пользе анатомии патологической, с первых самостоятельных шагов практиковавшего над трупами и штудировавшего атлас Буяльского. Если говорить о национальных школах, то, попади Пирогов, кроме Германии, и во Францию, он, возможно, нашел бы там несколько больше пищи для выращивания анатомо-физиологического направления в хирургии. С великолепной техникой Диффенбаха успешно могла состязаться также вошедшая в историю виртуозная изобретательность Дюпюитрена. Советы образованного хирурга-анатома Вельпо сделали бы полнее и богаче уроки, полученные от Лангенбека. Важнее, однако, что общественное мнение среди французских врачей склонялось в пользу хирургии, основанной на научных данных, и не слишком высоко превозносило рукодеев-практиков — «хирургов-столяров», как их называли. Что же касается традиций, то еще за полвека до того Жан Поль Марат — Друг народа по призванию и доктор медицины по званию — призывал хирургов заниматься анатомией и физиологией, призывал их к смелым экспериментам и повседневным упражнениям, дабы понять изумительные чудеса человеческого тела, дабы «схватить природу в ее работе, на ходу». И все же ни одна из существовавших в то время школ, ни один из выдающихся хирургов того времени не могли в полной мере удовлетворить Пирогова. Через несколько лет, побывав в Париже, он критиковал французских хирургов почти столь же решительно, сколь и немецких. Пирогов, по собственным его словам, негодовал, — негодовал справедливо и вместе с тем требовал от европейских знаменитостей слишком многого. Менялись эпохи. Еще недавно «цех хирургии» ближе стоял к цеху цирюльников, нежели врачей. Предтечи Пирогова сделали хирургию медициной. Самые передовые из них подвели под хирургию научные основы. Пирогов сделал хирургию наукой.
Будущие российские профессора во Францию командированы не были. Во Франции жили традиции не только хирургические. Память Марата жила на баррикадах 1830 года. Швейцарский батальон, бежавший из Тюильри в июле тридцатого, вспомнил, наверное, швейцарских телохранителей Людовика XVI, перебитых восставшим народом в августе девяносто второго. В такую Францию будущим российским профессорам попадать было противопоказано.
В Берлине был свой Перевощиков — профессор Кранихфельд, окулист, гигиенист, гомеопат, главный врач принца и к тому же председатель Общества трезвости. Благочестивому мистику и ханже Кранихфельду русское правительство предложило взять на себя надзор за молодыми учеными. Он согласился, обещая, что «они сделаются верными подданными их освященного богом государя». Кранихфельд заблаговременно разработал скрупулезную систему взаимного шпионажа и доносов, излагая ее в депешах министру Уварову с сусальной улыбкой старой бюргерши, лепечущей сказку о сладенькой кашке, которая затопила целый город. Берлинский профессор зазывал «подопечных» к себе на «вечера», поил эрзац-чаем, раздавал им брошюрки с псалмами и сам первый затягивал соло под аккомпанемент фортепьяно. Профессор не гнушался вести тайные переговоры с хозяевами квартир, где жили русские ученые, распорядился не выдавать им ключи, дабы не возвращались поздно, пытался запретить им выезд из Берлина даже во время каникул. «Неблагодарные русские» не желали поддаваться профессорскому воспитанию. Их воротило от скверного чая и постных псалмов, они жаждали гулять допоздна и выезжать из города, главное же — никто из них не согласился исправлять «симпатичную должность»: следить за товарищами и доносить по начальству. Столь скрупулезно продуманная система на практике терпела провал. Кранихфельд злился, хватал через край. Чрезмерная услужливость соглядатая бросала тень на российское правительство. Министр Уваров отставил Кранихфельда от надзора за молодыми учеными, заявил лицемерно, что у себя на родине юноши пользовались уже «совершенною свободой». Прусского профессора сменил на посту надзирателя русский генерал, состоящий при посольстве в Берлине.
«Совершенную свободу», которой можно было пользоваться в России, скоро довелось узреть воочию. Через Берлин проезжал Николай I. Он приказал вызвать в посольство всех его подданных, живших в прусской столице. Среди прочих пришел один волынский поляк. — Почему с усами? — увидя его, загрохотал Николай. — В России усы позволено носить только военным! — И, вперив указующий перст в лицо волынца, приказал: — Сбрить! Несчастного поволокли в соседнюю комнату обривать.
Николай Пирогов и Федор Иноземцев слали министру Уварову письма. Просили денег. Доказывали: изучение хирургии требует беспрестанной практики, посещения клиник, упражнений над трупами. За все сие надобно было платить, жалованья не хватало. Пирогову приходилось куда как туго. И так жил впроголодь, рассчитывая каждый талер, а тут еще оказался нечист на руку хозяйский сынок: с его помощью без того не толстая пачка ассигнаций скоро совсем похудела. Пирогов за голову взялся: как дотянуть положенный срок? Удача пришла в образе знакомого дерптского студента — сынка богатого аптекаря. Парень подрался в Дерпте на дуэли, опасно ранил противника. Пришлось уносить ноги — доканчивать курс в Берлине. Дуэлянт предложил: Пирогов поможет ему в занятиях и получит за это содержание, квартиру, стол. Ученик оказался не без способностей, к тому же отъявленный театрал. После сытного воскресного обеда — театр. Пирогов предпочитал классику: Шекспира, Шиллера, Лессинга. Он читал Гёте:
«Повсюду вечность шевелится». Это не привязчивая песенка «Вы шествуете к славе…».
Срок командировки подходил к концу. Из министерства будущих профессоров запрашивали: в каком университете каждый из них желал бы получить кафедру? Пирогов ответил не задумываясь: в Москве. Ну, конечно, в Москве! Наконец-то он отблагодарит мать, сестер за лишения и жертвы! Поднималась в душе старая мечта — становилась жизнью детская игра в Мухина. Писал матери, чтобы подыскивала достойную квартиру. Воображал, как подъедет в карете к университетскому зданию. Спеша, заканчивал дела. Ходил, радостно подпрыгивая. Бормоча под нос стихи о залогах дивных перемен, подсчитывал в уме койки в хирургической клинике Московского университета.
В дилижансе было нестерпимо душно. Качало. Пятеро пассажиров сладко посапывали, похрапывали на разные голоса. Шестой — Николай Пирогов — всю ночь не сомкнул глаз. Горло пересохло так, что казалось, сделано из раскаленной жести; голова гудела, затекшие ноги не находили места в тесной карете. Внезапная болезнь прервала путь. Он представлялся широким наезженным трактом. Прямой, как стрела, тракт врывался в Москву, конец его упирался прямо в университетское крыльцо. Пирогов, к счастью, ехал из Германии не один. Рядом был математик Котельников, приятель по профессорскому институту. С остановками на постоялых дворах он кое-как довез больного Пирогова до Риги. Убогий заезжий дом за Двиною. Ни копейки денег. Нестерпимый кашель, отвращение к еде, слабость, бессонница. Помощи ждать неоткуда. Пирогов написал отчаянное письмо генерал-губернатору. Барон Пален; бывший одновременно и попечителем Дерптского учебного округа, слыхивал об одном из способнейших выпускников профессорского института. В тот же день Николай Пирогов был доставлен в загородный военный госпиталь. Потянулись долгие недели мучительной болезни. Выздоровление пришло вместе с аппетитом к молоку. Обитатели госпиталя: доктора, фельдшера, служители — все приносили больному Пирогову молоко. Он пил его бутылками, чувствовал: не по дням, по часам наливаются силой ноги, а ведь недавно и ступить не мог.
Риге повезло. Не заболей Пирогов, она не стала бы местом его дебютов. Молодой хирург был не в состоянии жить без дела. Едва начал ходить, стал оперировать. Первая операция Пирогова в Риге была пластической: безносому цирюльнику он выкроил из лба прекрасный новый нос. На бис пришлось повторить — изготовить сей считающийся необходимым на лице предмет еще и некоей даме. Затем последовали неизбежные литотомии — извлечения камней из мочевого пузыря, ампутация бедра, удаление опухолей, из которых одна (операция произвела сенсацию в городе) была величиною с тыкву. В Риге Пирогов впервые оперировал как хозяин. Не было за плечами внимательных глаз Мойера, не было вежливых советов Грефе, решительных указаний Лангенбека. Были вокруг жадные глаза многих зрителей — рижских врачей: им предстояло перенять увиденное и повторить. В Риге Пирогов впервые оперировал как учитель. Старый ординатор госпиталя сказал Пирогову: — Вы нас научили тому, чего и наши учителя не знали. Из Риги Пирогов отправился в Дерпт. Дерпт остановил победное шествие Пирогова на Москву. В Дерите он узнал, что кафедру хирургии в Московском университете отдали Иноземцеву. В то время не был еще принят новый устав, отнявший у университетов право избирать профессоров. Но разве отнимать права нельзя и без устава? Министр Уваров докладывал: «Университеты имеют право сами избирать на вакантные кафедры ученых, но в настоящее время допустить их пользоваться сим правом было бы чрезвычайно неудобно». И считал необходимым «самому разместить сих ученых выгоднейшим образом». В дни, когда Пирогов в рижском госпитале жадно пил молоко и набирал силы для великих трудов, на доклад министра легла царская резолюция: «Исполнить». Пирогов обвинял «начальство»: «Оно само выбирает, само назначает человека, само узнает от него, что он желает действовать именно в том университете, где он получил образование и где он был избран для дальнейшего усовершенствования, — и что же: лишь только пришла беда, болезнь, его забывают и спешат его место заменить другим. Да, этот другой понравился, имел счастье понравиться его сиятельству; а кто знает, понравился ли бы еще я?..» Пирогов обвинял Иноземцева: «Недаром же у меня никогда не лежало сердце к моему товарищу по науке… Это он назначен был разрушить мои мечты и лишить меня, мою бедную мать и бедных сестер первого счастья в жизни! Сколько счастья доставляло и им и мне думать о том дне, когда, наконец, я явлюсь к ним, чтобы жить вместе и отблагодарить их за все их попечения обо мне в тяжелое время сиротства и нищеты! И вдруг все надежды, все счастливые мечты, все пошло прахом! Но чем же тут виноват Иноземцев? Да разве он не знал моих намерений и надежд? Разве он не слыхал от меня, что старуха мать и две сестры ждут меня с нетерпением в Москву? Разве ему не известно было, что я отвечал на посланный вопрос в Берлин?.. …Разве совесть и долг чести не требовали от товарища, чтобы он отказался от предлагаемого, если на это предложение имел гораздо более прав не он, а другой?» Пирогов был несправедлив к Иноземцеву. Несправедливость Пирогова бросает на Иноземцева тень. Доводам Пирогова трудно не поверить. Даже в 1923 году профессор В. А. Оппель писал в своей «Истории русской хирургии»: «Когда дело дошло до серьезной борьбы, то Иноземцев, пользуясь связями, сразу получил кафедру в Москве, кафедру, о которой мечтал Пирогов». Но «серьезной борьбы» не было. Иноземцев «имел счастье понравиться его сиятельству», но это еще не означает, что хотел понравиться. Иноземцев мог опровергнуть доводы Пирогова теми же доводами, адресованными, однако, кому-то третьему. Так же как Пирогов Москву, Иноземцев избрал Харьков. И так же как в деле Пирогова, «начальство» не приняло во внимание, что и Иноземцев «желал действовать именно в том университете, где он получил образование и где он был избран для дальнейшего усовершенствования». Самое же нелепое, что вскоре после того, как Иноземцев был назначен в Москву, Пирогову предложили кафедру хирургии именно в Харькове. Он отказался. И Пирогов и Иноземцев в равной степени могли адресовать свои доводы тем, кто, не считаясь ни с Пироговым, ни с Иноземцевым, росчерком пера решал их судьбы.
Прямой, гладкий путь в Москву, к университетским вратам, обернулся петлей. Пирогов получил от ворот поворот, так и не добравшись до Белокаменной. В Дерпте узнал о крушении надежд, в Дерпте и остался. Двери мойеровского дома снова распахнулись перед Пироговым. И еще более гостеприимно распахнулись перед ним двери мойеровской клиники. Как и в Риге, первая же операция в Дерпте принесла Пирогову широкую известность. Но если в Риге это была ринопластика (изготовление искусственного носа), то здесь литотомия. Зрителей набралось изрядное число, многие вынули часы. Говорили, что кандидат в профессора изумляет необыкновенной скоростью извлечения камней. Пирогов, подражая Грефе, приказал ассистенту держать инструменты наготове и в определенном порядке. Уложил поудобнее больного. Вздохнул глубоко — ну, была не была! — и протянул к ассистенту руку. Услышал, как щелкнули крышечки часов. Раз, два, три… Всё! — Две минуты! — Меньше чем две минуты! — Das ist wuhderbar! — Это удивительно! Пирогов продолжал удивлять. Удалил большую опухоль подчелюстной железы. Извлек громадный полип, застилавший полость носа и зева. Клиника ожила. Здесь давно не видели серьезных операций, а таких, возможно, не видывали вовсе. Больные, самые чуткие ценители врачебного искусства, потянулись к чудесному оператору. Таково свойство творцов — открывателей новых эпох: сделанное предшественниками для них словно взлетная дорожка — они пробегают ее почти незаметно по времени, но ощутимо наращивая скорость и силы для полета. Они умеют едва ли не сразу начать с того, чем кончили предшественники. В двадцать пять лет Пирогов закончил разбег. Оттолкнулся и взмыл ввысь. И сразу стал виден тем, кто остался внизу. Сперва тем, кто стоял вблизи, потом всем. В 1828 году приезд Пирогова, необузданного в работе, полного замыслов, жадно ищущего, словно вдохнул в Мойера новую жизнь. Пирогов хотел знать — он оживлял Мойера, требуя от него знаний. Второй приезд Пирогова, в 1835 году, сделал Мойера ненужным. Отношения побежденного учителя и победителя-ученика вступили в последнюю стадию. Учитель сделал все, что мог. Ему оставалось либо уступить место, уйти, либо не пускать, ставить палки в колеса, пакостить. Мойер был благороден и справедлив. Он ушел. Возмущаясь тем, что Пирогову не досталась московская кафедра, Мойер не отделывался советами ехать на кафедру куда-нибудь в Казань или в Харьков. Он уступил свое место. — Не хотите ли вы занять мою кафедру в Дерпте? — Да как же это может быть? Да это невозможно, немыслимо! — Я хочу только знать, желаете ли вы? Пирогов собрался с духом: — Что же, коли кафедра в Москве для меня уже потеряна… — Ну, так дело в шляпе. Сегодня предложу вас факультету, потом извещу министра… Итак, вместо Москвы — Дерпт. Трудно гадать, как сложилась бы жизнь Пирогова, попади он на московскую кафедру. Для этого пришлось бы учитывать слишком много мельчайших обстоятельств, выдвигать слишком смелые, а подчас слишком зыбкие гипотезы. Быть может, важнее иное: не заглядывая далеко вперед, не строя предположительных, несостоявшихся биографий Пирогова, выяснить, так ли уж много он проиграл, начав свою деятельность не в Москве, а в Дерпте. Пожалуй, нет. Молодому профессору, жаждавшему деятельности свободной и во многом необычной, искавшему научной и практической независимости, куда легче было начинать в Дерпте, чем в Москве. В Дерпте, где он сразу стал хозяином, единственным и признанным, чем в Москве, в кругу старых профессоров, державшихся старых взглядов, где, прежде чем начать по-своему, надо было утвердить себя. В Дерпте, где не так сильно чувствовалась тяжесть самодержавной пяты и оттого свободнее можно было задумывать и творить, чем в Москве, в «крамольном» университете, где по особой инструкции полицейский надзор и сыск были доведены до предела. Справедливости ради следует сказать, что Федор Иванович Иноземцев не только не «затерялся» в Москве, но со временем возглавил московскую хирургию. Ученый с передовыми взглядами, неутомимый организатор, он основал Общество русских врачей, издавал еженедельную медицинскую газету, создал факультетскую хирургическую клинику. Почти семьдесят человек называли Иноземцева своим учителем, и не только хирурги, но также гистологи, акушеры, физиологи, терапевты. И среди них — Сеченов и Боткин.
Зиму 1836 года Пирогов встретил в Петербурге. Он ждал, пока министр соблаговолит утвердить его на кафедру в Дерпте. Ждать сложа руки Пирогов не умел. Он работал. В Петербурге Пирогов жил так: «Целое утро в госпиталях — операции и перевязки оперированных, — потом в покойницкой Обуховской больницы — изготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело… бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в 7, — опять в покойницкую и там до 9-ти; оттуда позовут куда-нибудь на чай, и там до 12-ти. Так изо дня в день». Оперируя в госпиталях, Пирогов подчас творил чудеса, не отказываясь от сомнительных и, казалось бы, безнадежных случаев. Для страстной его натуры вопрос в ту пору решался: если можно оперировать, значит, нужно оперировать. Активность и решительность еще больше разжигались горящими глазами зрителей. Пирогов делал неожиданное, то, на что они и рассчитывать не смели. Творить чудеса легче, когда чудес ждут. Петербургские врачи ждали его операций. Его операции были школой. В Обуховской больнице Пирогов читал лекции тем, кто наставлял других. Учил учителей.
— Что это такое — хирургическая анатомия? — спрашивал старый профессор Медико-хирургической академии своего коллегу. — Никогда не слыхал, не знаю-с. Двадцатипятилетний Николай Пирогов знал, что это такое. В жалкой покойницкой Обуховской больницы он прочитал для ведущих петербургских врачей курс лекций по хирургической анатомии. В империи Николая I даже курс анатомии нельзя было прочитать без высочайшего разрешения. Один из известнейших русских медиков, лейб-хирург его величества Арендт испросил требуемое разрешение и стал самым ревностным слушателем Пирогова. Приходили на пироговские лекции и профессора Медико-хирургической академии Спасский и — что особенно показательно — Саломон, сам выдающийся хирург и анатом. Лекции Пирогова были неопровержимо точны и наглядны. Каждое утверждение подкреплялось демонстрациями, причем одновременно на нескольких трупах. На одних Пирогов показывал положение органов в той или иной области тела (с помощью заранее изготовленных препаратов объясняя тут же строение отдельных органов); на других делал все операции, производящиеся в данной области. Многое из того, о чем говорил петербургским врачам юный лектор, не знали ни их, ни его собственные учителя. В тускло освещенной сальными свечами покойницкой Обуховской больницы новая наука — хирургическая анатомия — крепла и совершенствовалась. Но и в парадном сверкающем зале сумел увлечь своих слушателей Пирогов. В Академии наук перед почтеннейшим собранием читал лекцию о ринопластике. Купил в парикмахерской манекен из папье-маше, отрезал у него нос, а лоб обтянул куском старой резиновой галоши. Рассказывая ход операции, выкроил из резины нос и с блеском пришил его на место. Удивило новизною и то, что сказал Пирогов. А говорил он об огромных возможностях пластической хирургии, о не изученных еще способностях человеческого тела, таких, как «восстановление целости поврежденных частей и развитие новой жизни в частях, перемещенных или пересаженных». Увидев же недоверчивую улыбку на лицах иных старых академиков, повернулся к ним и заявил резко: — Все, что я сказал, основано на наблюдениях и опыте и потому есть неоспоримый факт. Пирогов учил. Профессорская деятельность Пирогова началась до его утверждения в профессорском звании. Она началась, по существу, в Риге, продолжалась в Дерпте, теперь — в Петербурге.
Министр Уваров принял Пирогова утром. Вместо фрака на министре был шелковый халат. Уваров соглашался назначить Пирогова в Дерпт, он бранил дерптских студентов и говорил о необходимости исправлять их нравственность (во время посещения Уваровым Дерпта студенты позволили себе посмеяться над министром). Уваров играл поясом от халата и бормотал несуразицу. Ему было не до Пирогова, не до кафедр хирургии и вообще не до ведомства народного просвещения, которым он руководил. У министра были неприятности. Его высмеял Пушкин; пушкинский смех жег побольнее, чем улыбочки дерптских студентов. В Москве напечатали стихотворение «На выздоровление Лукулла»; хоть там и подзаголовок «Подражание латинскому», да кого обманешь! Все поняли, о чем речь. А речь о том, что Уваров хотел получить наследство графа Шереметева прежде, чем тот отойдет в лучший мир. Что и говорить, скверная получилась история. Ну мог ли он, Уваров, полагать, что Шереметев выздоровеет? И мог ли он терять время, когда пахло миллионами? В обществе разговоры, а Пушкин не унимается — пустил по рукам эпиграмму «В Академии наук заседает князь Дундук», где опять-таки оскорбительнейший намек на… — ну, как бы выразиться? — на предосудительные отношения Уварова с Дондуковым-Корсаковым. И в сердечных делах у министра неприятности — изменила дама. Это ему, министру! И с кем? С правителем канцелярии!.. Уваров поднял веки. Чего ждет от него этот большелобый молодой человек? Ах да, профессор Пирогов… Кафедра в Дерпте… Надо что-нибудь сказать, весомое, запоминающееся, — и отпустить. Министр Уваров встал и, чеканя каждое слово: — Знайте, молодой человек, и помните: не я министр народного просвещения в России, но государь император Николай Павлович! И сделал ручкой — аудиенция окончена. Молодой человек взглянул пристально на бессмысленно торжественное лицо его высокопревосходительства, поклонился, вышел. В передней остановился, оглянулся на массивные белые двери, пожал плечами и, уже не оглядываясь, зашагал по коврам. Ему было некогда. Операции в госпитале, изготовление препаратов, лекции в Обуховской…
Для окончательного решения о назначении требовались разнообразные утверждения и повеления. Дело Пирогова двигалось обычным порядком. Точнее — не двигалось. Все были заняты. Министр устраивал сцены «изменнице», размышлял, как обезвредить пушкинские стихи. Решения по делу Пирогова не выносились, утверждения задерживались, повеления не следовали. А Пирогов работал. Оперировал, учился, учил. Он не хотел, не мог дожидаться, пока обшитые золотыми позументами господа соблаговолят утвердить его в профессорской должности. Он не желал обивать пороги, топтаться в передних. Он сам стал профессором, когда почувствовал в себе силы, когда почувствовал свое право — учить. Один из современников как-то заметил, что путь Пирогова к кафедре лежал через анатомический театр, а не через заднее крыльцо министерских квартир.
V. ДЕРПТ. ПРОФЕССУРА 1836—1841
Они хохотали. Словно он рассказывал им анекдоты, а не излагал учение о суставах. — Как смешно он говорит! — воскликнул один студент. — Что за варварский акцент! — отозвался другой. Заканчивая первую лекцию, Пирогов сказал: — Господа, вы слышите, что я худо говорю по-немецки. Поэтому мои лекции могут оказаться не такими ясными, как мне бы хотелось. Прошу вас сообщать после каждой лекции, в чем я не был достаточно вами понят, и я готов вновь повторять и объяснять все, что необходимо. Когда слушатели расходились, один сказал: — Он читает дельно. — Знает! — коротко отозвался другой. Скоро хирургия стала у дерптских студентов одним из любимейших предметов. Ученики попросили у Пирогова его портрет. Он подарил им литографию с надписью: «Мое искреннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой, моя цель будет достигнута только тогда, когда они убедятся в том, что я действую п о с л е д о в а т е л ь н о; действую ли я правильно? — это другое дело; это смогут показать лишь время и опыт». Пирогов увлеченно читал «Исповедь» Жан-Жака Руссо, быть может, откровеннейшую из исповедей. «Я хочу показать людям человека во всей его неприкрашенной правде, — писал Руссо, — и этот человек — я сам». Только жестокосердный, утверждал Пирогов, станет смеяться над добровольной исповедью ближнего. Только невежда стает обвинять в невежестве человека, открыто признавшего свою ошибку. Порой восхищаются ловкостью и аплодируют хитрости. Уважают — честность. Честная исповедь — всегда мужество, в медицине — вдвойне. Врач, признавший грубую ошибку, по существу, публично обвиняет себя в убийстве или нанесении увечья. Открытые исповеди врачей никогда не были в моде. Пирогов видел, как знаменитости не допускают коллег в свои клиники, подтасовывают факты, затемняют истину, отвергая обвинения и подыскивая оправдания. Знаменитости были учителями, потому лгали дважды — перед настоящим и перед будущим. Они отдавали свои ошибки ученикам. «Видев все это, я положил себе за правило, при первом моем вступлении на кафедру, ничего не скрывать от моих учеников, и если не сейчас же, то потом, и немедля, открывать перед ними сделанную мною ошибку — будет ли она в диагнозе или в лечении болезни». Молодой профессор Пирогов начал с того, что объявил главным девизом своей деятельности абсолютную научную честность. Этот девиз он пронес через всю жизнь. Через два десятилетия он подводил итоги: «От прошлого осталось ненарушимым только одно направление, состоящее в откровенном обнаруживании успеха и неуспеха в практике. С этим направлением я начал врачебное поприще, с ним и окончу».В 1837 году — на втором году профессуры — Пирогов выпустил первый том «Анналов хирургического отделения клиники императорского университета в Дерпте». В 1839 году вышел в свет еще один том. «Анналы» — это собрание историй болезни, распределенных по разделам в зависимости от характера заболевания. Подробные, тщательные описания сопровождаются статьями-обобщениями, хроника перемежается размышлениями, заметками, выводами. В двух предисловиях Пирогов просит прощения у Горация. Римский поэт Квинт Гораций Флакк советовал: «…Лет на девять спрячь ты, что написал: пока не издашь — переделывать ловко, а всенародно заявленных слов ничем не воротишь». Пирогов объясняет, почему не может следовать совету мудрого римлянина. Молодой профессор не в силах ждать, он обязан скорее обнародовать свои ошибки, чтобы предостеречь от таких же ошибок других людей, менее сведущих. Промахи не постыдны — они неизбежны. Не тот должен стыдиться, кто ошибается, а тот, кто не признает ошибок, ловчит, затемняет истину. Заветная мечта Пирогова — правдиво и открыто признаться в своих заблуждениях, вскрыть сам «механизм» их появления. Если ему «еще недостает многого, бесконечно многого для того, чтобы стать идеальным преподавателем такой науки, как практическая хирургия», то он хочет хотя бы тем принести пользу ученикам и другим врачам, что на своем опыте научит их, как не нужно поступать. «Картины Рафаэля не годятся начинающему для подражания; он должен сперва пережить повседневное, обыденное с его плохими и хорошими сторонами; он должен ошибаться и еще раз ошибаться, прежде чем достигнет полезного результата, прежде чем сможет подражать прекрасным творениямзнаменитых мастеров искусства и поступать в т о ч н о м соответствии с их принципами. Поэтому для начинающего практического врача действия другого такого же начинающего врача, если только они точно и добросовестно описаны, должны быть гораздо более полезны и поучительны, так как в его собственных действиях они находят родственный отзвук». Нельзя ждать девять лет! В науке процветают эгоизм и тщеславие. Дух меркантилизма все более пронизывает науку. «Знаменитые учителя» изворотливой защитой проступков навлекают новые врачебные ошибки на головы доверчивых больных. Исчезает взаимное доверие среди врачей. Надо ломать! Надо принести в медицину честность, без этого наука не двинется вперед. Право судить других приобретает тот, кто всего безжалостнее судит себя. Пирогов объявляет: в книге «нет места ни для лжи, ни для самовосхваления». Это не поза, не риторика. Жизненная программа, намеченная в предисловиях, реализуется широко и смело в тексте «Анналов». «Анналы» безжалостны. «В случае 20 я совершил крупную ошибку в диагнозе». «Чистосердечно признаюсь, что в этом случае я, может быть, слишком поторопился с операцией». «В нашем лечении была совершена только одна ошибка, в которой я хочу чистосердечно признаться». «При этом я не заметил, что… глубокая артерия бедра… не была перевязана». «Больного, описанного в случае 16, я таким образом буквально погубил… Я должен был быть менее тщеславным, и если я уже однажды совершил ошибку, решившись на операцию, то мог хотя бы спасти больному жизнь ценою жертвы конечности». Так пишет о себе молодой профессор, который должен думать об авторитете, популярный хирург, подошедший к открытым воротам славы. Он не хочет авторитета, выросшего на лжи, не хочет славы, обильно политой самовосхвалениями. Хочет правды и честности. Пишет книгу, не уступающую в силе и искренности «Исповеди» Руссо. Николай Бурденко назвал пироговские «Анналы» «образцом чуткой совести и правдивой души». Иван Павлов назвал их «подвигом». Эпиграфом к «Анналам» Пирогов поставил слова любимого своего Жан-Жака: «Пусть труба страшного суда зазвучит, когда ей угодно, — я предстану перед высшим судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу: вот что я делал, что думал, чем был!» Эпиграф не для украшения первой страницы, не как одежка, по которой должны встретить книгу. Эпиграф — руководство к действию. Да, Пирогов говорил громко, говорил всю правду. Да, так он делал, так думал, таким был. «Анналы» — замечательный человеческий документ, золотой ключик к душе и характеру Пирогова. Но не только. «Анналы» — еще исторический документ. Полотно, запечатлевшее уровень медицины тридцатых годов; вдобавок полотно, написанное кистью великого мастера Николая Пирогова. «Анналы» — рассказ о том, как распознавали болезни, как лечили, как заблуждались и как провидели медики пироговского времени. Специалисты рассматривают огромную картину в мельчайших деталях. Не врачи могут ограничиться общим видом или выбрать несколько крупных фрагментов пироговского полотна. Ампутация бедра: «…Были сделаны два боковых разреза, чтобы можно было отвернуть кожу. У границы отвернутой кожи мышцы перерезаны двумя сильными сечениями и кость перепилена. Длительность операции — 1 минута 30 секунд. Было наложено шесть лигатур, одна кожная артерия перекручена… Во время операции и наложения повязки больной то и дело впадал в глубокий обморок, который преодолевался холодным опрыскиванием лица и груди, втиранием под носом аммиачной нюхательной соли и небольшими дозами винного напитка… Больной просил соленого огурца и получил ломтик». Вправление вывиха плеча: «Больному сделали сильное кровопускание, и он был посажен в теплую ванну на несколько часов. Затем он получал время от времени водку, пока не выпил в совокупности полторы четверти[3], после чего он оказался совершенно пьяным и расслабленным. В таком состоянии больного было предпринято вправление. Противовытяжение было осуществлено с помощью нескольких полотенец, наложенных на плечо и туловище и натянутых». Предыстории, сообщающие о лечении больных до поступления в пироговскую клинику, показывают, на какую врачебную помощь мог в то время рассчитывать человек. Вот что произошло с лесником, сломавшим себе ногу. Сначала «его лечение взял на себя один крестьянин… и посоветовал больному сделать горячую ванну, в которой он мог высидеть только 10 минут из-за невыносимой боли. …Больной натирал ногу сначала маслом, а затем уксусом и водой, чтобы, как он указывает, прогнать жар. …По совету одного старого крестьянина вся голень была засыпана сухим горячим семенем травы, однако больной через полчаса должен был отказаться от этого лечения вследствие появления резкой боли». Через восемь дней, в течение которых «больной постоянно закапывал ногу в холодный песок», появился врач. Вытянуть ногу ему не удалось. Тогда «он окутал место перелома и всю остальную голень несколькими шинами и круговыми бинтами» и «распорядился обливать голень три раза в день холодной водой». Врач заглянул под повязку лишь еще через восемь дней. На месте перелома уже завелись черви, стопа почернела, стала холодной, потеряла чувствительность. Нога была снова перевязана обыкновенным бинтом, внутрь врач прописал микстуру из хины. После этого врач вообще исчез, и больной две недели был без присмотра. Его привезли в клинику. Быстрой ампутацией Пирогов спас леснику жизнь. «Анналы» — документ о практической деятельности Пирогова-хирурга. В книге разобрана почти треть историй болезни всех его стационарных больных. В хирургической клинике Дерптского университета было всего двадцать две койки. Остается поражаться, что при столь небольшой пропускной способности Пирогов сумел собрать такое количество фактов, развернуть исследования такой глубины и тщательности. Оперировал он много, очень много. В течение последних двух лет перед его избранием на кафедру в клинике были сделаны девяносто две крупные операции. За первые два года его деятельности крупных операций было сделано триста двадцать шесть. Пирогов перевязывал артерии, в том числе сонную, подвздошную, бедренную, ампутировал конечности, удалял руку вместе с лопаткой, вылущивал опухоли, делал глазные операции, занимался пластической хирургией. Он оперировал не только в Дерпте. Брал двух-трех помощников, отправлялся в поездку по губернии. Из-за обилия пролитой крови поездки эти называли в шутку «Чингисхановыми нашествиями». Больные к Пирогову шли во множестве. Сотни людей жаждали пролить кровь под ножом этого «Чингисхана». В небольших городах он останавливался на неделю — успевал сделать полсотни и больше операций. Добирался до Риги и Ревеля. В Риге жил четыре недели во время вакаций. В Рижском военном госпитале было полторы тысячи коек! Он являлся туда к семи утра: совершал обход, делал операции, потом спускался в покойницкую — вскрывать трупы. Из госпиталя ехал в городскую больницу. Оттуда — в богадельню. А дома его ждали больные — амбулаторный прием. Это был отдых по-пироговски. В Ревеле он познакомился с князем Петром Андреевичем Вяземским, старым другом Пушкина. И с графом Федором Ивановичем Толстым — «американцем». Это о нем писал Грибоедов: «…ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист». А Федор Толстой, право же, заслуживает лучшей памяти — человек многих хороших качеств, умница, смельчак, герой Отечественной войны, добрый товарищ Пушкина и Гоголя, Баратынского и Дениса Давыдова. Пирогов познакомился и с графиней Евдокией Петровной Ростопчиной, поэтессой. Его поразила странная привычка графини постоянно жевать длинные полоски тонкой почтовой бумаги. Настолько поразила, что он не преминул упомянуть об этом через сорок лет в своих записках. Еще графиня читала стихи: смелые, призывные — о декабристах, с надеждою на «час блаженный паденья варварства, деспотства и царей», и грустные — о неудавшейся любви: «Все кончено навеки между нами! И врозь сердца, и врозь шаги!» О стихах Ростопчиной Пирогов не вспоминал. Пирогову некогда было рассиживаться на ревельских морских купаниях, его тянуло на Домскую гору, на дерптский зеленый Домберг, где стояла его хирургическая клиника.
«Анналы» не только описания, наблюдения, выводы. В книге раскрываются тайны оперативной техники, в ней не только ум, но и руки Пирогова-хирурга — смельчака, новатора. Читатель следит за этими умными руками во время трепанации черепа, или извлечения камней из мочевого пузыря, или при удалении большой опухоли на верхней челюсти, или в момент оригинальной ампутации бедра, так называемой «конусо-круговой ампутации по Пирогову».
«Анналы» — научный документ. И не только по глубине рассуждений или тонкости анализа. Золотой россыпью по страницам — пироговские прозрения. Бесстрашные шаги из устаревшего в новое. Убежденный отказ от шаблона мысли, шаблона взгляда, шаблона действия, от «непостижимого стремления человеческого ума заключить природу в ограниченные рамки искусственной, надуманной классификации». Здесь ум и руки, догадка и поиск всегда рядом. Всякое предположение проверяется опытом. Экспериментальный метод в хирургии расцветает и господствует. По свидетельству одного из учеников, впоследствии ассистента Пирогова, в Дерпте уже недоставало собак, кошек и кроликов; приходилось за животными ездить по деревням. Были и другие догадки — эти на собаках и кроликах не проверишь; не тех дней догадки — разговор с грядущим. Пирогов иной раз и сам не сознавал, как далеко залетала его мысль. В воспоминаниях он откровенно смеется над собою, рассказывает случай, когда «самомнение поставило» его «в чистые дураки». «Прибыв в Дерпт с полным незнанием хирургии, — пишет Пирогов, — я на первых же порах, нигде ничего не читав о резекциях суставов, вдруг предлагаю у одного больного в клинике вырезать сустав и вставить потом искусственный… Мойер покачал головою и начал трунить надо мною… А нелепицу эту я сам изобрел. Я должен был прикусить язык и смеяться над собственною же нелепостью». Профессор Оппель, большой наш хирург, цитирует этот рассказ Пирогова и заключает восторженно: «Ну разве не гений?! Правда, это не пересадка суставов, достояние XX столетия, по нечто своеобразное и в конце концов все-таки осуществимое. Гениальный ум и гениальная научная фантазия вели Пирогова так далеко, что его современники, и опытные, пожимали плечами над мыслями мальчишки, заставляли и его смеяться над собой, сконфуженного, а в то же время заставляли его отмечать, его уважать, ему удивляться». «Мысли мальчишки», поставленного «в чистые дураки», были неосознанным великим предвидением. Ныне замещение суставных концов костей, пересадка консервированного на холоде чужеродного коленного сустава и даже целого тазобедренного сустава — уже реальность. Решение проблемы пересадки суставов более не вызывает сомнений. А ниточка ведет в полуторастолетнюю почти давность, к юноше, который подчас сам смеялся над своими встречами с будущим.
Собрание историй болезни — «Анналы хирургического отделения» — не только медицинская — художественная литература. В пироговских трудах сбылись предсказании пансионского учителя Войцеховича. Будь то страстная публицистика дерптской «исповеди», пейзаж в отчете о кавказском путешествии, обстоятельная проза «Военно-врачебного дела», живая сценка пли непринужденный диалог из «Дневника старого врача» — каждая строка кричит о литературной одаренности профессора хирургии. Но дело не только и не столько в том, что Пирогов по таланту — художник слова. Захватывающая увлекательность его творений — от широты и глубины познаний, от прозрачно ясной логики рассуждеппй, от брызжущего изобилием богатства мыслей. Их высокая художественность — от того, что Пирогов — поэт, свою науку он воспринимает и чувствует, как искусство. Он приносит в науку точность и красоту видения художника. И научные описания становятся самобытными, своеобразными, научная достоверность не оборачивается сухостью, научные определения превращаются в художественные образы. Пирогов пишет: «Кровь протекает под пальцем с жужжанием…» «Упорство свищей…» «Шум кузнечных мехов в области сердца…» «Необходимо держать нож, как скрипичный смычок, одними только пальцами…» Оп сообщает о больном, доставленном для ампутации: «Один только вид его толстой, отечной, опухшей ноги у всякого отбил бы охоту притронуться к ней ножом…» Он учит производить ампутацию, не вынимая ножа из раны: «Подобно каллиграфу, который разрисовывает на бумаге сложные фигуры одним и тем же росчерком пера, умелый оператор может придать разрезу самую различную форму, величину и глубину одним и тем же взмахом ножа при гармоничных движениях действующей руки…» Он докладывает об основах пластической хирургии: «Как скоро вы привели этот лоскут в плотное соприкосновение с окровавленными краями кожи, жизнь его изменяется; он, подобно растению, пересаженному на чужую почву, вместе с новыми питательными соками получает и новые свойства. Он, как чужеядное растение, начинает жить на счет другого, на котором прозябает; он, как новопривитая ветка, требует, чтобы его холили и тщательно сберегали, пока он не породнится с тем местом, которое хирург назначает ему па всегдашнее пребывание…» Так писали ученые-романтики, ученые-поэты. Илья Мечников. Дмитрий Менделеев. Климентий Тимирязев. Александр Ферсман. Владимир Обручев. Так писал Николай Пирогов. Он прямо провозглашал: любить искусство врача как и с к у с с т в о.
О жизни своей в Дерпте Пирогов сообщает: «Вот я, наконец, профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого. Это значило, что я один должен был: 1) держать клинику и поликлинику, по малой мере 21/2 — 3 часа в день; 2) читать полный курс теоретической хирургии — 1 час в день; 3) оперативную хирургию и упражнения на трупах — 1 час в день; 4) офтальмологию и глазную клинику — 1 час в день; итого — 6 часов в день. Но шести часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо более времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовления к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе». По субботам у него собирались студенты. Человек десять-пятнадцать — вернейшие ученики. Это не были комерши —с горящей жженкой, ромовой «дубиной», пьяными песнями и буршескими клятвами. Это было умное и веселое общество за чайным столом, общество, где по-своему блистал Пирогов. Здесь увлеченно говорили о вивисекциях и вскрытиях, не менее увлеченно слушали рассказы об операциях знаменитых хирургов, выискивали нелепости в их приемах и объяснениях — и хохотали, как над лучшим анекдотом. Беседы срывались с научной стези, плутали по бесчисленным путаным тропкам разнообразнейших тем, профессор дважды и трижды за вечер ставил самоварчик, спорил, рассказывал, смеялся со всеми, — он был едва ли старше самых старших из учеников. А с понедельника Пирогов снова становился требовательным и дотошным «герр профессором», у которого для каждого студента была припасена добрая сотня вопросов и еще один, бесконечно повторявшийся вопрос: «Почему?» Пирогов исправлял ошибки своих университетских учителей. Теорию и практику соединял в прочный, неразделимый сплав. Кафедра у постели больного была для него ничуть не ниже, чем кафедра в аудитории. Он хотел, чтобы теоретические положения сплавлялись в памяти ученика со сведениями, которые приносили зрение, осязание, обоняние, слух. Но ведь для этого требовалось, чтобы и органы чувств не ошибались в оценках! Студент осматривал, выслушивал, ощупывал больного — предполагал, подозревал, искал, — а профессор вел его вперед и вглубь своими вопросами, точными, словно промытыми — ни куска породы. Это были вопросы-ланцеты, медленно, по слоям, или единым движением обнажающие истину; вопросы-пилы, отсекающие ненужное; вопросы-иглы, крепким швом соединяющие разрозненное в целое. Пирогов спрашивал и чуть ли не каждое слово ответа вновь рассекал стремительным «Почему?». «Почему? Почему?» Невозможно знать все, но к этому по крайней мере надо стремиться, коли занимаешься у Пирогова. Не замедлять шага, не останавливаться! «Почему? Почему?» Вперед! Один час теоретической хирургии, один час оперативной и упражнений на трупах, три часа клиники, — студенты разбредались по частным домам и кондитерским, захватывали укромнейшие уголки парка и гасили в бездонных глотках «пунша пламень голубой». Профессора же ожидали восемь часов, отведенных на приготовления к лекциям, эксперименты, исследования, и еще восемь часов отдыха, то есть чтения, раздумий, смелых догадок, — шестнадцать часов, в течение которых Пирогов обрушивал все свои сто тысяч «Почему?» на собственную голову. Две страсти жили в нем — ученика и учителя. Это большое умение — всегда учиться, и не меньшее умение — отдавать другим то, что приобрел: не просто передавать из рук в руки, а отдавать с процентами, уже обогащенное своими раздумьями, выводами, опытом.
В 1837 году появилось на свет одно из самых значительных сочинений Пирогова — «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Результат восьмилетних трудов, сочинение классическое по широте и завершенности. И вместе с тем начало, аванс, задел будущих великих трудов. Сам заголовок говорит о многом — «Хирургическая анатомия…». Наука, которую восемь лет ваял Пирогов — создавал всей своей практикой, открывал и проверял у стола в анатомическом театре, пропагандировал с кафедры, — теперь утверждалась в четких теоретических положениях, подкрепленных конкретным руководством к действию. Может быть разный подход к сведениям о строении человеческого тела. «…Хирург, — пишет Пирогов, — должен заниматься анатомией, но не так, как анатом… Кафедра хирургической анатомии должна принадлежать профессору не анатомии, а хирургии… Только в руках практического врача прикладная анатомия может быть поучительна для слушателей. Пусть анатом до мельчайших подробностей изучит человеческий труп, и все-таки он никогда не будет в состоянии обратить внимание учащихся на те пункты анатомии, которые для хирурга в высшей степени важны, а для него могут не иметь ровно никакого значения». В этой подчиненности всего материала хирургии суть пироговского сочинения. Причина неудач большинства «анатомо-хирургических трактатов», составленных предшественниками Пирогова, — в недооценке прикладного значения анатомии, в уходе от «частной цели» — служить руководством для хирурга. Между тем именно этой «частной цели», только ей, должно быть все подчинено. Пирогов рассматривает труды видных французских ученых Вельпо и Бландена, рассматривает по-новому знаменитый атлас Буяльского. Спрашивает: «Может ли молодой хирург руководствоваться при своих оперативных упражнениях на трупе, не говоря уже об операциях на живых, рисунками артериальных стволов в лучших трудах по хирургической анатомии, каковы труды Вельпо и Бландена?» Отвечает решительно: нет! В понятии «хирург-анатом» одна часть должна быть подчинена другой. Необходима цель, единая и точная: либо открыть общее строение той или иной анатомической области, либо наметить пути для производства операций. Нельзя препарировать так, как это принято у анатомов, а итог отдавать хирургу. «Обыкновенный способ препарирования, принятый анатомами… не годится для наших прикладных целей: удаляется много соединительной ткани, удерживающей различные части в их взаимном положении, вследствие чего изменяются их нормальные отношения. Мышцы, вены, нервы удаляются на рисунках друг от друга и от артерии на гораздо большее расстояние, чем это существует в действительности». Пирогов критикует атлас Буяльского (теперь бы он не согласился оперировать, руководствуясь его «Таблицами»): «…Вы видите, например, что на одном из рисунков, изображающем перевязку подключичной артерии, автор удалил ключицу: таким образом он лишил эту область главнейшей, естественной границы и совершенно запутал представление хирурга об относительном положении артерий и нервов к ключице, служащей главною путеводною нитью при операции, и о расстоянии расположенных здесь частей друг от друга». Блистательные для своего времени попытки Вельпо и Буяльского тускнели перед новым словом Пирогова. Пирогов масштабен — и в мышлении и в творчестве. Его масштабность не в старании объять необъятное, не в желании рассказать «вообще и обо всем». Пирогов всегда начинает с конкретной идеи, но она оказывается применимой к огромному кругу проблем. Он умеет удивительно точно и цепко ухватиться за главное. Одна идея тянет за собою другие, развиваясь по стремительным законам геометрической прогрессии. Процесс развития идеи, движение вперед для Пирогова — одновременно полет стрелы и катящийся вширь взрыв. Это скорее всего обвал: один сорвавшийся камень в своем полете увлекает за собой горы. В своем сочинении целую науку, хирургическую анатомию, Пирогов разрабатывает и утверждает на базе совершенно конкретного и на первый взгляд не очень-то объемного учения о фасциях. Фасциями до Пирогова почти не занимались, а если подойти к делу с серьезными научными мерками, то и вовсе не занимались. Знали, что есть такие оболочки, пластинки, окружающие группы мышц или отдельные мышцы, видели их на трупе, натыкались на них во время операций, разрезали их — и не придавали им значения, относились к ним как к некоей «анатомической неизбежности», не разглядев ничего более, чем видели. Для Пирогова фасции не глухая стена, а дверь в новое помещение. Не острый камешек под ногами, а вершина пирамиды, засыпанной песками. Пирогов взялся за раскопки и обнажил огромный массив, покоящийся на обширном основании. Опорная идея Пирогова совершенно конкретна: изучить ход фасциальных оболочек. С дотошной тщательностью решая эту задачу. Пирогов добирается до мельчайших подробностей и уже здесь находит много нового. До него знали лишь общее расположение фасций, он подробнейше описывает каждую из них, со всеми перегородками, отростками, расщеплениями, точками соединений. Кажется, довольно? Но Пирогову мало. Он препарирует свои наблюдения, и сопоставляет, и сталкивает лбами — и все ради того, чтобы найти еще более важное новое. Досконально изучив частное — ход каждой фасции, — он идет к общему: выводит определенные закономерности взаимоотношений фасциальных оболочек с кровеносными сосудами и окружающими тканями. То есть открывает новые анатомические законы. Достаточно? Но Пирогову мало. Все это нужно ему не само по себе (хотя и само по себе это тоже нужно и важно), а чтобы найти рациональные методы производства операций, «найти правильный путь для перевязки той или иной артерии», как он сам говорит. Отыскать сосуд подчас нелегко. Человеческое тело сложно — гораздо сложнее, чем представляется неспециалисту, узнавшему о нем из плакатов-схем школьного курса анатомии. Чтобы не заблудиться, нужно знать ориентиры. Пирогов опять ругает (не устает!) «ученых, которые не хотят убедиться в пользе хирургической анатомии», «знаменитых профессоров» в «просвещенной Германии», «которые с кафедры говорят о бесполезности анатомических знаний для хирурга», профессоров, чей «способ отыскивания того или другого артериального ствола сводится исключительно на осязание: «следует ощупать биение артерии и перевязывать все то, откуда брызжет кровь» — вот их учение!!» Если голова «не уравновешивает» руку обширными анатомическими познаниями, нож хирурга, даже опытного, плутает, как дитя в лесу. Опытнейший Грефе возился три четверти часа, пока отыскал плечевую артерию. Пирогов объясняет: «Операция оттого сделалась трудною, что Грефе попал не в артериальное влагалище, а в волокнистую сумку». Вот для того-то, чтобы не случалось такого, Пирогов подробнейше изучал фасции, искал их отношения к кровеносным сосудам и близлежащим тканям. Он указывал путешественникам-хирургам подробнейшие ориентиры, расставлял вехи, — по меткому определению профессора хирургии Льва Левшина, выработал «прекрасные правила, как следует идти с ножом с поверхности тела в глубину, чтобы легко и скоро перевязать различные артерии человеческого организма». В каждом разделе своего труда Пирогов, во-первых, очерчивает границы области, в пределах которой производится операция; во-вторых, перечисляет слои, которые, проходит хирург, пробираясь вглубь; в-третьих, дает точнейшие оперативные замечания. Пирогов около семидесяти раз перевязывал большие артериальные стволы и всегда строго придерживался своих правил. «С какой точностью и простотою, как рационально и верно можно найти артерию, руководствуясь положением этих фиброзных пластинок! Каждым сечением скальпеля разрезается известный слой, и вся операция оканчивается в точно определенный промежуток времени». «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» — это текст и свыше полусотни таблиц. К иллюстрациям Пирогов всегда относился особенно придирчиво. Ему нужно было сочетание наглядности и достоверности. Он ни на йоту не желал жертвовать одним из этих качеств ради другого. Иллюстрации, так же как текст, быть может, еще больше, чем текст, должны были служить «частной цели». Пирогов писал, что «хороший анатомо-хирургический рисунок должен служить для хирурга тем, чем карта-путеводитель служит путешествующему: она должна представлять топографию местности несколько иначе, чем обыкновенная географическая карта, которую можно сравнить с чисто анатомическим рисунком». Путнику, на своих двоих пересекающему неведомое пространство, мало общих данных о рельефе местности, течении рек, расположении городов и селений. Ему подавай сведения поточнее, чтобы знать каждый лесок, и овраг, и болотце. И того более — тропу в лесу, кустарник на краю болота, самый малый мосток через речку. Путник хочет идти безошибочно. Каждую операцию, о которой говорится в книге, Пирогов проиллюстрировал двумя или тремя рисунками. Никаких скидок, величайшая тонкость и точность рисунков, отражающие тонкость и точность пироговских препаратов, — пропорции не нарушены, сохранена и воспроизведена всякая веточка, всякий узелок, перемычка. По такой карте хирург пойдет безошибочно.
Альфред Арман Луи Мари Вельпо, известный парижский профессор, с восхищением разглядывал рисунки «Хирургической анатомии артериальных стволов и фасций», когда ему доложили о визитере. — Je suis un médecin russe, — пробормотал появившийся в дверях молодой человек. — Я русский медик. «Médecin russe» явился очень кстати — Вельпо радушно заулыбался. Не знаком ли «médecin russe» с дерптским профессором мосье Пироговым? Как? О, это приятный сюрприз! Что до него, то он, Вельпо, целиком поддерживает научное направление профессора Пирогова, его исследования, его рисунки… Пирогов опоздал. Пять лет назад Франция принесла бы ему больше, чем Германия. Теперь ему могло только приятно льстить одобрение Вельпо. Пироговское направление уже не нуждалось в напутственных речах. Оно уже существовало само по себе, набиралось сил, шагало вперед. Пирогов ехал во Францию учиться. Повсюду твердили о «блестящих открытиях» французских врачей, благодаря которым «культивируются и совершенствуются» отдельные ветви практической хирургии. Пирогов еще искал учителей, сам в полной мере не чувствовал, какую набрал высоту. Во Франции Пирогов не нашел открытий: «Мне было в высшей степени приятно видеть, что ни одно из новейших достижений французской хирургии не осталось мне чуждым и все они время от времени встречались хотя бы в практической работе». Пирогову нравился Вельпо — блестящий хирург, отличный анатом, опытный акушер, знающий эмбриолог. После смерти Дюпюитрена Вельпо возглавил французскую хирургию. «Настоящими представителями современной хирургии» Пирогов считал также учеников Дюпюитрена — Бландена, известного своими исследованиями по анатомии полости рта, и Жобера с его трудами о лечении огнестрельных ран. Пирогова интересовали работы Амюсса, Эртлу, Леруа, Сивиаля. Тогда входила в моду изобретенная ими литотрипсия — камнедробление: вместо опасной операции они предложили размельчать камни прямо в пузыре с помощью специального инструмента. У каждого из них можно было что-то взять, чему-то поучиться. Но эти «что-то» были частности. Неплохо узнать о них сегодня, но можно и завтра. В практическом арсенале Пирогова тоже были свои частности, о которых не знали во Франции. Не они в конце концов решают дело. В главном же, из-за чего не в Париж — на край света стоило поехать, в закладке основ научной хирургии, французские ученые врачи разрабатывали карьер, уже покинутый Пироговым. Он посещал лекции замечательного хирурга Лисфранка, специалиста по ампутации конечностей, лечению аневризм и перевязке артерий. Крикливый Лисфранк хвастал, превозносил себя. Пирогов писал из Парижа, что «твердо взял себе за правило больше видеть, чем слышать. То, что здесь слышишь, к сожалению, часто противоречит тому, что видишь. Поэтому я стараюсь больше наблюдать госпитальную практику здешних хирургов, чем посещать их лекции». Можно было без устали следить за умелыми, сноровистыми руками Лисфранка, трудно было выдерживать его зычные гимны себе. Пирогов знал: несколько лет назад Лисфранк опубликовал доклад, в котором утверждал, что из девяноста операций, сделанных им по поводу рака, восемьдесят четыре привели к полному излечению больных. Один из учеников Лисфранка доказал, что данные фальшивы. Лисфранк не опровергал разоблачений, петлял, замазывал промахи. С тем большим пылом охаивал во все горло своих ученых коллег. Дюпюитрена именовал «береговым разбойником», Вельпо — «подлой шкурой», всех профессоров хирургии вместе — «попугаями от медицины». Они разоблачали друг друга, конкурировали, дрались за приоритет. Четыре создателя литотрипсии спорили до изнеможения, кто первый сказал «э». Приоритет считался в медицинском мире чуть ли не более существенным, чем само открытие. Амюсса пригласил Пирогова на свои домашние хирургические беседы. Беседы были привлекательны, но фразисты, подчас пустопорожни. За доказательство в споре сходили словесный курбет, остроумный выпад — знаменитое французское bon mot. Пирогов не умел решать проблемы на пальцах. Вступив в жаркую полемику с Амюсса, он предъявил как доказательство изготовленные им препараты. Точные, по-пироговски тщательно выполненные препараты изумили Амюсса. Но ошибки он все же не признал. Остальные участники беседы поддержали Пирогова: анатомические разрезы оказались убедительнее словесных кружев. Амюсса повез Пирогова к Ларрею. Доменик Жан Ларрей был медицинской достопримечательностью Франции. Он провел с Наполеоном все его кампании. Они встретились в Тулоне, откуда капитан Бонапарт начал путь к славе, расстались при Ватерлоо. Между Тулоном и Ватерлоо уместились Испания, Египет, Россия, знаменитые «сто дней». После Ватерлоо Наполеона ждал остров Святой Елены, Ларрея — плен, смертный приговор, помилование. Пирогов с любопытством разглядывал одного из тех, кого знал по излюбленным в детстве карикатурам. Ларрей показывал крест, полученный за Аустерлиц, рассказывал, что в ночь после Бородинской битвы сам сделал двести ампутаций. Старику шел восьмой десяток. Он вспоминал баталии, которых видывал сотни; жалел раненых, беспомощных, как дети; горячась, доказывал, что хирургия должна жить не в далеких госпиталях, а рядом с полем боя; увлеченно говорил о транспортировке раненых и передвижных лазаретах — амбулансах. Ларрей сделал для военной медицины больше, чем кто-нибудь другой. Придет время, Пирогов заложит паучные основы военно-полевой хирургии. Встреча Ларрея с Пироговым — передача эстафеты. Пирогов записался на privatissima — частные курсы, которые вели профессора и видные врачи. «Все privatissima, взятые мною у парижских специалистов, не стоили выеденного яйца, и я понапрасну только потерял мои луидоры». Ни препаратов, ни трупов, ни доскональных разборов у постели больного — сплошное говоренье. Один из профессоров читал ему курс дома, перед пылающим камином. Пирогов не умел изучать медицинскую науку в кресельно-ковровом уюте, озаренном отблесками раскаленного угля. «Я не докончил слушания ни одного privatissimum и не имел терпения выдержать более половины назначенного числа лекций». И он стал делать в Париже то, что делал в Дерпте и Берлине, Петербурге и Риге, — ездил по госпиталям и анатомическим театрам, проводил дни на бойне, где разрешали вивисекции над больными животными. Поездка в Париж была для Пирогова лишь подтверждением правильности избранного пути. А коли так, он не желал оттачивать красноречие в острых беседах и, кейфуя у камина, чертить пальцем в воздухе анатомические схемы. Ему было некогда. Он спешил.
Он спешил. В 1840 году ему исполнилось тридцать. Пирогов в этом возрасте уже пять лет занимал профессорскую кафедру. Шестнадцать часов в день он работал. Приходил домой поздно вечером. Верная экономка, пожилая латышка Лена, педантично создавала в его комнатах видимость домашнего уюта. Порой, отложив книги, он часами мечтал о подруге. Он вспоминал девушек, которых встречал когда-то в доме Мойера. Вспыльчивую Лаврову с диковатыми черными глазами. Смешливую Воейкову — Николай играл для нее Митрофанушку в «Недоросле»; жертвуя книгами, экспериментами, вскрытиями, выкраивал вечер, спешил на любительский спектакль, кричал во все горло: «Не хочу учиться!» — Воейкова хохотала. Катеньку Моейр. В восемнадцать лет она расцвела прекрасно. Большеглазая неженка, гордая недотрога — белый горный цветок. Родные звали ее «белоснежной». Мойеры уже не жили в Дерпте. Приглашенный для производства операции в Тульскую губернию, профессор Пирогов проследовал оттуда в Орловскую — навестить Мойеров в их имении. На обратном пути в Москве он зашел к Авдотье Петровне Елагиной и вручил ей письмо для ее тетки Екатерины Афанасьевны Протасовой, в котором предлагал Катеньке руку и сердце. Письмо было пылким и длинным. Пирогов описывал свои чувства с такой же скрупулезностью, как анатомические препараты. Пирогов писал, что «фразы и чувства — две противные стихии». Однако письмо фразисто. Искренность оборачивается сентиментальностью, поэзия — витиеватостью. Нет оснований сомневаться в пироговской честности, но похоже, что его пылкость больше от нахлынувшей влюбленности и желания скорее жениться, чем от большого чувства. Подлинные искренность и поэзия трудно вяжутся с предложением, которое, не спросясь у самого «предмета», делают отцу и бабке. Елагина странно улыбнулась и обещала письмо тотчас переслать. Пирогов ждал ответа, почти не сомневался в успехе. Ему всю жизнь не удавалось отблагодарить тех, кто делал ему добро. Он считал себя должником дядюшки Назарьева, который спас их семью от бездомной нищеты; Ефрема Осиповича Мухина, который столько раз поворачивал его судьбу к лучшему. Он искренне верил, что, женясь на Катеньке, отблагодарит Мойера. Что это? Столь не свойственное Пирогову самодовольство? Скорее роковое заблуждение: ведь Пирогов искренне считал, что он «свой» в доме Мойеров. Но «свой» «своему» рознь. Муж «белоснежки» Катеньки? В такие «свои» Пирогова брать не спешили. Доброжелательное семейство было, видимо, удивлено, парализовано предложением Пирогова. Мойеру вовсе не нужна была такая благодарность. Тем не менее он обдумывал свой отказ шесть дней. В чем-то очень важном Пирогов был для него все-таки свой — ученик, наследник, будущее. Катенька решительнее — для нее Пирогов совсем чужой. Она сообщала потом, что «провела шесть ужасных дней», что Пирогов «всегда был ей безразличен». Смешно требовать от Катеньки, чтобы она обязательно питала чувства к Пирогову, Но совсем не смешно узнать причину ее безразличия. Она говорила подруге: «Жене Пирогова надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею». Жуковский слал Мойерам панические письма: «Да, что это еще вы пишете мне о Пирогове? Шутка или нет? Надеюсь, что шутка. Неужели в самом деле возьметесь вы предлагать его? Он, может быть, и прекрасный человек и искусный оператор, но как жених он противен». Здесь многое объяснено: быть прекрасным человеком и искусным работником для жениха мало. Сын Авдотьи Петровны помещик Елагин был человек образованный, окончил филологический факультет, увлекался философией, средневековой историей. Пирогову отказали: Катенька Мойер давно обещана молодому Елагину. Катенька действительно вышла за Елагина, — но только через шесть лет. Благосклонно принимала ухаживания других. Похоже, она еще раздумывала, выходить ли ей за Елагина. Пирогову Катенька отказала сразу и без раздумий. Пирогов был подавлен и взбешен одновременно. Вспышка самолюбия в данном случае неоригинальна и понятна. Особенно после наивной уверенности Пирогова, будто он, женясь, делает благое человеческое дело — благодарит. Но есть основания думать, что в письме Мойера Пирогов прочитал, почувствовал, осознал нечто большее, чем простой отказ. Недаром же, отвечая, он уже пишет не как «свой», а словно противопоставляет себя кругу Мойеров. Обнаружив в письме Мойера фразу о «зяте-опоре», Пирогов вцепился в нее, увидел в ней все зло, расценил как меркантилизм, делячество Мойера, ищущего не души и сердца, а богатых поместий, — благодарность вылилась в оскорбления, сватовство закончилось разрывом. Мойер не заслужил упреков, брошенных ему в лицо Пироговым. Благородство Мойера Пирогов знал не на словах — на деле. «Меркантилизм» Мойера, выведенный из ничего не значащей фразы, изобретенный Пироговым, нужен ему как повод, как первая попавшаяся зацепка, чтобы высказать свое прозрение. И потому, наверное, ответ на отказ в отличие от предложения по-настоящему искренен. Сражаясь с выдуманным Мойеровым меркантилизмом, Пирогов вопреки ему выдвигает свои жизненные идеалы, горячо защищает их. Разве люди, спорит Пирогов, доставляют друг другу опору только через материальные выгоды? Нет! Он не требует ни деревень, ни денег, ему ничего не нужно, кроме чистого сердца и прекрасной души. Одна наука приносила ему до сих пор и душевную отраду и насущный хлеб. Ему нужна подруга, которая поймет его направление. Понявши, она не сможет не полюбить его, ибо основа его чувств высока и благородна. Мойеры отказали Пирогову не потому, что не поверили в глубину его чувства. В общем-то он сделал предложение по всем правилам того времени. Но отказ оказался для Пирогова необыкновенным везением. Через год он уже признавался, что в предложении было сватовства, желания отблагодарить больше, чем любви. Это поначалу казалось, что не пережить позора, крушения надежд. Оттого, что брак не состоялся, все выиграли: и Мойеры и сам Пирогов. Будущее показало: быть пироговскою женою — дело трудное. Без любви к Пирогову и к его «направлению» с этим делом не сладишь. Где уж тут эдельвейсу Катеньке, в сердце у которой к Пирогову безразличие, а к его «направлению» — неприязнь!.. В сентябре 1838 года студент Медико-хирургической академии Ян Сочинский ворвался с раскрытым перочинным ножом в зал заседаний академической конференции. Ян Сочинский был поляк, участник восстания 1831 года. Польское происхождение в то время «не способствовало много к украшению», тем более что Сочинский вел свою родословную не от Чарторыжских или Потоцких, а от помещичьих крестьян. Он попал на фельдшерское отделение академии из солдат уланского полка. Сочинский жаждал учиться, ему то и дело подставляли ножку. Профессор Нечаев провалил его на экзамене, издевался: «Вы мне не нравитесь, не дам вам кончить курс…» Сочинский принял яд, ворвался в зал конференции, бросился к Нечаеву. Другой профессор, Калинский, схватил студента за руку, нож скользнул по профессорову животу. Прибежали служители, стали вязать Сочинского; он ранил двоих, потерял сознание. Профессор Буяльский вскрыл ему вену, вернул к жизни. Потом его убили по всем правилам. Николай I дал Нечаеву за «подвиги» орден, Сочинского приказал трижды прогнать сквозь строй в пятьсот шпицрутенов. «Бунтовщика» приканчивали на глазах у всей академии — студенты были поставлены во фрунт. Когда он уже не мог идти, его возили под палками на телеге. Воспоминания, оставленные студентами, будущими врачами, страшны своей медицинской достоверностью: «У несчастного Сочинского, умершего под ударами, оказались пробиты междуреберные мышцы до самой грудной плевры, которая была видна и в некоторых местах разрушена до самого легкого». Трагическая история Сочинского вдруг повернула судьбу Пирогова. Академию в целях поддержания в ней должной дисциплины передали в военное ведомство и поставили под команду генерала Клейнмихеля, начальника штаба военных поселений, выученика и сподвижника Аракчеева. Новый начальник пожелал иметь новых преподавателей. Он «позвал варягов» — на вакантные места пригласил профессоров со стороны. Случайно генерал принес академии пользу — на одну из кафедр хирургии был приглашен Пирогов. Кандидатуру Пирогова предложил профессор терапии Карл Карлович Зейдлиц, воспитанник Дерптского университета, приятель Жуковского и Мойера. Пирогов не перебрался бы в Петербург лишь ради того, чтобы жить в столице. Ему надо было жить в науке. Он не видел развития науки вне клиники, он не мог удовлетворяться абстрактными истинами теории. Он говорил, что всякий больной для врача — одновременно повторение пройденного и нечто совершенно новое. Общие сведения, на основании которых распознается болезнь и назначается лечение, дополняются и углубляются каждым индивидуальным случаем: «Медицина все более совершенствуется у постели больного». Поэтому ему не нужна была кафедра без клиники. Даже в Петербурге. При кафедре, которую ему предлагали, клиники не было. И он отказался. Но тут же внес контрпроект: преобразовать находившийся рядом с академией 2-й Военно-сухопутный госпиталь в госпитальную клинику и передать кафедре. Он доказывал, что приближение практики к академии улучшит преподавание, подготовку врачей, а приближение теории к клинике усовершенствует лечение больных. Будущий врач должен видеть и «массу одинаковых болезненных случаев» и «индивидуальные их отклонения»; «…телу наших больницнедостает еще тесных связей с душой — наукой». Проект приняли. Оставалось дело за малым: передать самого профессора Пирогова из ведомства министра Уварова в ведомство генерала Клейнмихеля. Переписка тянулась год. Каждый из вельмож, отстаивая свое право на Пирогова, боролся за удовлетворение собственной прихоти. Паны дрались, у холопа трещал чуб. Пирогова довели до нервных припадков. Как обычно, он лечился работой. В 1840 году вышла его монография «О перерезке ахиллова сухожилия в качестве оперативно-ортопедического лечебного средства». Пирогов провел больше восьмидесяти опытов, подробно изучил анатомическое строение сухожилия и процесс его сращения после перерезки. Операцию эту он применял для лечения косолапости. Миф рассказывает, что на теле героя Ахилла было лишь одно уязвимое место — пята. В эту пяту и направил стрелу из лука бог Аполлон. Боги целили в ахиллесову пяту смертоносным острием оружия. Профессор Пирогов — своим целебным ножом. За пять лет он помог сорока больным. В конце зимы 1841 года Пирогов, наконец, перебрался из Дерпта в Петербург. Победу одержала академия. Обозревая сделанное в Дерптском университете, Пирогов писал впоследствии: «В течение 5 лет моей профессуры в Дерпте я издал: 1) Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций… 2) Два тома клинических «Анналов»… 3) Монографию о перерезании ахиллесова сухожилия… И сверх этого — целый ряд опытов над живыми животными, произведенных мною и под моим руководством, доставил материал для нескольких диссертаций, изданных во время моей профессуры, а именно: 1) О скручивании артерий. 2) О ранах кишок. 3) О пересаживании животных тканей в серозные полости. 4) О вхождении воздуха в венозную систему. 5) Об ушибах и ранах головы». Нынешние исследователи установили, что в этом «отчете» Пирогов преуменьшил свои труды. Диссертаций (причем только с 1836 по 1839 год) защищено было не пять, а тринадцать. В них решались важные проблемы сосудистой, пластической, восстановительной хирургии. Решались на уровне передовой медицинской науки того времени. Тринадцать диссертационных тем в клинике на двадцать две койки — это много. Это значит, что научные проблемы развивались в диссертациях вглубь. И все-таки в Дерпте у Пирогова было только двадцать две койки. В Петербурге его ждали две тысячи — в сто раз больше! Он еще заканчивал дерптские дела, но думал уже о петербургских. В его голове жили уже планы невиданных масштабов. Ему уже было тесно в Дерпте.
VI. ПЕТЕРБУРГ. АКАДЕМИЯ 1841—1854
В шесть часов сторож шел с колокольчиком по коридорам — звонил подъем. В жилых комнатах — «камерах» — начиналась торопливая возня. Студенты наскоро плескали в лицо водою, тут же, возле умывальников, пили натощак из бачков ледяной квас, натягивали мундиры и строились попарно — идти к завтраку. Раньше завтракали в спальнях — служитель клал каждому на тумбочку полфунта пеклеванного. Кто побогаче, припасал еще патоки в зеленом граненом стакане и кусок масла на клочке газеты. Прочие же обходились хлебом да кружкою кипятку. Ели, сидя на койках. При Клейнмихеле завтраки стали лучше — французская булка и чай с молоком, зато приходилось шагать строем в столовую; прежде чем сесть на лавки, «согласно и с достойным благоговением» петь молитву. С переходом в военное ведомство Медико-хирургическая академия стала армией. Николаевской армией, с хорошо продуманной и разработанной палочной системой внизу и с единственным генералом, одним ударом разрешающим научные и административные проблемы, наверху. Клейнмихель не церемонился. Он явился в академию по окровавленной дорожке, протоптанной Сочинским; каратели с поднятыми шпицрутенами устрашающим напоминанием маячили за его спиной. Студентов сажали под арест за малейшую провинность. Распорядок дня до последней минуты, форма одежды до последней пуговицы, расположение имущества в комнатах до последнего гвоздя — все до мелочей предусмотрено было начальством. Во избежание нарушения установленного порядка студентам запрещалось иметь собственные вещи. Белье и одеяла, платье и книги, даже перья и карандаши были казенными, единообразными, занесенными в инвентарные списки. Известные ученые, почтенные академики и профессора, составлявшие славу российской науки, заносили в протоколы своих конференций: «Слушали предписание Господина Директора Департамента Военных Поселений, Генерал-Адъютанта и кавалера графа Клейнмихеля о представлении его сиятельству копий протоколов конференции…» Властители Медико-хирургической академии сменяли один другого — Клейнмихель, Веймарн, Анненков, Игнатьев, — все генерал-адъютанты, все в равной степени далекие и от медицины, и от хирургии, и от того, что определяют обычно словом «академический». Генерал-властители меж министерскими и штабными делами решали судьбы медицинского образования. Профессора (в одно время с Пироговым в академии, не говоря уже о крупнейших ученых-медиках, преподавали и основатель эмбриологии Бэр, и естествоиспытатель-эволюционист Горянинов, и химик Зинин) читали курс и пеклись о процветании отечественной науки. Лучшие из учеников жадно внимали своим наставникам, готовились принять из их рук эстафету. Среди лучших были химик и композитор Бородин, анатом Лесгафт, физиолог Павлов. На яркий свет пламени, зажженного в академии, пришли и Сеченов, и Боткин, и Бехтерев. На этом пламени в бурно кипящих тиглях творчества оседало густое, тяжелое золото открытий. Наука, горение, творчество — и рядом тупой, словно навсегда установленный порядок-распорядок: подъем, молитва, завтрак, занятия, молитва, обед, занятия, молитва, ужин, прогулка «не в дальнем от академии расстоянии», поверка; плац, барабан, гауптвахта, шляпы треугольные, шпаги без темляков; все, что на голом теле, казенное, а посидишь в холодной или попробуешь палки, узнаешь, что и голое тело казенное; исподнее — инвентарь; простыни, подушки, одеяла — инвентарь; сны — разрешались свои, смотри какой хочешь, только не проспи побудку… В шесть часов сторож топал с колокольчиком по коридорам — звонил подъем. Профессор Пирогов приезжал в академию к восьми. Вставал затемно: путь от Литейного проспекта до Выборгской был не близок. Во время ледохода случалось часа по два пробираться на лодке между льдинами — Нева против академии широка.Пирогову не приходилось жаловаться на отсутствие интереса к его лекциям. В аудитории встречало его не менее трехсот человек. Собирались не только медики. Приходили студенты других учебных заведений, инженеры, чиновники, военные, даже дамы. О Пирогове писали газеты и литературные журналы. «Отечественные записки» сравнивали его успех с успехом Анджелики Каталани, замечательной итальянской певицы. Пирогов не блистал цветистостью речи. Слог его был прост и ясен. Дикция предельно четка. Ему было что сказать, он умел большие мысли выразить в немногих словах. Ни одного слова он не тратил впустую. Оттого фразы были весомыми, плотно ложились одна к другой, как кирпичи под рукой хорошего каменщика. Он не рассказывал о том, что можно было показать. Он берег слова для выражения мыслей, не для пространных описаний. Многочисленные препараты, опыты на животных, вскрытия продолжали, дополняли и заменяли фразу. Дома Пирогов репетировал лекции. Он любил повторять: «Ораторами становятся, поэтами рождаются». Пирогов связал обе части латинской пословицы: он смог стать необычным и сильным оратором, потому что родился поэтом. Не менее важными, чем в аудитории, были лекции у постели больных. Свою задачу Пирогов видел не только в том, чтобы изложить курс, но и в том, чтобы научить слушателей мыслить. Клиническое мышление, то есть умение точно определить болезнь, оценить состояние больного и выбрать лечение, воспитывается в госпитальной палате. Здесь на бесчисленных примерах Пирогов доказывал, что одинаковая болезнь не означает одинаковых больных. Одинаковых больных нет — есть люди, страдающие одной болезнью. Задача теоретической лекции в аудитории — изучение общих признаков болезни и ее влияния на человеческий организм; задача лекции в госпитальной палате — изучение тех разнообразных изменений, которые наблюдаются в каждом отдельном случае. Клинически мыслить — значит уметь подойти к фактам с теорией и обогатить теорию новыми фактами. У самого Пирогова способность осмыслить, обобщить факты, выстроить их в систему, переработать в теорию развита была потрясающе. Он связывал прижизненные изменения с точными данными вскрытий. Патологическую анатомию, имеющую дело с мертвыми, сделал надежной основой возвращения больных к жизни. Именно поэтому хирург и анатом Пирогов смог быть наставником и терапевтов: возле его стола в анатомическом зале врачи учились на своих ошибках диагностике и лечению. Пирогова иногда упрекают в том, что за полтора десятилетия работы в академии он не создал «своей школы», не выпестовал под своим крылом некоторого числа достаточно именитых наследников. Многие видные ученые отметают подобные упреки. Пироговской школой, говорят они, стала вся последующая русская хирургия.
Казалось, Пирогов въехал в столицу на торжественном белом коне. В аудиторию и операционную к Пирогову ломился народ. Повсюду разговоры об его искусстве. Кто знает, наверное, были семьи, где дети играли в Пирогова. Президент Петербургского общества русских врачей поднес тридцатилетнему профессору диплом почетного члена этого общества. Больше того, деятельность Пирогова в академии началась и была высоко оценена еще до переезда его в Петербург. Пироговское предложение об организации госпитальной хирургической клиники было горячо поддержано конференцией Медико-хирургической академии, отметившей, что такая клиника принесет обучающимся «величайшую пользу», особенно если руководить ею будет сам Пирогов, «известный не только в России, но и за границей своими отличными талантами и искусством по оперативной хирургии». Это предложение положило начало целой системе клиник — учреждений, где лечение больных сочетается с научными исследованиями и педагогической работой. Казалось, Пирогов легко и окончательно «покорил» Петербург. Но это только казалось. Третьего марта 1841 года руководство академии донесло генералу Клейнмихелю о том, что «надворный советник Пирогов вступил в назначенную ему должность профессора». В хирургическом отделении Второго военно-сухопутного госпиталя, отданном Пирогову «во владение», его встретили муки больных, преступность начальства, смерть, смерть, смерть. Было от чего прийти в ужас!.. Сырое каменное здание с холодным коридором. Дощатая стена, отделявшая коридор от улицы, промерзала зимой насквозь. Огромные палаты на шестьдесят-сто коек без какой-либо вентиляции. Чтобы проветрить помещения, открывали двери в ледяной коридор. Тогда в палаты несло из расположенных тут же отхожих мест. Госпиталь стоял на болоте, среди полузасыпанных, превращенных в гниющую свалку прудов и рытвин, в которых, не высыхая, зеленела густая зловонная жижа. Полы в хирургическом отделении были ниже уровня улиц. Госпитальные начальники воровали в открытую. Подрядчики везли к ним на дом казенные продукты: больные голодали. Аптекари фунтами сбывали лекарства на сторону, больным не давали даже простейших средств или всучали подделки (бычью желчь вместо хинина, какое-то масло вместо рыбьего жира). Пирогов годами добивался лишнего флакона ляписа. Великому хирургу пеняли за большие издержки йодной настойки и предписывали «приостановить ее употребление». Ему приходилось доказывать, что больным нужно выдавать именно такое количество лекарств, какое он выписал, и что зола при всем желании аптекаря никак не может заменить наркотических средств. Из-за преступного небрежения госпитального начальства, сообщал Пирогов в одном из рапортов, больные целые дни оставались без лекарств, целые дня не имели клюквенного сока для питья, ляписа для прижигания язв. Пирогов тратил силы в неравной борьбе: не кучка преступников была перед ним — весь уклад тогдашней жизни, Россия Сквозник-Дмухановских, Ляпкиных-Тяпкиных, Чичиковых и Кувшинных рыл. Власть в госпитале предержащие крали не стесняясь; проигрывали в карты — и не беднели, копили деньгу — и приобретали. В госпитальной хирургической клинике «не было приспособлений», чтобы сделать больному ванну. Даже на десятом году работы Пирогов доносил, что все лекарства он получает в меньших, чем надо, количествах, причем в отчетах это не указывается. Следуя мудровскому совету — лечить не только ножом, но и чистой простыней, мягкой подушкой, свежим воздухом, диетой, Пирогов указывал: «Всякий врач должен быть прежде всего убежден, что злоупотребления в таких предметах, как пища, питье, топливо, белье, лекарство и перевязочные средства, действуют так же разрушительно на здоровье раненых, как госпитальные миазмы и заразы». Одно тащило за собой другое. Злоупотребления то и дело отворяли дверь госпитальной заразе, за ней шли рожа, гангрена, пиемия, или гнилокровие, а за ними — смерть, смерть, смерть. В первый же день по вступлении в назначенную ему должность Пирогов увидел в палатах молодых солдат-гвардейцев, которым гангрена разрушила всю брюшную стенку. Это были пациенты бывшего главного доктора госпиталя, действительного статского советника и кавалера Флорио. Пирогов видывал его еще в прошлый приезд — перед дерптской профессурой. Флорио делал обход: вертя на палке свою форменную фуражку, шел из палаты в палату, притопывал ногою, громко распевал с итальянским акцентом: «Сею, сею, Катерина! Сею, сею, Катерина!» Все болезни Флорио объявлял лихорадкой, на каждом шагу прописывал пиявиц, ординаторов высмеивал и бранил нецензурно, по адресу больных, особенно женщин, отпускал непристойные шутки. Флорио ушел, но в госпитале хозяйничали его наследники. Заразные больные день-деньской сами готовили «фербанд» — перевязочный материал: щипали корпию из грязного белья, из рваных подолов и рукавов надетых на них рубах. Фельдшера перекладывали повязки и компрессы с гноящихся ран одного больного на раны другого. Служители с медными тазами обходили десятки коек подряд, не меняя губки, обтирали раны. Уже негодные к употреблению, пропитанные гноем и кровью зловонные тряпки складывали в ящики, стоявшие тут же в палатах или в примыкавших к ним каморках. После просушки тряпки эти снова пускали в дело, даже продавали в другие больницы. Госпитальная зараза уносила больных, сводила на нет работу хирургов, одним взмахом уничтожала результаты мастерски сделанных операций. Самому Пирогову пришлось давать объяснения комиссии по поводу смерти после обычного кровопускания десяти солдат, лежавших в глазном отделении. Пирогов объяснял: «Причину смерти должно искать не в операции, а в распространившейся с неожиданной силой миазме». На глазах Пирогова появлялись в палатах страшные, роковые кровати: стоило одному больному умереть на такой кровати от послеоперационного заражения, и всякий, кого клали на нее, был уже заранее приговорен к смерти. Всё это считали неизбежным, естественным — и в петербургских больницах, и в парижских госпиталях, и в берлинской «Шарите», по свидетельству современников, превратившейся в «морильню». Пирогов не захотел примириться с неизбежностью нелепой смерти. Он стремился побороть неотвратимое, понять необъяснимое, «не мечтать, а стараться проникнуть посредством наблюдения и опыта при постели больных сквозь этот таинственный мрак». Оставались еще десятилетия до открытия общепризнанных средств борьбы с раневой инфекцией, а Пирогов уже говорил о заражении ран через инструменты и руки хирурга, о перенесении заразы с одной раны на другую через предметы, с которыми соприкасаются больные. Он говорил о заразительности, «прилипчивости» многих заболеваний. Вскоре после прихода в академию он отделил больных пиемией, рожей, гангреной от остальных и разместил в особом деревянном флигеле. Больше того, он считал нужным «отделить совершенно весь персонал гангренозного отделения — врачей, сестер, фельдшеров и служителей, дать им и особые от других отделений перевязочные средства (корпию, бинты, тряпки) и особые хирургические инструменты». Пирогов запретил обтирать раны общими губками и приказал взамен поливать их из чайников (мера, введенная во Франции лишь через двадцать лет), боролся с изготовлением перевязочного материала из грязной ветоши и самими больными. Он требовал соблюдения гигиенических правил, поддержания чистоты, мытья рук. Первый упрек Пирогов, как всегда, обратил к себе: ведь и он, по восемь-девять часов не выбираясь из госпиталя, делал в одном и том же платье и перевязки, и операции, и вскрытия. Когда домашние заметили ему, что обшлага его фрака дурно пахнут, он признал с жестокой горечью: «Я сам был переносчиком заразы». Как же она передается, страшная госпитальная зараза? Пирогов не переставал об этом думать. Ему не свойственно отбивать одну мысль от другой жирными самодовольными точками. Он предпочитал вопросительные знаки. Всякая мысль была для него продолжением предыдущей и началом следующей. Его идеи жили с ним долгие годы: подобно дереву, росли, развивались вглубь, ввысь, вширь. Со временем «обрастал мясом» и ответ на вопрос: «Как же передается заражение?» Раньше Пастера и Листера заговорил Пирогов о живых возбудителях: миазма (термин «микроб» появился позже) «есть органическое, способное развиваться и возобновляться». Он советовал даже с помощью микроскопа исследовать чистоту перевязочного материала. Теория всегда шла у Пирогова рядом с практикой. Размышления о госпитальной миазме вызвали к жизни целую систему приемов противогнилостного лечения и профилактики в хирургии; в итоге «хирургические казни»: пиемия, гангрена, рожа, а вместе с ними и неизбежная их страшная спутница — смерть — начали отступать. По утрам Пирогов обходил палаты. За ним следовали врачи и студенты, а также десять фельдшеров со свечами в руках и полотенцами через плечо. Торжественное шествие! Но не триумфальный марш. Война Пирогова с госпитальной администрацией — упорный бой за каждую позицию, жестокая схватка в каждой траншее. Нужно было немало сил духовных, чтобы не уйти с поля сражения, не выбросить белый флаг. За восемь лет до Пирогова в госпитале служил его старый приятель — Даль, назначенный в Петербург после турецкой и польской кампаний. Он быстро завоевал в столице славу отличного хирурга. Особенно удавались ему глазные операции. Но храбрый на полях сражений, у операционного стола смело вступавший в схватку со смертью, Даль не выдержал постоянной борьбы с госпитальным начальством — махнул рукой на медицину: «переседлал из лекарей в литераторы», по замечанию Пирогова. Впрочем, литераторам приходилось не легче, чем лекарям. В России «всякое звание и место требует богатырства», — писал Гоголь: слишком много любителей бросать бревно под ноги человеку. Пирогову мешали даже бороться со смертью. Хотя при создании клиники предусматривалось, «чтобы он в своих действиях относительно пользования больных не был зависим от старшего доктора», подлинной свободы Пирогов не видел. Инвентарь, инструменты, лекарства, дрова, свечи, даже само здание — все находилось во владении воров, взяточников, неучей, никак не сочувствовавших пироговскому делу. Кем был Пирогов для тех, кто крал хлеб и мясо из госпитальных мисок и сыпал в кружки больным золу вместо лекарства? Если в погоне за истиной видели они погоню за должностью, в масштабности — карьеризм, в большом новаторстве — мелкое чиновничье политиканство, — словом, если мерили Пирогова на свой аршин, то опасным соперником. Если же понимали, чувствовали, что «своим аршином» Пирогова не измерить, то и того хуже — страшным врагом. Страшным непримиримостью, упорством в борьбе, способностью сделать гласным то, о чем другой сочтет за благо умолчать. Нужно было богатырство, чтобы четырнадцать лет вершить великое дело, слыша, как сопят за спиною враги, ждут, ищут случая опорочить, вымазать дегтем, избавиться. Так возникло дело об умопомешательстве профессора Пирогова. Старший доктор госпиталя Лоссиевский вручил под расписку ассистенту Пирогова Неммерту секретное предписание, в котором значилось: «Заметив в поведении г. Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю Вам следить за его действиями и доносить об оных мне». Несмотря на риск (бумага была секретной), Неммерт передал предписание Пирогову. Пирогов явился к попечителю академии, очередному генерал-адъютанту, и пригрозил отставкой, если делу не дадут хода. Провокация была неумной, наглой — пахло скандалом. Лоссиевскому приказали просить прощения. Он явился к Пирогову в парадной форме, плакал, подымал руки к небу. Пирогов ни слова не сказал о своих обидах, только показал господину старшему доктору мерзейший хлеб, розданный в тот день больным. Известным оправданием Лоссиевскому может служить хотя бы доля искренности: ему и впрямь мог показаться не вполне нормальным человек, который бескорыстно добивался лучшего и не крал там, где плохо лежит. Преемник Лоссиевского доктор Брунн действовал осмотрительнее, коварнее, злее. Он, как психолог, изучал характер Пирогова, приглядывался к «промашкам» в его поведении, сопоставлял его поступки с «мнением света» — искал уязвимые места, по которым можно нанести удар потяжелее и побольнее. А Пирогов с точки зрения лоссиевских и бруннов был уязвим. Прежде всего потому, что смелость новатора никогда не уживается с боязнью риска и желанием спокойной жизни. В то время когда многие из коллег Пирогова предпочитали не выходить из круга привычных операций, на которых уже набили руку, знаменитый профессор, не заботясь о репутации, храбро шагал в неведомое. Конечно, Пирогов рисковал. Хирург рискует, даже когда сотый раз делает операцию, известную уже сто лет. Пирогов слишком часто делал первым то, чего вообще не делали до него. Однако риск Пирогова строился на убежденности в научной правоте и практической ценности предлагаемой операции. Подкреплялся теорией и экспериментом. Многие коллеги Пирогова не только боялись — не хотели творить новое. Или не могли — по недостатку знаний. А для Пирогова многое из того, что казалось коллегам безрассудной дерзостью, было результатом долголетних раздумий. В 1847 году Пирогов впервые в России удалил зоб. Операция была по тем временам необыкновенно смелой. Даже после нее Французская академия наук не сняла запрета оперировать на щитовидной железе. Надо полагать, нашлись в то время медики, упрекавшие Пирогова в безрассудстве. А ведь он теоретически разработал операция на щитовидной железе еще в профессорском институте в своей преддиссертационной работе. Между задумкой и риском лежало целых шестнадцать лет (и не даром потерянных!), а недоброжелатели из коллег видели только, что опять этот Пирогов полез с ножом в «запретную зону». Он лез. В эти годы Пирогов предложил немало оригинальных операций. Среди них одна из самых знаменитых — новый способ ампутации, «вылущивания» стопы. Операция состоит в том, что, удаляя стопу, оставляют часть пяточной кости, которую приращивают затем к костям голени. В итоге кости голени удлиняются на несколько сантиметров, приращенный к ним пяточный бугор служит больному опорой при ходьбе. Операция Пирогова и практически ценна, особенно во времена, когда протезирование только развивалось. Главное же, она была теоретически очень важной. Тогда уже знали кожную пластику — сам Пирогов блестяще делал операции на лице — в частности, ринопластику. Теперь Пирогов доказал возможность приживления костей, доказал, «что кусок одной костя, находясь в соединении с мягкими частями, прирастает к другой…». Пироговская ампутация стопы положила начало всей костнопластической хирургии. Каждый мерят коллег на свой аршин. Пирогов — тоже. Многие из коллег Пирогова не понимали или не хотели понять, а оттого и простить ему не могли его новаторство, творческую смелость, попирание шаблонов. Пирогов же именно эти качества в соединении с другими, не менее существенными, делает мерилом ценности хирурга. Многие из коллег Пирогова оценивали деятельность хирурга по проценту операций с благоприятным исходом. У Пирогова результаты операций были не хуже, чем у всех прочих. Но ему мало подсчитывать проценты. Когда не знали антисептики и асептики, когда в госпиталях свирепствовали рожа и гнилокровие, благоприятный исход слишком часто зависел от случайности. Поэтому для Пирогова не менее важно другое — что сделал сам хирург, чтобы исход был благоприятным. Важны познания хирурга в анатомии и физиологии, его умение распознавать болезнь и наблюдать больного, его техническая подготовка и творческая инициатива. Завистники, терявшие из-за Пирогова славу, и завистники, терявшие из-за Пирогова практику, выворачивали, ставили с ног на голову его взгляды и высказывания. По их милости в сплетнях охочей до клеветы светской черни складывался мрачноватый образ Пирогова — знающего и умелого (не отнимешь!), но безжалостного «резуна», думающего не столько о больных, сколько о рискованных и жестоких опытах для подтверждения своих теорий. Примеры? Их было нетрудно найти. Сам Пирогов, как всегда, честно свидетельствует: «Любовь к моей науке и к моему призванию, отчасти же и любовь к славе… увлекали меня нередко к действиям, которых благоразумие, при моем положении, требовало бы избегать». Он мог предложить деньги больному, обнаруженному где-нибудь на рынке или в уличной толпе, так как считал, что клинические наблюдения над таким больным принесут пользу науке. («Ставит опыты над людьми!» — ползли слухи.) Он брался оперировать ребенка. (Шептались: «Находит удовольствие в детском крике и плаче».) Он приказывал: «Резать!» — там, где другой, думая не о больном — о себе, перепуганно мямлил и юлил. («Бездумный себялюбец!» — бросал ему в спину коллега.) Завистники и клеветники распускали слухи; точно хоругвь, поднимали над толпою его ошибки. Тем более что искать пироговские ошибки было не трудно, проповедники «благополучных исходов» прятали концы в воду, а Пирогов и печатно и устно трубил о своих промахах. На клевете и построил свою провокацию преемник Лоссиевского, старший доктор госпиталя Брунн. Однажды Брунн самовольно выписал больного накануне операции. Пирогов водворил его обратно в клинику. Больной все-таки исчез, по городу же полз слушок, будто Пирогов хотел оперировать его насильно. Последовал приказ генерал-попечителя: профессору Пирогову оперировать только с разрешения госпитального начальства. Таким образом, и «в действиях относительно пользования больных» Пирогова попытались подчинить бруннам и лоссиевским. Это означало гибель клиники. Пирогов подал очередное прошение об отставке. Сколько раз вынуждали его прибегать к этой мере! И всякий раз отставку не решались принять. Слухи слухами, но, если доходило до дела, бежали лечиться к Пирогову! Он не опровергал слухов. За него кричало дело. Война с «казнями хирургическими» и кознями начальническими — война во имя людей. Учение исцелять не болезнь вообще, а больного — исцелять человека. Тяжелые отравления от ежедневного десятичасового труда в зараженном воздухе палат и мертвецких — истинное самопожертвование. Длинные очереди бедняков у дверей его квартиры — он лечил их бесплатно да еще денег давал на лекарства. И куда как убедительно рядом с громким голосом Дела звучит тихая речь одного из бесчисленных «свидетелей защиты» — неимущей прислуги, которую семь месяцев безвозмездно лечил Пирогов: «Сколько раз, бывало, на своем извозчике, да еще одну не отпустит, а с фельдшером отправит меня домой». «Закоренелый эгоист, холодный и без сердца» видел во сне тяжелых своих больных и просыпался в холодном поту от дурных предчувствий. Не в силах превозмочь скорбь, «беспощадный экспериментатор» обрывал письмо к любимой невесте словами: «…Более писать не могу, я расстроен и болезнью и неприятностями: на этой неделе я потерял нескольких больных совсем неожиданно». Пирогов не умел «подавать себя», жить напоказ, звонить в колокола. Быть может, более всего он не умел горевать публично. «Насмешка у меня нередко заменяет слезы», — говорил он о себе. Он сам признавался, что горд и самолюбив. Но было нечто неизмеримо большее, перед чем отступало самолюбие и смирялась гордость, — его дело, его призвание. «Оставайся верен твоему призванию… Терпи, борись, идя вперед и дорожи твоим призванием так же, как жизнью». Он расшвыривал бревна, которые кидали ему под ноги, и шел вперед, вперед.
Какие инструменты нужны хирургу? Думать об этом заставляла практика. Удобный инструмент — это операция, сделанная и хорошо и быстро. Пирогов видел за границею тщательно подобранные хирургические наборы Грефе и Лангенбека. Инструменты в наборах были сконструированы изобретательно, но эгоистично. Это были инструменты только для Грефе или только для Лангенбека. Конструируя, хирург имел в виду одного себя. Оперировать в клинике Грефе разрешалось лишь тем, кто соблюдал два основных правила: оперировал по способу Грефе и обязательно инструментами его изобретения. Пирогов вспоминал: «Грефе был доволен, но он не знал, что все эти операции я сделал бы вдесятеро лучше, если бы не делал их неуклюжими и мне несподручными инструментами». Вскоре после приезда в столицу Пирогова назначили Директором технической части петербургского завода медицинских инструментов. Еще Петр повелел: «При Главной аптеке в Аптекарском огороде выделывать лекарские инструменты». И выделывали. Нашлись в народе умельцы, которые и в этом деле сумели «блоху подковать». Кстати, не где-нибудь, на этом заводе крепостной Семен Бадаев открыл в начале прошлого века новый способ приготовления стали, так и названной «бадаевской». Сталь отличалась многими ценными свойствами, улучшающими качество инструментов. Мастеровые люди работали по-каторжному — в сутки пятнадцать с половиной часов, служили по-солдатски и двадцать пять лет, и тридцать, и сорок, биты и пороты бывали по-мужицки, а создали завод на славу; Пирогов говорил о нем: «Единственное в этом роде, сколько известно, не только в Европе, но и в целом свете заведение». Создавая новые виды инструментов или совершенствуя старые, Пирогов не повторял эгоистическую ошибку своих маститых учителей. Он видел перед собой не данного хирурга, а данную операцию. Идея Пирогова состояла в том, чтобы изготовлять инструменты, которыми любой хирург мог бы хорошо и быстро сделать ту или иную операцию. Не орудия для мастеров, а орудия, которые помогают стать мастером. Пирогов знал, как важно для успеха операции иметь под рукой то, что надо. Он заново составляет комплекты — наборы инструментов. Он критикует прежние наборы: главная их беда — отсутствие «многих инструментов, нужных для таких операций, малейшее промедление которых угрожает опасностью жизни». При Пирогове завод изготовлял наборы, рассчитанные на самый разнообразный уровень медицинской помощи: фельдшерские и лекарские карманные, ординаторские, батальонные, полковые, корпусные, госпитальные, а также акушерские и ветеринарные. И в каждом строго соблюдался основной принцип: все нужное, ничего лишнего. Река отделяла Выборгскую сторону и академию от пироговского дома. Река отделяла Аптекарский остров от Выборгской. Пирогов успевал всюду. Если звало дело, ему было всегда рукой подать.
Он был бесстрашно неуемен. Словно не хватало ему клиники, полутора тысяч больных, нескончаемой борьбы с грязью, с воровством, с Лоссиевским и Брунном. «Почитая первой и священной обязанностью посвящать мое искусство на службу страждущему человечеству, я готов употребить и остальное от других моих занятий время на исполнение предлагаемой мне Вами должности консультанта по части оперативной хирургии при больницах: градской, Обуховской и Св. Марии Магдалины…» Обуховская больница для чернорабочих, Мариинская для бедных, а вскоре к ним прибавились еще и Петропавловская и Детская больницы и Максимилиановская лечебница, — по сравнению с этими заведениями, где «умер ли больной от чахотки, от кровотечения, от затека, лишь бы умер», даже Второй военно-сухопутный госпиталь казался раем. А он и их взвалил на плечи, взвалил безвозмездно, единственно во имя священной своей обязанности. И во имя священной своей обязанности не стал парадным консультантом с медлительной походкой, важным безразличным лицом и холодными пальцами, а снова полез в борьбу. Боролся насмерть за жизнь, потому что не мог равнодушно «присутствовать при мучениях больных, которых страдания не хотят облегчать из незнания дела и из скупости». Он дрался до последнего и оставил больницы, лишь навсегда покидая Петербург. Он не мог уйти победителем, но не был и побежден, — нельзя победить человека долга, стоящего у знамени. Пирогов имел право подвести итог: «Я 12 лет безвозмездно служил в звании консультанта. Не мне судить, в какой мере я удовлетворил все требования этого звания; одно только знаю верно, что я всегда готов был явиться в госпиталь по первому призванию. Оставляя эту должность, мне ничего больше не остается, как… пожелать моим преемникам, чтобы они также охотно подвизались для общей пользы».
Говорят, работа спасает от одиночества. Работа не спасает от одиночества: она помогает забыть о нем, помогает без страха дожидаться минуты, когда одинокий человек неизбежно должен остаться один. Пирогову трудно было найти друзей. Принцип дерптских «Анналов» — только правда! — он перенес на своя взаимоотношения с людьми. Хорошо относиться к кому-либо значило для Пирогова быть особенно требовательным и нелицеприятным. В отношении себя он требовал от других того же. Он просил свою приятельницу генеральшу Козен говорить при нем только о его недостатках, бранить и упрекать его. Однажды на Кавказе во время обеда в полку младший врач стал спорить с Пироговым на медицинские темы. Не зная, что перед ним «сам Пирогов», младший врач говорил резко, даже грубо, стучал вилкой по столу, замахивался на знаменитого профессора салфеткой. После обеда Пирогов заметил, что давно не проводил время так приятно и очень рад, что собеседник его держал себя совершенно непринужденно. Понятие «добро» никак не совпадало для Пирогова с понятием «одолжение». Пуще же всего презирал он желания, не вызванные серьезными обстоятельствами, называл их «безделицами» и никогда не потакал им. Он всегда готов был сделать людям добро, «если оно только не противоречит долгу и обязанности». Взгляд на то, что есть долг и обязанность, слишком у многих был иной, чем у Пирогова, — изо всех углов па него косились обиженные. С. П. Боткин объяснял: Пирогову приносило недоброжелателей нравственное превосходство, которое он не умел скрывать. Пирогов не называл врагов врагами. Он говорил о них: «Люди, считающие меня врагом». Такие люди, по его определению, «не понимают, что есть обязанности в обществе, которые требуют войны против личности, а они ничего не знают выше личности». Наверно, Пирогов был не всегда прав в частностях, но он был безусловно прав в целом. Во времена субординации, писаной и неписаной, покровительства, кумовства, связей сделать главным в оценке человека его отношение к общественному долгу — это ли не нравственное превосходство! Пирогову трудно было найти друзей. Он искал не друзей, а друга. Есть однолюбы в любви, Пирогов был однолюбом в дружбе. Он признавался, что ревнив. И разъяснял — ревностью душевной. Сам он лишь перед одним избранником мог раскрыть душу. И от избранника готов был требовать того же. Избранницей Пирогова должна была стать женщина. Возможность раскрыть до конца душу — для Пирогова одно из главных условий любви. Поскольку избранник мог быть один, образ любимой женщины и образ друга сливались воедино. Как Пушкин в известном стихотворении «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем», так и Пирогов в одной фразе дневника раскрыл самую сокровенную сторону своей любви. Он писал: «Не имея от природы призвания к чувственным наслаждениям, не перенося пресыщения, я уже по этой одной причине должен был посвящать себя исключительно научным занятиям». Пирогов искал не только женщину — жену, не просто жену — друга. Искал со всей страстностью — он страдал от одиночества. Он по-настоящему болел от «овладевшей всем существом сладкой потребности женской любви и семейного счастья». Работа не вылечивает от одиночества. Одиночество вредит работе. Дело лучше спорится, когда знаешь, что дома тебя ждут. В ноябре 1842 года профессор Николай Иванович Пирогов вступил в брак с Екатериной Дмитриевной Березиной. Невеста была из родовитой дворянской семьи. Родители Екатерины Дмитриевны начали романтически: гусарский ротмистр Дмитрий Березин тайком увез из дому юную графиню Екатерину Татищеву и обвенчался с нею в крохотной деревенской церквушке. Когда Пирогов делал предложение Екатерине Дмитриевне, романтика давно кончилась. Родители невесты жили порознь; если съезжались вместе, не проходило и двух дней без ссоры. Березин-отец просадил в карты шесть тысяч крепостных душ, доматывал остальное и «прижимал» жену в чем мог. Березина-мать поселилась с Екатериной Дмитриевной в маленькой квартирке на Васильевском острове, была больна, раздражительна, часто ругала и даже поколачивала дочь, считая ее причиной мужниного нерасположения. Но тут нежданно-негаданно появился Пирогов. Чтобы найти жену, тоже нужно время. У занятого с утра до ночи Пирогова времени не было. Оп почти не заводил знакомств, не ездил в театр, мало бывал в «обществе», а в академии, в госпитале, в театре анатомическом невесты не подберешь. Думая о женитьбе, Пирогов возвращался мысленно к Дерпту, к кругу Катеньки Мойер. После отказа Мойеров он не рискнул предложить руку и сердце их родственнице Воейковой, той, которая так мило смеялась, видя его в роли Митрофанушки. Во время долгой болезни, возникшей от зараженного госпитального воздуха и «сладкой потребности женской любви», память подсказала Пирогову образ другой Катенькиной подруги — Екатерины Березиной. Выбирая жену, Пирогов, не задумываясь над реальной стороной семейной жизни, умозрительно, теоретически создавал нужный ему портрет жены-друга. Его решающее объяснение с невестой вылилось в уснащенное сентиментальными фразами письмо-трактат, в котором опять-таки повторялись полюбившиеся слова из Руссо — эпиграф к «Анналам» дерптской хирургической клиники: «Вот каков я был, вот что я делал, вот как я мыслил!!!» В письме не столько интересна исповедь Пирогова в его прошлых прегрешениях, сколько высказанные им требования к будущей своей жене. Не «жена-ученый» и не «жена-кухарка» — и то и другое неприятно ему в равной степени. Жену — поверенного его дум и его дел — вот кого искал Пирогов. Жену, умственно не слишком самостоятельную, чтобы иметь собственную духовную жизнь или даже мнения, хоть в чем-то отличные от его, однако и не настолько ограниченную, чтобы удовлетвориться плитой и пеленками. У него призвание, священная обязанность перед обществом, великое дело. Ее долг — до конца, без колебаний поверить в правоту и важность его трудов, помогать ему любовью и заботой. Ему нужна женщина, которая посвятит свою жизнь для водворения спокойствия в его душе, говорит Пирогов в начале письма. Которая захочет вникнуть в его действия и примениться к ним, сообщает он в середине. «Любовь научит тебя действовать в мою пользу!» — восклицает Пирогов в конце письма. Жене не в чем сомневаться, она должна лишь понять и принять высокое направление трудов мужа. Он пишет о супружеском счастье одного супруга, искренне полагая, что, коли он будет счастлив, счастье супруги приложится. «Супружеское счастье человека образованного и с чувством тогда только может быть совершенно, когда жена вполне разгадает и поймет его». Пирогов искал в жене друга пассивного, безмолвно вошедшего в его мир, еще одним звеном включенного в мир его занятий. Он величествен, когда пишет о «цели своих действий», о своей науке: «Знай же — наука составляла с самых юных лет идеал мой; истина, составляющая основу науки, соделалась высокою целию, к достижению которой я стремился беспрестанно… Благодарность моя к избранной мною науке не иссякнет до конца моей жизни; я люблю мою науку, как может только любить сын нежную мать». Он, как всегда, правдив до конца, он старается изо всех сил, помогая будущей жене «понять и разгадать» его, — он так страстно желал раскрыть ей, ей одной, свою душу! Он только не думал, что и у нее есть свой внутренний мир, «своя душа», которую и она хочет раскрыть так же жадно. Потом он каялся. Он был слишком уверен в том, что знает свою жену, что ему нечего «искать в ней»: «я делал худо». С первых же дней совместной жизни он принялся «включать» Екатерину Дмитриевну в круг своих действий. Он делал это по-пироговски энергично, настойчиво, решительно. Жена должна жить его интересами — значит, долой все ее интересы собственные! Долой подруг, гостей, выезды в театр, к знакомым, долой романы в конце концов, — чтобы разгадать его, пусть читает научные журналы! Они жили в одном доме с матерью Пирогова и его сестрою — и почти не встречались с ними. За три с небольшим года супружества Екатерине Дмитриевне дозволено было проводить время лишь с одною подругою, выбранной к тому же самим Пироговым. Спасая себя от одиночества, он обрекал на одиночество ту, которую любил. О, как искренне он хотел, чтобы она поняла его! Но, как вспоминал потом Пирогов, уже в первые неделя после вступления в брак он находился в состоянии какого-то беспокойства и легко приходил в раздражение. «Вообще все, что выводит меня из обыкновенного круга моих занятий, действует на меня не совсем благоприятно». Ему было некогда, он спешил — великие дела ждали его. Он старался поскорее втолкнуть Екатерину Дмитриевну в свой мир. Постоянный призыв «Пойми меня!» стал звучать как «Прими на веру!». Ученый, жаждавший резкой критики по поводу самой малой своей ошибки, в семейной жизни требовал непреклонного авторитета (уверенности в его infaillibilite — непогрешимости, как признался он через несколько лет). От всего этого недалеко до того, что сказано было Пироговым о Катеньке Мойер: «Я требую от моей жены, чтоб поняла меня, а понявши, она не может не любить меня». А от этих слов, в свою очередь, недалеко я до «стерпится — слюбится». Потом Пирогов понял, что не «пойми меня — тогда полюбишь» надо требовать от любимойженщины, а «полюби меня такого, какой я есть, — тогда поймешь». Но поздно понял. Оставив Пирогову двух сыновей, Николая и Владимира, Екатерина Дмитриевна умерла. Она умерла в январе 1846 года, двадцати четырех лет, от послеродовой болезни. В такой смерти всегда есть что-то осмысленное и трогательное. Кричавшее в пеленках сморщенное существо — Владимир Николаевич Пирогов — стало как бы продолжением жизни Екатерины Дмитриевны. «Жену замучил!» — зашептали лоссиевские и брунны. Что им, никогда не любившим и всегда считавшим себя правыми, до подлинных чувств Пирогова, который страстно любил и страстно ошибался! Фаддей Булгарин — его Пирогов и на пушечный выстрел к себе не подпускал — изощрялся в подленьких намеках, припоминая «для сравнения» пресловутого французского врача, вскрывшего труп собственной жены. А Пирогов, по свидетельству бывавшего у него в доме ученого и журналиста Сенковского, «лежал больной, совсем убитый, плакал; его окружала куча докторов… он безутешен». Что бруннам и булгариным до подлинных чувств Пирогова! А он, выбитый страшным событием из колеи привычных дел и забот, тотчас начал все осознавать, прозревать. Он скорбел оттого, что за девять месяцев беременности Екатерина Дмитриевна не сказала ему о своем желании родить девочку, дочь. В этом пустячном факте Пирогов прочитал многое — и все себе в укор: «Неужели она была не откровенна со мной?» Он хотел оградить Екатерину Дмитриевну от целого мира, чтобы она принадлежала только ему — ревнивому другу. А у Екатерины Дмитриевны оказался свой мир, и для него, Пирогова, туда хода не было. Внутри его ограды она возвела свою, и его ограда потеряла смысл. Он хотел один заменить ей все: дело, людей, мысли. А она убегала от него в свой маленький мирок, в свою оградку. Одного «великого Пирогова» для нее было слишком много и слишком мало. Пирогов понимал: не в откровенности дело. Восклицал: «Неужели она была не откровенна со мной?» А думал, наверное: «Не свободна». Нельзя по собственным выкройкам сшить для другого свободу. Свобода не загон, окруженный частоколом правил и ограничений. Он хотел лучшего, а получалось плохо, и прозрел слишком поздно. Прозрение его бывало жестоко — он не умел щадить себя, разбираясь в своих ошибках. И разве не показательно: первый раз в жизни Пирогов не ищет утешения в единственном своем убежище — науке. Знал — от дум и чувств, обрушившихся на него, не спасет и наука. Он писал в рапорте: «Расстроенное мое здоровье, требующее по крайней мере полугодичного спокойствия и перемены места, заставляет меня переменить весь род моей службы…» В начале марта 1846 года профессор Пирогов уехал в командировку за границу. Впервые он старался убежать от дела. Но дело не отставало — шло за ним по пятам. В конце января 1846 года, в самые тяжелые для Пирогова дни горя и отчаяния, был высочайше утвержден предложенный им, совместно с академиком Бэром и профессором Зейдлицем, проект создания при академии Анатомического института. Осуществление этого проекта позволяло поставить изучение и преподавание анатомии на небывалую высоту. Становилась жизнью давняя мечта Пирогова. Он писал: «Несмотря на то, что я с лишком 15 лет занимаюсь анатомическими исследованиями, анатомия чисто описательная никогда, однако же, не была предметом моих занятий, и главная цель моих анатомических исследований было всегда приложение их к патологии, хирургии или по крайней мере к физиологии… Самою высшей для меня наградою я почел бы убеждение, что мне удалось доказать нашим врачам, что анатомия не составляет, как многие думают, одну только азбуку медицины, которую можно без вреда и забыть, когда мы научимся кое-как читать по складам; но что изучение ее так же необходимо для начинающего учиться, как и для тех, которым доверяется жизнь и здоровье других». Подготовка молодых ученых, воспитание смены — для Пирогова задача не менее важная, чем собственные широкие исследования. Не случайно в ту пору, когда обсуждался вопрос о назначении Пирогова директором института (должность официально называлась: «директор анатомических работ»), Бэр сообщал президенту академии, что Пирогов согласен возглавить институт лишь в том случае, если он станет «учреждением, дающим молодых анатомов». «Академия и родина должны приветствовать это!» — восклицал Бэр. Пирогов сумел привлечь интерес молодежи к анатомии: у студентов всех курсов она сделалась едва ли не самой любимой из научных дисциплин. Вскоре после создания института руководству академии пришлось издать специальный приказ, разрешающий студентам посещать Анатомический институт лишь в часы, свободные от других занятий. На должность директора анатомических работ не было кандидата достойнее Пирогова. Титул опять опоздал. Пирогов на деле давно уже стал «директором анатомических работ». Он пригласил в Петербург двух отличных прозекторов — Венцеслава Грубера из Вены и своего старого знакомого Георга Шульца из Дерпта. Грубер был большой ученый. Шульц — отличный исполнитель. Шульц поразительно четко реализовал идеи Пирогова. Дружба была давняя. Еще в докторской диссертации молодой Пирогов счел своим долгом посвятить верному товарищу горячие слова признательности: «Мне остается выразить публично благодарность студенту-медику Георгию Шульцу (родом из Эстонии), который всегда помогал мне в проведении опытов делом и советом; я не нахожу достаточных слов, чтобы похвалить его за проявленную им в этих делах изобретательность». Есть, должно быть, люди, призвание которых — следовать за другим. Шульц не только помогал великому Пирогову изготовлять препараты, он помогал также великому эстонскому просветителю Крейцвальду издать народный эпос «Калевипоэг». Фридрих Рейнгольд Крейцвальд учился на медицинском факультете в Дерпте в те же годы, когда там совершенствовался Николай Пирогов. Грубер был иной закваски, чем Шульц. Он жил собственными идеями. Пирогов писал, что выбором Грубера «академия, по справедливости, может гордиться, так же точно, как и я сам». У Грубера, как и у Пирогова, был нелегкий характер. Они повздорили из-за пустяка и были в ссоре восемь лет. Все эти годы Грубер свободно занимался в Анатомическом институте, развивал и продолжал дело Пирогова. Он обладал колоссальной, почти пироговской, работоспособностью: изготовлял каждый год более двухсот замечательных препаратов, воспитал целую плеяду блестящих русских анатомов, среди них П. Лесгафт и А. Таренецкий. Пирогов не только не мешал ему, наоборот, всячески способствовал. Великолепный пример того, как у людей долга личные отношения не влияют на исполнение общественных обязанностей! Оба работали. За «Хирургической анатомией артериальных стволов и фасций» последовали выпуски пироговского «Полного курса прикладной анатомии». Огромнейшие листы с изображениями препаратов в натуральную величину и текст, «заключающий в себе, кроме подробного объяснения рисунков, еще изложение самого предмета». В аннотации к первому выпуску указывалась «частная цель» «здания, та самая «частная цель», которая делала пироговские труды особенно емкими, не давала им расплываться, ползти вширь. В аннотации говорилось: «Цель автора прикладной анатомии состоит в том, чтобы сообщить врачам посредством с натуры снятых изображений прикладную сторону анатомии, потому три отделения будут составлять полный курс издания: анатомия физиологическая, хирургическая и патологическая». Вскоре — новая «частная цель». Пирогов открыл перед медиками еще одну грань анатомии. Появляются в свет его «Анатомические изображения человеческого тела, назначенные преимущественно для судебных врачей». Пироговские атласы не только иллюстрации и текст. За каждым листом — гигантский труд. Тысячи вскрытий, тысячи часов, проведенных в анатомическом театре. Пирогов отравлялся зараженным воздухом мертвецкой, подолгу и тяжело болел. Свежий воздух ставил его на ноги. Он снова шел к своему столу в «анатомичке». Академик Бэр в отзыве на «Полный курс прикладной анатомии» писал, что этот атлас — «подвиг истинно труженической учености». Пирогов совершал по Европе «нешуточное путешествие» — побывал в Италии я во Франции, в Швейцарии и в Тироле. Тосковал — сколько раз мечтал он поехать в чужие края вместе с нею! «Пишите, пишите мне об ней, — просит он приятельницу. — Дайте и мне покуда жить этими отрадными воспоминаниями…» И приходит к мысли, знакомой едва ли не всякому, кто перенес потерю близкого человека: «В воспоминании заключается откровение бессмертия души…» Мысль желанная и, если вникнуть, по существу, совсем не мистическая, какой бы смысл ни вкладывал в нее Пирогов. «Нешуточное путешествие» называлось, однако, «командировкой», а Пирогов был не из тех, кто не делал разницы между частным вояжем и служебной поездкой. Он тосковал и просиживал долгие часы в заграничных университетах — подбирал прозекторов для академии, покупал оборудование, препараты. Он бежал от дела, не хотел искать в нем утешения. Дело настигало его и утешало. Проект Анатомического института после долгих колебаний утвержден был «высочайше» — царем. Николай не пренебрегал случаем лишний раз прослыть «покровителем наук». Между внешней, торжественной стороной «покровительства» и делом лежала пропасть. На академика Бэра напялили расшитый золотом мундир, навесили ордена. Но ему долго отказывали в ста рублях на организацию практических работ и на приобретение «порядочного микроскопа». В России читали курс акушерства по руководству, которое повелено было перевести профессору Хотовицкому. Но перевел он его в крепости, где просидел полгода за то, что не пошел по первому зову к супруге гоффурьера, так как принимал роды у собственной жены. Создание Анатомического института утверждено было «высочайше», и по «высочайшему» распоряжению выпускались в роскошном издании атласы Пирогова — это были результаты труда, этим можно было кичиться. Но Анатомическому институту отвели тесное и неприспособленное одноэтажное здание — Пирогов называл его бараком. Со всех сторон «барак» окружали отделения госпиталя. Откуда ни дул ветер, по клиникам разносился тяжелый запах мертвецкой. В препаровочной зале стояли простые, выкрашенные в красный цвет столы с желобами, уходящими в полые ножки. По ним кровь я различные жидкости стекали прямо под пол здания и впитывались в землю. Возле каждого стола имелась деревянная кадка «для отходов». Холодную залу обогревали две железные печки, зимой вокруг них укладывали для оттаивания штабеля трупов. Хранили трупы в сенях и на чердаке. Здание было заполнено крысами, они бегали по столам даже во время работы. Двенадцать тусклых масляных ламп освещали помещение. «В вечерние часы, — вспоминает современник, — вся эта огромная комната, переполненная трупами во всех положениях и видах, окруженными массою студентов, одетых в черные клеенчатые фартуки, при тусклом освещении и копоти масляных ламп, окутанная облаками табачного дыма, производила странное впечатление, напоминая собою скорее картину пещеры из дантовского ада, чем место для научных исследований». И все-таки это было место для научных исследований! Первый в мире Анатомический институт, из стен которого выходили труды, составившие гордость русской и мировой науки! В отчете за пять лет Пирогов сообщал, что, кроме студентов, в институте слушали курс восемьдесят пять практических врачей и тридцать фельдшеров. За это время только под руководством самого Пирогова учащиеся произвели две тысячи патологоанатомических вскрытий, изготовили пятьсот препаратов для анатомического музея. Здесь же изучались проблемы физиологии — было поставлено свыше двухсот экспериментов на животных. «Пусть же другое учебное учреждение укажет нам более благоприятные результаты, и я охотно соглашусь, что наши действия при Анатомическом институте не оправдали цели и пользы, которую правительство и академия ожидали от его основания, — заканчивал Пирогов свой отчет. — Покуда же я считаю себя вправе оставаться при убеждении, что мы сделали все, что могли, для пользы заведения».
16 октября 1846 года произошло событие, означавшее революцию в хирургии. В этот день была сделана первая операция под наркозом. Доктор Уоррен из города Бостона безболезненно удалил опухоль на шее пациента. Один из «первооткрывателей» эфирного наркоза, Уильям Мортон, усыпив больного, обратился к хирургу: «Приступайте, мистер Уоррен. Ваш пациент уже так далеко!» Уоррен благополучно завершил операцию, воскликнул изумленно: «Джентльмены, это не обман!..» Событие, происшедшее 16 октября 1846 года, потрясло мир. И все-таки оно не было неожиданным. Оно назревало. Оно едва-едва не совершилось несколькими годами раньше. Оно неизбежно бы совершилось несколькими годами позже. Люди веками искали победы над болью. История сохранила упоминания о средствах обезболивания у ассирийцев и древних египтян: известно, что египтяне применяли с этой целью жир крокодила и порошок из его кожи. Гомер рассказывает в одиннадцатой песне «Илиады» о том, как Патрокл, вырезав стрелу из тела раненого героя, присыпал рану горьким, истертым корнем, «который ему совершенно боль утолил». Греки и римляне готовили болеутоляющие снадобья из мандрагоры. Историк Плиний говорит о них: «Пьют при укусах змей, а также перед разрезами и проколами, чтобы не чувствовать боли». В одном из старинных русских «лечебников» записано: «…Дают коренья мандрагорово болящему пити или ясти у коих распаляется огнь палящий и они от того толь крепко спять, что они не чують егда лекарь у них уды (то есть части тела, члены. — В. П.) отрезывает или отсекает». Наркотические вещества (опий, индийская конопля, алкоголь), которые в безопасных дозах не вызывали обезболивания, а в больших нередко приводили к смерти; сдавливание нервов или сосудов шеи; резкое охлаждение с помощью льда и снега — все это были лишь блуждания на очень далеких подступах к «божественному», по словам Гиппократа, «искусству уничтожать боль». Начавшееся в конце XVIII века стремительное развитие химии помогло за короткий срок сделать гигантский шаг к цели — один шаг, стоивший тысячелетий предыдущих поисков. Еще качали с сомнением головами, еще доказывали, что оно и не нужно, еще, поймав, упускали между пальцами, но воздух был уже насыщен неизбежностью открытия. В 1800 году великий английский ученый Хэмфри Дэви, произведя опыты на кошке, а потом и на себе самом, сообщил, что вдыхание закиси азота вызывает опьянение и невосприимчивость к боли. Дэви в юности был учеником хирурга, но тут и не подумал об использовании своего открытия в медицине. Через восемнадцать лет Майкл Фарадей, великий ученик Дэви, открыл, что пары серного эфира могут привести к такому же состоянию, как и закись азота. Фарадей опубликовал даже работу на эту тему. Медики снова прошли мимо. Еще через десять лет лондонский хирург Гикман повторил опыты Дэви. Врач-профессионал, он понял важность открытия и помчался с докладом в Парижскую академию хирургии. Его осмеяли. Только старик Ларрей горячо поддержал его. «Веселящий газ» (так назвал Дэви закись азота) не обрел пристанища в операционных, зато был взят «на вооружение» бродячими артистами и фокусниками, стал частым и излюбленным гостем ярмарочных балаганов. Здесь-то и познакомился с ним американский зубной врач Горасий Уэлс. На следующий день он попросил другого дантиста, Джона Риггса, удалить ему зуб, однако перед операцией надышался в палатке странствующего проповедника Колтона «веселящего газа». Эффект превзошел ожидания. Это случилось в 1844 году в американском городке Хартфорде. «В зубоврачебном деле настает новая эра!» — вскричал Уэлс. Он не понял, что стоит на пороге новой эры во всей медицине. Это понял известный бостонский хирург Уоррен. Он предоставил Уэлсу свою клинику для демонстрации публичного опыта. Но случилось непредвиденное: едва дантист стал тащить зуб, усыпленный пациент закричал. Громкий смех публики — и Уэлсу показали на дверь. После публичной неудачи Уэлс еще продолжал экспериментировать — ведь за его спиной был и многообещающий опыт на себе. Но в чем-то он ошибался: дальнейшие опыты не приносили успеха. Отчаявшись, тридцатидевятилетний Уэлс покончил самоубийством. Его судьба трагична. Он шел правильным путем и впрямь мог получить титул «первооткрывателя» наркоза. Хирургия еще возвратилась к закиси азота, правда, значительно позже, в шестидесятые годы. «Веселящий газ» на время был отброшен с пути, этому способствовали неудачи Уэлс а и победное шествие эфира и хлороформа. Долгий ненужный спор так и не привел к единому мнению о том, кого следует считать «автором» эфирного наркоза. Зубной техник Уильям Мортон решил изучать медицину у доктора Чарльза Джексона, который был также профессором химии. Джексон многое рассказал ученику о действии эфира — к этому Мортон проявлял особый интерес. Знания Джексона оказались весьма обширны: за его плечами был, в частности, удачный опыт на себе, он конструировал приборы для вдыхания паров эфира, — видимо, в голове его уже вызревала идея, и он искал ей реальное применение. Но ловкий ученик обогнал его. Выуживая из доверчивого наставника все новые сведения об эфире, он делал дома опыты на собаках, несколько раз усыплял себя. Старательно сохраняя тайну, он торопливо шел к цели. Осенью 1846 года, после особенно успешного опыта на себе, Мортон уверенно предложил свои услуги хирургу Уоррену. Оскорбленный Джексон решил оспаривать первенство. Тяжба тянулась два десятилетия. Истина, которую должна была установить ожесточенная дуэль, не имела ничего общего с наукой. Шли годы. В операционных всего мира применялось обезболивание. Ученые искали и находили новые виды наркоза. Тысячи людей были избавлены от мук. А два «первооткрывателя», забыв о цели открытия, приносили друг другу боль и муки, и все ради одного — кто первый? Их судьба не менее трагична, чем судьба неудачника Уэлса. И даже не потому, что Джексон умер в сумасшедшем доме, а Мортон — нищим на нью-йоркской улице. Страшнее другое — еще при жизни они умерли как врачи, как ученые; в операционных применяли эфир, а «открыватели» жили в представлении людей, которым он был до крайности необходим, как сутяги, озлобленные спорщики, неудачливые дельцы. Бесконечно прав Пирогов: «В науке процветают эгоизм и тщеславие… Приоритет открытия теперь считают в медицинском мире чуть ли не более существенным, чем само открытие». До того как пары серного эфира получили права гражданства в хирургии, они были излюбленной потехой студентов-химиков. Юные служители науки то и дело прикладывались к бутыли с эфиром, нюхали, пьянели и от души хохотали, когда кто-нибудь, «хватив лишку», начинал шататься и нести ахинею. Надо отдать должное Мортону и Джексону — они открыли свойства паров эфира для медицины. Однако не следует забывать, что сами свойства были уже известны на четверть века раньше. Можно не сомневаться, что, не будь Мортона и Джексона, мысль применить эфирные пары для обезболивания пришла бы в голову кому-нибудь другому. Воздух в науке был насыщен необходимостью и возможностью открытия. Право же, нашелся бы среди веселящихся студентов один подальновиднее! Выдержав первое испытание, эфирный наркоз решительно зашагал по свету. В начале 1847 года его уже применяли Мальгень во Франции, Диффенбах в Германии, Шу в Австрии, Листон в Англии. Листон удалил одному больному под наркозом ноготь; увидал, что хорошо, — ампутировал другому бедро. Восхищенный, повернулся к зрителям: «Ура! Радость! Скоро без этого не будут делать ни одной операции. Радость!» Первую в России операцию под эфирным наркозом сделал Федор Иванович Иноземцев в Москве. Седьмого февраля 1847 года он вырезал у мещанки Елизаветы Митрофановой пораженную раком грудную железу. Не прошло и недели, Иноземцев произвел новые операции с применением обезболивания — удалил двум мальчикам камни из мочевого пузыря. Товарищ Пирогова по профессорскому институту физиолог Филомафитский создал специальные комитеты для изучения наркоза, которые провели целую серию важных экспериментов на животных. Утвердить открытие, поставить его на ноги подчас ничуть не менее важно, чем его совершить. Соотечественник Мортона и Джексона американец Робинсон писал: «Многие пионеры обезболивания были посредственностями. В результате случайности местонахождения, случайных сведений или других случайных обстоятельств они приложили руку к этому открытию. Их ссоры и мелкая зависть оставили неприятный след в науке. Но имеются и фигуры более крупного масштаба, которые участвовали в этом открытии, и среди них наиболее крупным, как человека и как ученого, скорее всего надо считать Пирогова».
И снова необыкновенная масштабность, удивительная работоспособность, широта новаторской мысли. Французский хирург Мальгень докладывал в Парижской академии о пяти операциях с применением эфирного наркоза. Иноземцев с февраля по ноябрь 1847 года сделал под наркозом восемнадцать операций. Наркозный комитет Московского университета провел за пять месяцев около сорока опытов. Пирогов уже к маю 1847 года получил результаты пятидесяти хирургических вмешательств, более сорока опытов усыпления здоровых людей и почти шестидесяти экспериментов над животными. За год в тринадцати городах России было совершено шестьсот девяносто операций под наркозом. Триста из них сделал Пирогов. Один интересный эксперимент за другим. Вопросов множество! Какими путями действуют пары эфира на организм? Можно ли свести к нескольким типам многообразные явления, возникающие после введения наркоза? Зависит ли успешное применение наркоза от техники усыпления? Нужны ли изменения в конструкции аппаратов для «эфирования»? Пирогов старался, например, достигнуть обезболивания не только путем вдыхания паров эфира, но и другими способами — введением наркоза в артерии, вены, трахею, прямую кишку. Он стремительно обгонял время. Некоторые предложенные им методы введения наркоза в организм стали применять на практике лишь спустя десятилетия. Пирогов сделал первую операцию под наркозом на неделю позже, чем Иноземцев, — 14 февраля 1847 года. Он признавался, что «медлил и неохотно приступил к употреблению этого средства в первый раз». Так привычно сопровождать всякое деяние Пирогова эпитетом «первый». И вдруг «на неделю позже»! Обогнали! Разве Пирогов узнал о наркозе и успешном его применении позже Иноземцева? Конечно, нет. Оба узнали в одно время, из одних и тех же источников. Но Пирогов не Мортон и не Джексон. И приоритет для него никак не важнее самого открытия. Смелость настоящего хирурга не безрассудство, а уверенность. Недолгий срок — от появления первых сообщений о наркозе до применения в собственной практике — для Пирогова пора серьезных раздумий, пора приобретения и наращивания уверенности. Он рассказал потом о своих сомнениях. Как действуют пары эфира на организм? Какова степень обезболивания? Долго ли оно продолжается? Что изменяется в операции, когда больной перестает по-своему в ней участвовать — не может ответить на вопрос хирурга, изменить положение тела, выплюнуть кровь? Вот что заставляло медлить Пирогова. Он упоминал между прочим и о «предубеждениях» морального характера: «Делать операцию над человеком, находящимся в бесчувственном состоянии, есть не такая-то приятная обязанность для хирурга, особливо когда он уже успел твердой волей, рассудком и привычкой уничтожить в себе восприимчивость к неприятным впечатлениям, причиняемым криками и воплями больных». Пирогов не мог не понимать важности, необходимости обезболивания, не мог не учитывать опыта других хирургов и вместе с тем знал, что ответ на эти вопросы и на сотни других, которые встанут перед ним завтра, сможет получить только из собственной практики. Но ему нужна была уверенность, чтобы начать. Видимо, Иноземцев обрел ее раньше Пирогова. Ничто, однако, не могло заставить Пирогова погнаться просто за первенством. И характерно: Иноземцев сделал уже свою первую операцию, на той же неделе вторую и третью, а Пирогов накануне своей первой еще раздумывает, пробует — усыпляет больную, которой назавтра собирается вырезать раковую язву, усыпляет «вхолостую», для пробы, чтобы увидеть воочию, как действует на нее наркоз. Вот на чем он «потерял» лишнюю неделю! Зато, когда с первыми собственными шагами пришла уверенность в том, что «операция, произведенная без боли, гораздо безопаснее, чем сопровождаемая ею», Пирогов стал рьяным поборником обезболивания. Вот тут-то словно срывается с вершины стремительный, бурный ноток экспериментов, охватывающих огромный круг проблем. Вот тут-то вырывается наружу пироговская решительность и неутомимость в поиске. Триста операций под наркозом за год! Он мог, оказывается, «опоздать» на неделю, на две — и все-таки стать первым. Так получалось всегда: стоило Пирогову заняться каким-нибудь новым делом, он тотчас вырывался вперед и уже вел современников за собой. Теперь он был уверен. «Я уверился, — писал он, — что эфирный пар есть действительно великое средство, которое в известном отношении может дать совершенно новое направление всей хирургии».
Поездка из Петербурга на Кавказ была в пироговские времена непростым и нелегким делом. Собираясь в дальний путь, профессор хирургии и член-корреспондент Академии наук Николай Иванович Пирогов выбрал не щегольскую коляску, не барский экипаж, а простой сибирский тарантас — неказистое сооружение из окованного листовым железом кузова, укрепленного на длинных рябиновых жердях. Не лакированный блеск нужен был Пирогову и не подушечное удобство, а надежность. Он торопился к цели и не мог позволить себе тратить время на дорожные происшествия. Сидеть в тарантасе было неудобно. Лежали на бурках. Ехали втроем: Пирогов, его ассистент Неммерт и фельдшер Калашников. В тарантасе было тесно: везли ящики с инструментами, эфир, Пирогов прихватил тридцать сконструированных им приборов для «этернзации» — он собирался раздать их военным врачам. Делали остановки только для продолжения работы. В Москве Пирогов присутствовал на операциях у Иноземцева, ставил опыты с Филомафитским. Сибирский тарантас упрямо катился на юг. Цель поездки Пирогова на Кавказ — «испытать эфирование при производстве операций на поле сражения». На Кавказе шла долгая война с горцами. Давно известно, что бранное поле — самое широкое поле деятельности для хирурга. Нигде нельзя было испытать действие эфирных паров в таких масштабах, как на фронте. И нигде не было обезболивание столь долгожданным, нужным и благодетельным средством. Еще Багратион говаривал, что легче пробыть шесть часов в бою, чем шесть минут на перевязочном пункте. Пирогов это понимал: «Уже тотчас при введении эфирования в хирургическую практику казалось очевидным, что нравственное его влияние на страждущее человечество там преимущественно необходимо, где стекаются в одно и то же время тысячи раненых, жертвовавших собой для общего блага». Сибирский тарантас катился на юг. Благоухали дикими травами необозримые степи. Их перемежали цепкие красноватые лозы виноградников. Мягкая, веселившая глаз зелень сменилась грустной охрой. Путешественники переправлялись через мутноватые, скатывавшиеся с гор реки. Горизонт все круче полз вверх, словно кто-то из баловства выше и выше подымал один край ковра. Наконец пейзаж стал совсем отвесным — обернулся скалами и ущельями. Преобладал уже суровый серый цвет. Для русских литераторов Кавказ был свободой или тюрьмой, иногда смертью. Сюда убегали от Петербурга. Сюда ссылали. Здесь могли убить. Своей или «чеченской» пулей. Для читающих людей существовал Кавказ пушкинский, лермонтовский, бестужевский. Чир-Юрт, Сулак, Кой-Су — названия хранили память о Полежаеве. Университетский знакомец Пирогова, поэт, самим царем отданный в солдаты, искал в этих краях свое бессмертие. В Москве Полежаев просидел год в каземате. Год под землей, в каменном мешке. Закованный в колодки, сочинял стихи и ждал, что его прогонят сквозь строй. Его «помиловали» — отправили на Кавказ, под пули. Полежаев три года участвовал в военных операциях. По каменистым тропам таскал на себе тяжелые орудия. Штурмовал аулы, похожие на орлиные гнезда. Пули оказались добрее государя императора: они не сразили поэта. На сером камне и высоком походном барабане, в горской сакле и казацкой избе он творил свой подвиг — писал стихи. С театра войны он прислал книжку стихотворений, несколько поэм. В одной из них он провидел свое бессмертие:
На полежаевском Кавказе рядом с романтикой величественной природы и волнующим чувством опасности жили будни солдатчины: потные, облепленные пылью люди грызли сухари, размоченные в болотной жиже, зашивали худые сапоги, помирали под пулями и от поноса. Стремительные горные реки не радовали глаз, когда надо было переходить их вброд. Горные вершины не манили, когда надо было с тяжелым ружьем и ранцем карабкаться вверх по камням. Полежаева отозвали с Кавказа и убили унижениями, чахоткой, розгами — после наказания из его спины еще долго вытаскивали прутья. Через год после смерти Полежаева его помянул еще один воспитанник Московского университета, Михаил Лермонтов. В поэме, названной, как и полежаевская, «Сашка», Лермонтов обратился к его костям, «покрытым одеждою военной»:
Это было пророчество. Следующим убили Лермонтова. Пирогов проехал и лермонтовский Пятигорск и полежаевский Чир-Юрт. От Чир-Юрта сибирский тарантас сопровождали драгуны. Пирогов въезжал в глубь Кавказа. Одновременно он въезжал в новую для себя область — военную медицину. Ему еще предстояло внести в нее неоценимый вклад. Впрочем, такой вклад Пирогов вносил во всякое дело, за которое брался.
К осаде Гиргибиля Пирогов и его спутники не поспели. Вместе с войсками они двинулись под Салты. С полюбившимся тарантасом пришлось расстаться — он не подходил для узких горных дорог. Ехали верхом. Следом тянулись вьючные лошади с багажом. Пирогов сравнивал аулы с гнездами ласточек. Аул Салты стоял поперек ущелья. Скалистые уступы и пропасти защищали его со всех сторон. Пирогов отмечал, что «строившиеся умели пользоваться местностью и имели в виду оградить себя от нападения неприятеля». Осада Салтов тянулась почти два месяца. Все это время Пирогов жил в солдатской палатке без пола. Осаждающие тайно сделали подкопы, заложили мины. Сильные взрывы послужили сигналом к приступу. Бой за аул был жесток и труден. Сакли с бойницами вместо окон, расположенные на террасах, одна над другой, узкие переулки, в которых не разминуться двоим, подземные ходы. Выстрелы сверху, снизу, сбоку. Каждую саклю приходилось брать отдельно. После решающего штурма Пирогов перевязывал раненых и оперировал несколько суток подряд, с семи утра и до часу ночи. Генералы прославляли взятие Салтов, как замечательную стратегическую победу. В истории Салты остались благодаря тому, что здесь впервые был применен наркоз на поле сражения. Не генералам, а Пирогову обязаны Салты славой. Пироговский лазарет под Салтами размещался в шалашах. Солнце протискивалось сквозь сплетенные из ветвей стены, плотными лучиками упиралось в земляной пол — под ногами сверкали россыпью зеркальные осколки. Раненых укладывали на скамейки, сложенные из камней. На камни настилали солому. Ее не успевали менять, она пропитывалась кровью. Под голову раненым подкладывали сложенную амуницию. Пирогов оперировал, стоя на коленях. Поздно ночью он с трудом распрямлял согнутую целый день спину. От холодного каменистого пола мучительно ныли колени. Пирогов сделал под Салтами сто хирургических операций с наркозом. Случалось, десять операций следовали одна за другой. Его поражала тишина. Молчащая операционная — тогда это казалось чудом. За спиною хирурга собирались зрители. Пирогов не гнал их. Они разносили славу «замирательных капель» по всему кавказскому театру. С перевязочных пунктов, где даже герой Багратион страшился провести несколько минут, уходил страх. «Отныне, — говорил Пирогов, — эфирный прибор будет составлять, точно так же как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле». Темир-Хан-Шура, Турчидах, Салты, Кумых, Дербент, Баку, Шемаха, Нуха, Тифлис. Пока профессор Пирогов продолжал свое путешествие по Кавказу (все в том же тарантасе, растянувшись на бурке между громоздкими ящиками с багажом) и продолжал изучение действия паров эфира, акушер Симпсон в далеком Эдинбурге обнаружил, что в качестве обезболивающего средства можно с успехом применять еще одно вещество — хлороформ. Симпсон доложил о своем открытии 10 ноября 1847 года. Хлороформ показался многим соблазнительнее эфира: усыпляющее его действие было сильнее, сон после него наступал быстрее, для его применения не требовалось специальных аппаратов — платок или кусок марли, смоченный в хлороформе, мог заменять маску. Против Симпсона, который использовал хлороформ для обезболивания родов, восстали церковники. «Это противно священному писанию, — твердили они. — Там сказано: «В муках будет рожать Ева детей». Научные аргументы в расчет не принимались, но находчивый акушер побил неприятеля его же оружием. Он заявил: «Мои противники забывают 21-й стих второй главы книги Бытия. Там упоминается о первой в истории хирургической операции. И что же? Творец, прежде чем вырезать у Адама ребро для сотворения Евы, погрузил его в глубокий сон». Этот довод решил спор. Хлороформный наркоз зашагал по свету еще быстрее, чем эфирный. Русские хирурги приняли его на вооружение всего через месяц после доклада Симпсона. В конце декабря 1847 года, на обратном пути с Кавказа, за хлороформ взялся Пирогов. Взялся опять-таки с пироговским размахом. К началу 1849 года он уже подвел итоги трехсот операций под хлороформом, а еще через пять лет их число выросло до двух с лишним тысяч. И ведь что важно: Пирогов не только сделал эти две тысячи операций, но и проанализировал. Да еще сопоставил для сравнения с итогами подобных же операций, произведенных без наркоза, для чего разобрал архив Обуховской больницы за двадцать лет! И окончательно вывел: «Итак, и наблюдение, и опыт, и цифра говорят в пользу анестезирования, и мы надеемся, что после наших статистических исчислений, сделанных совестливо и откровенно, ни врачи, ни страждущие не будут более, увлекаясь одними предположениями и предрассудками, восставать против нового средства, столь важного в нравственном и терапевтическом отношении». Кавказскими трудами Пирогов не только доказал возможность и пользу применения наркоза на поле сражения. И другими весомыми слитками обогатил он золотой фонд военной медицины. Пирогов первый заговорил о «сберегательном лечении». Прежде считали: раз повреждена кость — значит, ампутация. Пирогов стал заменять ампутации резекциями, иссечениями суставов. Несколько резекций локтевого и плечевого суставов Пирогов сделал на поле боя. Сложный перелом прежде тоже означал ампутацию. Пирогов применял неподвижную крахмальную повязку. Он говорил, что покой может спасти конечность. Чтобы испытать, хороша ли крахмальная повязка, Пирогов после непрерывных многочасовых операций сам сопровождал караваны; на трудных горных тропах сравнивал, изучал транспортные средства, наблюдал за состоянием раненых в пути. И еще одно важное правило «сберегательного лечения» вывел на Кавказе Пирогов — рассечения ран. Он расширял входное и выходное отверстия огнестрельных ран, чтобы «доставить свободный выход скопившемуся в глубине раны гною, излившейся крови и омертвелой клетчатке». Первичную обработку ран он считал главным условием для их счастливого лечения. К пироговскому «Отчету о путешествии по Кавказу» приложена «Таблица операций, произведенных нами и другими хирургами в России с помощью анестезирования». Известны, таким образом, имена людей, которых оперировал Пирогов. Сотни имен. Сотни судеб. Вот счастливая судьба. № 521 — Герасим Губа, рядовой. Его имя упоминается еще и в корреспонденции о работе Пирогова на Кавказе, напечатанной в одном из журналов того времени. Рядового Ашперонского пехотного полка Герасима Губу ранили под Гиргибилем. Пуля попала в локоть. Сустав нагноился. Герасим лежал в госпитале в Темир-Хан-Шуре. Ему было плохо. Он боялся, что рука пропала — отрежут. Герасиму шел всего двадцать шестой год. У Герасима была одна надежда: говорили, приехал из Петербурга «чудесный доктор», который все может. Герасим ждал его, старался не помереть. Держался неделю, две, три. В бреду, правда, стонал. Когда рядовому Губе дали наркоз, он заснул быстро и спал глубоко. Пирогов не стал ампутировать руку. Он произвел резекцию — удалил локтевой сустав. В Темир-Хан-Шуре Пирогов сделал четыре такие операции» Четырем рядовым: Зюзину, Ткачеву, Хурдею и Губе. …Поздней осенью сибирский тарантас катился обратно на север. Шли дожди. Колеса вязли в грязи. Неподалеку от Тифлиса пришлось заночевать в поле. Грязь была такая глубокая, что лошади стали. На Военно-Грузинской дороге лежал снег. Кавказ остался позади. Шалаши, палатки, аулы, стрельба, баталии. Солдаты. Герасим Губа, сотни, тысячи его товарищей. Они долго смотрели вслед неказистому тарантасу, увозившему «чудесного доктора».
В длительном и нелегком путешествии профессор Пирогов, и без того не больно следивший за своей наружностью, вовсе пообтрепался. Проезжая по пути с Кавказа Белокаменную, великий хирург удивил московский ученый мир непонятным одеянием, лишь отдаленно напоминавшим засаленный сюртук, и перевязанными бечевкой ботами на собачьем меху. В Петербурге он наскоро переоделся и поехал докладывать военному министру об итогах кавказской экспедиции. Он говорил: — Россия, опередив Европу нашими действиями при осаде Салтов, показывает всему просвещенному миру не только возможность в приложении, но неоспоримо благодетельное действие эфирования над ранеными на поле самой битвы… Военный министр князь Александр Иванович Чернышев недовольно разглядывал стоявшего перед ним профессора хирургии. Холодно цедил слова. Коротким кивком головы закончил аудиенцию. Ни одобрения, ни благодарности. Назавтра Пирогова вызвал генерал-адъютант Анненков, попечитель, распекал за нерадение к установленной форме. От имени министра сделал резкий выговор. Подумать только, до чего дошел Пирогов: не в том мундире на доклад явился! Дома с Пироговым случилась истерика. Он рыдал. Не похоже на Пирогова? Но он сам так и пишет: «…Со мною приключился истерический припадок со слезами и рыданиями». Наверное, от безысходности, невозможности бороться — с этим сильному человеку мириться труднее всего. Пушкин говорил о себе: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их». Говорят, Пушкина отливали водой, когда узнал он, что произведен в камер-юнкеры. Пирогов был из тех же «суровых славян». Насмешка часто заменяла ему слезы. Его истерика словно страшная, искаженная насмешка. Другой бы, наверное, просто тихо заплакал от обиды. Пирогов был горд. К тому же знал себе истинную цену. Истинную, потому что никто не вычитал из нее за всякую ошибку таких высоких штрафов, как он сам. Чернышев и Анненков оценивали Пирогова по другому курсу. И указывали ему «его место». Мундирная пуговица перевешивала операции на поле боя, «сберегательное лечение», сотни трудных верст, намотанных на колеса простого сибирского тарантаса. Для человека, умеющего и привыкшего думать и действовать, страшнее всего, когда ему не велят думать и требуют, чтобы он не действовал, а поступал «как положено». Пирогов не мог не думать и не действовать. Он обязан был думать и действовать. Призвание для Пирогова важнее и выше гордости. Но думать и действовать он должен был в вотчине Чернышева и Анненкова, потому что, кроме Чернышева и Анненкова, там лежали сотни больных людей, которые ждали Пирогова. Значит, надо было переступить через себя. Проглотить оскорбление. Затаить обиду. Выхода тут не было. И смириться было невозможно. Пирогов ломал себя, взорвался истерикой, рыдал.
Фаддей Булгарин, скверный беллетрист, издатель пакостной газетенки и доносчик из Третьего отделения, прожил долгую, полную мерзостей жизнь. Он много успел. Острием своего продажного пера он бил в спину и Пушкину и Пирогову. Когда затевали гнусность — донос, клевету, травлю, — приглашали Булгарина. Он мастерски справлялся с грязными делами и мастерски превращал любое дело в грязное. Ядовитые укусы булгаринской клеветы были болезненны и опасны. Люди привыкают опираться в споре на понятия, не вызывающие сомнения. Труднее всего доказать, что белое — не черное или что сладкое — не горькое. Булгарин лгал устрашающе неправдоподобно, его было трудно опровергать. Пирогова он обвинил в плагиате. Булгаринская клевета не случайный эпизод. Она некрасивый и неожиданный финал истории отношений Пирогова с руководящим советом профессоров — конференцией Медико-хирургической академии. Эти отношения не могли быть безоблачными. Само появление Пирогова в академии создавало повод для конфликта. Запретив выбирать профессоров из «своих» и водворяя на кафедру молодого дерптского профессора, Клейнмихель ломал устои. И все же конференция дружно проголосовала за Пирогова — его достоинства были бесспорны. Своевластный попечитель мог с таким же успехом предложить всякого другого кандидата. И приказать проголосовать «за». Конференция без оговорок отдала Пирогову кафедру и клинику, однако старые профессора поглядывали на «новичка» настороженно: как-то поведет себя? Он повел себя не как «свой», а по-своему. Скоро выяснилось, что академии он нужен не меньше, чем ему академия, и что он не собирается склонять голову перед уставом чужого монастыря. Избрание на должность не нарушало прежде покоя конференции. Профессора сами подыскивали себе смену из своих. Делалось это полюбовно. Часто по-семейному. Профессор Буяльский былплемянником профессора Загорского. Профессор Наранович — племянником профессора Буяльского. Профессор Хоменко — двоюродным братом профессора Савенко. Профессор Калинский — зятем профессора Пелехина. Среди профессоров было много дельных, способных людей. Пирогов не отрицал заслуг каждого из них. Он отрицал самый принцип патриархальных, семейственных выборов «по сговору». Не умилился благосклонностью конференции, вопреки традиции принявшей его в свои ряды. Уверенно занял место за общим столом и принялся взрывать неприемлемую традицию изнутри. «Пришлый», «чужак», Пирогов не захотел быть «приятным исключением». Он утверждал себя как правило. Насмехался: семейственность в академии дошла до того, что профессоров, кажется, стали избирать лишь из числа бывших семинаристов одной губернии. Иронически называл их «черниговцами». Выборам по родству, по взаимному соглашению противопоставил свою неподатливую мерку: «Если бы кто-нибудь, например, добивался какой-нибудь должности и если бы даже спасение его жизни и чести зависело от достижения этой должности, я буду всеми силами ему противодействовать без всякого желания вредить ему, как скоро я буду убежден, что он не имеет ни малейшей способности к исполнению предстоящих ему обязанностей». Даже доброжелатели ставили в укор Пирогову случай с Прозоровым. Прозорова выбирали профессором ветеринарной терапии и патологии. Пирогов вначале отдал за него свой голос. Но через месяц сообщил конференции, что берет свой голос обратно: избрание Прозорова не пойдет на пользу делу. Смешно упрекать Пирогова в «переменчивости», доказывать, что на него повлияли враги Прозорова, выдвигавшие другого кандидата. Пирогов — человек, и ему свойственно было ошибаться. Пусть он неверно оценил значение Прозоровских трудов (наверное, так оно и есть — Прозоров немало сделал для своей науки). Пусть даже (хоть это и не похоже на Пирогова) поддался чьей-то «обработке». Не в этом суть! Пирогов не мог не понимать, что вся эта история тотчас обернется против него. Что он сам дал оружие противникам и пищу сплетням. И все же поступил так, а не иначе. Во имя пользы дела он привык публично признавать свои ошибки. Хотя в данном случае само признание было скорее всего ошибкой. Пирогов ошибся почетно, утверждая правильный принцип. Да, речь шла о принципе. Столкновения Пирогова с конференцией всегда возникали при избрании на должность. Некоторые были склонны объяснять эти столкновения борьбой партий. Но странно, «партии» вдруг исчезали, когда обсуждались научные вопросы. «Противник» Пирогова профессор Наранович одобрительно отзывался об итогах его поездки на Кавказ. Другой «противник», профессор Саломон, не одобрял пироговской идеи Анатомического института — и терпел поражение. Конференция поддерживала доклад Пирогова о снабжении госпиталей медикаментами. Но Пирогов неизменно оставался в меньшинстве, когда старался «быть полезным академии в выборе новых наставников». Тут мерки не совпадали. Иные же — из тех профессоров, что не с идеями Пирогова боролись, а с самим Пироговым, — имели в день выборов случай «отыграться». И спасти себя. Чувствовали — несдобровать им, если Пирогов получит возможность выбирать коллег себе по плечу. В 1848 году Пирогов снова скрестил шпаги с большинством конференции, на сей раз при избрании Шипулинского. Шипулинский был зятем Буяльского. Профессор Буяльский к тому времени ушел из академии. Он отслужил свой срок, жаждал продолжать работу, но начальствующий генералитет убрал его в отставку. Буяльский мог еще многое сделать — через двадцать лет после ухода из академии он издал великолепный атлас «Фотографические рисунки вытравленных артерий и вен почек человеческих». Буяльского вынудили сидеть не у дел и наблюдать, как его должности одна за другой переходят к Пирогову. Буяльский был близко знаком с Булгариным. Незадолго до дня выборов в булгаринской «Северной пчеле» начали появляться восторженные заметки о заслугах Шипулинского. Пирогов высказал мнение, что к невоздержанным панегирикам приложил руку сам Шипулинский. Это послужило поводом. Булгарин выступил в поход. Он повел «кампанию» по всем правилам булгаринской тактики. Посыпались клеветнические фельетоны и «письма», в которых все — труды Пирогова, его научные заслуги, его операции, его характер, взгляды, семейная жизнь, — все обливалось ложью, пересыпалось грязными намеками. Большинство биографов считает, что травлю Пирогова возглавлял Буяльский. Слишком много косвенных улик: Буяльский — конкурент Пирогова, проигравший сражение, тесть Шипулинского, приятель Булгарина (кстати, в булгаринских фельетонах содержались медицинские экскурсы). Слишком много косвенных улик — и ни одной прямой. Надо быть особенно осторожным. Обстановка благоприятно сложилась как раз для тех, кто любит ловить рыбу в мутной водице. Из-за широкой спины Буяльского удобно было стрелять тем, для кого гонорар от десятка больных, «переметнувшихся» к Пирогову, был дороже славы всей русской науки. Разговорами о «личной обиде» изгнанного Буяльского легко было прикрывать тех, кто выживал из академии Пирогова. Венец «антипироговского творчества» Булгарина — шулерски состряпанный фельетон, в котором «доказывалось», будто Пирогов «заимствован» часть своего «Курса прикладной анатомии» из сочинения английского анатома Чарльза Белла. Пирогов не считал нужным защищать свою честь ученого перед неучем, защищать свою честь человека перед подлецом. Он потребовал суда над клеветником. И снова подал в отставку. Объясняя этот шаг, Пирогов не унизился до перечисления обид. Он говорил только о принципе, он обнажил суть своих разногласий с конференцией. Он написал прошение-трактат о наставнике молодежи. Не только ученость. Главное — высокие нравственные достоинства. Чистая душа и открытое сердце — вот пропуск на кафедру. Избрание в профессора не по достоинству, а по рекомендации, для продвижения по службе, за выслугу лет — выстрел в завтрашнее поколение. Как оценить нравственный облик кандидата? Одним лишь нелицеприятным разбором его поступков, идей, стремлений? Но конференция избегает смелого и откровенного суждения о достоинствах избираемых. У конференция свое мерило — послужной лист. Чистый послужной лист — свидетельство высоких моральных качеств. Не мудрено, что твоим соседом за столом конференции сказывается профессор, запятнавший себя связью с продажным журналистом и пригласивший его для «защиты научных истин». Пирогов признал себя побежденным: «Я не мог, несмотря на все старания, быть полезным академии в выборе будущих наставников». Пирогов просил разрешения покинуть академию. Булгарин не сел на скамью подсудимых. Но суд над ним состоялся. Его осудила История. И кто бы ни были противники Пирогова, призвав в помощники Булгарина, они подписали себе обвинительный приговор. Отставку Пирогова не приняли. Но ему было уже не до отставки. Он понял, что не имеет права уходить, — он нужен. Пришла холера.
Умершие от холеры похожи на атлетов. Их окоченевшая мускулатура резко очерчена, рельефна. Руки, крепко сжатые в кулаки, чуть согнутые в коленях ноги, напряженные, как перед решающей схваткой, тела — позу холерного трупа анатомы уподобляют позе гладиатора. Их было множество, этих «гладиаторов», погибших в бою со страшным врагом — холерой. Только в Петербурге и окрестностях умерло шестнадцать с половиной тысяч человек. Пирогов не успевал вскрывать трупы. Холера, издавна бушевавшая в странах Востока и Юга, для России была болезнью новой, неведомой. Она явилась к нам впервые в 1823 году и затем на протяжении ста четырех лет возвращалась еще семь раз. Самым страшным был третий визит холеры. Он тянулся четырнадцать лет (с 1847 по 1861 год) и унес в могилу около полутора миллионов человек. Пирогов познакомился с холерой в Дерпте. На его руках умер товарищ по профессорскому институту — Шрамков. Он проболел всего шесть часов. Пирогов был при нем неотлучно. Уже потом, дома, к Пирогову пришел страх. Ему казалось, что он заболевает. Он чувствовал, как подступает тошнота. Он знал, что нельзя распускаться, нужно взять себя в руки. Принял теплую ванну, напился чаю, уснул. Проснулся здоровым и — Пирогов есть Пирогов! — отправился в лазарет вскрывать холерные трупы. В то время прибыли в Дерпт два известных французских врача, изумились, застав Пирогова за этой работой. Принялись выспрашивать, еще больше изумились познаниям Пирогова, выводам, которые он делал. Исписали записные книжки от корки до корки и, очень довольные, пригласили Пирогова в Париж. Это было в начале тридцатых годов, во время второй холерной вспышки. Болезнь захватила тогда пятьдесят шесть губерний, впервые пришла в Москву, в Петербург. Матвей Яковлевич Мудров опытным врачебным взором тотчас увидел в новой болезни народное бедствие, бросился по городам создавать комитеты для борьбы с холерой, исцелять страждущих. Заразился и умер. Холеру 1847 года встретил Пирогов. Он столкнулся с нею, когда она только начинала свое путешествие по России. В отчете о поездке на Кавказ Пирогов обронил: «Мы ехали навстречу холере». Мимолетная, небрежная фраза потрясает бесстрашием. Кавказская экспедиция принесла ему немало наблюдений. И хотя цель ее была иной, в отчете нередко попадаются упоминания о холере. Эти заметки беглы и разнообразны. Они подобны карандашным зарисовкам. Планомерное изучение болезни Пирогов провел в Петербурге. Сотни трупов, сотни поверженных «гладиаторов». Они лежали на столах в Анатомическом институте, громоздились вокруг жестяных печей, заполняли чердаки и сени. И каждый под ножом Пирогова раскрывал хотя бы крохотную частичку секрета холеры. Пирогов стремился как можно полнее исследовать и описать все те изменения, какие происходят в организме больного. Его труд — «Патологическая анатомия азиатской холеры. Из наблюдений над эпидемиею, господствовавшею в России в 1848 году» с патологоанатомическим атласом этого заболевания — широкое, скрупулезно выписанное полотно, где каждый мазок положен на свое место, каждая деталь продумана и завершена. Изменения в тонких и толстых кишках, желудке, печени. Изменения в органах дыхания и кровообращения, в органах нервной системы. Глава за главой, раздел за разделом, параграф за параграфом. Обилие цифр. Описания предельно точны, подчеркнуто лаконичны, даже суховаты. И все же то там, то здесь под пером увлеченного Пирогова вдруг всплеснет золотой рыбкой поэтическое словцо. И в сугубо ученом тексте появляются «возвышенные над уровнем слизистой оболочки островки», и жидкость не какого-нибудь — «шафранного» цвета, и даже ворсинки слизистой оболочки, похожие на «отцветшие головки одуванчиков». Говорят, поэт — человек, который делает поэзией то, что до него считалось непоэтичным.
Римлянин Лукреций — гениальный поэт и гениальный ученый. Его поэма «О природе вещей» — и поэзия и наука.
Они собирались точно в назначенный день и час. В черных сюртуках и чопорных черных галстуках. Физиолог Загорский. Терапевт Здекауер. Акушер Шмидт. Фармаколог Реймерс. Доктора Фосс, Гигинботом, Розенбергер, Фребелиус, Линген. Академик Александр Федорович Миддендорф, естествоиспытатель и путешественник; он составлял описание Сибири, для чего прошел по Енисею от Красноярска до Таймыра, а затем отправился через Якутск на Шантарские острова. Казак Луганский, он же Владимир Даль, старый товарищ Пирогова, врач, писатель, чиновник, главное же — ученый, из тех, для кого наука — искусство. Они были похожи на строгие и мудрые гекзаметры Лукреция. Все вместе они именовались «Пироговский врачебный кружок» — «Ферейн». Есть ученые, которые довольствуются тем, что сами узнают новое. Есть иные — этих все время мучит тревожное желание поскорее передать другим то, что они знают сами. Пирогов был именно такой. Каждая фраза его многочисленных трудов, лекций, даже частных писем до краев налита этим жгучим стремлением — учить. Вокруг Пирогова объединились в «Ферейн» его почитатели — те, которые не хотели запирать в себе свои знания и заблуждения, ждали чужих мнений, искали новых открытий. С 1849 года на заседаниях стали вести протокол. Пирогов сделал в кружке сто сорок одно сообщение — вдвое, втрое, вдесятеро больше, чем другие члены «Ферейна». Темы его сообщений удивительно разнообразны: хирургия, терапия, неврология, фармакология, судебная медицина. Они удивляли друг друга, убеждали, горячо спорили, они искали истину, люди в черных сюртуках и чопорных черных галстуках. Пирогов любил эти вечерние часы — живой обмен мыслями, откровенные диспуты, согревающую сердце радость познания. Наука сливалась с жизнью. Жизнь растворялась в науке. Древние мечтали великое знанье ясным стихом усладить, приправить ученье сладостным медом поэзия. В такие вечера Пирогов ощущал благоуханье меда. Было тепло, не одиноко.
После смерти Екатерины Дмитриевны он дважды хотел жениться. По расчету. Не верил, что еще полюбят. Хотел пересилить себя. Приметил одну девицу, стал бывать в доме. Ничего не объяснял, не писал трактатов — приглядывался. На балу ужаснулся: девица танцевала слишком увлеченно, «с каким-то наслаждением». В упоении прикрыв глаза, она проносилась мимо; Пирогов провожал ее взглядом, с содроганием вспоминал ненавистного учителя танцев из кряжевского пансиона — обтянутые жирные ляжки. Испуганно озираясь по сторонам, профессор хирургии сбежал с бала. Другая избранница оказалась не в меру скромной. В ответ на туманный намек заявила постно, что замуж вообще не собирается. А Пирогов и рад: раскланялся да на крыльцо. Пирогов называл детей своим земным бессмертием. Он страстно желал дать сыновьям нежную мать. И не в силах был превозмочь себя — жениться. Любви в жизни не было. Брак по расчету сулил несчастье. Не ему — детям. Мать могла обернуться мачехой. Пирогов писал стихи о цветке мать-и-мачехе. О странных листьях: «Их сторона лицевая гладка, свежа и, как лед, холодна, хоть и красное солнышко греет ее»; другая же, хоть и приникла к земле и божьего света не видит, — тепла, пушиста и мягка. Пирогову горячо сочувствовал художник Федор Моллер, автор известного портрета Гоголя. Моллер встречался с Пироговым в Ревеле, на морских купаниях, и в Петербурге, в доме молодой вдовы, генеральши Козен. В кружке генеральши стали подыскивать для профессора Пирогова подходящую жену. У гроба Екатерины Дмитриевны (гроб стоял на том самом месте, где накануне сверкала украшенная елка) Пирогов прозрел. Он не хотел больше, подобно Пигмалиону, создавать женщину, которую искал. Он хотел, чтобы та, которая создана для него, сама пришла к нему. Во всякое дело Пирогов привносил научные приемы и методы. Тут он был неисправим. И снова он создал в воображении идеал женщины — друга, жены, матери. И снова изложил свои взгляды в обширной статье. Но статья вышла глубже и значительнее, чем письмо-трактат, адресованное к Березиной. Статья не была предназначена ни для кого в частности. Пирогов ждал, что, неведомая и прекрасная, ОНА сама узнает себя, откликнется. Пироговский «Идеал женщины» в списках ходил по рукам. «Идеал женщины» восторженно читала юная баронесса Александра Антоновна Бистром [её портрет], племянница генеральши Козен. Девятнадцатилетняя девушка чувствовала себя «одинокой душой», много размышляла о жизни, любила детей и ненавидела танцы. Генеральша в самом возвышенном тоне рассказала Пирогову о своей племяннице. — Она читает и перечитывает «Идеал женщины». — Передайте ей также «Вопросы жизни». Они закончены. «Вопросы жизни» — статья о воспитании. Чтобы обновить общество, нужны новые люди. Из какого материала лепить этих новых людей? Опубликовать такой труд во времена николаевской цензуры было немыслимо. «Вопросы жизни» молниеносно разошлись в списках. Статью знали всюду. О ней говорили, спорили. По выражению современника, с нею «носились из угла в угол». Пирогов читал «Вопросы жизни» у генеральши Козен. В этот вечер он познакомился с Александрой Бистром. Через несколько дней он писал Моллеру: «Я нарочно сел напротив этой особы и только теперь в первый раз пристально взглянул на нее. Я дошел до второго вопроса (об устройстве семейного быта). Читая его, я чувствовал, что дрожь и какие-то сотрясающие токи взад и вперед пробегали по моему лицу. Мой собственный голос слышался мне другим в ушах. Я непроизвольно опять посмотрел на незнакомку и на этот раз вижу: она отвернулась и украдкой утерла слезу… Мы обменялись несколькими словами. Она проиграла чудный романс Шуберта. Я так сидел, что не мог ее разглядеть хорошенько. Но для чего мне это было, когда я знал, я убежден был, я не сомневался, что это она?» Когда говорят о превосходстве ума над чувствами, обычно предполагают, что ум сдерживает чувства. Ум Пирогова воспламенял его чувства. Он считал, что «это она», — он чувствовал, что «это она». На другое утро генеральша получила от Пирогова огромное благодарственное послание и заново написанные заключительные строки «Вопросов жизни». Эти строки он просил передать баронессе Бистром. Надо тотчас решить: да или нет. «Если да, то пусть рука той, которую я вчера у Вас видел и которую избираю моим судьею, проведет пером черту под тремя последними словами». Три последние слова были: «Да, я готова». Скоро он получил ответ. Заветные слова были подчеркнуты двумя чертами. Он бросился к ней. Она жала его руку, говорила: «Мы уже давно знакомы». «И мы пошли, знакомые уже полжизни, рука в руке, и говорили целый вечер без волнения, ясно, чисто об участи моих детей, их воспитании, решении для них вопросов жизни. И сходство чувств пожатием руки обозначалось. Как друга старого, так просто и спокойно она взяла меня за руку и повела принять отца и матери благословенье. Вот Вам моя поэма. Судите как хотите, но кто же может это быть, как не она?» Они обвенчались в нюне 1850 года. Четыре месяца до брака Пирогов бомбардировал невесту письмами. Он отправлял их несколько раз на дню — три, десять, двадцать, сорок страниц мелкого убористого почерка! Он торопливо раскрывал ей себя — свои мысли, взгляды, чувства, пуще же всего свои «худые стороны», «неровности характера», «слабости». Он уже не хотел, чтобы она любила его только за «великие дела». Он хотел, чтобы она любила его такого, какой он есть, простого, обыкновенного, «маленького». И он следил за собою, «как чиновник тайной полиции», анализировал, судил, требовал отчета беспрестанно и беспощадно. На столе у Пирогова между свечами дагерротип Александры Антоновны. Тут же гипсовый слепок с ее руки. По ночам Пирогов зажигает свечи, пьет перед портретом шампанское, целует гипсовую руку. Вдруг замечает: невеста на дагерротипе в черном платье. Вспоминает, как кто-то говорил ему о Екатерине Дмитриевне, которой черное было к лицу: «Зачем она все в черном, разве невесты черное носят?» Ему грустно — влюбленные суеверны. Он целует листок бумаги, обозначает пунктиром овал: «Вот тебе мой поцелуй!» Однако натура — ученый-аналитик, ученый-педагог — берет верх. Письмо сворачивает на привычную дорогу очередного трактата. Пока Пирогов готовился к свадьбе, умерла его мать. Письма о последних часах жизни и о смерти матери достойны стоять в ряду лучших образцов русской прозы. Если бы Пирогов вовремя ставил точку! Но ему мало написать картину. Он должен размышлять — поэт и ученый. Он хочет высказаться на тему о материнском чувстве. Сопоставить любовь матери и любовь невесты. Торопливо исписывает листок, другой. Анализирует, детализирует, иронизирует, полемизирует… Невеста, не выдержав, умоляет: «Может быть, со временем моя любовь одушевит вас, и вы также себя почувствуете тогда более способным писать о своих чувствах, нежели о всех возможных умозрениях». …Медовый месяц молодые провели в имении баронессы Бистром. Николай Иванович долгие часы выстаивал у походного операционного стола. Десятки больных из окрестных городов и сел терпеливо ждали очереди. Хирургу ассистировала жена, Александра Антоновна. Ему было хорошо и спокойно.
Сосредоточенность — не бесконечное ковыряние в одном. Сосредоточенность — умение поставить разнообразное на службу одному. Поэтому так много легенд об открытиях, начавшихся со случайного эпизода. Человек увидел, как упало яблоко… Как парит в небе коршун… Как паук перебросил нить паутины через садовую аллею… Случайный эпизод, конечно, может навести на мысль. Однако большей частью он лишь катализатор — ускоряет, подталкивает развитие идеи. Он запоминается. «Почти за 11/2 года до осады Севастополя я, — вспоминал Пирогов, — в первый раз увидел у одного скульптора действие гипсового раствора на полотно. Я догадался, что это можно применить в хирургии, и тотчас же наложил бинты и полоски холста, намоченные этим раствором, на сложный перелом голени». «Один скульптор» — это Николай Александрович Степанов, известный карикатурист, впоследствии основатель и активнейший сотрудник сатирического журнала «Искра». Степанов делал статуэтки-карикатуры, бюсты. Он вылепил, между прочим, и бюст Пирогова. Хирург бывал в мастерской художника. Если следовать за воспоминаниями Пирогова, можно воссоздать весьма занимательную сценку. …В мастерской скульптора. Склонив голову набок, Пирогов разглядывает гипсовую статуэтку. Находит несколько ошибок в анатомии. Скульптор безропотно принимает замечания. Пирогов критикует идею произведения. Скульптор не соглашается, спорит. Непринужденная дискуссия длится с полчаса. Пирогов отправляется домой. Он идет медленно: у него такое ощущение, будто он что-то позабыл в мастерской. Он ищет причину неожиданного беспокойства, точными приемами анатома отпрепаровывает одну мысль от другой. Его внимание привлекает картина, только что мельком схваченная у скульптора. Ведро, лохань и белые окаменевшие тряпки в углу мастерской. Несколько минут Пирогов стоит посреди тротуара. Прохожие толкают его, сердятся. Он не замечает. Поворачивает обратно, почти бегом бросается в мастерскую. Деревянная лестница громко стонет под его стремительными шагами. Он стоит на коленях в углу, мочит тряпки в растворе, раскладывает вокруг себя для просушки. Его черный выездной костюм испачкан белой алебастровой пылью. Он манит рукой скульптора: «Подите сюда!» Засыпает его градом вопросов. То и дело ощупывает тряпки: быстро ли застывают, крепко ли? Через несколько дней в хирургии появится гипсовая повязка. Сценка вполне правдоподобна, однако известно, что за несколько лет до гипсовой Пирогов широко применял при лечении сложных переломов крахмальную повязку. Известно, что в крахмальной повязке он обнаружил немало недостатков: наложение ее продолжительно и хлопотно; она долго не засыхает; к тому же засыхает неравномерно, давит на опухшие части; размокает от дождя и сырости; размягчается от гноя и от жидкостей, которые употребляют для очищения ран; в крахмальной повязке сложно проделывать окна, чтобы поврежденное место было на виду; при употреблении повязки на поле сражения надо иметь под руками горячую воду для варки крахмала. Трудно предположить что Пирогов не думал об устранении этих недостатков. Известно также, что в те годы не один Пирогов — несколько ученых в разных странах думали об использовании гипса в хирургии. Но Пирогов первым нашел единственно верный способ употребления гипса. Сообщая «по горячим следам» об изобретении гипсовой повязки, Пирогов пишет, что предложил способ, «употребляемый лепщиками и скульпторами». И дает сноску: «В первый раз я узнал об этом способе от нашего известного скульптора г. Степанова. В мастерской его я научился также и другим приемам при употреблении алебастра, которые оказались полезными в приложении к нашей повязке». «Узнал об этом способе» и «научился приемам, которые оказались полезными в приложении к нашей повязке», — это звучит совсем иначе, чем «увидел… и догадался, что это можно применить в хирургии». Видимо, по прошествии лет и сам Пирогов поддался на красивый и привычный поворот: открытие началось со случайного эпизода. Сцена в мастерской скульптора, такая, какой она была, по-видимому, на самом деле, толчок уже вынашиваемой идее, мысли, пусть даже предчувствию Пирогова, — конечно, не столь эффектна. Зато выигрывают творческое мышление, цельность, сосредоточенность Пирогова, благодаря которым он снова обогнал время. В Севастополе французские врачи еще не знали о гипсовой повязке. В некоторых же странах ее «изобретали» и через три года после Севастополя. Другая легенда, еще более распространенная, связывает опять-таки случайный эпизод из жизни Пирогова с идеей, которая повернула на новый путь всю анатомическую науку. Чтобы узнать, как расположены различные части тела, анатомы вскрывали полости, разрушали соединительную ткань. Воздух, врываясь в полости, искажал положение органов, их форму. Привычный метод препарирования удовлетворял тех, кто изучал устройство органов. Пирогов выдвинул на первый план топографию. Он хотел, чтобы для хирурга человеческое тело было как бы прозрачным. Чтобы хирург мысленно представлял себе положение всех частей в разрезе, проведенном в любом направлении через любую точку тела. Добиться точного разреза обычным способом было невозможно. Расположение частей, их соотношения, искаженные уже при вскрытии полостей, окончательно изменялись под ножом анатома. Сложилась ситуация, иногда встречающаяся в науке: сам эксперимент мешал получить точные результаты, ради которых он проводился. Нужно было искать новый путь. И вот… «Мы, люди обыкновенные, — пишет один из приверженцев Пирогова, — проходим без внимания мимо того предмета, который в голове гениального человека рождает творческую мысль; так и Николай Иванович, проезжая по Сенной площади, где зимой обыкновенно были расставлены рассеченные поперек замороженные свиные туши, обратил на них особое внимание и стал применять замеченное к делу». Здесь все верно. Действительно, гениальные люди, и Пирогов тоже, нередко начинают творить там, где люди обыкновенные, ничего интересного не замечая, проходят мимо. И действительно, есть связь между распиленными тушами на Сенной площади и новым направлением в анатомических исследованиях. Здесь все верно, кроме одного словечка «рождает», которое к данному случаю вряд ли подходит. Конечно, сцена опять-таки эффектная. Снег. Ветер. Пряча в карманах озябшие руки, великий хирург стоит у прилавков мясного ряда. Потом бросается в анатомический театр и… Один из биографов вообще сжимает рождение открытия до нескольких минут: «проезжая» зимой по Сенной площади. Пирогов обратил внимание на разрубленные туши; «тут же» у него возникла мысль; он «немедленно» произвел пробные разрезы. Не говоря уже о том, что для немедленных разрезов нужно было по меньшей мере иметь в голове продуманную методику, а под руками замороженный в особых условиях труп и специальные инструменты, у Пирогова просто не могла «тут же» возникнуть мысль. По той простой причине, что она возникла у него гораздо раньше. Рассказывая о своих спорах с Амюсса в Париже. Пирогов пишет: «Я заявил ему о результате моего исследования направления мочевого канала на замороженных трупах». А ведь в Париж Пирогов ездил еще дерптским профессором! Может быть, Пирогов ошибается, допускает анахронизм — ведь мы знаем, что воспоминания его не всегда точны. Вряд ли. Примерно в те же годы Буяльский сделал интересный опыт в академии: на замороженном трупе, которому придали красивую позу, обнажил мышцы; скульпторы изготовили форму и отлили бронзовую фигуру — по ней будущие художники изучали мускулатуру тела. Следовательно, идея использования холода в анатомических исследованиях появилась задолго до путешествий по Сенной площади. Трудно предположить, что Пирогов с его тягой ко всему новому, с его размахом жил в неведении. Видимо, Сенная площадь опять-таки подсказала способ, методику, а не родила идею. По какому же пути пошел Пирогов, добиваясь точных данных о топографии человеческого тела? Он держал труп два-три дня на холоде и доводил «до плотности твердого дерева». А затем он «мог и обходиться с ним точно так же, как с деревом», не опасаясь «ни вхождения воздуха но вскрытии полостей, ни сжатия частей, ни распадения их». Как с деревом! Пирогов распиливал замороженные трупы на тонкие параллельные пластинки. Он проводил распилы в трех направлениях — поперечном, продольном и передне-заднем. Получались целые серии пластинок-«дисков». Сочетая их, сопоставляя друг с другом, можно было составить полное представление о расположении различных частей и органов. Приступая к операции, хирург мысленно видел поперечный, продольный, передне-задний разрезы, проведенные через ту пли иную точку, — тело становилось прозрачным. Простая ручная пила для этой цели не подошла. Пирогов приспособил другую, привезенную со столярного завода, — там с ее помощью разделывали красное, ореховое и палисандровое дерево. Пила была огромной — занимала в анатомическом театре целую комнату. В комнате было холодно, как на улице. Пирогов замерзал, чтобы не оттаивали трупы. Работа длилась часами. Она потеряла бы смысл, если бы каждую пластинку разреза не удалось сохранить навсегда, сделать достоянием всех. Пирогов составлял атлас разрезов. Атлас назывался: «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое тело». Тут же в холодной комнате проледеневшие пластинки-распилы накрывали расчерченным на квадраты стеклом и точно перерисовывали в натуральную величину на бумагу, покрытую такой же сеткой. Пирогов бился над «ледяной анатомией» около десяти лет. За это время он открыл еще один способ «приложения холода» к своим исследованиям — придумал «скульптурную анатомию». Никаких распилов. Труп замораживали еще сильнее — «до плотности камня». А затем, «подобно тому как в Геркулане[4] открывают произведения древнего искусства, залитые оплотневшею лавою», так и на замороженном трупе с помощью долота и молотка обнажают, вылущивают из оледеневших слоев нужные для изучения части и органы. «Когда, с значительными усилиями, удастся отнять примерзлые стенки, должно губкою, намоченною в горячей воде, оттаивать тонкие слои, пока, наконец, откроется исследуемый орган в неизменном его положении». Каждый анатомический атлас Пирогова — ступень в познании человеческого тела. Шаг вперед и шаг вверх — видишь дальше. «Ледяная анатомия» — вершина: со всех сторон развернулись далекие горизонты. Оказалось, можно по-новому, еще с одной точки увидеть положение, форму и связь органов. Раскрылись закономерности — очень важные и очень простые. Казалось непостижимым: как это люди не знали о них раньше? Стало, например, известно, что, за исключением трех небольших полостей (зева, носа и ушного барабана) и двух каналов (дыхательного и кишечного), ни в какой части тела в нормальном состоянии никогда не встречается пустого (то есть наполненного воздухом) пространства. Стенки всех прочих полостей плотно прилегают к стенкам заключенных в них органов. Эту простую истину открыл Пирогов при помощи своей «ледяной анатомии». Задача по-пироговски утроена и учетверена. Пирогов замораживал трупы в разных позах — потом на распилах показывал, как изменяются форма и соотношение органов при изменении положения тела. Он изучал отклонения, вызванные различными заболеваниями, возрастными и индивидуальными особенностями. Приходилось делать десятки распилов, чтобы найти один, достойный воспроизведения в атласе. Всего в «ледяной анатомии» тысяча рисунков! Если, соблюдая масштаб, изобразить Пирогова и то дело, которое он взвалил себе на плечи, может получиться занятная картинка-диаграмма — к примеру, муравей, несущий бревно. В самом деле. Пирогов один — целое учреждение. Разве один человек и даже целое учреждение в состоянии одновременно руководить кафедрой, заниматься в Анатомическом институте, лечить в клинике тысячи больных, оперировать, оперировать, оперировать, путешествовать по Кавказу, конструировать и выпускать медицинские инструменты, бороться с холерой, сложнейшим путем изготовлять тысячи распилов и «скульптурных» препаратов, писать книги и статьи, вскрыть одиннадцать тысяч трупов? Ответ бесспорен: нет, не в состоянии! Пирогов все это делал один. Кости должны были хрустеть от колоссального груза, ноги по колени уйти в землю, а он стремится вперед и вверх, легко, непринужденно, и походя все приумножает груз — еще, еще! Тревожная петербургская темень вползала в город. Снег, свистя, струился по реке. По прямым проспектам гулял ветер. Одно за другим гасли окна, и вот уже только один прямоугольник красновато светился во мраке. Коляска сутулилась у крыльца; ее закидывало снегом. Некоторые упрекали Пирогова: зачем он сменил тихий, вольный Дерпт на холодный, безжалостный Петербург? Сидел бы в Дерпте, вкушал от пирога славы, не ведал горьких забот — не знал бы завистливых недругов, упоенных сплетников, заносчивых профессоров, своевольных генералов, неразборчивых булгариных. Сидел бы в тихом Дерпте — и не чувствовал бесконечной боли от язвительных уколов, ударов из-за угла, оглушающих слухов и парализующей подлости. Какие мелочи! Подобно живой воде, исцеляет раны величайшее счастье творчества. Игра стоила свеч! Разве мог Пирогов, измерявший результаты своих трудов словами «сотни» и «тысячи», усидеть в тишине и тепле на двадцати двух кроватках дерптской клиники? Для приложения идей Пирогову было мало двадцати двух кроватей. Ему нужна была вся Россия.
VII. СЕВАСТОПОЛЬ 1854—1855
Над дорогою, лениво всплескивая крыльями, кружили сытые орлы. В густой и глубокой, по ступицу, грязи лежали раздувшиеся конские трупы. Орлы плавно спускались и замирали — недвижные, вонзив в падаль железные когти, повернув голову вбок с холодным презрением. Они были похожи на имперские гербы. Тарантас, израненный разбитой дорогой, тяжело дыша, взобрался на гору. Он был уже у цели. Впереди, внизу, в окруженной туманными горами бухте покачивалась сверкающая зеленая вода. Весело покрякивая, экипаж заспешил туда — вперед и вниз, к морю, к белым домикам, прилепившимся у подножия горы. Откуда-то из-за бухты вдруг взвилась одинокая бомба и размашисто прочертила в небе полукруглый огненный след. Потом послышался слабый хлопок. Дорога поворотила вправо, тарантас остановился у станции: надо было справиться, как проехать к главнокомандующему. В углу большой комнаты с закопченными окнами ссыпан был овес, и прямо в овсе кто-то спал — лицом вниз и широко раскинув ноги. Вдоль стен стояли ружья; сабли чуть покачивались на вбитых где попало гвоздях. Возле печки сидели на почтовых тюках офицеры в приплющенных фуражках и кудлатых папахах. Посреди стола (широкая доска, положенная на два больших плоских камня) пыхал паром самовар, стояли бутылки с ромом. Почтовая станция называлась Севастополь. В Севастополь продирались, увязая в грязи, фуры, телеги, тарантасы, дроги, отправленные со всех концов России, и мысли всех русских людей сходились в одной точке по имени Севастополь. Шел к концу второй месяц обороны города. Матросы и солдаты стояли насмерть на бастионах, сложенных, как говорили, «из русских грудей и из неприятельских ядер». Адмирал Корнилов был смертельно ранен на Малаховом кургане в день первой бомбардировки — 5 октября 1854 года. «Отстаивайте же Севастополь!» — сказал он тем, кто подбежал, чтобы поднять его. Последние минуты адмирала скрасило сообщение, что английские батареи сбиты. «Ура, ура!» — прошептал он. И умолк навсегда. Корнилов умер, но приказ его продолжал жить. Не на бумаге — в сердцах защитников города. «Будем драться до последнего. Отступать нам некуда — сзади нас море. Всем начальникам я запрещаю бить отбой; барабанщики должны забыть этот бой. Если кто из начальников прикажет бить отбой — заколите такого начальника; заколите барабанщика, который осмелится ударить позорный бой. Товарищи, если бы я приказал ударить отбой — не слушайте, и тот подлец будет из вас, кто не убьет меня…» Дрались до последнего. В дни бомбардировок прислуга у орудий сменялась дважды и трижды. По ночам охотники делали вылазки — впятером выбивали из ложементов полсотни французов, в английских траншеях заклепывали пушки — выводили из строя батареи. Просматривая рапорты о подвигах солдат и матросов, морщил тонкие лиловые губы тот, в чьи руки официально передана была судьба Севастополя, — главнокомандующий князь Меншиков. Адмирал и генерал-адъютант, которого моряки упорно не желали признавать адмиралом, а сухопутные — генералом. На бастионах дрались до последнего, а Меншиков подумывал о сдаче города. Его удивляло и раздражало упорство этих обреченных, защищавших город, точно свою собственность. Сам Меншиков привык с легкостью браться за важнейшие государственные дела, в которых ничего не понимал, и с такой же легкостью проваливать дела, за которые он брался. Но так как себя почитал он выше всех остальных, то другим и подавно не верил, видел во всяком интригана и тайного своего недоброжелателя, всех вышучивал зло (слыл острословом), о себе тоже подчас говорил насмешливо, но с любовью, цинично бравировал своими промахами и пренебрежением к обязанностям. С надменной улыбкой рассказывал, например, что, отправляясь накануне войны во главе посольства в Константинополь, набил багажом целый военный корабль, но позабыл взять с собой… географическую карту Турции. Главнокомандующий Меншиков проворонил высадку англо-французских войск в Крыму. Показал свою несостоятельность в битве на Альме. Не сумел развить успех под Балаклавой (здесь была наголову разбита английская кавалерия, место ее гибели англичане назвали «долиной смерти»). Запутался и растерялся в кровавом сражении под Инкерманом. Махнул на все рукой и в мыслях обрек Севастополь задолго до того, как он был сдан. Но главнокомандующим был Меншиков. Нахимов, после гибели Корнилова взваливший на свои плечи оборону города, писал с горечью: «Вы, верно, предполагаете, что я имею какое-либо влияние на управление Севастополя? Напротив: менее, нежели кто-нибудь».Пирогов разыскал главнокомандующего в грязном ветхом домишке. Вельможный князь Меншиков в засаленном архалуке сидел, сгорбившись, у стола, тускло освещенного скособочившимся стеариновым огарком. Острый взгляд Пирогова выхватил из полутьмы узкую походную кровать с круглым кожаным валиком вместо подушки. «Лицедей… — с неприязнью подумал Пирогов. — Нет чтобы отправиться на батареи и бастионы! Забился в конуру, а в оправдание выставил напоказ свое «спартанство»…» И, словно подкрепляя его мысли, главнокомандующий захихикал: — Вот видите-с, хи-хи, в лачужке вас принимаю… И такую голубую беззаботность вдруг прочитал Пирогов в прозрачных глазах главнокомандующего, что сразу понял: в мыслях уже давно сдал Севастополь вельможный князь. Меншиков спрашивал что-то о Петербурге, Пирогов отвечал невпопад — светский разговор не клеился. Надо было говорить о деле, и князь, постно поджав лиловые стариковские губы, осведомился скучным голосом, успел ли господин профессор познакомиться с крымскими госпиталями. Да, Пирогов успел! По дороге, в Бахчисарае, он завернул в госпиталь. Триста шестьдесят раненых, сваленных на нары один возле другого. Без промежутка, без порядка. Солдаты со зловонными гнойными ранами и тут же с чистыми. Солдаты, более суток ожидавшие перевязки. Уже несколько дней не хлебавшие горячей пищи — комиссар доказывал, что в госпитале нет котлов (котлы, между прочим, были спрятаны в сарае). Если князю угодно именовать сие учреждение «госпиталем», то у Пирогова есть слово поточнее: «нужник». Пирогов ехал потом дальше — от Бахчисарая к Севастополю; навстречу ему тянулись, то и дело застревая в грязи, скрипучие арбы и фуры, груженные окровавленными, небрежно перевязанными защитниками города-крепости, и он с ужасом представлял себе, что ждет их впереди, и еще думал: сколько же надо героизма, чтобы так драться, зная заведомо, что, коли будешь ранен, тебя, как собаку, бросят в грязь… — Я видел один госпиталь, — сказал Пирогов. — К сожалению. Лучше бы не видать. Меншиков холодным, безразличным взглядом уперся в сверкающие глаза Пирогова. Подхихикнул: — Это еще что! Раньше было хуже-с… Главнокомандующий не добавил, что раньше, когда советовали ему готовить госпитали до первых боев, хихикал и острил: — К чему-с? Ныне изволят красть в двух только госпиталях, а тогда станут — в четырех или пяти… Всюду воровство, неразбериха. Меншиков привык, махнул рукой. Недавно приказал заготовить двести тысяч четвертей муки — не получил. Рассеялась, развеялась по дороге мучица. Потребовал сена одиннадцать миллионов пудов — обещали прислать едва-едва четыреста тысяч. Врачи жалуются: комиссариатские чиновники, мол, дерут лишние рецепты, жульничают. Зато хоть толику лекарств доставляют. В Симферополе один молодой доктор не потакал жуликам — и сидел без хинина. Восемьдесят солдат померло у него от лихорадки. Хорошо, друзья пожалели: собрали деньги по подписке и купили для доктора хины… Пирогов доложил главнокомандующему, что за ним следом едет в Севастополь первый отряд сестер милосердия. Есть основания надеяться, что сестры наведут порядок в госпиталях и аптеках. Князь не удержался, сострил: — А не придется открывать в госпиталях сифилитические отделения? Хихикнул. Увидел, что Пирогов поднялся, спросил учтиво: — Вы уже приютились? Пирогов ответил грубо, не по-светски: — У меня квартира лучше вашей… И поехал ночевать на четвертую батарею. Госпитали Крымского полуострова рассчитаны были на 1950 кроватей. Еще сто кроватей имелось в симферопольской городской больнице. И все. А в бою на реке Альме было ранено три тысячи солдат. В Инкерманском сражении русская армия потеряла убитыми и ранеными двенадцать тысяч человек. Севастополь был наполнен ранеными. Девать их было некуда.Лежали на улицах, во дворах, без крова и пищи. В набитых битком госпиталях валялись на голом полу. Хватали за ноги проходивших мимо врачей и фельдшеров, умоляли помочь. А врачей было слишком мало. И у них слишком мало было инструментов, перевязочных средств, лекарств. Недоставало даже прованского масла, уксуса, простой воды. Недоставало хлороформа — операционные оглашались криками раненых. Сражение под Инкерманом произошло 24 октября 1854 года. Пирогов приехал в Севастополь через три недели — 12 ноября. И застал еще тысячи раненых, ожидавших «первой помощи». Рано утром Пирогов надевал длинную красную фуфайку, смазные мужицкие сапоги, старую солдатскую шинель и сплюснутую форменную фуражку, садился в седло и ехал по госпиталям. За ним, тоже верхом, следовали сопровождавшие его хирурги. В бараках, длинных каменных строениях, вдоль стен устроены были нары. Посреди рядами стояли кровати. Раненые лежали на матрацах, пропитанных гноем и кровью. Матрацы меняли редко — не хватало мешков и соломы. Смерть собирала здесь обильную жатву. Пирогов понимал: только оперировать — значит приумножать число жертв. Прежде всего он «отделил нечистые раны от чистых». Никогда Пирогов не оперировал столько, сколько в Севастополе. Но и своего «сберегательного лечения» никогда не применял в таком масштабе. Старик Ларрей любил вспоминать, что после Бородинской битвы сделал за одни сутки, двести ампутаций! Ларрей не верил, что есть иные способы лечения огнестрельных переломов. Пирогов верил. И не только верил — проверил. Когда привез под Салты крахмальную повязку. В Севастополе, через три недели после Инкермана, Пирогов видел солдат, которым, не будь такой нехватки в госпиталях и врачах, едва ли не всякий хирург счел бы своим долгом тотчас ампутировать ногу или руку. Помешали обстоятельства. Но раненые вопреки привычным выкладкам не отдали богу душу. Наоборот, чувствовали себя неплохо. Это тоже свидетельствовало не в пользу ранних ампутаций. Плененный в Синопском сражении командующий турецкой эскадрой Осман-паша решительно отказался от ампутации раздробленной правой ноги. Лечивший турка доктор Павловский списался с профессором Буяльским, получал от него из Петербурга письменные указания. Кость срослась. Осман-паша возвратился в Константинополь здоровым. Буяльский в письме поздравил Павловского и, ссылаясь на свой опыт, советовал не спешить с ампутациями. В Севастополе сражался на русской стороне батальон греков. Греки ходили в коротких белых юбках, в расшитых суконных куртках с широким кожаным поясом. Из-за пояса устрашающе торчали пистолеты, ятаганы, сабли. Греки тоже не любили ампутаций. Их фельдшер и знаменитая фельдшерица Мавромихали отсасывали гной из раны, обкладывали раздробленные кости холодными припарками из хлебного мякиша или овсяной каши с разведенным уксусом. Нечто в этом роде Пирогов видывал на Кавказе, у местных знахарей. Пирогов был богаче Буяльского с Павловским, богаче греков; он сам стал богаче с тех пор, как воевал под Салтами: там у него была крахмальная повязка, в Крым он привез гипсовую. Севастополь оказался великолепным экзаменом для гипсовой повязки. Здесь Пирогов на сотнях и тысячах раненых проверил ее преимущества, в полной мере оценил ее достоинства. Среди прочих достоинств — быстрота наложения. Когда множество людей ждет помощи, это очень важно. Сам Пирогов при переломах нижней трети бедра накладывал гипсовую повязку за пять минут. Раны, закованные в гипс, хорошо переносили транспортировку. Пирогов вспоминал рассказы Ларрея, спорил: — В Бородинском сражении хирурги так много ампутировали, что стояли в крови по щиколотку. А я скажу: там ампутируй, где нет гипса или других каких средств для неподвижной повязки. Пироговская гипсовая, или, как он ее называл, «налепная алебастровая», повязка спасла тысячи людей от смерти и от горькой жизни калек.
…За двенадцать дней Пирогов и сопровождавшие его петербургские хирурги, среди них Обермиллер, Тарасов, Каде, Сохраничев, Тюрин, навели порядок в госпиталях, сделали операции всем «запущенным с 24 октября». Но Пирогов-то знал, что это службишка — не служба. Помогло месячное затишье. А если без передышки один и следом другой Инкерман? Если три дня, неделю, две сплошной поток раненых? Что тогда? Как быстро помочь каждому? Где взять место на всех, врачебные руки? Время в конце концов?..
Из Севастополя раненых везли в Симферополь. Обессилевшие, голодные лошади с трудом вытаскивали ноги из грязи. Споткнувшись и как-то особенно резко взмахнув головой, падали мордой вперед, в надоевшую, их же копытами размешанную грязь и больше не вставали. За сутки обозы проползали три-четыре версты. Раненые тряслись в неудобных жестких телегах, ночевали в открытом поле, без горячей пищи, без кружки чаю. Их поливали дожди, посыпал сырой и крупный снег. Тридцать тысяч полушубков и десятки тысяч овчин гнили на складах, не достигнув полуострова. В дороге умирала десятая часть раненых. Еще больше гибло от дороги. Пирогов заглядывал в телеги — видел, как дорога уничтожает работу врачей. Спасенных от смерти людей она снова делала смертниками. Полторы тысячи раненых, отправленных в конце октября из Крыма в соседний Мелитопольский уезд, находились в пути десять дней. Их везли без одежды и обуви, в окровавленных рубахах. В Мелитопольском уезде не оказалось хирургов. Раненым сумели оказать помощь только через полтора месяца — в декабре. Вопрос встает сам собой: сколько человек при таких условиях может остаться в живых? Попавшие в санитарный транспорт часто завидовали убитым неприятельской пулей. Симферополь был превращен в город-госпиталь. Губернское правление, Дворянское собрание, благородный пансион, десятки частных домов — все занимали раненые. Телеги, привозившие окровавленных защитников Севастополя, встречались на улицах с убогими похоронными дрогами. Деревяшки инвалидов звонко стучали о камень тротуара. У каждого второго пешехода — белая повязка на голове или черная треугольная косынка, поддерживающая искалеченную руку. Пирогов ехал в Симферополь двое суток. Тарантас болтало, как корабль в бурю. От долгой езды болели ляжки, ныла поясница. Но отдыхать было некогда. В грязный и тесный номер гостиницы «Золотой якорь» он зашел лишь на минуту: бросил вещи и, стащив с себя красную фуфайку, протер тело спиртом — завшивел! Начались бесконечные операции, перевязки, осмотры. В симферопольских госпиталях оказалось втрое больше раненых, чем кроватей. В одном частном особняке четыреста солдат и матросов три дня валялись на голом полу. Их «позабыли» зачислять на довольствие — жители соседних домов приносили им еду, как подаяние. В госпитальном супе плавали черви. Но и его есть было не из чего и нечем — не хватало посуды, на тринадцать тысяч больных было всего шесть тысяч ложек. Лекарств почти не было: в городе имелась одна-единственная аптека. Бинты, ветошь, компрессы присылали негодные к употреблению, да и таких недоставало — их торопились снимать с умерших, мыли кое-как и еще мокрыми накладывали на живых. Пирогов разводил руками над пустыми коробками для перевязочных средств, грыз сигарку, зло цедил: — Вся Россия щиплет корпию, а перевязывают ею англичан. Боткин, тоже побывавший в Крыму, объяснял потом Герцену: — Интенданты тайно продавали корпию французам и англичанам. Пирогов шипел на интендантов: — Для русского солдата у вас одно лекарство — солома. Интенданты, приложив два пальца к козырьку, почтительно ели глазами господина профессора. Потом расползались по трактирам, спускали за вечер тысячи; комиссариатские чиновники с годовым трехсотрублевым жалованьем любили перекинуться в картишки. Словно назло господину профессору, зажали и солому — поставки прекратили, частные цены вздернули до невозможных. В госпиталях сушили старую, полусгнившую солому, пропитанную мочой и гноем, и снова набивали ею тюфяки. Но и на такой матрац попасть было непросто. Случалось, привезенные с бастионов после тяжкой дороги проводили долгие часы на улице, под дождем. Мест в госпиталях не было. Или говорили, что нет. Врачей в городе были единицы. Фельдшеров заменяли цирюльники. Лазаретной прислуги вовсе не было. В начале войны, правда, прислали прислуживать в лазареты партию нестроевых солдат, да не выдали им аттестатов на довольствие. Они и померли. Ухаживать за больными помогали непроворные инвалиды. Грязь, голод, холод… В госпиталях свирепствовала гангрена. Рядом с жертвами бомбардировок и обстрелов лежали на нарах люди, изнуренные лихорадками и поносами. В городе начинался тиф. Пирогов подавал докладные генерал-губернатору Адлербергу, требовал срочных мер. Генерал-губернатор пожимал плечами: — И-и, батенька, разве это возможно, все, что вы тут понаписали!.. Скучно загибая пальцы, твердил: — Подвод нет… Строений нет… Людей нет… Пирогов делал сам, что мог. Отвел особые дома для гангренозных, гнойных, тифозных. Осмотрел всех больных и раненых и распределил их по отделениям. С утра до ночи мотался по городу: шесть с лишним тысяч человек были размещены в шестидесяти зданиях. Словно кто-то нарочно совал в его дела невежественное рыло, мешал, ставил палки в колеса. Едва Пирогов установил порядок в симферопольских госпиталях, едва привел их в систему, ночью прибыли подводы из Севастополя и Бахчисарая. А наутро увидел Пирогов, что все труды его пошли прахом: новых раненых свалили куда попало — гнойных к тифозным, чистых к гангренозным. И опять все сначала: беготня из конца в конец города, осмотры, транспортировка больных по отделениям. Нельзя, чтобы всякий раз повторялось такое! Замечательная мысль пришла в голову Пирогову — он предложил устроить «складочное место». Сюда должны были доставлять всех вновь прибывающих — для первого осмотра, необходимой помощи и распределения по госпиталям. Одна беда — подходящее помещение трудно было подыскать для «складочного места». Пирогов намекал Адлербергу: господин генерал-губернатор один занимает огромное здание, быть может, он удовлетворится половиной? Генерал-губернатор обещал подумать. И придумал. Отдал под «складочное место»… городские конюшни.
В симферопольских конюшнях вспоминал Пирогов образцовый «атомистический» госпиталь, открытый недавно в столице по царскому повелению. Когда-то, за границей, явился к Пирогову долговязый господин и отрекомендовался доктором Мартыном Мандтом, выезжающим работать в Россию. Вынул из кармана записную книжечку и подробно допросил Пирогова о российских чинах и званиях. Пирогов, посмеиваясь, объяснял, что лучше быть статским советником, чем надворным. Долговязый все аккуратно записывал. А когда через год встретились они в России, снисходительно посмеивался уже Мандт — всесильный лейб-медик их императорских величеств. Он всем показал, как водить вокруг пальца коронованных пациентов и их присных. Согласно преданию слово «шарлатан» — «медицинского происхождения». Оно образовано якобы от имени французского знахаря Латана, королевского любимца, который разъезжал в своей повозке (по-французски повозка char — «шар») и врачевал всех желающих. Латан был невеждой, от его лечения никто не выздоравливал. Но Латана любил король, и повозка ловкого лекаря знай себе катилась по дорогам Франции. Скоро о плутах стали говорить: — Да ведь это такой же обман, как коляска Латана — «Шар Латан»… Доктор Мандт был Латаном при Николае I. Он «изобрел» новую систему лечения — «атомистику». Мандт утверждал, будто некоторые лекарства в определенных дозах приобретают от длительного растирания особую силу. Он писал о своей системе брошюры (Николай приказывал издавать их большими тиражами), составлял аптечки из своих лекарств (Николай повелевал военным врачам иметь их всегда при себе), он прочитал как-то двенадцати слушателям четыре лекции о своем «учении» и по царскому указу получая за это в течение двенадцати лет по четыре тысячи рублей ежегодно. Николай, «покровитель наук», столь пленен был премудростью своего лейб-медика, что сам развозил его порошки по гвардейским полкам. Он открыл для Мандта прекрасно оборудованный образцовый госпиталь в Петербурге и полагал со временем всю российскую медицину заменить «мандтизмом». Шарлатан и его высокий покровитель тешились «атомистикой» — на севастопольских бастионах и в симферопольских конюшнях гибли защитники отечества из-за нехватки бинта, порошка хины, глотка воды.
Обширный дом симферопольского Дворянского собрания состоял из центральной части и двух боковых флигелей. По вечерам один из флигелей сверкал огнями, центральную часть дома окутывал полумрак, второй флигель мрачным черным квадратом был впечатан в темное небо. В освещенном флигеле — шум, смех, громкая музыка. В центральной части — стоны, слабые вскрики, страшные хрипы. В темном флигеле — мертвая тишина. В центральной части дома размещался госпиталь. В освещенном флигеле — городской театр. В темном — мертвецкая. Вечером театр заполняли тыловые герои — генералы с золотом на мундирах и интендантские чиновники с золотом в карманах. Слушали полковую музыку. Отбивая ладони, аплодировали заезжим примадоннам. По временам дикий вопль, доносившийся со двора, перекрывал гром музыки и плеск оваций. Дежурный офицер появлялся в дверях, объявлял улыбаясь: — Успокойтесь, господа. Там транспорт пришел, так одного безногого, снимая с телеги, в лужу уронили… Ну, а те, кого переносили из госпиталя в темный флигель, — те никого не тревожили. Молчали. Рано утром набитые доверху телеги, скрипя и грузно покачиваясь, ползли на кладбище. Отяжелевшие орлы, похожие на имперские гербы, темнели по обочинам, растопыривали крылья и, повернув голову вбок, провожали телеги неподвижным презрительным взглядом.
Пирогов в детстве был вскормлен рассказами о войне 1812 года. Имена учителей его юности стоят в летописи Отечественной войны рядом с именами Багратиона, Раевского, Платова. Мухин начинал как военный врач еще при Потемкине, потом готовил себе смену. Мудров после Аустерлицкой битвы первым в России стал читать курс военной гигиены. Лодер был одним из главных организаторов военных госпиталей, в двенадцатом году под его присмотром оказалось тридцать семь тысяч раненых. Гильдебрандт заведовал госпиталем. Пирогов знал, что нужен на войне, что принесет пользу. В ответ на сетования соскучившейся жены писал: «Мы живем на земле не для себя только; вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, которой следствия отзовутся, может быть, через целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем…» И дальше: «…Тому, у кого не остыло еще сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на все, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эгоистическим взглядом, и ты… верно, утешишься, подумав, что муж твой оставил тебя и детей не понапрасну, а с глубоким убеждением, что он не без пользы подвергается лишениям и разлуке». Не так-то легко оказалось уехать в Крым. Из-за пироговского прошения сцепились две партии. Одни — те, кому Пирогов мешал в Петербурге, — рады были вытолкать его подальше. Другие — те, кому Пирогов мог помешать в Крыму, — старались не пустить его на полуостров. Бежали недели. Пирогов ждал решения. А раненые в Севастополе ждали Пирогова. Поддержка пришла несколько неожиданно — от великой княгини Елены Павловны. Ее настоящее имя было Фредерика Шарлотта Мария. Она была дочерью вюртембергского принца, но воспитывалась в Париже. Одним из ее наставников оказался великий естествоиспытатель Жорж Кювье. Фредерику Шарлотту Марию избрали в жены великому князю Михаилу Павловичу, младшему брату русских императоров Александра I и Николая I, и в 1823 году привезли в Россию. В день приезда ей представили двести влиятельных лиц. Юная принцесса прославилась тем, что сумела найти для каждого несколько приятных и очень точных слов. Карамзину сообщила, что читала его «Историю» в подлиннике. Шишкова ублажила похвалой старому слогу российского языка. Генералам напомнила о сражениях и походах. Елена Павловна поселилась в Михайловском дворце (теперь там Русский музей). На свои вечера и обеды она приглашала известных ученых, музыкантов, художников. В николаевские времена, когда даже пискнуть дозволялось лишь по высочайшему повелению, прослыть покровителем наук и искусств было нетрудно. Покровительство выгодно тем, что, не требуя больших затрат ума и труда, позволяет прилепить свое имя к великим идеям и творениям. Сила покровителя не в таланте и знаниях, а в возможностях, средствах и связях. Имя Елены Павловны связывают с появлением первых медицинских сестер, с организацией женской помощи на войне. Между тем вряд ли следует здесь искать чью-то «руководящую идею». Медицинские сестры не могли не появиться в Севастополе. Севастополь оказался городом-крепостью, все жители города стали его защитниками. Матросские жены и дочери помогали мужчинам возводить укрепления, подтаскивали к орудиям боеприпасы, под огнем несли на бастионы узелок с теплыми лепешками или жбан с квасом. При нехватке врачей и фельдшеров, особенно в начале войны, женщины Севастополя должны были взять на себя заботу о раненых. Первой фронтовой сестрой стала матросская сирота, девица Дарья, о которой, по застенчивому свидетельству современника, иные говорили «нехорошо». Она продала весь свой скарб, оделась матросом, раздобыла лошаденку и двинулась к месту боев. В день битвы на Альме Дарья устроила собственный перевязочный пункт. Дарья Севастопольская, как ее торжественно нарекли, была благородна, решительна, но неизбежна. Кто-то должен был начать — на Альме или под Инкерманом. Елена Павловна ухватила витавшую в воздухе идею женской помощи раненым на поле битвы. Мысль о посылке сестер милосердия на театр войны поддерживал и Пирогов. Сановные ерники, пуская слюни и хихикая, протестовали: «Нельзя-с, нельзя-с, разврат!..» Их повторил потом в Севастополе князь Меншиков, остривший насчет сифилитических отделений. Пользуясь благоволением монарха, Елена Павловна получила разрешение собрать первую в мире группу военных медицинских сестер. Группа получила название: «Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных». Руководство общиной Елена Павловна поручила знаменитейшему из русских профессоров — Николаю Ивановичу Пирогову. Великая княгиня, понимавшая, что к чему, соединяла свое имя с именем Пирогова. Немного погодя вскрылась вся разница в замыслах великой княгини и великого хирурга. Елена Павловна хотела придать общине «формально-религиозное направление», создать нечто вроде «религиозного ордена». Пирогов видел в общине медицинское, то есть высоконравственное и человечное, учреждение. Больным и раненым нужны были сестры, а не «женские Тартюфы». Когда запахло лицемерием, Пирогов написал великой княгине резкое письмо и объяснил: — Я высказал ей всю правду. Шутить такими вещами я не намерен. Для виду делать только также не гожусь. Если выбор ее пал на меня, то она должна была знать, с кем имеет дело. Если хотят не быть, а только казаться, то пусть ищут другого. Елена Павловна произносила трогательные речи, собственноручно перевязала одного оперированного в пироговской клинике, разрешила устроить в своем дворце склад медикаментов. В Крым высокая покровительница сестер не поехала. Да и зачем она там была нужна? Зато Пирогов поехал в Крым. Уж он-то был там нужен! Зато сестры поехали в Крым. И они были очень нужны! В Симферополе Пирогов ждал первую партию, или, как говорили, первое отделение сестер милосердия. Всего за несколько месяцев прибыло в Крым пять отделений. Сестры отправлялись в путь из Михайловского дворца. В Петербурге в их честь кричали «ура!» и служили молебны. Радушные москвичи носили их на руках. Тульское купечество закатило им гигантский ужин. В Белгороде к их приезду устроили иллюминацию. В Харькове их вышел встречать сам генерал-губернатор. От Перекопа усталые женщины тащились на волах и верблюдах, довольствовались сухим хлебом. А в Севастополе их встречали орудийный грохот, кровь ручьями, ядовитая вонь гангренозных бараков, изувеченные люди и великий Пирогов в облепленных грязью сапогах и солдатской шинелишке, из-под которой выглядывала поношенная красная фуфайка: — Завтра в восемь утра на дежурство, сударыни! Одна из сестер оставила описание первого дня работы в Севастополе. Наутро после приезда её отправили на 3-й бастион. Туда прибыло сорок пять тяжелораненых. Впервые увидела она людей с оторванными руками и ногами, со страшными кровоточащими ранами. Через несколько минут пол в помещении был залит кровью. Перевязывали под обстрелом. Здание содрогалось. Несколько бомб залетело в кухню, попало в котлы с кашей и бочку с квасом. Доктор позвал сестру помогать при ампутации. Раненому дали мало хлороформа. Он проснулся еще на столе и страшно кричал. Она положила ладонь на влажный его лоб, просила: — Не надо, милый! А с бастиона все приносили новых раненых. Офицера с раздробленным черепом. Матроса, которому оторвало обе руки. Едва перенесли его после ампутации на койку, в окно влетело ядро и оторвало несчастному обе ноги. После второй операции он пришел в себя, приоткрыл жарко сверкавшие глаза, улыбнулся косо: — Трубочку-то теперь как курить? Доктор вынул из кармана сигару, прикурил от свечи и сунул матросу в зубы. Сестра принесла миски с кашей, стала кормить раненых обедом. Пока ходила на кухню за новой порцией, ядро пробило потолок — разорвало четырех человек. Забежала домой отдохнуть — увидела в стене брешь от прямого попадания; в соседней комнате лежали женщина и трое детей, все убитые. До поздней ночи сестра перетаскивала раненых в безопасное место. Пришлось раз двадцать карабкаться в гору — под дождем, по грязной и скользкой дороге. Жидкая, по колено грязь кипела от падавших бомб. А ночью сестра потеряла сознание, металась в жару. У нее начался тиф… Они были совсем разные, эти женщины в одинаковых коричневых платьях, белых чепцах и передниках. Екатерина Бакунина, дочь сенатора, внучатая племянница фельдмаршала М. И. Кутузова, — одна из самых деятельных сестер, впоследствии руководительница общины. Бакунина славилась неутомимостью. Однажды она полтора суток не отходила от операционного стола, помогала при пятидесяти ампутациях подряд. И дочь канцеляриста Матрена Голубцова — ее судьба была едва ли не самой трагичной. По пути в Севастополь Матрена сломала два ребра — телега опрокинулась на тряской дороге. В Севастополе переболела тифом. Там же и умерла — от холеры. Голубцова ухаживала за самыми тяжелыми больными — с гангренозными и гнойными ранами. Баронесса Екатерина Будберг — самоотверженная женщина, не страшащаяся опасности. Переносила раненых под артиллерийским обстрелом и сама была ранена в плечо осколком бомбы. И Александра Травина, вдова мелкого чиновника. О своей работе в Севастополе она докладывала по-военному коротко и делово: — Я опекала шестьсот солдат в Николаевской батарее и пятьдесят шесть офицеров. Екатерина Грибоедова, сестра автора «Горя от ума», — она покинула Севастополь досрочно, однако Пирогов счел нужным представить ее к награждению медалью. И Марья Григорьева, вдова коллежского советника. Эта одна заслужила памятник. Она не выходила сутками из дымящегося зловонием дома, где лежали умирающие от зараженных ран. Только стоны безнадежных слышала Марья Григорьева, видела только страдания и смерть. Теплым участием облегчала людям последние минуты. И никогда не испытывала великой радости — созерцания больного, возвращающегося к жизни. Совсем разные были эти женщины в одинаковых платьях. Их роднила любовь к отчизне, быть может по-разному понимаемая, желание служить своему народу, быть может разными причинами вызванное. И вот ведь что интересно: через два десятелетия, вспоминая работу сестер, Пирогов подчеркивал, что «самые простые и необразованные из них выделяли себя более всех своим самоотвержением и долготерпением в исполнении своих обязанностей». Одна из сестер, например, не знала, что Англия остров. Пирогов отзывался об этой женщине с величайшим уважением. Кстати, по словам современников, императрица Елизавета Петровна тоже не изволила знать, что Англия островное государство. Но «прекрасная Елисавет» не бегала в грубых солдатских сапогах на батареи, не таскала под обстрелом раненых, не стояла сутками в операционных, пропахших кровью. Нелегко было найти слова, чтобы достойно оценить труд севастопольских сестер. Пирогов однажды сказал им, разводя руками: — Вы что ж, хотите, чтобы я вас в глаза хвалил?.. В устах Пирогова это была высшая похвала. Но было кое-что поважнее похвал — убеждения. Пирогов видел мужество, волю, подвижничество севастопольских сестер, но он видел также их способность самостоятельно трудиться и руководить, самостоятельно мыслить и принимать разумные решения. Уже после войны великая княгиня, знакомая с прежними взглядами Пирогова и умевшая каждому говорить приятное, сказала ему: — Женщины должны только быть направляемы мужчинами. Но Пирогов думал уже не так, как прежде. — Это совершенно справедливо, — отвечал он, — но справедливо только до тех пор, пока женщины будут воспитаны по-нынешнему и с ними будут обращаться все по той же устарелой и бессмысленной методе. Но это следует изменить, и женщины должны занять место в обществе, более отвечающее их человеческому достоинству и их умственным способностям.
Пирогов спрашивал у Меншикова: — Будет ли взят Севастополь? Генерал-адмирал, обладатель одиннадцати высоких должностей, а соответственно одиннадцати мундиров и одиннадцати обильных государственных источников дохода, щурил прозрачные глаза, пожимал плечами. Князь привык, каламбуря и посмеиваясь, играть в дело — он ловко и похоже разыгрывал роли посла, финляндского генерал-губернатора, начальника Главного морского штаба. В Севастополе игра в дело не получалась, надо было делать дело, но Меншиков чувствовал, что каждая его попытка приказать, повернуть, вмешаться неизменно оборачивается чем-то бездарным, неуместным, даже вредным. — Будет ли взят Севастополь? — спрашивал Пирогов. Меншиков щурился, игриво касался пальцем пуговки на груди Пирогова: — Лучше вы мне скажите, долго ли все это будет продолжаться?.. В мыслях князь давно сдал Севастополь, но на всякий случай пожимал плечами, произносил таинственно: — Поговаривают что-то о мире… Шаркуны, протиравшие пол в лачуге главнокомандующего, талдычили на всех перекрестках, что только благодаря Меншикову и стоит Севастополь. Пирогов зло усмехался, покусывал губу. Он-то знал, что стоит Севастополь не благодаря Меншикову, а вопреки ему. Пирогов вообще не мог верить главнокомандующему, который ни разу не зашел в госпиталь, чтобы сказать доброе слово солдатам — легионам, гниющим на нарах. У раненых солдат и матросов, окровавленных, с искаженными от боли лицами, спрашивал Пирогов: — Будет ли сдан Севастополь? — Никак нет, — отвечали. — Не надеемся. И кто держался на ногах, просил: — Отпустите, ваше благородие, на батарею. Там все само заживет… Нахимов почти всякий день приходил в госпиталь. Во время ампутаций стоял возле стола. Раненый, пробуждаясь от хлороформа, счастливо улыбался, видя склоненное над ним лицо «старика Павла Степаныча». — Ваше превосходительство, а ведь это они нас за Синоп… — Правда, братец, за Синоп! В госпитале Нахимов заметил как-то известного храбреца лейтенанта Титова, раненного в правое плечо, приказал отвезти его к себе на квартиру: — Сам выхожу… Прощаясь, Нахимов вынимал из кармана записную книжечку, оборачивался к Пирогову: — Что надо? Пирогов говорил. А наутро появлялись позарез нужные нахимовские приказы: об устройстве бань, о снабжении личного состава сушеной зеленью, о запрещении пользоваться нелуженой посудой, о строительстве хлебопекарных печей «для всех, то есть и для солдат». Пирогов провожал Павла Степановича на крыльцо. Молча, одними главами, спрашивал: — Отстоим Севастополь? Нахимов досадливо махал рукой, взбирался в седло. Ехал задумчиво на казацкой своей лошадке. Ничего больше не осталось в жизни Нахимова — только Севастополь! Не нужно было Нахимову ни славы, ни богатства. Художник хотел писать с него портрет — отказал. Поэт поднес ему хвалебную оду — Нахимов поморщился: — Если этот господин хотел сделать мне удовольствие, прислал бы лучше сотню ведер капусты для моих матросов. Царь один раз послал к Нахимову флигель-адъютанта с «поцелуем и поклоном», другой раз… Второй флигель-адъютант встретил Нахимова на улице — адмирал с окровавленным лицом возвращался домой после обхода батарей. — Вы опять с поклоном-с? — закричал флигель-адъютанту. — Благодарю покорно-с! Я и от первого поклона был целый день болен-с!.. Когда же царь надумал «благодарить» Нахимова деньгами, усмехнулся Павел Степанович: — Нельзя ли за эти деньги выписать по почте бомбы?.. Бомбы… Три российских завода — Охтинский, Шостенский и Казанский — давали в год шестьдесят-восемьдесят тысяч пудов пороху. А защитникам Севастополя нужны были сотни тысяч пудов. В связи с недостатком боеприпасов последовало секретное распоряжение на пятьдесят выстрелов неприятеля отвечать пятью. Артиллеристы по случаю православных праздников выпрашивали разрешение стрелять побольше. Только Севастополь остался в жизни Нахимова. Заметили, что после гибели Корнилова он словно нарочно появлялся во весь рост, не таясь, на самых опасных участках, под ядрами и пулями. Говорил серьезно, что вот одна у него «собственность», которую он «бережет для себя», — место для могилы возле адмиралов Лазарева и Корнилова. И эту «собственность» он отдал другому — контр-адмиралу Истомину, геройски погибшему в марте 1855 года. Нахимов не желал пережить Севастополь. И, словно вторя ему, писал Пирогов: «Не хочу видеть моими глазами бесславия моей родины; не хочу видеть Севастополь взятым; не хочу слышать, что его можно взять…» Корнилов и Истомин, Нахимов и Пирогов, тысячи матросов и солдат — они стали судьбой Севастополя. И Севастополь стал их судьбой. Но были другие. Те считали, что у каждого судьба своя. И как часто на просьбу Пирогова отвечал Нахимов невесело: — Я менее, нежели кто-нибудь, имею влияние на управление Севастополя. Взбирался в седло, прибавлял, ни к кому не обращаясь: — Да простит всевышний, если может, тому или тем, кто поставил нас в такое безвыходное положение… Давал шпоры. Уезжал задумчивый. Казацкая лошадка шла небыстро, понуря голову.
«Тот» и «те» не задумывались об устройстве бань и поставках сушеной зелени. Приказывали: всех ампутированных перевести на Северную сторону. Пирогов тряс штабистов: раненые в тяжелом состоянии, нужно сначала подготовить кровати, матрацы, горячую пищу. — В указанном месте все уже изготовлено для принятия раненых. Отправляйте! Город непрерывно обстреливали. Пирогов не мог отойти от стола — все время прибывали раненые. С тревогой смотрел на окно, затянутое сплошной серой пеленой дождя. Едва выбрался, помчался на Северную сторону. В залитых водою стареньких солдатских палатках плавали тощие матрацы. На них сотрясались в ознобе, теряли сознание, умирали люди с отрезанными ногами и руками. Всякий день умирало двадцать-тридцать человек. Всего их было пятьсот. Вода прибывала. Дождь колотил по дряхлой парусине палаток упругим ружейным свинцом. Можно было плакать, кричать, размахивать кулаками. Ничем не пробить недоброе благодушие себялюбцев, пресную настороженность интриганов. Был генерал-штаб-доктор, который более помнил о первых двух частях своего титула, нежели о последней. Были гевальдигеры и генерал-гевальдигеры — строевые чины и чины военной полиции, «заодно» обеспечивающие и медицинскую часть в армии. Это по их вине раненые плавали в холодной грязи. Это они закатывали жирные и хмельные обеды в полотняных палаточных залах и не могли найти просторной и целой палатки для лазарета. После боя, когда перевязочные пункты и госпитальные бараки заполнялись ранеными, гевальдигеры вылезали невесть откуда, всем мешали, терлись между нарами, между койками. После боя начальство обычно заглядывало в госпитали — можно было схватить крестик или медальку «за попечение о больных и раненых». Предвкушая приезд начальства, генерал-гевальдигер врывался на перевязочный пункт, «наводил порядок». Топал ногами: — Шапку долой! Врач, склонившийся над раненым, тряс головою (руки заняты — перевязывал артерию), сбрасывал на пол шапку. Генерал-гевальдигер несся дальше: — Шапки долой! Застегнуть шинели! Я на вас лямки надену! Суета врачей, прервавших операции. Стоны раненых. Вечером генерал вызывал старшего доктора к себе на квартиру: — Почему не по форме? Что за костюм? Вы офицер или кормилица?.. Сам развалился на тахте в беличьем халате, сафьяновых сапожках. Приказывал смазать маслом потертую ногу. Заметив масляное пятно на табурете, орал: — Мой лакей чище вас служит. Ступайте вон! А перед командованием преданно вытягивались в струнку гевальдигеры, и генерал-гевальдигеры, и сам генерал-штаб-доктор. — Как прибывают больные? — По четыреста, ваше сиятельство. — По четыреста в сутки? — В неделю, ваше сиятельство. — В неделю?.. — Извините, ваше сиятельство, в месяц… Холуи, лицемеры, вылощенные царедворцы. Как в «Гамлете»: «Это облако похоже на верблюда». — «Оно действительно похоже на верблюда». — «По-моему, оно похоже на ласточку». — «У него спина, как у ласточки». — «Или как у кита?» — «Совсем как у кита». Ну нет! Пирогов круто поворачивался, шел прочь — руки в карманы, шинель нараспашку. Он не намерен слушать лживый лепет генерал-штаб-доктора, пешки, которая так и норовит в ферзи, а оттого поддакивает королям и хвалит то, что худо. У Пирогова сердце болело. В каких руках судьба войны!.. Плевал он на генерал-гевальдигеров и генерал-штаб-доктора, на их холуйскую субординацию и холуйский этикет. Раненые валяются на земле вповалку. Чай и сахар присылают в госпитали только частные благотворители. Сестры выписывают из дому вышивальный шелк и перевязывают им сосуды. Аптекари чуть не на всякий рецепт отвечают отказом, а лекарства продают из-под полы, втридорога — за одну пиявку берут рубль серебром. Начальство затыкает всем рты, требует, чтобы на бумаге все было в порядке. Нет уж, извините-с! Пирогов мрачно шутил: — Я бомбардирую их так же, как бомбардируют Севастополь. Пирогов здесь не для того, чтобы снискивать популярность между чиновниками. Он холуйской арифметике не обучен. Вот вам рапорт, господин главнокомандующий. Четыреста раненых в день. В день — четыреста! Так-то! Пирогов разделил сестер в каждой дежурной смене на перевязочных, аптекарш и хозяек. В руках сестер оказались продукты и медикаменты, чай, сахар, вино, пожертвованные вещи. Комиссары взвыли: сестры-де внесли беспорядок… Пирогов сверял отчеты. — Воры! Доказать?.. Аптекарей лихорадило. В Херсоне сестры ревизовали госпитальную аптеку — передали дело в суд. Аптекарь, не дожидаясь суда, застрелился. Пирогов хохотал: — Ай да слабый пол! Пирогов на войне вел две войны. С неприятелем, осадившим Севастополь. И с неприятелем, осевшим в Севастополе. Один бил по нему ядрами и бомбами, прямым попаданием разнес комнату, в которой жил Пирогов (благо, в отсутствие хозяина). Другой палил в спину картечью клеветы, помех, пакостей. Пирогов с мальчишества умел драться, умел побеждать: не силой — упорством и смелостью. Пирогов докладывал начальнику штаба главнокомандующего: — В госпитальных палатках — свинство. Возражения генерала пресек: — Вы в этом смыслите меньше моего… Пирогов писал важному чиновнику, задержавшему снабжение госпиталей дровами: «Имею честь представить на вид…» За дерзкое, «неприличное» обращение к высокому лицу Пирогов получил вместо дров выговор от главнокомандующего и даже от государя. Пирогов являлся в кухни, вместе с сестрами отмерял по норме продукты и… запечатывал котлы. Пирогов пробирался в цейхгаузы, обнаруживал то «затерянные» палатки, то сотни «позабытых» одеял. Вытаскивал из складских тайников, пускал в дело. Нахимов сказал однажды без тени улыбки, совсем серьезно: — Распорядился я своею властью выдать раненым со складов восемьсот матрацев. Глядишь, и под суд отдадут. После войны. С неприятелем, засевшим в штабах и комиссариатских ведомствах, Пирогов боролся не только делом, но и словом. Перо ученого, поэта, очеркиста приобрело в огне Крымской войны алмазную крепость и остроту.
«Севастопольские письма» Пирогова адресованы жене, но личного в них мало. В них вся правда о Севастополе. Не для «душки» и «несравненного ангела» Александры Антоновны исписывал Пирогов десятки листов бумаги. Ночью, после трудного дня. На рассвете, после трудной, у операционного стола, ночи. Он и не скрывал этого: «Письмо о Меншикове можешь дать прочесть теперь всем». Иногда лишь опасался: «Прочитав написанное, я сам испугался, что уже слишком много сказал правды». Но Пирогов не только обличал. С его умением анализировать, сопоставлять, обобщать он как ученый оценивал все увиденное в Севастополе. И, убедившись, что ни к чему все искусные операции, все способы лечения, если раненые и больные поставлены администрацией в такие условия, которые вредны и для здоровых, вывел одно из главнейших положений своей военно-полевой хирургии: «Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны». Администрация Севастополя была едва ли не злейшим врагом Севастополя. «Страшит не работа, — писал Пирогов, — не труды, — рады стараться, — а эти укоренившиеся преграды что-либо сделать полезное, преграды, которые растут, как головы гидры: одну отрубишь, другая выставится». И все-таки борьба Пирогова не была безнадежной. Мало, что он сам драл шкуру с аптекарей, запечатывал котлы, шарил по складам… В осажденном городе он читал крымским врачам курс лекций, учил работать по-пироговски — вот что главное! С передовых перевязочных пунктов, с позиций приезжали врачи к Пирогову, ходили с ним по госпиталям, приглядывались к его порядкам и нововведениям — по всему театру войны разносили пироговское слово и дело. Со временем вся работа крымских медиков стала отголоском, отражением деятельности Пирогова. И тогда-то громада двинулась! И тогда-то Пирогов получил право сказать: — Все, что я в состоянии был делать, я сделал для Севастополя… Но не было рамок для Пирогова, и, сказав: «Я сделал, что мог», он тут же искал, что еще может сделать. Он твердо решил по оставлять Севастополя, пока приносит пользу или (добавлял горько) пока не выгонят. Его гнали — он не уезжал. А полезен ли он, не тем было судить, кто гнал. Не чины ловить, не ордена клянчить явился Пирогов в Севастополь. Не у чинораздатчиков искал он признания. Когда солдат, которому он только что отрезал ногу, доставал из тряпицы два рубля и один протягивал Пирогову: «Возьми половину добра моего…» — это была награда почище ордена Станислава или Анны. Когда на перевязочный пункт приносили солдата без головы, а голову отдельно: «Пусть господин Пирогов пришьет — он все может!» — это было признание повыше генеральского благоволения. Нет, не мог Пирогов покинуть Севастополь!..
18 февраля 1855 года почил в бозе самодержец всероссийский Николай I. Повсюду говорили, будто не своей смертью почил — отравился. Будто после неудачи под Евпаторией призвал любимца своего доктора Мандта и потребовал яда. Не пожелал пережить позора, в котором сам же больше всех был повинен. Мандт дал царю не мифический «атомистский» порошок — одарил сильнодействующим и полной мерой. Мандта быстрехонько — от шума подальше — вывезли за границу. На прощанье поднесли «за труды» осыпанный бриллиантами портрет высокого, его покровителя и друга Николая Павловича (Мандт злился — просил, чтобы наградили деньгами). Известного анатома Венцеслава Грубера, проявившего слишком большой интерес к протоколу вскрытия царского тела, засадили на время в крепость. В Севастополе Пирогов заглянул к госпитальному аптекарю, тот возился с каким-то ящиком, только что присланным по почте. Приподнял крышку и снова захлопнул. Процедил иронически: — Опоздал… В ящике были отправленные в Крым по царскому повелению лекарства доктора Мандта. Царь умер, и вместе с ним умерла шарлатанская «атомистика». После евпаторийской неудачи князя Меншикова сменил князь Горчаков. Горчаков был не менее бездарен, чем Меншиков, но зато такой же прирожденный аристократ — белая кость, голубая кровь. Меншикова в армии не любили, солдаты называли: «Изменщиков». Над Горчаковым просто смеялись — над его фантастической рассеянностью (о нем говорили: «человек вовсе без головы»), над его слепотою и глухотою, и над его невнятной речью, и над его любимой песенкой. «Je suis soldat français» («Я французский солдат»), — бурчал себе под нос русский главнокомандующий. Пирогов именовал Меншикова «старой мумией», «филином». Горчакова — «развалиной», «козлом, от которого ни шерсти, ни молока». Севастополь от такой замены ничего не выиграл. В конце марта неприятель начал усиленную бомбардировку города. Днем англо-французские пушки пытались (тщетно!) подавить русскую крепостную артиллерию. Ночью, уставив тупые морды в небо, выплевывали тяжелые ядра мортиры, зажигательные ракеты с шипеньем вспарывали темноту. За десять дней 168 тысяч снарядов обрушилось на Севастополь. Главный перевязочный пункт помещался в Дворянском собрании. В покоях, привыкших к блеску золота, переливу шелков, теплой яркости бархата, — унылые ряды зеленых солдатских кроватей, серые казенные одеяла. В танцевальном зале лежали безногие. Там, где прежде гремела музыка, слышались только стоны. Паркет покрывала корка засохшей крови. Долгий кровавый след указывал путь в операционную. Мартовская бомбардировка была экзаменом, которого ждал Пирогов со дня приезда в Севастополь. Огромные партии раненых день и ночь поступали па перевязочный пункт. Но Пирогов встречал их во всеоружии. К этому времени он сумел воплотить в жизнь идею сортировки раненых. Носилки, носилки, носилки… И вот ступить некуда — пол устланокровавленными людьми. Один истошно кричит, другой стонет в забытьи, третий нетерпеливо кличет на помощь, четвертый умирает с мучительным хрипом… Суетятся врачи, мечутся фельдшера, служители хватают первого попавшегося раненого (того, кто с краю), кидают на операционный стол… И тут… — Стоп! — приказывает пироговская сортировка. Суматоха — это дополнительные врачи и сестры, силы, потраченные зря, ошибки в диагнозе. Сперва голова, потом руки. Не хвататься за нож. Уничтожить хаос — вот самая первая «первая помощь». Пирогов сортировал раненых на четыре категории. Первые — безнадежные. Им — средства для успокоения последних страданий, заботливые сестры, священник. Вторые — неотложные. Этих — на стол. Чтобы не оказались в первой категории. Третьи — те, что могут повременить с операцией или вовсе без нее обойтись. Им — хороший уход, а спадет горячка — внимательный осмотр, тщательное лечение. Четвертые — легкораненые. С этими просто: к фельдшерам на перевязку. Сортировка требует места. Нужна площадь, чтобы принять сотни, тысячи раненых. Пирогов добивался четырехсот пустых палаток — на случай бомбардировки или нежданного сражения. Он предложил разборные бараки — своего рода деревянное «панельное строительство». Из привезенных щитов быстро собирали барачный городок. Прифронтовые госпитали, по замыслу Пирогова, должны были стать чистым, проточным озером, а не стоячим, тинистым прудом. Тех, кому предстояло долгое лечение, он советовал непрерывно отодвигать от театра войны, отправлять все дальше в тыл. Тогда в районе боев оставались бы места для наплыва раненых. Идеи Пирогова удивительно просты. Начальство не утруждало себя и самым малым — желанием их понять. Пирогов каким-то чудом выискивал резерв площади в переполненных зданиях севастопольских госпиталей. Перед баталией, в просвете между обстрелами он не забывал о боевой готовности. На полу в несколько рядов раскладывал тюфяки. Медикаменты, корпия, бинты, компрессы — все лежало в строгом порядке. Самовары кипели не переставая. Врачи, фельдшера, сестры — каждый находился там, где мог оказаться всего нужнее. Сортировка требует быстроты. Нужно было срочно оперировать неотложных и, пока не поступили новые неотложные, заняться теми, кто мог ждать. Чем меньше врачей на перевязочном пункте, тем больше достается каждому больных. В Крыму врачей не хватало. Один хирург — сто, двести, пятьсот раненых. Никто не удивлялся. Недоброжелатель Пирогова, киевский профессор Христиан Гюббенет (сперва он отрицал сортировку, а потом хотел присвоить пироговскую систему), важно действовал у операционного стола, а тысячи (!) раненых без перевязки, без осмотра — прямо с поля боя — ждали на каменном полу своей очереди. Пирогов все перевернул с головы на ноги. Он приставил трех врачей к одному больному да еще выиграл в скорости: Великие полководцы умеют обходиться малыми силами, превращать их в огромную силу. Дело в тактике. В прусской армии врачи находились прямо в рядах солдат и оказывали помощь раненым тут же на поле боя. Француз Ларрей придумывал амбулансы — фургоны, которые двигались во время битвы между рядами войск. Амбулансы везли врачей к местам скопления раненых. Пирогов говорил, что под обстрелом, второпях, на грязной земле, врач может сделать не больше, чем санитар. Приближать медицинскую помощь к раненому — это не врача тащить на передовую, а спешно удалять раненого из-под огня. К тому же простой расчет. Три врача на бескрайнем поле боя — три песчинки в пустыне. Три врача у одного операционного стола — хозяева положения. Врачи у Пирогова работали вместе и не мешали друг другу. Они стояли цепочкой. Первый давал хлороформ, второй оперировал, третий останавливал кровотечение и перевязывал рану. Пирогов низверг хаос, казавшийся неизбежным, отказался от скоропалительных операций, приносивших пользу лишь немногим избранным. В деятельность перевязочных пунктов и госпиталей он сумел внести удивительную рациональность. В сортировке раненых, в «хирургическом конвейере», в специализации врачей была конструкторская точность — нечто «фабричное» (Пирогов так и говорил: «фабричное»). Пирогов с часами в руках высчитывал среднюю скорость работы хирургов. При сплошном наплыве больных можно было на трех столах сделать сто ампутаций за семь часов. Мартовская бомбардировка продолжалась девять дней. За это время через руки Пирогова прошло едва ли не пять тысяч человек. Он не уходил домой с главного перевязочного пункта в Дворянском собрании. День и ночь огромная танцевальная зала то до краев заполнялась ранеными, то снова опорожнялась. Если б не сортировка, людей складывали бы штабелями. Служители не успевали вытирать кровавые лужи. Паркет на полвершка пропитался кровью. Из больших деревянных кадок торчали отсеченные руки и ноги. Изредка Пирогов откладывал нож, шел отдыхать. Надвинув сплющенную фуражку на самые глаза, дремал в кресле возле тонконогого ломберного столика, крытого зеленым сукном. При свечах резко чернели глубокие борозды на щеках и на лбу, тусклым серебром отливали виски. Спал и не спал. Не то чтобы слышал и видел — нутром чувствовал все, что происходит. Вдруг вставал стремительно, одергивал красную фуфайку, бросал на ходу резкие, точные замечания, шел к своему операционному столу, над которым висел душный запах крови и расплавленного стеарина.
В мае Пирогов решил ехать в Петербург. Он сделал все, что мог. Но не махнул рукой. «Пусть сделает лучше, кто может». Как бы не так! Он сам хотел сделать лучше, чем мог. Надумал идти к военному министру, к великой княгине, к новому царю — добиваться коренных перемен в организации медицинской службы на войне. Мартовский экзамен Пирогов сдал. Не растерялся, устоял перед нескончаемым наплывом раненых. Помещения были готовы, система помощи продумана, врачи действовали уверенно (сперва голова, потом руки!) — по всему чувствовалось, что недаром прожил Пирогов пять месяцев в Севастополе. Дорогой ценой сдавали экзамены под бомбами. Пирогов просматривал сводки. За эти месяцы триста врачей, около тысячи фельдшеров навсегда легли в крымскую землю. Из ближайших помощников Пирогова умер Сохраничев, умер Джульяни, Каде и Беккерс едва не умерли, Петров лишился ног, Дмитриев после тифа потерял рассудок. А сестры! Грустный счет… Каждая четвертая, нашла в Севастополе могилу, каждая вторая переболела тифом. Да и сам Пирогов — его нездоровье было тяжелым и длительным. Но… Когда больной благодарил врача за ампутацию, когда сестра одним прикосновением заменяла хлороформ, все жертвы казались оправданными. Пирогов решил ехать. Он оставлял в Севастополе кусок жизни, ни с каким другим не сравнимый. Царь приказал считать защитникам города месяц службы за год. Не переплатил. Месяц службы в осажденном Севастополе стоил и трех лет. Пирогов оставлял в Севастополе свой труд, свои мысли, воплощенные в дело. Сортировку — теперь без нее не могли обойтись! Гипсовую повязку — благодаря ей у скольких солдат остались целыми ноги, чтобы прийти к Пирогову, и руки, чтобы его обнять! Говорят, во время перемирий, когда убирали раненых, французские врачи выспрашивали наших медиков, как мосье Пирогов обходится без ампутаций. Разделение больных с грязными ранами и чистыми. Когда он впервые увидел главный перевязочный пункт, где раненые лежали вперемешку, без разбора, — временно перевел больных в другое место, чистил, мыл, скоблил Дворянское собрание, неделями проветривал, не закрывая окон. Теперь все гнойные и гангренозные размещались в домах купцов Орловского и Гущина. Дом Гущина называли «мертвым домом». Туда отправляли безнадежных. Приказ: «В дом Гущина» во время сортировки почти означал смертный приговор. В доме Гущина хозяйничал фельдшер Калашников. Его называли Хароном — в честь мифического перевозчика, который на своем челне переправляет души в царство мертвых. Зловоние в доме Гущина стояло такое, что иные падали в обморок, еще не дойдя до двери. Говорили, что у Калашникова железные легкие. Не удивлялись — он ведь и в Петербурге из анатомического барака не выходил: следил за порядком, помогал при вскрытиях, готовил скелеты. Привык. А Калашникову что-то нездоровилось, и являлся он в свой «мертвый дом» через силу — стал опираться на палку. Калашников был при Пирогове вернейшим Санчо Пансой. В нем светилась какая-то радость от постоянного общения с Пироговым. Он был предан своему профессору. Не только по службе, но по дружбе служил ему самоотверженно и трогательно. В опустошенном, полуразрушенном Севастополе добывал для Пирогова то бутылочку вина, то кислой капусты, то баранок к чаю. Калашников верил Пирогову свято и жил убежденностью, что вместе с Пироговым приобщается к великому делу. Они не расставались. Калашников по своей охоте сопровождал Пирогова на обе войны — на Кавказ и в Крым. Когда Пирогов насовсем покинул Петербург, Калашников умер. Вдруг оказалось, что легкие у него не железные. Похаркал кровью — и умер. Пирогов оставлял в Севастополе своих людей — Калашникова, сестер, врачей-единомышленников. Он решил ехать. Он мечтал повидаться с женой, сыновьями. И повидать, как делают препараты для «ледяной анатомии». В перерывах между боями и бомбардировками он писал жене: «Скажи Шульцу, чтобы пилил вдоль как можно больше женских тазов», «Нельзя ли приготовить разрез глаза в различных направлениях», «Сделайте разрезы (продольные) носового канала…» Пирогов решил ехать. Он хотел, чтобы все его мысли стали делом. А для этого надо было вывести военную медицину из-под команды фрунтовых мудрецов и бойких генерал-гевальдигеров. Шел к концу восьмой месяц обороны. Севастополь еще стоял. Еще можно было что-то сделать для Севастополя. Пирогов решил ехать, потому что знал, что вернется.
Он вернулся. В тот хмурый день, когда молчаливая русская армия по мосту, перекинутому через бухту, ушла из Севастополя. Пирогов смотрел в трубу на замолкший Малахов курган, на выгоревшие, пустые улицы Корабельной стороны. На обжитое им Дворянское собрание, от которого остались только стены да несколько колонн. Пирогов вернулся в последних числах августа. Он добился права подчиняться непосредственно главнокомандующему и получил в полное распоряжение все перевязочные пункты и транспортные средства. Военный министр предполагал отправить под сукна пироговскую докладную, но при дворе сочли, что отсутствие Пирогова в Севастополе «ощутительно». Скрепя сердце пошли на уступки. Царь с неудовольствием встречал в дворцовых переходах непочтительного профессора, упорно пренебрегавшего положенным форменным мундиром. Все были рады, когда он умчался обратно в Крым и перестал являться на аудиенции — неуступчивый, со своим резким голосом и в своем длиннополом сюртуке, не слишком новом и не слишком опрятном. Пирогов рассматривал в трубу уже оставленный Севастополь. Нахимов не дожил до этого дня. 28 июня на Малаховом кургане он поднялся один, во весь рост перед французской батареей. По нему стреляли. «Они сегодня довольно метко целят», — проговорил адмирал и упал как подкошенный. Пуля пробила ему голову. В записной книжке Нахимова имелись среди прочих и такие пометки: «поверить аптеки», «чайники для раненых», «колодцы очистить и осмотреть», «лодку для Пирогова и Гюббенета». Севастополь оплакивал Нахимова. Пирогову суждено было оплакивать Севастополь. В первый приезд Пирогов нашел тысячи раненых под Инкерманом. Во второй приезд — тысячи раненых на Черной речке. Сражение на Черной речке князь Горчаков дал в угоду царю. Александр II требовал сражения. Оно обошлось русскому народу в восемь тысяч убитых и раненых. Негодование было всеобщим. Один офицер, участник «неудачного, ужасного дела», излил свой гнев в сатирической солдатской песне:
Пирогов встречал этого офицера в госпиталях и на перевязочных пунктах. Однажды офицер подошел, представился: — Граф Толстой. Пирогов вспомнил, что читал в журнале повесть Толстого «Детство». Уже потом, после войны, Пирогову попался рассказ «Севастополь в мае». В нем имелось описание перевязочного пункта. Короткое, но весомое. В печати много щебетали о сестрах милосердия. Толстой посвятил им одну простую фразу, но разглядел что-то серьезное, важное: «Сестры с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами». В очень простой фразе была заложена большая правда, и Пирогов удовлетворенно кивнул головою, когда дочитал рассказ до конца, до заключительных слов: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души… и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда». Пирогову понравилось: сказано по-пироговски.
Всю ночь уходила из Севастополя молчаливая русская армия. Разыгрался ветер. Плавучий мост захлестывали волны. Мост качало. Под тяжестью повозок и орудий дощатые звенья моста, положенные на осмоленные бочки, внезапно погружались в море. Солдаты и матросы шли молча, не замечая, что промокли, что продрогли под порывистым северным ветром. Они уходили из Севастополя. Триста сорок девять дней героической обороны остались за плечами. Впереди?.. «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский», — пророчил Лев Толстой. Крепко ухватившись (чтобы не смыло!) за высокий борт санитарной фуры, последней из сестер прошла по мосту Екатерина Бакунина. Ленивое мерцание багровых углей, облако пепла, едкий синий дым… Костром угасал Севастополь. Два дня не решались англо-французские войска вступить в покинутую крепость. А когда решились, оказалось: занять пустой город — самое большее, на что они способны. Одиннадцатимесячная осада вконец измотала армии союзников…
Сплошной поток раненых катился от Севастополя на север. Раненых было много. К пострадавшим на Черной речке прибавились жертвы последней бомбардировки города. Восемьсот тяжелых орудий выпускали по Севастополю восемьдесят тысяч снарядов в день. Симферопольские госпитали трещали по швам. Раненых некуда было девать. Такое скопление угрожало последствиями, ненамного уступавшими последствиям бомбардировки. Проблема транспорта стала главной. Предстояло организованно эвакуировать раненых из Крыма в близлежащие губернии. Пирогов отлично знал, что такое крымские транспорты. Из каждой сотни санитарных повозок примерно пятнадцать превращались в конце пути в похоронные дроги. Пользуясь полученными в Петербурге полномочиями, Пирогов отобрал транспортировку у интендантов и передал медикам. По маршруту эвакуации отправилась Бакунина — надежнейшая из помощниц. Она возглавляла созданное Пироговым особое транспортное отделение сестер. Пирогов просил ее проверить, перевязывают ли на этапах раненых, чем их кормят и поят в пути, дают ли им одеяла и полушубки. Пирогов разработал свою систему эвакуации. Он объявил войну «холодным и нежилым притонам» — путевым ночлежкам. От Симферополя до Перекопа устроили тринадцать этапных пунктов — там кипятили чай, готовили горячую пищу. Там раненых ждали. Пирогов потребовал теплой одежды для каждого, кого отправлял в путь (точный удар в дуэли с интендантами!). Провожая транспорты, взвешивал мешки — сухари полагались на дорогу (интенданты ревели от ярости!). Заглядывал в баки — вдоволь ли пресной воды: он запрещал пить из степных колодцев. Система совершенствовалась. Тех, кого намечали к очередной отправке, свозили заблаговременно в специальное помещение. Здесь с ними знакомились врачи, которым предстояло сопровождать транспорт. Да и возили раненых теперь не на чем попало, а на специально приспособленных подводах. Пирогову случалось видеть, как солдаты натягивают старую, худую палатку. Натянут край — крыша рвется. Зашьют дыру — глядь, в другом месте трещит парусина. Хоть караул кричи! Пирогов не поспевал всюду. Шел отправлять транспорт — некто переставал топить в госпиталях. Брался за сортировку — некто прикрывал этапные пункты. Некто был везде — в генеральских эполетах, в комиссариатском мундире, в суконной поддевке подрядчика. Если бы не эти бесконечные некто!.. Сколько бы еще смог Пирогов!.. Но и так десятки тысяч с благодарностью повторяли его имя. Тот, кто не умер от ран после боя. Тот, кто не умер от заражения в госпитале. Тот, кто не умер от голода и холода на этапе. «Вы сходите на перевязочный пункт, в город! Там Пирогов; когда он делает операцию, надо стать на колени», — писал очевидец, побывавший в Крыму. Некрасов напечатал эти строки в «Современнике» и прибавил от себя: «Выписываем эти слова, чтобы присоединить к ним наше удивление к благородной, самоотверженной и столь благодетельной деятельности г. Пирогова, — деятельности, которая составит одну из прекраснейших страниц в истории настоящих событий. Одно из самых отрадных убеждений, что всякая личность, отмеченная печатью гения, в то же время соединяет в себе высочайшее развитие лучших свойств человеческой природы, — эта истина как нельзя лучше оправдана г. Пироговым… Это подвиг не только медика, но и человека. Надо послушать людей, приезжающих из-под Севастополя, что и как делал там г. Пирогов! Зато и нет солдата под Севастополем (не говорим об офицерах), нет солдатки или матроски, которая не благословляла бы имени г. Пирогова и не учила бы своего ребенка произносить это имя с благоговением. Пройдет война, и эти матросы, солдаты, женщины и дети разнесут имя Пирогова по всем концам России, оно залетит туда, куда не заглядывала еще ни одна русская популярность…» Личностью, которой «сердце отдает охотно и безраздельно лучшие свои симпатии», называл Пирогова Некрасов. Его величество государь император Александр II изволил именовать Пирогова «живодером». Осенью 1855 года Александр II прибыл в Симферополь. К государеву приезду белили фасады, прикрывали гирляндами дыры, до блеска ваксили драные сапоги. Царь не желал знать ту правду, которую знали Нахимов, Пирогов, Толстой. Пирогов писал: «Государь хотел остаться всем довольным и остался…» Когда царь с блестящей свитой заглянул в госпиталь, Пирогов к нему не вышел. Николаю Пирогову не о чем было говорить с Александром Романовым. Все, что мог, он уже сказал царю, Летом, в Петербурге, прямо в царском дворце. Сказал о героях — только смерть заставляла их сложить оружие. О титулованных командирах, бездарных и самовлюбленных, — у всякого Ермишки свои интрижки. О воровстве, проевшем, как ржавчина, и гигантский цейхгауз и маленький солдатский котелок. Царь выходил из себя, тряс головой, не желал слушать: — Неправда! Неправда! Не может быть! Пирогов обозлился и, позабыв этикет, рявкнул царю в лицо: — Правда, государь, правда! Я сам это видел!..
VIII. ОДЕССА. КИЕВ 1856—1861
Человек в мундире совсем не то, что человек без мундира. Мундир зачастую не только внешность, но психология и даже мировоззрение. В России всякий род государственной деятельности был издавна облачен в мундир. Казенное сукно и чеканные пуговицы призваны были расставить всех по местам, разграничить по правам и материальным благам, уравнять в образе мыслей и образе чувствований. Тому, кто привык к мундиру, не так-то легко из него вылезти. Еще труднее вылезти из мундирной психологии и философии. При Николае люди привыкли к мундирам, как к собственной коже. Цари менялись — мундиры изменялись, но не отменялись. Александр II приказал вместо высокого стоячего воротника носить отложной, пуговицы на груди располагать не в один ряд, а в два. Но народ ждал не новых воротников. И шесть лишних пуговиц на мундире не решали дела. Севастополь многим открыл глаза. «Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России»[5]. Хотело правительство или нет, что-то надо было предпринимать. Историк С. М. Соловьев говорил: надо «остановить дальнейшее гниение». Сам Николай I признал на смертном одре, что сдает «команду» «не в добром порядке». Александр II весной 1856 года кичился перед московским дворянством: слухи об освобождении крестьян неосновательны. Однако спохватился: «рано или поздно» освобождать все-таки придется. «Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». Крестьяне брались за вилы и топоры. Чернышевский готовился к «открытой борьбе», высекал искры, чтобы зажечь пожар. Герцен создал вольную русскую прессу за границей — на темном небе засверкала «Полярная звезда», тревожащим набатным боем загудел «Колокол». Молодежь собиралась в кружки и группы. В революционном движении расправил плечи разночинец. («Разночинец есть поднимающаяся кверху часть народа, имеющая в нем свои корни»,— метко определил кто-то из современников.) И даже иные из помещиков торопили правительство «решить вопрос» — пусть не лучше, но скорее, — ибо «кончится тем, что нас перережут». Все прогнило, все требовало перемен. Среди прочих «злоб дня» обернулись неотложными и важными проблемы образования и воспитания. «Вопрос о воспитании, — отмечал Писарев, — сделался современным, жизненным вопросом, обратившим на себя внимание лучших людей нашего общества». Лучшие люди видели за словами «образование» и «воспитание» просвещение народа, подготовку для страны будущих деятелей. Педагогическое движение бурливой рекой вливалось в многоводный поток общественного движения. И одним из свежих ключей, давших начало этой реке, стала статья Пирогова «Вопросы жизни». Время ее пришло. Никогда не были «Вопросы жизни» так кстати.«Вопросам жизни» предпослан эпиграф: «— К чему вы готовите вашего сына? — кто-то спросил меня. — Быть человеком, — отвечал я. — Разве вы не знаете, — сказал спросивший, — что людей собственно нет на свете; это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества? Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди. Правда это или нет?» В эпиграфе поставлены точки над «i». Мировоззрение мундирное или мировоззрение общественное? Два рода людей не задают себе никаких вопросов при вступлении в жизнь: получившие от природы жалкую привилегию на идиотизм и получившие, подобно планетам, однажды толчок и двигающиеся по инерции в заданном направлении. Остальные спрашивают: — В чем состоит цель нашей жизни? Какое наше назначение? К чему мы призваны? Что должны искать? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно иметь убеждения. Школа подлинно высоких убеждений не воспитывает — заставляет лишь затверживать сызмальства высокие слова. При вступлении в самостоятельную жизнь благие порывы развеиваются, как вырвавшийся из трубы дым. «Свершить ничего не дано…» Основы воспитания находятся «в совершенном разладе» с направлением, которому следует общество. Главное же направление, которому следует общество, — думай о себе, а не об обществе. Общественное направление — живи для себя! — высокой стеной отделило благие порывы от свершений. Чтобы пробить стену, нужно быть не механиком, моряком, врачом, юристом — нужно быть прежде всего человеком, «истинным человеком», говорит Пирогов, приготовленным к «неизбежной» «предстоящей борьбе». Не школяром, зазубрившим на уроках прекрасные истины, а человеком, убежденным, что эти истины прекрасны. Но произвол царит и в семье и в школе. Ребенка заранее венчают с его будущим поприщем, так же как, не спросив согласия, выдают замуж дочерей. На вопросы жизни, на убеждения не остается времени. Биография превращается в бесконечную перемену мундиров. Едва ребенок из частицы природы становится человеком, у него появляется желание осмотреться. И что же?.. «Осмотревшись, вы видите себя в мундире с красным воротником, все пуговицы застегнуты, все как следует, в порядке. Вы и прежде слыхали, что вы мальчик. Теперь вы это видите на деле. Вы спрашиваете, кто вы такой? Вы узнаете, что вы ученик гимназии и со временем можете сделаться ученым человеком — ревностным распространителем просвещения: студентом университета, кандидатом, магистром и даже директором училища, в котором вы учитесь. Вам весело. Вот первый вид. Осмотревшись, вы видите себя в мундире с зеленым воротником и с золотой петлицею. Вы спрашиваете, что это значит? Вам отвечают, что вы ученик правоведения, будете, наверное, блюстителем закона и правды, деловым человеком, директором высших судебных мест. Вам весело и лестно. Вот второй вид. Осмотревшись, ваш взор останавливается на красном или белом кантике мундира и воротника. Вы тоже спрашиваете. Вам отвечают громко, что вы назначаетесь для защиты родной земли, — вы кадет, будущий офицер, и можете сделаться генералом, адмиралом, героем. Вы в восхищении! Вы осмотрелись и видите, что вы в юбке. Прическа головы, передник, талья и все — в порядке. Вы и прежде слыхали, что вы девочка, теперь вы это видите на деле. Вы очень довольны, что вы не мальчик, и делаете книксен. Вот четвертый, но также еще не последний вид. Узнав все это, вы спрашиваете, что же вам делать? Вам отвечают: учитесь, слушайтесь и слушайте, ходите в классы, ведите себя благопристойно и отвечайте хорошо на экзаменах… Проходят годы. Выросши донельзя из себя, вы начинаете уже расти в себя. Вы замечаете, наконец, что вы действительно уже студент, окончивший курс университета, правовед, бюрократ, офицер, девушка-невеста. На этот раз вы уже не спрашиваете, кто вы такой и что вам делать… Вас водили в храм божий. Вам объясняли Откровение. Привилегированные инспектора, субинспектора, экзаменованные гувернеры, гувернантки, а иногда даже и сами родители смотрели за вашим поведением. Науки излагались вам в таком духе и в таком объеме, которые необходимы для образования просвещенных граждан. Безнравственные книги, остановленные цензурой, никогда не доходили до вас. Отцы, опекуны, высокие покровители и благодетельное правительство открыли для вас ваше поприще. После такой обработки, кажется, вам ничего более не остается делать, как только то, что пекущимся о вас хотелось, чтобы вы делали». Воспитание окончено. Учителя, офицеры, юристы, чиновники плотно заполняют гимназии, казармы, суды, департаменты. Меняются мундиры, выпушки, погончики, петлички. Затянутая в форму видимость. Все пуговки застегнуты. Все в порядке. Человека не получилось. Ну, а как же человек образованный? Не тот образованный, что набрался знаний из умных книг и может без труда порассуждать об ученых предметах, а тот, что получил настоящее образование? Одним словом, как же «человек истинный»? «Истинного» не воспитаешь золотыми пуговицами, гвардией инспекторов и казенными учебниками. Тут нужно совсем иное. Во-первых, помочь будущему человеку приобрести убеждения — научить не размышлять, а мыслить. Во-вторых, вселить в будущего человека страсть, вдохновение — веру в правоту своих убеждений. Когда осенит вдохновение, «какая борьба покажется вам нестерпимой»? В-третьих, развить в будущем человеке способность жертвовать собой — признак стойкого борца. В-четвертых, приучить будущего человека искать сочувствие — распространять свои убеждения и находить сторонников. Нужно развивать в человеке не мундирное, наружное, а внутреннее. Тогда «у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное — у вас будут люди и граждане». Тогда «жить для себя» превратится в «жить для общества».
Первым заговорил вслух о воспитании журнал «Морской сборник». Поводом послужила предстоящая реорганизация военно-морских учебных заведений. Но о них речь шла меньше всего. «Морской сборник» многое мог себе позволить. Журнал находился под особой опекой великого князя Константина Николаевича. Великий князь был главой морского ведомства и царевым братом. Константин Николаевич был из числа вельмож, считавших, что Россию надо усмирять реформами. Как и его тетка, великая княгиня Елена Павловна, он любил покровительствовать. Как и Елена Павловна, он старался окружить себя людьми «с именем». Редакция «Морского сборника» одна из первых стала печатать «Фрегат «Паллада» Гончарова, отправила в литературные командировки прозаика Писемского и драматурга Островского. Разговор о воспитании открылся статьей Бэма, которого Морской ученый комитет рекомендовал как опытнейшего педагога. Статья была обстоятельная — шестьдесят восемь журнальных страниц. Она оказалась хорошей «затравкой». Бэм писал, что почвой, на которой вырастает и развивается повое поколение, является общество. «Дурное направление и недостатки воспитания юношества всегда неразлучно связаны с общим дурным направлением общественной жизни…» На вызов Бэма быстро отозвались двое. Первый, академик Давыдов, читал официальный курс педагогики в Московском университете. И статья его получилась официальной, малоинтересной. Академик вроде бы храбро вмешался в полемику, но ничего храброго не сказал. Автором второй статьи был Владимир Иванович Даль. Его основной тезис — «Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника» — маскировал выступление против лжи, пронизавшей не только школу, но все государственное устройство. Создалось положение, сетовал Даль, когда дорога не сама правда, а начальническое донесение, что «все обстоит благополучно». Критика Даля близка Пирогову, который всю жизнь учил, что надо «быть, а не казаться». Она перекликается с темой многих «севастопольских писем» Пирогова: «Нужно, чтобы было непременно все в отличном порядке — на бумаге, а если нет, так нужно молчать». В частности, с рассказом о приезде царя в Симферополь: «Государь хотел остаться всем довольным и остался…» Крушение Севастополя и крушение официальной системы воспитания были вызваны одними и теми же причинами. «Люблю Россию, люблю честь родины, а не чины, — писал Пирогов из Крыма. — Это врожденное, его из сердца не вырвешь и не переделаешь; а когда видишь перед глазами, как мало делается для отчизны и собственно из одной любви к ней и её чести, так поневоле хочешь лучше уйти от зла, чтобы не быть по крайней мере бездейственным его свидетелем». «Уйти от зла» Пирогов не мог. Следом за Далем выступил со своими «Вопросами жизни». Полемика в «Морском сборнике» продолжалась. После «Вопросов жизни» явился еще десяток статей. И все же, по существу, полемика закончилась статьей Пирогова: никто не сказал о воспитании больше и лучше, чем он. Все, что общество хотело и могло прочитать в журнале государева брата, оно прочитало в «Вопросах жизни». Остальные статьи прошли почти незамеченными. «Вопросы жизни» обсуждали всюду. В школе, в семьях, при дворе. Выдержки из пироговского трактата перепечатывали в других журналах. Его перевели на французский и немецкий языки. Называли «вечевым колоколом». Сравнивали с опубликованными тогда же «Губернскими очерками» Салтыкова-Щедрина. Рецензенты «Современника» в течение года дважды обращались к «Вопросам жизни». И какие рецензенты! Чернышевский и Добролюбов. «О сущности дела, о коренных вопросах образованному человеку невозможно думать не так, как думает г. Пирогов, — писал Чернышевский. — …Кто и не хотел бы, должен согласиться, что тут все — чистая правда, — правда очень серьезная и занимательная не менее лучшего поэтического вымысла». «Все, читавшие статью г. Пирогова, были от нее в восторге, — еще темпераментнее писал Добролюбов. — …Статья г. Пирогова вовсе не отличается какими-нибудь сладкими разглагольствованиями или пышными возгласами для усыпления нерадивых отцов и воспитателей, вовсе не старается подделаться под существующий порядок вещей, а, напротив, бросает прямо в лицо всему обществу горькую правду». Революционные демократы поддержали в «Вопросах жизни» резкую критику государственной системы воспитания, благородный призыв растить новых, убежденных людей, приученных «с первых лет жизни любить искренне правду, стоять за нее горою». Видели большую пользу в горячем сочувствии общества пироговским мыслям. И все же, нахваливая Пирогова, записали, как говорится, «особое мнение». Чернышевский вскользь, не разъясняя, заметил, что в рассуждениях Пирогова есть «некоторые частности» — с ними можно не согласиться. Добролюбов приплюсовал к высказываниям Пирогова и свои «несколько соображений» — на них его натолкнули, по-видимому, те же «частности». Он полагает, например, что «предрассудки и заблуждения старого поколения», которые «вкореняются во впечатлительной душе ребенка», способны надолго замедлить «совершенствование целого народа». И чем дальше, «тем крепче держится народ за предания отцов». А потому необходимо «заставить общество почувствовать нужду и возможность изменения в принятых неразумных началах». Вот тут-то вся загвоздка! Если по-эзоповски закамуфлированную мысль Добролюбова принять за нить Ариадны и, придерживаясь ее, возвратиться в статью Пирогова, «частности» сразу превратятся в принцип. Пирогов видит три пути, чтобы вывести человечество из противоречий между школой и жизнью. Первый: согласовать воспитание с направлением общества. Второй: изменить направление общества. Третий: «приготовить нас воспитанием к внутренней борьбе», чтобы «выдерживать неравный бой». Первый путь Пирогов отметает: на земле не останется «Святого, Чистого и Великого». Отметает и второй: «изменить направление общества есть дело промысла и времени». Он избирает третий путь: готовить людей, которые в состоянии внутренне противостоять направлению общества. Добролюбов тоже за убежденных людей. Но не во имя того, чтобы противостоять силе старого, а чтобы заставить общество изменить «принятые неразумные начала». Добролюбов избирает второй путь. Он не надеется на промысел и доброту времени.
«Вопросы жизни» были опубликованы в июльском номере журнала «Морской сборник» за 1856 год. И в июле того же 1856 года последовал высочайший указ об увольнении Пирогова из академии. Еще весной Пирогов подал просьбу об отставке, ссылаясь на «расстроенное здоровье» и «домашние обстоятельства». Пирогов уходил из академии, которой отдал, быть может, лучшие полтора десятилетия жизни — годы зрелости и творческой мощи. Ему, видимо, казалось, что вовсе расстается с медициной. На что мог он рассчитывать, покидая кафедру и не добиваясь другой, покидая анатомический театр — место необъятных исследований, громадную клинику? Разве только на частную практику… Будущее показало: Пирогов не сумел прожить без медицины, так же как она без него. Пирогов навсегда остался Пироговым. Частная практика давала ему материал для размышлений и выводов, колоссальный опыт требовал обобщения в теории, неугомонная натура ученого толкала его от проблемы к проблеме, не позволяла поставить точку — он любил вопросительные знаки. Пирогов закончил жизнь медиком: исследователем-теоретиком и хирургом-практиком, «старым врачом», как он назвал себя накануне смерти. Но тогда, в решающем 1856 году, из хирургии по собственной воле уходил человек, при жизни удостоенный имени гениального хирурга. Почему? На этот счет высказано немало соображений. Без сомнения, деятельность Пирогова в Севастополе настолько приумножила число его врагов среди власть имущих, что ему уже почти невозможно было служить в ведомстве военного министерства. И конечно, недруги хирурга не упустили бы выгодного случая отделаться от него. А тут и предлог появился — Пирогов отслужил тридцать лет (в Севастополе засчитывали месяц за год). Тридцатилетний стаж был пределом службы (двадцать пять обязательных лет плюс пять дополнительных — «из милости», если на то будет охота начальства). Пирогову не могла не прийти на память история с отставкой Буяльского, которого не сочли нужным удержать на новое пятилетие и, несмотря на его просьбы, в расцвете сил вытолкали из академии. Недоброжелателей у Буяльского и среди начальства и между коллегами было куда меньше, чем у Пирогова. Надо полагать, Пирогов предвидел такой поворот и не собирался просить разрешения еще на какой-то срок остаться в академии. Академическое начальство ясно дало ему понять, что произошло бы, вздумай он остаться. Конференция академии «не сочла себя вправе останавливать прошение его об увольнении», хотя и оговорилась, что «вполне умеет ценить ученые труды и заслуги г. профессора Пирогова». Высочайший приказ об увольнении Пирогова последовал 28 июля, но уже 19 мая (торопились!) на его место (на место ПИРОГОВА!) был избран другой профессор. Финальная сцена, достойная тех, кто научную полемику подменял подсиживанием и сплетнями, научные интересы — личной выгодой и мелким тщеславием. Конечно, Пирогов был сыт по горло! Четырнадцать лет ненужной, навязанной ему войны. Четырнадцать лет в боях отстаивал он свое право лечить людей, спасать от смерти. Иные говорят: Пирогов ушел, потому что ему надоела академия. Что ж, такое мнение подтверждает надежный свидетель — сам Пирогов: «Служить здесь мне во сто крат приятнее, чем в академии; я здесь по крайней мере не вижу удручающих жизнь, ум и сердце чиновнических лиц, с которыми по воле и неволе встречаюсь ежедневно в Петербурге». Это он писал из Севастополя, где «возможность умереть возрастает… до 36 400 раз в сутки (число неприятельских выстрелов)», из Севастополя, где хозяйничали интриганы и воры. Об уходе из Медико-хирургической академии великий медик и хирург говорит, как крепостной, как узник накануне освобождения, как солдат на последнем году службы: «Я отслужил мои годы и свободен». «Меня ни лаской и ничем не принудят служить долее». «Я уже теперь вольный казак…» Эти объяснения, безусловно, правильны. Но лишь частично. Опираться только на них — значит допустить нечто совершенно несвойственное характеру Пирогова, значит признать, что Пирогов выходил из борьбы. Дело выглядит совсем иначе, если вместо вопроса: почему ушел Пирогов? — поставить другой: во имя чего?.. Это был подвиг — сделаться ПИРОГОВЫМ. Мальчиком начать служение науке, юношей украсить науку своим служением, а достигнув зрелости, каждый год, каждый месяц и день дарить людям новые и новые открытия; любого из них другому хватило бы и на прижизненную славу и на бессмертие в будущем. Но не меньший подвиг — в благодатную пору сбора урожая, когда жизнь клонится к закату, найти в себе мужество расстаться со всем честно нажитым. И расстаться не чтобы почить на лаврах, вкушая от пышного пирога славы, а во имя высокой цели. Не просто уйти из прошлого, а избрать новое поприще, неизведанное, таящее капканы и ямы, требующее нечеловеческого напряжения сил. Четверть века Пирогов лечил больных людей. Теперь он задумал лечить общество. Стать педагогом, воспитателем. Учить и воспитывать не специалистов — хирургов, анатомов, патологов, — а деятелей, тех самых «людей и граждан», которые будут «жить для общества». «Вопросы жизни», написанные лет за шесть до опубликования, — свидетельство того, что решение пришло не внезапно, долго вынашивалось. Как обычно, под пироговский «рискованный шаг» подводилась научная основа, выковывалась уверенность, что шаг этот принесет пользу, практически необходим. Пирогов понимал, чувствовал, что приспела пора действовать. После смерти Николая I повеяло над Россией весенним ветром надежд. «Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг «новых людей», — писал Шелгунов. — Точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать». Пирогов понимал, чувствовал, что обязан действовать. За его спиной был Севастополь. Горькая правда о России, прочитанная в глубоких колеях, оттиснутых на разбитых дорогах, прочитанная в доносах знатных интриганов, в наглых отчетах воров интендантов, в беззаботных глазах главнокомандующего. И народ, умевший забыть о своем во имя общего, умевший держаться до последнего и умирать без стона. Такой народ мог и должен был отстоять все будущие Севастополи. Ради этого и ломал свою жизнь Пирогов, покидал академию, любимую науку. Поездка в Севастополь и переход на педагогическое поприще — звенья одной цепи. Пирогов знал, что победа сама не прилетит в руки. Не от борьбы он уходил, а в борьбу. Еще более тяжелую: академические дрязги были цветочками; палки, которые госпитальные кляузники ставили ему в колеса, — тонкими стебельками. Обстановка в академии, быть может, ускорила, но не решила уход Пирогова. Не покоя он искал, и не искал его никогда, и не смирялся с ним, даже когда его насильно пытались успокоить, — он искал поля боя пошире. Сражение не страшно для испытанного бойца. Страшно другое — он избрал путь, который не вел к победе. Этого он не понимал. Пирогов признался однажды: «…Неопытный, я не знал еще всех скрытых пружин механизма, управляющего обществом, и, разумеется, обманулся в моих надеждах». Можно сделать две тысячи операций под наркозом и доказать какому-нибудь болвану из больничного начальства, что так лучше. Можно вскрыть три тысячи трупов и доказать рутинеру от науки, что артерия проходит так, а не иначе. Можно послать к черту генерал-штаб-доктора и на свой страх и риск вытащить со склада сотню палаток для раненых. Нельзя воспитать новое общество, полагаясь на промысел и время, не воспитывая в людях желания и готовности покончить со старым. Подлинно революционной педагогике невозможно развернуться, не расшатывая, не ломая рамок старого строя. Чтобы лечить общество, тоже нужны хирурги. Хирургом в педагогике был не Пирогов, а Добролюбов. Пирогова высочайше уволили из медицинской науки, но высочайше пустили на педагогическое поприще. Не потому ли, что не прочли в его статье — пусть острой, критической (Александр II долго не позволял ее печатать) — призыва к «хирургическому вмешательству», к изменению «принятых неразумных начал»? Надеялись, что не зайдет далеко. Общество разгибало спину. Педагогика стала «жизненным вопросом». Придворные реформаторы торопились уступить — спешили спрятаться за Пирогова. Иначе мог быть Добролюбов. Когда Пирогову предложили важный пост по ведомству народного просвещения, он согласился. Рассчитывал, что сумеет применить свои теории на практике. Хотя незадолго перед тем вспоминал о Севастополе: «Нет, это, пожалуй, в последний раз в моей жизни,что я согласился на такие попытки: в стране, где господствует «видимость» и форма, я искал «сути». За несколько месяцев ничего не изменилось. Форма продолжала господствовать. Видимость скрывала суть. И все-таки он согласился.
Служащие по министерству народного просвещения мундир имели темно-синего сукна, с темно-синим же бархатным воротником и латунными пуговицами. В середине августа 1857 года директор Симферопольской гимназии собрал учителей и строго-настрого приказал являться на уроки в парадной форме. Ожидался приезд самого господина попечителя учебного округа — его превосходительства. 16 августа молодой, только что назначенный учитель Бобровский давал первый в своей жизни урок. По дороге в класс он сорвал на гимназическом дворе несколько растений, чтобы рассказать о них ученикам. Едва Бобровский начал говорить, дверь отворилась, и в классе появился незнакомый человек. Странное на нем было платье — не то длиннополый и не в меру широкий сюртук, не то халат, не то пальто. Запыленные сапоги и простецкий картуз. Человек сказал: — Я попечитель учебного округа. Продолжайте. И уселся на первую парту. Бобровский хотел продолжать — не смог. Смутился, растерялся, позабыл, что говорить. Попечитель подошел к нему, взял из его рук сорванную у забора лебеду: — Вы хотели рассказать детям об этом растении? И вот он уже идет между партами, показывает ученикам лебеду, спрашивает о форме листьев, их расположении, о стебле, о корне. Нанизывает один вопрос на другой и всякий ответ завершает новым решительным «почему?». Ребята оживились. Некогда зевать со скуки, разглядывать в окно привычный гимназический двор. Думать надо. Самим доходить до сути. Позабыв про важный чин его превосходительства, ученики вскакивали с мест, дружно выкрикивали ответы, спорили. Обыкновенная лебеда, сто раз виденная, стала вдруг непростой, интересной штукой. Гимназисты потом все спрашивали: — Когда еще попечитель приедет? Для начинающего учителя Бобровского первый урок стал уроком на всю жизнь. Попечителем Одесского учебного округа с сентября 1856 года был Николай Иванович Пирогов.
В Одессе всюду море. Оно широко раскинулось внизу, оно сверкает слепящей, повисшей в воздухе полосой, плещется у ног и просвечивает между домами. Его слышно. Оно связано с жизнью каждого горожанина. Оно все время чувствуется. Море не просто прилегает к городу, море словно бы оправлено Одессой. Одесса была центром Новороссийского края. Богатые южные губернии стали заселяться только с середины XVIII века. Отсюда и название — Новороссия. Сначала здесь жили беглые. Павел I ввел в Новороссии крепостное право. Земли тут было много. Новоиспеченные помещики скупали и вывозили сюда крепостных из Центральной России. Это было обычным делом. Гоголевский Чичиков покупал мертвые души «на вывод» в Херсонскую губернию. Одесса быстро стала крупным портом, очагом хлеботорговли. Главную улицу города назвали Дерибасовской в честь Осипа Михайловича Дерибаса. Дерибас родился в Неаполе, переехал в Россию, воевал с турками (при штурме Измаила командовал десантом) и сделался русским адмиралом. По проекту, который он подал Екатерине, стали строить на месте турецкой крепости близ селения Хаджибей новый город и порт — Одессу. На Дерибасовской стояло здание Ришельевского лицея. Его основал первый одесский градоначальник герцог Ришелье. Арман Эммануэль Софи Септимани дю Плесси Ришелье в 1789 году бежал в Россию от французской революции. Он возвратился на родину после падения Наполеона и скоро стал во Франции председателем совета министров. Сосланный на юг Пушкин, живя в Одессе, случалось, заходил в лицей. В красной феске, с тяжелой тростью, появлялся на лекции. Классы и коридоры лицея напоминали ему отрочество. Пушкин жил на углу улиц Дерибасовской и Ришельевской. Его навсегда запомнили в Одессе. Веселый, подвижный, сверкающий, как море, он легко вписался в этот город. Гоголь посетил Одессу на четверть века позже Пушкина, совсем незадолго до Пирогова. Он был похож на испуганную птицу, болен, неразговорчив, носил темно-коричневый сюртук, черные перчатки, цилиндр конусом. Его помнили меньше, чем Пушкина. Пирогов с его полупальто-полусюртуком и простецким картузом остался в Одессе до сих пор. Не в памяти — в делах. Он умел сразу влезать в дела — без «раскачки». Не — ознакомившись, начинал, а — начав, знакомился. Он брался за дела, как ученый. Не радовался находкам, которые лежат на дороге, — знал, что ищет. По пути отделял руду от породы. Всего через три месяца после вступления в должность попечителя Пирогов подал докладную записку, названную очень категорически: «О ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходимости преобразования учебных заведений». В записке изложено лишь то, что неизбежно требовало официальной санкции. Все остальное Пирогов смело взял на свою ответственность. Во время минувшей войны Пирогов писал из Крыма, что управляет подчиненными деспотически, но справедливо. Пироговский деспотизм уживался со справедливостью. Пирогов-начальник не приказывал, а не давал успокаиваться — без конца ставил задачи и показывал, как добиться цели. Он обладал способностью воспламенять других, потому что сам верил в то, что делает. Всегда был, а не казался. О нем никто не мог сказать: «А сам-то…» Попечитель — должность мундирная, Пирогов сделал ее человеческой. Само его появление где-нибудь в губернской гимназии или захолустной школе ломало привычные представления. Заросший дорожной грязью тарантас под окнами и важное лицо, которое не требует к себе, не выговаривает, не приказывает, а в поношенной одежке сидит за партою, вместе с учениками решает задачки из устного счета или переводит латинские тексты. Если учитель не мундир, а человек, он во всю жизнь не позабудет, как сам Пирогов, осмотрев школу, отправился к нему, простому учителю, ночевать, от кровати отказался и, лежа рядом на полу, всю ночь расспрашивал о разном, советовал, делился мыслями. Если учитель не мундир, а человек, он во всю жизнь не позабудет, как Пирогов, сердито не поверив вначале, что ученики могут переводить Цицерона и Тацита, встал в конце урока и вслух (сам Пирогов!) признал: «Я был неправ. Я вижу теперь, что ваши ученики в состоянии читать и Тацита. Благодарю вас очень». Сколько их вот так воспламенил на пути своем Пирогов! За один 1857 год попечитель трижды объезжал учебный округ. Неделями трясся по бездорожью губерний Херсонской и Екатеринославской, Бессарабии и Крыма. И всюду оставлял воспламененных — приверженцев и последователей; они, может, и не всегда знали, как надо, зато знали, что надо не так, как раньше. Из Херсонской губернии сообщали: здесь стали учить по-пироговски — заставляют детей не зубрить, а думать; отменили розгу; хлопочут об открытии женской гимназии — учителя решили преподавать в ней бесплатно; создан педагогический кружок — в нем читают доклады на разные темы, обсуждают журналы, на заседания кружка собираются не только педагоги, но и публика… По округу полетели пироговские циркуляры. Они не пестрели казенными завитками параграфов, не одергивали грозными «Предписываю…», «Приказываю…». Циркуляры не трепет вызывали — жгучий интерес. Из бумаги превратились в дело. Циркуляры по учебному округу — своего рода педагогические «Анналы» Дерптской клиники. Попечитель откровенно делился с учителями хорошим и плохим. Анализировал: «…Метод преподавания естественной истории я нашел неестественным. Учитель не обращал никакого внимания на развитие наглядности и наблюдательности в детях… Он мало пользуется даже и тем собранием минералов, которые находятся при гимназии». Одобрял: «…Я с удовольствием нашел одного младшего учителя, г. Абрамова, именно таким, какими бы мне желательно было видеть всех учителей… Его метода преподавания отличная. Он содержит целый класс в постоянном напряжении и старается уяснить ученикам, обращаясь к каждому с вопросами. Я приношу ему полную благодарность и прошу продолжать преподавание по пути, им проложенному». Не одобрял: «Безымянные доносы на состояние училищ… заставили меня обратить особое внимание на управление. Я убедился, что большая часть этих доносов несправедлива и основана или на личностях, или на одних подозрениях». Иногда злился: «Мясо… было жестко и не сочно; а третье кушанье (сырники) вовсе неудобоваримо. …Я отменил употреблять вываренное мясо из супа вместо второго кушанья». Размышлял вслух: «По 2-й гимназии. Вообще успехи учащихся в этом заведении более замечательны, чем в 1-й. Ученики более развиты. Вероятно, этому содействует преимущественно то обстоятельство, что во 2-ю гимназию поступают особливо дети бедных родителей, более ревностные к труду». Советовал: «…Нужно… предложить г. преподавателю заниматься с учащимися наглядным способом и приохотить их самих к составлению собраний растений, насекомых, бабочек и т. п.». Делал выводы: «…Ребенок, не приучившийся напрягать свое внимание в низших классах, никогда не пойдет вперед, и деятельность его ума никогда не будет самостоятельною, если он не будет приучен вникать в слышанное и обдумывать заранее то, что сказать должен». Итак, не образ мыслей, раз и навсегда установленный табелью о рангах, а мышление настоящего человека — способность вникать и обдумывать, самостоятельно творить умом. Пирогов придумал литературные беседы. Гимназисты собирались раз в две-три недели; один читал доклад, другие выступали с критикой. Темы выбирали по собственному усмотрению, большей частью из литературы или истории. Педагоги участвовали на общих основаниях, привилегий не имели. Приезжал попечитель, брал слово в прениях, как рядовой. Докладчики с ним спорили. Один из гимназистов — с направлением ума критическим — подготовил едкий трактат «Что такое наши литературные вечера?». Директор узнал, замахал руками: — Литературные вечера — создание Пирогова, а вы — памфлет! Неловко… Дошло до Пирогова, он тотчас разрешил читать. Критика литературных вечеров точно соответствовала идее этих вечеров. Пирогов требовал самостоятельных мыслей. Трактат был уникален по самостоятельности — такой не сдуешь из источников. Чтобы на месте старого разжечь новый костер, надо разворошить едва дымящиеся угли, подбросить сухих дров, раздуть пламя. Мало кто не убоялся бы в одиночку, как Пирогов, ворошить образование в громадном округе (губернии Херсонская, Екатеринославская, Таврическая, Бессарабская, градоначальства Одесское, Таганрогское и область Войска Донского). Пирогов раздувал пламя. Он хотел, чтобы воспитание новых людей реяло на ветру ярким свободным пламенем. Крым (губерния Таврическая) ранил Пирогова воспоминаниями. Вдоль дорог, в городах и селениях он видел незализанные рубцы войны. Новые, настоящие люди, которых он хотел воспитать, сумеют отстоять будущие Севастополи. Пирогов ворошил все — сверху донизу. Наверху был Ришельевский лицей — средоточие высшего образования в крае. Внизу — нищие приходские училища, еврейские и татарские духовные школы. Пирогов задумал сделать лицей центром просвещения Новороссии. До тех пор он был лишь «рассадником чиновников двенадцатого класса». Лицей пек юристов, мелких администраторов, ко всему пригодных и ни на что не годных, а вокруг не хватало учителей, врачей, агрономов. Сельское хозяйство велось по старинке. Новая промышленность недалеко от него ушла. Все надо было поворачивать, двигать вперед. Кто-то обязан был помнить о проигранном Севастополе. Пирогов решил преобразовать лицей в университет. Воспитанные в нем настоящие люди должны были встать на службу краю. Пирогов четырежды посылал записки — объяснял, доказывал. Царю по наследству от папеньки передалась неприязнь к слову «университет». Медлил. Говорили: государь думает. Нестор Кукольник, знаменитый писатель, на века прославленный драмою «Рука всевышнего отечество спасла», предлагал университет открывать не в Одессе — в Таганроге. Валуев, завтрашний министр, надежный человек, — в Николаеве. Не всему же быть по-пироговски! Пирогов свое дело знал: исподволь, пока там в Петербурге раскидывают мозгами, поворачивал лицей к университету. Взялся за программы, за методику. Пополнял пособиями кабинеты и лаборатории. Хлопотал о дозволении принимать в пансион при лицее не одних только дворянских детей (ему разрешили, однако приказали впредь не именовать пансион «благородным»). Не особливо следил за соблюдением формы, зато ввел студенческие товарищеские суды. Царю докладывали: при переходе Ришельевского лицея в новое здание попечитель отказался от роскошной мебели, приобрел взамен книги для библиотеки, физические, химические, геодезические инструменты и приборы. Царь пожимал плечами. Пирогов часто повторял: «Противен мне этот блеск!» Позже, в Киеве, он отменил роскошные, как мебель, торжественные акты, на которых юноши, вступающие в жизнь, испуганно выкрикивали латинские оды, задыхаясь от тесных и жестких мундирных воротников. Царь пожимал плечами. Через пять лет приняли, наконец, пироговский проект: преобразовали Ришельевский лицей в университет. Пирогова в Одессе уже давно не было — получалось, будто обошлись без него, сами придумали. Потом спохватились — не получалось без Пирогова, — отправили к нему за границу специального человека — составлять список профессоров, советоваться. С низшими училищами приходилось еще труднее, чем с высшими. Низшие Держала под крылом церковь. Пирогов понимал: в первую очередь надо учить учителей. Ратовал за учительские семинарии. Святейший синод встал на дыбы. Синод был за народных учителей из духовных семинарий. Правительство было за синод. «Представления» Пирогова отвергались. Новороссия — край смешения языков. Кого здесь не встретишь — русские, украинцы, молдаване, евреи, татары, армяне, греки!.. Из приходского училища попечитель спешил в еврейскую талмудтору, где сироты и детишки бедняков день-деньской, раскачиваясь, твердили талмуд; в татарскую мектебе, где, раскачиваясь, твердили коран. Настоящие люди из евреев, татар, армян должны будут встать рядом с русскими настоящими людьми. Пирогов выступал за сближение всех народов, населявших край. Всем — равную долю хлеба, грамоты и правды. Одного хлеба, одной грамоты, одной правды. Пирогов писал: «С тех пор как я выступил на поприще гражданственности путем науки, мне всего противнее были сословные предубеждения, и я невольно перенес этот взгляд и на различия национальные. Как в науке, так и в жизни, как между моими товарищами, так и между моими подчиненными и начальниками я никогда не думал делать различия в духе сословной и национальной исключительности… Эти же убеждения, как следствия моего образования, выработавшись целою жизнью, сделались для меня уже второю натурою и не покинут меня уже до конца жизни». Начальство обвиняло попечителя Пирогова в отсутствии патриотизма.
Хозяином Новороссийского края был генерал-губернатор граф Александр Григорьевич Строганов. Вельможа, богач, владелец уральских рудников и многих сотен крепостных душ. Среди прочих «доблестей» граф обладал одной немаловажной: его сын был женат на сестре Александра II. Герцен именовал Строганова «великим свекром». Граф Строганов был «весельчак». Он любил добротную самодержавную шутку. К нему пришли делегаты из Бессарабии. Жаловались на произвол полиции: «Ведь этак и вешать нас без суда начнут. Научите, ваше сиятельство, что делать!» Граф скалил зубы: «Висеть!» Граф Александр Григорьевич Строганов и профессор Николай Иванович Пирогов прибыли в Одессу с противоположными целями. «Одесса шумит, — заявил Строганов. — Я сделаю из нее Саратов». Саратов был глушью. «В глушь, в Саратов», Фамусов собирался сослать Софью. Пирогов явился в Одессу воевать с глушью. На деятельность нового попечителя генерал-губернатор поначалу взирал с усмешкою. Когда Пирогов попросил передать Ришельевскому лицею издание газеты «Одесский вестник», Строганов согласился. Газетенка еле теплилась, питая читателей сведениями о биржевых курсах, о числе судов, посетивших порт, об официальных церемониях и процессиях. Пирогов влил живую кровь в бледные полосы «Одесского вестника». Через газету он стал говорить с целым краем. Он пытался растормошить сонные степные поместья. «Как ни просторны новороссийские степи, но ограниченные, частные интересы, с узкими взглядами на жизнь, в них могут так же гнездиться, как и в тесных улицах столиц». На месте «частных интересов» Пирогов старался привить «общечеловеческие». «Есть еще много на свете господ, и степных и столичных, которые не только не знают, что можно и должно идти вперед; но и вообще не знают, что всякий из них как-нибудь да идет вперед или назад». О назначении газеты Пирогов говорил в открытом письме редакторам «Одесского вестника». Письмо перепечатали в других газетах. Призыв превратить газету из информатора в воспитателя пришелся ко времени. Через «Одесский вестник» Пирогов обратился не к одному краю — ко всей России. Полосы «Одесского вестника» зашелестели о том, о чем шелестеть не полагалось, полагалось помалкивать. О свободе личности, о преимуществах свободного труда, о «некоторых выгодах улучшения крепостного быта» — так называли ожидаемое освобождение. От полос «Одесского вестника» не типографской краской пахло — потянуло весенним ветром. Покуда робким, далеким вестником возможной весны. Но и тихий шелест услышали и легкое дуновение учуяли степные господа. Двинулись на попечителя. Граф Строганов перестал усмехаться. Боевые приемы его сиятельства не отличались благородством, зато были надежны: он бил в спину. Доносил в Петербург: попечитель Пирогов склонен к усвоению духа Франции 1789 года. Списками статей подкреплял доносы о вредном направлении и вольнодумстве. Генерал-губернаторова правая рука Касинов, предводитель дворянства, вопил исступленно: «От публичного обнародования подобных статей до воззвания к топорам во имя свободы труда весьма недалеко». Пирогов смеялся, просматривая доставленные ему копии доносов: его сравнивали с Маратом и Прудоном. В Петербурге не смеялись. В робких статьях «Одесского вестника» обнаружили даже «республиканские возгласы». Главное же — возмущались публичным, гласным характером пироговской деятельности. Тем, что попечитель придает публике «значение, какое не принадлежит ей по нашему государственному устройству». Такой вывод сделал чиновник, которому предписано было «следить» за Пироговым, Одессой и «Одесским вестником». Жандармский генерал сообщал из Одессы: несколько студентов лицея с ведома попечителя пили в гостинице за освобождение крестьян. «Великий свекор» атаковал столицу письмами о «вредном направлении» и «развращающем влиянии». Целясь, наносил Пирогову в спину удар за ударом. Царь возмущенно махал руками: «уволить, уволить». Не Строганова, конечно, — Пирогова. Царю подсказали: неудобно увольнять Пирогова, когда общество жаждет свобод. Посоветовали перевести попечителем в Киев — место освободилось. Граф Строганов шутил: «Язык до Киева доведет». Его сиятельство любил шутить…
Несколькими годами раньше другой генерал-губернатор — киевский, подольский и волынский — Дмитрий Гаврилович Бибиков торжественно праздновал свое назначение министром внутренних дел. В Киеве на университетском плацу собрал представителей дворянства. Ученикам двух гимназий приказал строиться в колонны, маршировать по-военному. Дети тянули носок, печатали строевой шаг. Генерал-губернатор был одновременно попечителем учебного округа. — Ложись! — скомандовал Бибиков. — Спи! Храпи! Вставай! Дети как подкошенные валились на землю, враз закрывали глаза, дружно всхрапывали, вскакивали торопясь. Бибиков обернулся к зрителям, промолвил удовлетворенно: — Вот как нужно повиноваться начальству! Дворяне, одетые в мундиры, стояли смирно, преданно взирали на вчерашнего генерал-губернатора, завтрашнего министра. Бибиковский порядок въелся в киевскую учебную жизнь. По команде ложились и вставали. Сменился генерал-губернатор. Сменился попечитель. Вставали и ложились по команде. Тем, кому не нравилось, кричали: «Не рассуждать!» Обещали всыпать «горячих». Пирогов, новый попечитель, ехал в Киевский округ. К затянутым в мундиры ехал в своем сюртуке-капоте. Через год после отъезда Пирогова Одессу посетил царь. «Великому свекру» Строганову объявил «высочайшую благодарность». Однако в Ришельевском лицее гневался — заметил неоднообразность воротников. На улице приказал арестовать двух офицеров, не по форме одетых. У них тоже было что-то с воротниками. Мундирные воротники призваны поддерживать голову в положении, означающем одновременно готовность, почтение и преданность. Неуважение к пуговкам шло, конечно, от Пирогова. Это были «пироговские остатки». Государь приказал их искоренить. Нельзя изменить всю систему воспитания, не затрагивая «неразумных начал» вообще, действуя в одном учебном округе. Пирогов словно переступил с одной чаши весов на другую. Пирогов в своем капоте ехал в Киев, за его спиной на Одессу снова натягивали мундир.
В Одессу явился Пирогов — великий ученый, герой Севастополя, пожелавший служить отчизне на поприще просвещения. В Киев явился Пирогов — неугодный царю попечитель Одесского округа, из милости не уволенный и сосланный как бы на исправление в другое место. Для начальства разница огромная. В Одессе ждали, потом присматривались: что такое ПИРОГОВ?.. По мере того как Пирогов раскрывался, у разных людей рождалось разное к нему отношение. В Киеве уже знали, что такое ПИРОГОВ, по одесскому опыту. В Киеве его встретило не всеобщее ожидание — силы были расставлены заранее. Те, кто ждал, чтобы поддерживать, и те, кто ждал, чтобы противостоять, готовились скрестить оружие. Поэтому в Киеве Пирогов действовал резче, решительнее, чем в Одессе. В Одессе борьба разгоралась постепенно. В Киеве все было готово для борьбы, не хватало только самого Пирогова. Он явился и сразу принял бой. Он начал стремительно. «Сразу он все поднял на ноги» — в воспоминаниях Богатинова это звучит неприязненно. Учитель Богатинов — ненавистник Пирогова, лицо, близкое к тогдашнему киевскому генерал-губернатору князю Васильчикову. Самого князя тоже бесила стремительность нового попечителя. Он раздраженно доносил правительству: «Пирогов, вступив в управление округом, сразу развернул работу в учебных заведениях в прогрессивном духе…» Пирогов был напорист и неуступчив. В Одессе ему дали почувствовать, что на нем мундир. Что его терпят до поры до времени. Потом предпишут. В конце концов уволят. Киев — действительно последняя (отчаянная!) попытка Пирогова в стране формы добиться сути. Терять было нечего. Он не желал укладываться в схему. Разрушал ее. В стране формы разрушал стройность установленной свыше формы. По схеме попечителю надлежало следить за делами и мыслями гимназистов, студентов, педагогов и профессоров («иметь наблюдение за действиями попечителя» надлежало генерал-губернатору). Пирогов объявил, что роль полицейского соглядатая несвойственна его призванию. Тщательно выкованная цепь рвалась — выпадало звено. По схеме попечителю надлежало помогать властям разноязыких губерний разделять и властвовать. Пирогов объявил, что «в деле воспитания… национальностей нет, все дети равны». Отстаивал украинский язык в малороссийских школах, «якшался с жидами», не желал ущемлять поляков, а ведь шестьдесят третий год был уже не за горами — год Кастуся Калиновского и Зыгмунта Сераковского. Русские, украинцы, поляки, евреи тянулись к нему — рушилась схема «разделяй». По схеме Пирогов стоял ближе к верхнему концу государственной лестницы. Имел важную должность и чин штатского генерала. Ему надлежало блюсти свое место и учить подчиненных знать свое. Пирогов запросто, по-товарищески, обходился с каким-нибудь сельским учителем, всякий мальчишка имел к нему в любое время свободный доступ, полицейский же чиновник, торопившийся доложить о студенческой сходке, по часу дожидался в приемной. Субординация — каркас государства формы. Пирогов нарушал субординацию. Строение могло дать просадку. Пирогов наживал врагов с невиданной быстротой. Он не умел изменять себе, не хотел казаться. Он был. Речь шла уже не об игре и не о свечах. Киев был последней попыткой. Попечитель был зван на вечер к генерал-губернатору: «Княгиня желает просить совета у профессора Пирогова». Пришел. Не в мундире, не во фраке. В порыжевшем своем балахоне. Уселся, точно в сельской школе, не в свете, — упрятал зябкие руки в широкие рукава. Помолчал, не вслушиваясь в разговоры. Перебивая общую беседу, спросил: — Что, княгиня, хотели вы от меня? — Совета, Николай Иванович. Как воспитать мне своего сына, чтобы с честью носил имя князей Васильчиковых? — В деле воспитания нет князей Васильчиковых. Здесь все равны, княгиня. Ушел. Его с трудом уговорили нанести визит митрополиту Исидору. — А-а, вот кстати, — заулыбался владыка. — У меня и просьба к вам есть. — Позвольте узнать, какая? — Хочу предложить достойнейшего кандидата на вакантную должность цензора — господина Кулжинского, Пирогов вскинул глаза к потолку, припоминая. Ба, Кулжинский! Рутинер. Тискал статейки в «Маяке» — омерзительнейшем из журнальчиков. Обвел взглядом портреты архиереев на стенах. Сделал два шага назад. Не поклонился. Повернулся. Ушел. Гостиная княгини Васильчиковой, урожденной княжны Щербатовой, и покои Киевской епархии стали центрами травли Пирогова. Еще ступенькою выше стоял министр. Министр прибыл в Киев инспектировать деятельность Пирогова. Пирогов не стал его встречать, как полагалось, на границе округа. В Киеве тоже не стал встречать: была суббота — каждую субботу он уезжал верхом на дачу. Министр, разрушая все схемы, первый нанес визит Пирогову. Прошел пустую переднюю, залу, без доклада вошел в кабинет. Пирогов брился. Увидел министра в зеркале, не оборачиваясь, кивнул, закончил бритье, оделся и повел высокое начальство по гимназии. Пирогов мастерски наживал врагов. С такой же стремительностью завоевывал друзей. В переписке Митрофана Муравского находим: «У нас все мерзость, кроме Пирогова. Это человек в полном смысле слова». Митрофан Муравский отдал жизнь революции. Он постарел в тюрьмах. Там его называли «отцом Митрофаном». В пору пироговского попечительства Муравский вступал на путь борьбы. Его корреспонденты и адресаты тоже были революционерами. В Киеве тогда действовал, вел пропаганду революционный студенческий кружок. Пирогов не задумывался, видимо, о цели пропаганды, но в содержании ее находил немало справедливого. Один из руководителей кружка прямо писал, что попечитель им «покровительствует». Когда студенты-революционеры были арестованы, Пирогов всячески старался облегчить их участь: бомбардировал министра просвещения телеграммами с требованием направить в следственную комиссию профессора-юриста; в официальных письмах к начальству перетолковывал показания юношей в выгодном для них духе («крамольные» слова и реплики объяснял как «способ выражения студентов вообще»); наконец, — явно вопреки тому, что от него требовалось, — выдал всем арестованным великолепные характеристики. Пирогов не был революционером. Но он был благороден, искренен, независим. Этих качеств мало, чтобы стать революционером. Но без этих качеств нет революционера. Благодаря этим качествам Пирогова орбита его деятельности пересекала орбиту революционного движения. Пирогов не помогал революционерам. Он объективно им способствовал. Получив донос о распространении герценовского «Колокола» в Бердичеве, Пирогов не мог не сообщить тамошней молодежи об опасности. Знать о готовящемся обыске — и не предупредить… Пирогов решительно отверг Кулжинского, но не мог отказать в месте способному ученому, который считался неблагонадежным: «Место я вам дам. Моя служба педагогическая, а не полицейская». В 1859 году Киевский учебный округ объезжал сам Александр II. Полтавский губернатор донес государю на учителя гимназии Стронина. Педагог Стронин ратовал за просвещение народа, за курсы для сельских учителей, за публичные лекции. Это считалось «свободомыслием». Стронина подозревали в связях с Герценом, приписывали ему полтавские корреспонденции в «Колоколе». Это считалось преступлением. Царь распек директора гимназии: «Приберите ваших учителей к рукам». В Киеве не пожелал смотреть университет. Уехал недовольный. Шефу жандармов высказал свои «соображения». Пирогову приказано было разобраться. Полтавский губернатор расписывал, не скупился: «У меня даже письмо от Стронина к Герцену было перехвачено! Да вот как-то затерялось». Пирогов проговорил сухо: «Очень жаль, что затерялось. Без официального документа невозможно мне принять к сведению столь важное сообщение». Разобравшись, Пирогов доложил: «Стронин — одна из лучших голов между педагогами округа». И — словно гусей дразнил! — представил полтавского учителя к ордену. Арестовали Стронина через год после отставки Пирогова. Герцен в Лондоне судя по всему читал статьи Пирогова, следил за его деятельностью. Размышляя о воспитании, он писал Огареву, что «теоретическое» или «артистическое призвание» — не более как специальность. Есть в жизни «ширшее назначение» — быть человеком. Герцен помогал сыну выбрать дорогу в жизни: «Естественно было желать, чтоб ты шел по пути, тяжело протоптанному, но протоптанному родными ногами, — по нем ты мог дойти бы, например, до того, до чего дошел один из величайших деятелей в России — доктор Пирогов, который как попечитель в Одессе, потом в Киеве приносит огромную пользу, что не мешает ему быть первым оператором в России. Но для этого надобно упорно хотеть». В старинной азбуке XVII века помещен занятный стишок:
Стишок зазубривали сызмальства и те, кто бил, и те, кто должен был лобзать бич. На том жизнь стояла. Свистели над Россией розги, кнуты, шпицрутены. Пороли всюду: в деревне, в армии, в школе. Порка была деталью государственного механизма. Многим власть предержащим государство казалось немыслимым без порки. На пороге шестидесятых годов, когда заседали комитеты, решали, освобождать ли крестьян и как, все тот же одесский владыка Строганов подавал проекты об усилении телесных наказаний. И в самом деле. Розга и шпицрутены пережили крепостное право. Рабство решились отменить, порку — нет. Того секли, сего секли — само слово свистело розгой в ушах Пирогова. Засекли студента Сочинского. Нещадно секли рабочих на инструментальном заводе. И профессор Крылов, знаток римского права, говорил по секрету Пирогову, что, будучи вызван в Третье отделение, сидел ни жив ни мертв — слыхивал, секут там и профессоров. Пирогов возмущенно писал из Крыма: во всех армиях, русской, английской, турецкой, «валяют своих солдат розгами». Отменить розгу в Петербурге и в Крыму было не в пироговской власти. Назидательные басни исстари твердят: нельзя переломить сразу целый пучок розог, надобно по прутику. Это осторожная житейская мудрость. Чтобы победить большое зло, надо набраться сил и ломать сразу. С первых же шагов в педагогике Пирогов задумал уничтожить телесные наказания. Это было потруднее, чем пренебречь милостями губернаторши, не захотеть понять, для чего нужно выезжать навстречу министру. Это было потруднее, чем воспламенить сельского учителя, запросто беседуя с ним в его покосившейся избе; потруднее, чем вводить, на удивление властям, товарищеские суды в лицее и устраивать в гимназиях вольные литературные беседы; потруднее, чем проехать лишнюю сотню верст, чтобы распечь пансионское начальство за скверный суп. Телесные наказания были злом узаконенным. Решительно и единолично уничтожить их — значило не только нарушать форму, разрушать схемы. Это уже колебание устоев, изменение «принятых неразумных начал». Но Пирогов ломал по прутику. В Одессе Пирогов не отменял розгу. Он выступил со статьей против розги и запретил сечь провинившихся в присутствии других детей. Одесское общество было податливо на пироговские начинания. Пирогов переломил один прутик — распорядился не сечь при посторонних, — а перестали сечь вовсе. Получилось неожиданно легко. И снова в «Современнике» Добролюбов энергично одобрял Пирогова. В Киеве Пирогов действовал круче — решил отменить розгу административно, приказом. Но это только казалось, что ломает весь пучок. На самом деле опять по прутику. Составил комитет для выработки «Правил о проступках и наказаниях». Для обсуждения, утверждения, голосования. В комитет, кроме «пироговцев», попали и те, что считали невозможным не сечь, те, что привыкли сечь, те, что боялись не сечь. Большинством голосов розгу сохранили. Пирогов всячески ограничил ее применение, подробно объяснил, почему так вышло, что сечь все-таки будут. Главное же — розга как мера наказания в правилах осталась и Пирогов эти правила подписал. Разговоры о «коллегиальности», «демократизме» и «большинстве голосов», которыми пытались спасти Пирогова его приверженцы, в данном случае некстати. По вопросу о телесных наказаниях могут быть только два решения. Они диаметрально противоположны и несовместимы. Нельзя расстояние измерять пудами. Ограничить телесные наказания уже значит их принять. Приверженцы «спасали» Пирогова от Добролюбова. В статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», Добролюбов «очищал себя публичным покаянием» от «ребяческих увлечений» Пироговым. Эпиграф статьи: «И ты, Брут!» В двадцать раз меньше стали пороть в гимназиях Киевского округа благодаря правилам или в сто раз — это не главное. И точные указания в правилах, за что пороть, а за что ни в коем случае, — тоже не главное. И сожаления, что вот-де никак не удается вывести у нас розгу из употребления, тем более не главное. А главное, что Пирогов «уступил, уступил не в мелочи, а в принципе, уступил в том, против чего решительно и ясно заявлял свое мнение прежде». А главное, что Пирогов говорит: сечь можно. И даже указывает, когда сечь нужно. Сам Пирогов! Свистят розги на барской конюшне — «Что ж, сам господин Пирогов признает…». Свистят шпицрутены в казарме — «Даже великий Пирогов считает возможным…». И какой-то покрытый мундиром прохвост через десять лет после смерти Пирогова фамильярничал в «воспоминаниях»: любил-де покойник Николай Иваныч всыпать гимназисту горячих по мягкому месту. Пирогов позаботился о «коллегиальности», подписал правила и вручил врагам свое доброе имя. Его именем прикрывали то, что он ненавидел. От этой уступки легко проложить мостик к тем «частностям», которые «подправил» Добролюбов еще в «Вопросах жизни». Не изменив «направление общества», не добьешься окончательных решений. Половинчатые решения, по существу, ничего не решают. Ленин припомнил отступление Пирогова в полемике с либералами: «Пирогов в 1860-х годах соглашается, что надо сечь, но требовал, чтобы секли не безучастно, не бездушно»[6]. Это близко к добролюбовской сатире о гимназисте, который хочет, чтобы высекли его
Защитники Пирогова замахали кулаками на Добролюбова: как посмел! Но защищали больше себя, чем Пирогова. Добролюбов поднялся против Пирогова ради Пирогова. «В серьезности и горячности тона именно и высказалось то глубокое уважение, которое питал я к г. Пирогову, и то огорчение, которое почувствовал я при виде жалкого факта, допущенного и освященного его авторитетом». И после «Правил о наказаниях» Пирогов для Добролюбова «честный и правдивый деятель». Добролюбов даже сравнивает Пирогова со сказочным богатырем. Но… только в сказке богатырь один побивает целое войско. Добролюбов признается в ошибке: он «напрасно считал возможным для одного человека победу над мрачною средою, окружающею всех нас… Под давлением нашей среды не могут устоять самые благородные личности; посмотрите — вот одна из лучших, Н. И. Пирогов, — а между тем, с своим комитетом он принужден постановлять законом то, что прежде сам же объявлял несправедливым и диким». Сквозь галдеж защитников Добролюбов очень трогательно обращается к самому Пирогову: он убежден, что Пирогов поймет его лучше, чем другие. Пирогов злился, оправдывался и — понимал. Одинокий богатырь, пытавшийся побить целую армию. Случается, и один в поле воин. Но один не выигрывает войны.
Кампания шла к концу. Армия противников Пирогова наступала уверенно и планомерно. Сотни людей сочувствовали Пирогову, разделяли его взгляды. Но сочувствовать и даже подражать — это не бороться. Пирогов не имел возможности сколотить войско. Общественное мнение не могло заменить осадных орудий. Побеждала сила. Антипироговский фронт был насыщенным огневыми средствами и протяженным. Правым флангом был Петербург. В Зимнем дворце сидел царь, хмурился при одном упоминании о киевском попечителе. Вспыхивал, читая доклады о пироговской деятельности, твердил: «Красный». На левом фланге скрежетал зубами доверенный генерал-губернатора учитель Богатинов (мундир темно-синего сукна, пуговицы чеканные): «И не выпорешь ученика без «Правил»… Дожили…» В центре князь Васильчиков бил залпами: «вредное направление», «дух непокорности», «пренебрежение к власти и закону», «нарушение общественного спокойствия». Князь был хороший стрелок: в прицеле держал Пирогова, траектория снарядов проходила через Петербург. Киев был последней попыткой. Пирогов искал «сути», где только мог, старался прорвать фронт «видимости» и «формы». Он разрабатывал проекты университетской реформы, предлагал уничтожить мундир, устранить полицейский надзор за студентами, а главное — сделать свободным вход в университет. По проекту Пирогова крестьян следовало принимать в университет без экзаменов. Царь узнал о проекте, вспыхнул, долго не мог успокоиться. За обедом раздраженно швырнул на стол салфетку: «Тогда будет столько же университетов, сколько кабаков!» Приближенные сокрушенно кивали головами: ох уж этот Пирогов! Осенью 1859 года на Подоле в Киеве открылась первая воскресная школа. Пирогов докладывал министру: студенты-де «в видах человеколюбия» пожелали бесплатно обучать ремесленников и «другого рабочего класса людей». Пирогов хитрил: вроде бы спрашивал разрешения, но докладывал, когда школа уже открылась. Учиться шли дети и взрослые. С первого дня школа была битком набита. Преподавали не только студенты — педагоги, офицеры, литераторы, профессора. Пирогов писал: «Учителя одушевлены рвением учить, ученики — охотою учиться». Пожалуй, ни одна идея Пирогова не рванулась так стремительно вширь. Воскресные школы росли как грибы. В Петербурге и Москве, в Саратове и Пскове, даже в далеком Троицкосавске Кяхтинского градоначальства. За год в тридцати городах открылось шестьдесят восемь школ. За три года — триста. Воскресными школами в Киеве руководил по просьбе Пирогова профессор Платон Васильевич Павлов. Позже Павлов поддерживал такие школы в Петербурге и за публичную речь угодил из столицы в тихий лесной городок Ветлугу. Профессора Пирогов и Павлов видели в воскресных школах средство просвещения народа. Некоторые из студентов-учителей видели в воскресных школах место политической агитации. Митрофан Муравский и его товарищи тоже там преподавали. В письме к Муравскому один из друзей радуется: «Ура! Ура! Митрофан Данилович! Поздравляю с открытием вечерних школ! Душевно рад, что вы у брега!» Попечитель знал об «эксцентричности» (он так хотел это называть) тех «личностей, которым воскресные школы обязаны своим учреждением», однако считал, что просвещению народа это не помешает. Генерал-губернатор, не знакомый с Муравским и не читавший его переписки, тем не менее предлагал «установить строгий надзор за воскресными школами, чтобы обучение в них соответствовало желаниям и видам правительства». Князю Васильчикову нельзя отказать в известной прозорливости. Пирогов опять-таки объективно способствовал революционному делу. Дуэль Пирогова с генерал-губернатором велась своеобразно. Из Киева в Петербург тянулись два параллельных потока писем. Князь пугал неблагонадежностью воскресных школ. Пирогов отстаивал их просветительную роль. Министр народного просвещения Ковалевский Евграф Петрович был не из решительных, да и что он мог предпринять — ждал царской воли. Царь был против всяких школ для народа, кроме духовных. И против Пирогова. Он счел за благо и школы закрыть и Пирогова уволить. Приличия, правда, были «соблюдены»: сперва отставили Пирогова, потом прикрыли школы — его детище. Пирогов пишет обстоятельные трактаты, чуть ли не научно доказывает пользу воскресных школ. А в Петербурге составляют высочайшее повеление о «совершенном закрытии всех воскресных школ», ибо «положительно обнаружено в некоторых из них, что под благовидным предлогом распространения в народе грамотности люди злоумышленные покушались в этих школах развивать вредные учения, возмутительные идеи, превратные понятия о праве собственности и безверие». Пирогов ездит по округу, действует, борется, всякий день успевает наработать за год. А в Петербурге на его докладах пишут: «Отложить до назначения нового попечителя». Пирогов не желает уходить сам. Он ждет, «пока с ним простятся или не заставят его проститься». А в Петербурге как раз очень торопятся с ним проститься! Уже за два месяца до увольнения Пирогова в негласной министерской переписке сообщается, что он «будет отставлен через несколько дней». В голове Пирогова теснятся проекты и планы; засыпая, он думает о многих делах, которые завтра никак нельзя позабыть. А известный литературный деятель академик Никитенко заносит в дневник: «Ребиндер тоже просил моего совета, кого бы определить на место Пирогова, которого решительно не хочет государь». Князь Васильчиков без обиняков доносил шефу жандармов: «Тайныйсоветник Пирогов не может оставаться долее попечителем Киевского учебного округа без опасения пагубных последствий для страны». В письме министру просвещения князь объяснял: «Пирогов слишком настойчиво преследует мысль прогресса». В начале 1861 года во «всеподданнейшем» докладе царю Васильчиков писал: «Студенты университета св. Владимира требуют особенного наблюдения: между ними заметен дух вольнодумства и стремление заводить партии, не чуждые парламентских замыслов… В учениках гимназии тоже заметно вольнодумство и легкомыслие… Попечителем учебного округа были приняты меры, которые не соответствовали характеру населения и могли не парализовать, но некоторым образом питать вредное направление молодежи…» Александр II возмущенно начертал на полях: «Ни с чем не сообразно и показывает всю неосновательность попечителя». Незадолго до увольнения придворные покровители пытались помирить Пирогова с царем. Повод для свидания был избран не лучший — совещание попечителей, созванное для предотвращения студенческих волнений. Пирогов добивался свобод, царь надеялся на полицию. Великая княгиня Елена Павловна намекала Пирогову на новые должности, просила только «получить доверие государя». Во время аудиенции соглашаться и благодарить. Царь одновременно принимал Пирогова и попечителя Харьковского округа Зиновьева. Пирогов описал это свидание: «Представлялся государю и великому князю. Государь позвал еще и Зиновьева и толковал с нами целых 3/4 часа; я ему лил чистую воду. Зиновьев начал благодарением за сделанный им выговор студентам во время его проезда через Харьков, — не стыдясь при мне сказать, что это подействовало благотворно. Жаль, что аудиенция не длилась еще 1/4 часа; я бы тогда успел высказать все, — помогло ли бы, нет ли, — по крайней мере с плеч долой». Пирогов был высочайше уволен с поста попечителя 18 марта 1861 года. «По расстроенному здоровью».
Из таинственных днепровских глубин вынырнул древний Киев и замер над рекою — зеленый, весенний, праздничный. В розовом закатном воздухе, так и кажется, гулко ударят и весело загомонят колокола. Но вечер тих. Чинно, торжественно прогуливаются в парке над Днепром киевляне — «цвет города». Чинно раскланиваются встречаясь. Все в порядке: ни пылинки на мундирах, все пуговицы застегнуты. Недовольно косятся на гимназиста в фуражке набекрень, на студента с открытым воротом. Это «пироговские остатки», их надобно еще искоренять. Учитель Богатинов писал: «Но долго еще посеянное им приносило горькие плоды». Нарушая чинные размышления, встает в памяти фигура попечителя в сюртуке-капоте, простецком картузе и пыльных сапогах. Без Пирогова Киев стал тише. Пирогова провожали торжественно. Однако проводы были форма, видимость. Суть была в том, что осталось. Пирогов не содрал с общества мундир, не воспитал новое общество. Это было не в его силах. Но остались воспламененные им. Те, кто принял из рук Пирогова его дело. Те, в ком зажег он страсть к просветительству и просвещению. Угольками костров светились, раскиданные в ночи. В Киеве было тихо. Гудел в Лондоне «Колокол» Герцена: «Отставка Н. И. Пирогова — одно из мерзейших дел России дураков против Руси развивающейся». Воспламененные Пироговым шли вперед с новой Русью, развивающейся. Мундиры чинно гуляли над берегом. Торжественно вышагивали друг за другом по бесконечному кольцу аллей. А мимо несла свои воды река, могучая, вечно новая. Вперед и вперед.
IX. ВИШНЯ. ТРИ ПОЕЗДКИ 1861—1880
Деревня, куда отправился отставленный от службы Пирогов, «была прелестный уголок». И название у деревни было прелестное — Вишня. Господский дом поставлен на холме. С холма видны убегающие вдаль поля, прорезанные узкой речкою Вишней, неширокий длинный пруд у подножья. В пруду покачиваются перевернутые сады и хаты деревни Людвиковки, что стоит на том берегу. В одной версте от пироговского имения, если выехать из него и поворотить налево, село Шереметка. Теперь Вишня, Людвиковка и Шереметка срослись в одно село — Пирогово. Пирогов перебрался в Вишню весной 1861 года, вскоре после увольнения из Киева. Имение для того и приобреталось — как тыловой пункт на случай отступления. Видимо, все это решалось под влиянием практичной Александры Антоновны. Пирогов же сразу внес в дело научный элемент: еще в ожидании отставки устроил дома маленькую лабораторию, изучал химический состав почвы в своем имении. Пирогова провожали в отставку торжественными обедами, звучными речами, сочувственными телеграммами. Величайшие ученые России прощались со своим собратом. Были телеграммы, подписанные химиком Бутлеровым, физиологом Сеченовым, терапевтом Боткиным, ботаником Андреем Бекетовым, физико-химиком Николаем Бекетовым, астрономом Бредихиным, естествоиспытателем Миддендорфом, историком литературы Тихонравовым. Тарантас Пирогова с трудом пробивался сквозь людское море. Следом тянулся длинный кортеж экипажей. На седьмой версте от Киева тарантас снова врезался в толпу. Снова были речи, приветственные выкрики. Потом толпа стала редеть, сопровождающие экипажи отставать. Тракт все быстрее раскручивался под колесами пироговского экипажа. Герцен писал о проводах Пирогова: «Это было свершение великого долга, долга опасного, и потому хвала тому доблестному мужу, который вызвал такие чувства, и хвала тем благородным товарищам его, которые их не утаили».Отзвенели тосты, отшумели речи, бумажный шелест адресов и телеграмм утих в дорожных баулах. Толпа уже не ждала впереди, и экипажи, катившие следом, один за другим повернули обратно. Остался тракт. Тракт тянулся к Виннице. Пироговское сельцо Вишня примостилось под самым городом, почти на окраине. По тракту катился тарантас. Тарантас вез Пирогова из одной жизни в другую. Позади осталась набитая до предела трудами, идеями, взаимоотношениями жизнь деятеля, впереди ждала его одинокая и в общем-то необязательная жизнь среднего помещика. Три десятилетия Пирогов знал, что он должен делать. Теперь он мог что-либо делать или не делать — обязательных деяний не было. Муравей сбросил бревно. Легкость, которую чувствует человек, сбросивший тяжелый груз, неестественна. От нее неуверенность движений, растерянность, сомнения. Эта легкость похожа на слабость. Нужно жить под нагрузкой. Муравей, сбросивший бревно, схватился за соломинку. Пирогов не умел жить без дела. Соломинкой оказалась должность мирового посредника, которую он принял.
Стояла весна 1861 года. Только что даровали «волю». Согласно «Положению» 19 февраля мировые посредники должны были содействовать размежеванию крестьянских и помещичьих земель. Пирогов старался рассудить споры «по-хорошему». Он искал справедливости, не преступая границ «Положения». Ему казалось, что, если ярем барщины старинной оброком легким заменить, раб благословит судьбу. Но «законной справедливости» не получалось. Пирогов вычитывал ее в «Положении», а крестьяне нет. Пирогов огорчался: считал, что это от необразованности крестьян, от отсутствия «взаимного доверия». Пирогов огорчался из-за того, что крестьяне «держат книгу закрытою у себя в кармане». А рабы не хотели судьбу благословлять; не заглядывая в книгу, понимали, что делать. С апреля по июнь 1861 года бунтовали крестьяне в сорока двух губерниях. Собирались сотнями, тысячами. «Земля вся наша! На работу помещичью не пойдем и на оброк не хотим!» Пирогов в принципе не отвергал такой путь. Он писал, что на практике осуществить постепенный переход от рабства к свободе трудно. Почему не следовать природе: «Природа же делает внезапно из неуклюжей куклы летящую бабочку, и ни кукла, ни бабочка не жалуются на это»? Пирогов не отвергал путь внезапных перемен, но и не избирал его. По этому пути шли Чернышевский и Добролюбов. Пирогов опять пытался строить новое в старом. Стройные схемы разбивались о жизнь, как о прибрежные камни. Теорема не доказывалась не потому, что допускались ошибки в ходе доказательств, а потому, что была недоказуема. Пирогову казалось, что главное — найти эти самые «скрытые пружины» «механизма, управляющего обществом», но он искал их не там. Законы исторического развития («механизм, управляющий обществом») далеки от наблюдений и теорий, от причин и следствий, опираясь на которые строил свои схемы Пирогов. Анатомия, физиология и патология общественной жизни трудно поддавались осмыслению. Здесь Пирогов терял цепкую зоркость взгляда. В итоге он как бы топил печку в станционном здании, полагая, что разводит пары в котле стоящего на путях локомотива. Деятельность в должности мирового посредника не принесла Пирогову ни пользы, ни славы. Она лишь амортизировала удар при переходе его из одной жизни в другую. К счастью, мировым посредником Пирогов был недолго. Весной 1862 года он уехал с семьей за границу.
Власти уволили Пирогова, но не отделались от него. Даже в огромной, богатейшей талантами России они постоянно натыкались на Пирогова, как на табурет, стоящий посреди темной комнаты. Слишком много оставил он повсюду плодов своего ума и рук, слишком жил в памяти людей, слишком дикой и нелепой была совершенная над ним расправа. «Может ли быть, чтобы такие люди долго оставались без дела, — писал Ушинский, — когда каждый день их жизни, потерянный для государства, есть величайшая потеря, потеря ничем не вознаградимая?» Россия еще не перебродила. Пирогов, даже забившийся в свое имение, привлекал внимание. Общество не хотело обходиться без Пирогова. Нужно было как-то убрать его и успокоить общество. Петербургские покровители придумывали для Пирогова именитые должности. Царь тряс головой и твердил: «Красный! Красный!» Либеральствующий министр народного просвещения Головнин нашел Пирогову место — почетное, далекое и пустое. В это время возродился профессорский институт. Тридцать молодых ученых послали совершенствоваться за границу. Пирогову предложили руководить их занятиями — собирать отчеты и докладывать начальству. По существу, ему предложили стать Перевощиковым или Кранихфельдом. При этом не учли удивительного умения Пирогова красить место: всякое дело, которым он занимался, становилось необыкновенно важным и общественно значимым. Пирогов поселился в Гейдельберге. С ним была любимая жена. Сыновья ходили слушать лекции в университет. Квартира была обширной и удобной. Лето выдалось отличное. Солнышко светило. Можно было наслаждаться жизнью. Прогуливаться по живописным берегам Неккара. Поплевывать в глубокое небо, опрокинутое над зелеными шелками рейнской долины. Постукивая тростью по седым камням, осматривать старинный замок. Или лениво перебрасываться словами с мудрыми профессорами прославленного Гейдельбергского университета. Можно было наслаждаться жизнью и ждать отчетов от молодых российских ученых, разбросанных чуть не по всей Европе. Пирогов терпеть не мог ждать. Он всегда успевал так много, потому что спешил сделать. Едва обосновавшись в Гейдельберге, он тотчас покинул тихий городок, сам помчался к завтрашним русским профессорам — в Италию, в Швейцарию, во Францию, в Англию. За несколько месяцев Пирогов успел осмотреть двадцать пять зарубежных университетов, составить подробный отчет о занятиях каждого из профессорских кандидатов, с точными характеристиками профессоров, у которых они работали. Одновременно он изучал состояние высшего образования в разных странах, излагал свои наблюдения и выводы в обширных статьях, так называемых «Письмах из Гейдельберга». Пирогов до старости юношески чисто верил в силу печатного слова. Результаты своих трудов, мысли и раздумья он неизбежно предавал гласности. Властями сие не одобрялось. Деспотизм — враг гласности, потому что деспотизм — всегда попрание справедливости, нарушение закона, нечистая сделка с ним. Верноподданный профессор Чичерин именовал Пирогова «фантазером» и объяснял: «Человек, который заводит журнальную полемику о своих собственных мерах, не имеет понятия о власти». Пирогов даже тихий Гейдельберг сумел превратить в трибуну полемики, из своего далека ворвался в самую гущу бурного обсуждения университетского вопроса. Помощь Пирогова молодым ученым была многосторонней. Он помогал им практически. Например, Мечникову. Мечников жил на острове Гельголанд, изучал морских животных. Он приехал за границу на свой счет. Ему необходимо было продолжать работу, но деньги кончались. Пирогов нашел занятия Мечникова перспективными и выхлопотал ему стипендию. Пирогов увлекал молодых непреходящей страстью к учению, к поиску. Николай Осипович Ковалевский, будущий известный физиолог, ректор Казанского университета, вспоминал: «Юношеской горячностью к приобретению знаний он просто заражал нас». Наконец, Пирогов как личность благотворно влиял на молодых. «Это наш патриарх, — писал один из воспитанников профессорского института. — Я еще не видывал человека столь человечного: так он прост и вместе глубок. Удивительнее всего, как человек таких лет и чинов мог сохраниться во всей чистоте, и притом у нас на Руси, пережившей целое николаевское царствование». Заграничная командировка 1862—1866 годов меняет представление о школе Пирогова. Сам Пирогов говорил своим подопечным: «При научных занятиях метод и направление — вот главное». Он хотел помочь каждому найти метод и направление, учил их учиться. В этом ему не могли помешать профессиональные рамки. Тридцать молодых русских талантов разных специальностей стали учениками Пирогова. Школа Пирогова вышла за пределы русской хирургии и даже медицины. Ее классы равно успешно посещали физиолог Ковалевский, физиолог и фармаколог Догель, гистолог Бабухин и биолог Мечников, химик Вериго, историк литературы Александр Веселовский, филолог Потебня. Рядом с этими людьми Пирогов был счастлив. Он отдавал себя будущему. За границей Пирогов-хирург исцелил самого, пожалуй, замечательного своего пациента — Джузеппе Гарибальди. Гарибальди был ранен в бою под Аспромонте в августе 1862 года. Ранен и арестован, заточен в крепость. Шквал протестов заставил короля помиловать раненого героя. Его отправили для лечения в Специю. В сырой Специи выздороветь было трудно. Гарибальди был ранен в ногу. Итальянские, английские, французские врачи собирались у его постели, решали: осталась ли в ране пуля, нужна ли ампутация? В иные дни полтора-два десятка медиков одновременно склонялись над раною, каждый норовил потрогать ее, исследовать пальцем, зондом. Гарибальди имел все основания разувериться в медицине: два месяца хирурги не могли ответить на один вопрос: где пуля? Об ампутации Гарибальди не хотел слышать. Пирогов отправился в Специю не по приглашению итальянских врачей. Его послали туда русские студенты, жившие за границей. Молодая Россия волновалась за жизнь героя Италии. Решение направить Пирогова к Гарибальди было принято на чрезвычайной студенческой сходке. Не приглашен, а послан. Большая разница. Пирогов поехал к Гарибальди не как частный консультант, а как представитель России развивающейся. Наверное, Гарибальди встретил Пирогова так, как встречают уставшие от долгой болезни очередного врача, — одновременно с надеждой и недоверием. Может быть, втайне он видел в нем еще одного мучителя — введение пальца в рану причиняло Гарибальди невыносимую боль. Наверное, Гарибальди был приятно удивлен, когда Пирогов отказался от исследования пальцем и от зондирования, сделал выводы лишь на основании наружного осмотра. Пуля в кости, заявил Пирогов, и лежит ближе к наружному мыщелку[7]. Спешить с извлечением ее не надо. Следует соблюдать некоторые правила (в частности, положить Гарибальди в просторную светлую комнату, а еще лучше вовсе вывезти его из Специи) и ждать. Почитатели итальянского героя «могут быть спокойны: ни жизнь, ни нога его не находятся в опасности». Пуля была легко извлечена через двадцать шесть дней. Пирогов еще довольно долго переписывался с Гарибальди, давал ему медицинские советы. В предисловии к знаменитым мемуарам Гарибальди публично благодарил Пирогова — назвал его в числе тех врачей, которые «доказали, что для добрых дел, для подлинной науки нет границ в семье человечества». Но много раньше, едва тяжелое состояние миновало, Гарибальди писал своему исцелителю: «Мой дорогой доктор Пирогов, моя рана почти залечена. Я чувствую потребность поблагодарить Вас за сердечную заботу, которую Вы проявили ко мне, и умелое лечение. Считайте меня, мой дорогой доктор, Вашим преданным Дж. Гарибальди». Когда-то юный Пирогов встречался в Германии со стариком Рустом, который жаждал прослыть оракулом. Из-под зеленого картуза Руст бросал взгляд на больного, старался по внешнему виду угадать болезнь. Потом он прятал концы в воду: пациента навсегда укрывали от глаз людских в зловонных коридорах больницы «Шарите». Чтобы угадывать, надо очень много знать. Оракулом стал Пирогов. Он не побоялся пророчить на глазах всего мира: тысячи людей в разных странах следили за болезнью Гарибальди. Пирогов не делал тайны из своего «оракульства». Сперва в письме, потом в «Началах военно-полевой хирургии» подробно воссоздал ход своих рассуждений, пересказал все то, о чем говорили ему и незначительные приметы. «Разве недостаточно здравого смысла, чтобы сказать с положительной точностью, что пуля — в ране, что кость повреждена, когда я вижу одно только пулевое отверстие, проникающее в кость; когда узнаю, что пуля была коническая и выстреленная из нарезного ружья; когда мне показывают куски обуви и частички кости, извлеченные уже из раны; когда я нахожу кость припухшею, растянутою, сустав увеличенным в объеме? Неужели можно, в самом деле, предполагать, что такая пуля и при таком выстреле могла отскочить назад, пробив кость и вбив в рану обувь и платье? Может ли такое предположение хотя на минуту привести в сомнение мыслящего человека? Но если, с одной стороны, присутствие пули в ране Гарибальди и без зонда несомненно, то, с другой стороны, зонд, не открыв ее в ране, нисколько бы не изменил моего убеждения. И действительно, больного уже не раз зондировали, а пули не отыскали… Наконец, не в одном материальном отношении считаю я зондирование Гарибальди покуда бесполезным и даже вредным; оно может сделаться вредным и в нравственном отношении, если поколеблет доверие больного… Все искусство врача состоит в том, чтобы уметь выждать до известной степени. Кто не дождавшись и слишком рано начнет делать попытки к извлечению, тот может легко повредить всему делу; он может наткнуться на неподвижную пулю, и попытки извлечения будут соединены с большим насилием… Кто будет ждать слишком долго, тот, напротив, без нужды дождется до полного образования нарыва, рожи и лихорадки… Мой совет, данный Гарибальди, был: спокойно выжидать, не раздражать много раны введением посторонних тел, как бы их механизм ни был искусно придуман, а главное — зорко наблюдать за свойством раны и окружающих ее частей. Нечего много копаться в ране зондом и пальцем… В заключение скажу, что я считаю рану Гарибальди не опасной для жизни, но весьма значительною, продолжительною…» Письмо о ране Гарибальди Пирогов направил министру Головнину. Министр был недоволен: по общему мнению, в поездке русского профессора к итальянскому революционеру было «кое-что политическое». Получив письмо Пирогова, министр отправился с докладом к царю.
4 апреля 1866 года император Александр гулял по Летнему саду вместе с герцогом Лейхтенбергским и принцессой Марией Баденской. Когда он выходил из сада, в него выстрелил студент Дмитрий Каракозов. Не попал — мещанин Комиссаров ударил террориста по руке. Выстрел Каракозова оборвал заграничную командировку Пирогова. После выстрела Каракозова с общественным мнением церемониться перестали. Новый министр народного просвещения граф Дмитрий Толстой, обер-прокурор синода и ярый враг народного просвещения, без церемоний сообщил Пирогову, что «освобождает его, Пирогова, от возложенных на него поручений как по исполнению разных трудов по учебной и педагогической части, так и по руководству лиц, отправленных за границу». От всего освобождает. Снова осталась только Вишня — тыловой пункт на случай отступления.
В 1856 году Пирогов ушел из медицины. Но медицина ни на один день не уходила из его жизни. Он оставался врачом даже в самую жаркую пору педагогических увлечений. В Одессе он принимал больных на дому два раза в неделю. Земля могла завертеться в другую сторону, но Пирогов точно в назначенный день и час появлялся в приемной, где ждали его бесчисленные пациенты. Знаменитый профессор, важный чиновник торопливо уезжал с дачи, под палящим полуденным солнцем тащился в город и еще нервничал, поглядывал на часы, спешил. Боялся опоздать. Прием был бесплатный. Даже стоил ему денег. Выписать бедняку рецепт и не дать денег на лекарство было нелепо. Пирогов ненавидел нелепости. Патриархальные времена, когда профессор Мудров возил в карете питье и снадобья неимущим пациентам, прошли. Настал век буржуазный, денежный. И Пирогов попросту раздавал больным деньги. Бедняки шли к Пирогову толпами. Они более всех выиграли от его практики. Прежде и не мечтавшие о враче, они лечились теперь у самого Пирогова, и лечились бесплатно. Один из имущих пациентов Пирогова вспоминает, что квартира профессора «битком набита была народом, в среде которого хорошо одетые составляли весьма слабый элемент». Сего пациента ужасает духота в приемной, чесночный запах, обилие «грязных, больных тел», большое число бедняков евреев. И общая очередь. Мемуарист жалеет Пирогова за его «любовь к ближнему», демократизм Пирогова называет «самоистязанием». Видимо, не всегда справедливо ставить себя на место другого. Такие же приемные дни Пирогов установил и во время киевского попечительства. Благотворительная деятельность Пирогова-врача оставила след в художественной литературе. Куприн в рассказе «Чудесный доктор» поведал, как Пирогов спас семью бедняка чиновника от болезней и голода, помог ей «выбиться». Рассказ не из лучших купринских. Мы как-то не очень доверяем концам, которые становятся счастливыми оттого, что, подобно «богу из машины», появляется великий человек — он все может и все устраивает. Но Куприн, проницательный репортер, автор «Киевских типов», предпослал рассказу подзаголовок «Истинное происшествие». Рассказ достоверен — это дань гуманности и благородству Пирогова. В купринские времена люди, спасенные Пироговым, еще ходили по улицам Одессы и Киева. В Киеве Пирогов не ограничился домашним приемом — навещал клинику Киевского университета. Клинику почти полстолетия возглавлял Владимир Афанасьевич Караваев, который называл себя учеником Пирогова, а его — своим «незабвенным наставником». Караваев познакомился с Пироговым в Берлине, потом был его ближайшим помощником в Дерпте. Пирогов любил Караваева: «Я могу по праву считать Караваева одним из своих научных питомцев; я направил первые его шаги на поприще хирургии и сообщил ему уже избранное мною направление в изучении хирургии». В караваевской клинике Пирогов консультировал, сам делал операции. Иногда учитель и ученик оперировали вдвоем: вместе они нашли новый доступ в носоглоточное пространство. В киевской клинике появился у Пирогова даровитый ученик — Юлий Карлович Шимановский. Он приехал в Киев из Дерптского университета. Пирогов был для него путеводной звездою. По этой звезде он ориентировал свое творчество. Шимановский занимался практической хирургией (в частности, ринопластикой), усовершенствовал гипсовую повязку; свое трехтомное руководство по оперативной хирургии он посвятил «образцу научного стремления в хирургии Николаю Ивановичу Пирогову». Пирогов, не очень-то любивший перепоручать свои дела другим, просил Шимановского подготовить для нового издания «Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций» — доверие немалое. Мудрено ли, что Шимановский, обнаружив у себя на плече опухоль, хотел, чтобы удалил ее только Пирогов! Пирогов оперировал его в 1866 году. Через два года операцию повторил Караваев. Но безрезультатно. Шимановский не дожил до сорока. …Дерпт, Берлин, Париж, Петербург, Севастополь, Киев — и Вишня. Сельцо. Шестнадцать десятин. На шестнадцати десятинах подводил итоги человек, открывший новые пути для мировой хирургии. Итоги подводят по-разному: вспоминают прошлое, предсказывают будущее, укладывают свой опыт в афоризмы, нумеруют и подшивают листы, составляют описи, подсчитывают приход-расход. Пирогов подводил итоги с ножом в руках. Из разных городов России спешили люди в не помеченное на географических картах сельцо Вишня, чтобы лечь под нож Пирогова. Захоти Пирогов совсем уйти из медицины, его бы не выпустили. Слишком в него верили. Нельзя было жить в одно время с Пироговым и позволить ему не быть хирургом. Пирогов обязан был работать. Он подводил итоги, работая. «Самые счастливые результаты я получил из практики в моей деревне». Только за первые полтора года — двести серьезных операций (ампутаций, резекций суставов, литотомий). И ни одного случая рожи или гнойного заражения. Больные лежали после операции в темных, сырых углах и сенцах крестьянских изб, на жестких лавках, в грязном белье. Они сами ухаживали за своими ранами. У Пирогова в Вишне был всего один помощник — фельдшер-еврей со странным именем Уриэль Окопник. Прежде он служил водовозом. Пирогову понравился сообразительный парень, он научил водовоза помогать при операциях. В шутку называл его Уриэлем Акостиком. Деревенская практика поражала. Раны, которые при самом тщательном уходе неизбежно завершались осложнениями, здесь заживали сами собой. Пирогов объяснял счастливые результаты тем, что «оперированные в деревне не лежали в одном и том же пространстве, а каждый отдельно, хотя и вместе с здоровыми». Пирогов расселял больных в крестьянских хатах порознь. Наверное, Пирогов приуменьшает свои заслуги, приписывая весь успех удачному расселению больных. На пороге хирургии стояла антисептическая эра. В 1867 году англичанин Джозеф Листер выпустил труд «Об антисептическом принципе в хирургической практике». Листер утверждал, что «процессы гниения и разложения в ранах обусловлены микробами». Нужно найти средство, убивающее микробы. Листер предложил карболовую кислоту. Нигде почва для антисептики не была так вспахана и удобрена, как в России. В Петербургского военно-сухопутном госпитале и в севастопольских бараках боролся Пирогов без устали с «хирургическими казнями», применял хлористую воду, йодную настойку, ждановскую жидкость (по имени русских инженеров-химиков братьев Ждановых), подумывал о стерилизация хирургических инструментов. За три года до Листера Пирогов писал: «Хотя госпитальные миазмы и не нашли еще своего Эренберга, Пастера или Пуше, но мы знаем из микроскопических исследований этих наблюдателей, какое множество органических зародышей содержится в окружающем нас воздухе». Тут не в приоритете дело и не в том, чтобы побивать Листера Пироговым. Тут другое важно. Антисептика — из тех эпох в науке, которые не взрывом начинаются, не потрясением основ, а вызревают в предшествующие периоды. Листер и Пирогов одинаково осмысляли успехи микробиологии, хирургии, фармакологии. Итоги раздумий Листер оформил в стройное учение, Пирогов же разбросал по своим трудам золотой россыпью мыслей, перековал в цепочку практических правил. Антисептика в пироговской практике — для нас самое важное. Хирургическая работа Пирогова в деревне поражает. Для того времени она настолько необычна по итогам, что сам Пирогов отмечал с удивлением: «Результаты практики двух различных хирургов — искусного и плохого — не могут быть различнее тех, которые я получил в моей военно-госпитальной практике и в деревне». Пирогов, таким образом, словно разделяет свое творчество на два периода. В первый укладываются и Дерпт, и Петербург, и Севастополь. Во второй — одна Вишня. Вишня — это и Дерпт, и Петербург, и Севастополь, но без рожи, без гнойного заражения, без пиемии. Вишня — это великое мастерство, искусство хирурга, не омрачаемое и не убиваемое «хирургическими казнями». Это примерка и проверка того, что могла хирургия пироговского времени. Профессор Оппель высказал внешне парадоксальную мысль: уход Пирогова из профессуры оказался для хирургии выгодным, потому что закончился деревенской практикой. В парадоксе есть золотое зерно истины. Пирогов расцвел рано и ярко, цвел долго. Казалось, куда больше? И вдруг обнаружилось: только на закате жизни, в отставке, в деревне, раскрылся, расцвел до конца. В истории науки своя география. Труды Пирогова выдвинули Вишню в один ряд с Дерптом, Петербургом, Севастополем.
Он быстро старел. Между фотографиями Пирогова начала [фото] и конца шестидесятых годов [фото] лежит пропасть торопливо наступившей старости. Седина — ровная, белая, как снег в открытом поле, без проталин. Но седина лишь смягчила резкую линию бровей, поддерживающую высокий лоб, борода лишь слегка скрыла решительный, упрямый подбородок. Старый Пирогов не выглядит старцем, патриархом. Годы не сделали его лицо умиротворенным. Даже статичные фотопортреты не в силах скрыть снедавшей его неукротимости мысли и действия. В его лице всегда стремление. У него такое лицо, словно он в полете. Пирогов никогда не следил за собой, в деревне — менее, чем обычно. Он любил возиться в саду, сажал деревья. Человек, создавший для будущего новую науку, наверное, рассуждал, как все старики, что вот он умрет, а деревья останутся. Возле полукруглой террасы Пирогов посадил две ели. Ели до сих пор живы. От них взяла начало и протянулась вдоль сада еловая аллея. Молодые деревья бурно пошли в рост. Хвоя пушиста и сочна. Тяжелые колкие лапы свисают к земле, клонят вниз ветви. Ели сверкают молодостью, будто умыты росой. Когда рано утром идешь по аллее, лицо и руки щекочут протянутые между деревьями медовые паутинки. Есть еще липовая аллея. Стволы лип бугристы и гранитно тверды. Липы стары. Они видели Пирогова. Он любил гулять по этой аллее. В небрежно одетом старике, копавшем лопатой землю, не всякий узнавал Пирогова. Немец-управляющий из соседнего имения спросил его: — Эй, старик, как пройти к госпоже генеральше? — А в чем дело? — Я тебя спрашиваю, где ее вы-со-ко-пре-вос-хо-ди-тель-ство? Управляющий был строг и не снисходил до беседы с неведомым стариком. Он твердо знал, что это не Пирогов, ибо его высокопревосходительство господин генерал не мог быть таким. Управляющий знал лишь азбуку одежек и не умел читать книгу лиц. Пирогов, посмеиваясь в бородку, повел его к Александре Антоновне. С женами великих людей вечно происходят недоразумения. Потомки убеждены, что жены недостойны своих великих мужей, хотя сами мужья придерживались на этот счет совершенно противоположного мнения. Об Александре Антоновне Пироговой сказано много недобрых слов. Может, они и правдивы. Но Александра Антоновна — единственная женщина, которая по-настоящему любила Пирогова и составила его счастье. Надо быть ей благодарным за это. Немало упреков бросали Александре Антоновне: она-де дурно влияла на Пирогова. Она была меркантильна. Под ее влиянием Пирогов стал брать с больных деньги. Иногда она взимала плату с больных за спиной Пирогова. Забывают, что Александра Антоновна старалась обеспечить необходимые блага для Пирогова. Блага — это не только хорошо налаженный быт. Это и койки, нанятые в корчмах для сельских пациентов, и аптека, и поездки по государственным делам (даже на театр войны) за свой счет, и переиздания книг, весь доход от которых шел в пользу неимущих студентов. Пирогов привык проверять свои мысли действием. Деньги в то время давали возможность действовать сравнительно свободно. Правительство, которое не жалело тысяч на прихоти стоявших у трона, «экономило» на Пирогове. Его лишили всех полагавшихся государственных пособий, оставили только скромную профессорскую пенсию. А сыновья росли. Сыновья избрали научную карьеру, учились за границей, готовились к профессуре. Старший, Николай, стал впоследствии талантливым русским физиком. От него многого ждали. Он умер рано. Младший, Владимир, жил долго. Он был историком. Не талантливым. Николай и Владимир Пироговы звали Александру Антоновну матерью. Своих детей у нее не было. Может быть, Пирогов опасался, что его сыновья станут пасынками. Александра Антоновна была практична. Наверное, она где-то переусердствовала в своем практицизме. Говорят, копила деньгу. Однако копила не для себя, больше для Пирогова. И не своих детей оделяла — его. Еще смешнее упрекать Александру Антоновну в том, что под ее влиянием изменилось мировоззрение Пирогова, повернулось к религии, мистицизму. Пирогов не принадлежал к людям, которые под чьим бы то ни было влиянием легко «поворачивают» мировоззрение. Да и никуда оно не поворачивалось, пироговское мировоззрение. В жизни было два этапа. Вначале Пирогов интересовался только научными проблемами — в их решении был и до конца дней своих остался материалистом. Тут он доверял только опыту. Позже появился интерес к вопросам общественным, моральным. До материалистического их понимания Пирогов не дошел. И не мог дойти. От человека нельзя требовать большего, чем он в состоянии дать. Как ни парадоксально, но Пирогов должен был, просто-таки был обязан творить целебным ножом чудеса — и твердить, что все предопределено заранее. Заложить теоретические начала военной медицины — и увлекаться недалекой мыслью, что борьба в обществе есть «борьба за существование масс с личностями и личностей с массами». «Разнимая трупы», изучать механику человеческого бытия — и размышлять о бессмертии души. Принять дарвинизм — и не отказаться от мысли о «разумном начале» жизни. Потому что все это вместе, в совокупности и составляло мировоззрение Пирогова. Потому что Пирогов не только сын Ивана Ивановича и Елизаветы Ивановны Пироговых, но и дитя своего времени. И будь он податлив, как воск, никакой Александре Антоновне ничего в нем не изменить. Он — тип. И мировоззрение его типично. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» написал глубочайший философский портрет знаменитого естествоиспытателя Эрнста Геккеля, который отрекается от материализма, ищет союз религии с наукой и в то же время стоит на точке зрения материалиста. Пирогову тоже «кличка» материалиста «не по нутру». Он не видит способа «помирить чистый эмпиризм с существованием силы вне материи, мысли вне мозга, жизненного начала вне органических тел» — и раздраженно скрипит, что «и до сих пор, на старости, ум разъедает по временам оплоты веры». Ленин раскрыл понятие естественноисторического материализма — «стихийное, несознаваемое, неоформленное, философски-бессознательное убеждение подавляющего большинства естествоиспытателей в объективной реальности внешнего мира, отражаемой нашим сознанием»[8].
Белые мазанки, где его ждали больные. Набитая людьми аптека слева у въезда в усадьбу. Сад. Парники… Муравей бегал по дорожкам, протоптанным на шестнадцати десятинах, искал бревно потяжелее. Находил и тотчас взваливал на плечи. Пирогову было шестьдесят — он отправился на войну. В сентябре 1870 года Российское общество попечения о больных и раненых воинах (потом переименованное в Общество Красного Креста) предложило Пирогову поехать на театр франко-прусской войны. Его просили осмотреть военно-санитарные учреждения. Не без умысла: полагали набраться опыта. Пирогов поехал за свой счет. Он злился, когда сын Владимир, жуируя за границей, тратил больше, чем положено. Но служить обществу, по убеждениям Пирогова, надо было безвозмездно. Своей командировкой он надеялся «принести пользу и нашей военной медицине и делу высокого человеколюбия». За пять недель он осмотрел семьдесят военных лазаретов. Пироговские темпы! Он побывал в Саарбрюккене, Ремильи, Понт-а-Муссоне, Корни, Горзе, Нанси, Страсбурге, Карлсруэ, Швецингене, Мангейме, Гейдельберге, Штутгарте, Дармштадте, Лейпциге. Он отбивал бока на жестких скамьях вагонов третьего класса. Он торопливо забирался в набитые битком теплушки, иногда его выгоняли. Солдаты ехали умирать — что им до старичка, иностранного профессора, инспектирующего лазареты? Он не унывал — шел пешком; как-то совершил путь из одного города в другой на одноконной крестьянской подводе. Он спал большей частью на полу, иногда для него сооружали какое-то подобие кровати. Ел где придется и что придется. А вокруг свирепствовали тиф и дизентерия. Он бодро заявлял спутникам, что с такими неудобствами можно мириться — на Кавказе и в Севастополе приходилось труднее. Он не желал умножать военные тяготы на свои шестьдесят. Работа покорялась ему, как прежде. Пирогов успел за пять недель необыкновенно много. Он не вертел головой по сторонам. Он хотел видеть лишь самое важное. Его интересовали успехи «сберегательного лечения», помощь раненым на самом поле сражения, деятельность Красного Креста и военно-медицинской администрации. Страсбург напомнил Пирогову Севастополь. Страсбург тоже вынуждали к сдаче бомбардировками. На город обрушили около двухсот тысяч снарядов. Он был разрушен меньше, чем Севастополь, потому что продержался всего шесть недель. В Страсбурге, вспоминает Пирогов, французский хирург водил его по госпиталю, показывал пробитый бомбами потолок, жаловался: флаг с красным крестом не мешал немцам целить по зданию. — Французские бомбы в Севастополе, — заметил Пирогов, — тоже не разбирали флагов на перевязочных пунктах. Француз пожал плечами: — Ну, это другое дело. Пирогов, видавший и госпитали Севастополя и госпитали Страсбурга, не считал, что «это другое дело». Он был уверен, что все это одно дело. «Кто видел хоть издали все страдания этих жертв войны, тот, верно, не назовет с шовинистами миролюбивое настроение наций «мещанским счастьем»; шовинизм, вызывающий нации на распри и погибель, достоин проклятия народов». Вот главный вывод, который привез русский хирург на родину из Эльзаса, истоптанного солдатскими сапогами.
Он возвратился на родину и снова топтался в своей Вишне. Больше ему некуда было деваться. Пирогову было шестьдесят семь, когда он отправился на новую войну. Пирогов провел полгода на фронте русско-турецкой войны. Он был в Зимнице, Систове, Тырнове, был под Плевной. Каждое из этих названий — ступенька в освобождении Болгарии. Старые знакомцы заметили, что Пирогов стал туговат на ухо, плохо помнит имена. Седая бородка стояла торчком, очень уж по-стариковски; седые виски топорщились клочьями. Но вскоре давние товарищи узнали прежнего Пирогова — он сразу влез в дела, тут же во всем разобрался, всем надавал указаний, легко поднял тело в седло и… уехал верхом в другой лазарет. В декабре Пирогов пробирался из Богота в Бухарест. Стояли морозы. Он выехал в санях. Потом пересел в телегу. Потирая ушибы, трясся до Систова по разбитой вдребезги дороге. На плохонькой лодке плыл до острова, лежавшего на середине Дуная. Лодка продиралась между льдинами. Остров он пересек пешком. Сел в другую лодку, приплыл в Зимницу. Тут же осмотрел несколько госпиталей. «В импровизированных на живую руку санях» отправился дальше. От Фратешт поехал в поезде. Состав неожиданно остановился: сошедший с рельсов тендер преградил путь. Пирогов пошел пешком по снегу до следующей станции. 24 декабря он прибыл, наконец, в Бухарест. 27 декабря переехал в Яссы. За три дня в Бухаресте он обследовал три госпиталя, ознакомился с санитарными поездами разных типов, составил план борьбы с тифом, перестроил систему транспортировки раненых. Пирогов ехал на фронт для осмотра лазаретов, а стал фактически главным консультантом по всем вопросам медицинского обеспечения армии. Он радовался. Работа по-прежнему покорялась ему. И он в любом возрасте одинаково радостно покорялся требовательному делу. Ему ничего не стоило в момент собраться и махнуть из-под Плевны в Тырново, куда прибыла большая партия раненых. Он не желал думать о своих шестидесяти семи. Он был по-молодому стремителен. Он не разучился летать.
Три поездки Пирогова из Вишни за границу дали миру замечательную военно-медицинскую трилогию. Из Гейдельберга он привез знаменитые «Начала общей военно-полевой хирургии». С фронта франко-прусской войны — «Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 г.». Из Болгарии — «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877—1878 гг.». Отчет о кавказском путешествии 1847 года — пролог к трилогии; может быть, точнее, первая книга тетралогии. Труды прошлого, как правило, много комментируют, со временем охотнее читают комментарии, чем сами труды. Лишь классические творения не боятся убийства временем. Каждое поколение читает их по-своему, находит в них свое. Они всегда современны и своевременны. «Начала военно-полевой хирургии» были сперва написаны по-немецки и озаглавлены: «Grundzüge der allgemeinen Kriegschirurgie». «Grundzüge», если точно перевести: «Основные черты». Слово «Начала» поясняет суть книги. «Основные черты» — это нечто обрамленное, ограниченное. В «Началах» слышится вечная незаконченность классики. Во время Великой Отечественной войны пироговские «Начала» были НАЧАЛАМИ, а не седым памятником старины. «Классические труды Пирогова, — писал Бурденко, — до сих пор привлекают внимание современных военно-полевых хирургов своим богатством идей, светлыми мыслями, точными описаниями болезненных форм и исключительным организационным опытом». «Начала» — это Севастопольская кампания, перекованная в теорию военной медицины. Это поток сведений, зажатый в гранитные берега обобщений. Свободное волнение живого рассказа, организованное четким прибоем научных выводов. Снова поразительная пироговская всеобъемлемость. Сведения об устройстве госпиталей и перевязочных пунктов, о сортировке и транспортировке раненых. Классически выписанная картина шока и детально разработанное учение о «действии огнестрельных снарядов на органические ткани». Анализ ранений головы, лица, шеи, грудной, брюшной, тазовой полостей, конечностей. Анализ столь подробный, что, в какую точку тела ни попади пуля, она обязательно прошьет по пути какой-либо параграф или пункт пироговских«Начал». Подробность доведена до ювелирного гранения. В разделе о транспортах характеризуются и сопоставляются различные виды носилок, сиделок, седел, ручных и конных повозок, полковых фургонов, крестьянских телег, фур колонистов, татарских арб. Рассматривая действие огнестрельных снарядов, Пирогов находит различия, «зависящие: 1) от величины снаряда; 2) от измененного направления; 3) от удара при полете и на излете; 4) от угла; 5) от раскола на несколько кусков; 6) от внесения посторонних тел; 7) от свойства снаряда (был ли он массивный или полый); 8) от свойства поврежденной ткани». Этой классификации предшествует изучение разрушительного действия снарядов в зависимости от их массы, меткости и скорости. И, в свою очередь, изучение вопросов меткости и скорости стрельбы в зависимости от формы снаряда, от устройства дула и зарядной части ружья, от силы давления, производимого вспышкою газов. От дотошности книга не стала скучней, наоборот, сделалась интересней. Книги бывают по-разному подробными. Есть подробность — от ограниченности автора, от неверия, что читатель сам может довести мысль до конца. У Пирогова подробность — от глубины. Его подробность — это новые и новые точки зрения. Она открывает простор для додумывания. Пирогов и в старости остался поэтом. В «Началах» слышны шум боя и стоны раненых, страницы пахнут развороченной землей, порохом, эфиром, запекшейся кровью; строки — следы колченогих телег, ползущих по искалеченной дороге. Пирогову повезло: он успел убедиться в прочности и жизненности своих «Начал военно-полевой хирургии». Ему посчастливилось увидеть «Начала» в действии. Франко-прусскую войну отделяли от Севастопольской кампании полтора десятилетия. Русско-турецкую войну — два десятилетия. Армии были по-новому организованы, по-новому вооружены, передвигались и действовали по-новому. Пироговские принципы не устаревали. Больше того, они еще шли в рост, не были открыты в полной мере. Военно-медицинское начальство поворачивалось медленно, не желало понять их глубину и силу. Экономный отчет о посещении госпиталей Германии, Лотарингии и Эльзаса и обширный труд, привезенный из Болгарии, не столько проверка — утверждение пироговских принципов. Не случайно вторую часть последнего своего труда «Военно-врачебное дело» Пирогов открывает чеканными двадцатью пунктами, озаглавленными: «Основные начала моей полевой хирургии». Первое из начал стало афоризмом: «Война — это травматическая эпидемия». Определение не социолога, не политика, а хирурга, организатора военно-санитарного дела. Массовость поражений, нехватка врачей, важность организационной работы — особенности, в равной мере отличающие деятельность медиков во время эпидемий и в военное время. Пути борьбы с «травматической эпидемией» развиваются затем в других положениях, которые раскрывают значение сортировки, правильно построенного транспорта раненых. Вся логика изложения подводит читателя еще к одному афористичному выводу, выношенному и выстраданному Пироговым в Севастополе: «Не медицина, а а д м и н и с т р а ц и я играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны». «Начала» утверждают «сберегательное лечение», в частности гипсовую повязку (взамен скороспелых ампутаций), указывают средства борьбы с гнойными заражениями. Одно положение, «начало», тянется еще из сорок седьмого года — ратует за самое широкое применение наркоза при операциях на поле боя. Многие годы кристаллизовал в себе Пирогов «Начала военно-полевой хирургии». Кристаллы оказались магическими, прочными как алмаз. Прожили еще долгие десятилетия. Проверены в кровавых войнах. Даже те из «начал», что ныне — удел истории, ушли из армейских рядов не как необстрелянные за непригодностью к боевому делу, а как славные ветераны, уступившие место в строю тем, кто моложе и сильнее.
…Пирогов всегда был рад служить, нежданно-негаданно пришлось прислуживаться. Его отозвали из прифронтовых госпиталей, прикрепили к штабу. Ему приказано было лечить великого князя Николая Николаевича — главнокомандующего. Пирогов злился: «Вот на старости лет пришлось быть придворным… На днях я его отправляю на время в Одессу и тогда авось ускользну… Я уже давно подумывал улизнуть…» Главнокомандующий пациент просил для Пирогова орден, но даже великий князь не сразу поборол царское недоброжелательство. Сначала «за существенные заслуги по призрению и лечению раненых» Пирогову пожаловали золотую табакерку с портретом его величества. Орден дали позже. Табакерка была так же бесполезна, как орден. Пирогов табак не нюхал. Он курил сигары. Пирогов дождался момента и улизнул в свою Вишню. Тыловой пункт на случай отступления, превращенный трудами Пирогова в форпост хирургической практики и военно-медицинской науки.
Пирогов прожил в Вишне двадцать лет и остался там навсегда. Его тело, забальзамированное, по сей день покоится в склепе под сельской церковью. У Пирогова добрые губы и удивительно точно выточенный череп мыслителя.
X. ПОСЛЕДНИЙ ГОД 1881
В семьдесят лет Пирогов стал совсем стариком. Катаракта украла у него яркую радость мира. Сквозь мутную пелену мир просачивался серый, тусклый. Оттого, что плохо видел, он закидывал назад голову, щурился, выставлял вперед заросший длинной седой щетиной подбородок. Пронзительный прищур, упрямо торчащий подбородок — в лице старика по-прежнему жили стремительность и воля. Таким написал его Репин. [см.илл.] Пирогов увлек Репина, в то время художника уже не начинающего и оттого способного увлечься лишь значительным человеком со значительной внешностью, — Репина-мастера, создателя «Бурлаков» и «Протодьякона». Репин писал Пирогова маслом, рисовал карандашом [см.], сделал даже скульптурный его портрет. [см. илл.] Репин творил своего Пирогова в мае 1881 года в Москве. В мае 1881 года праздновали пироговский юбилей. Пятьдесят лет деятельности. Пирогов долго отказывался от юбилейных торжеств — в семьдесят с лишним не просто слушать уверения в бессмертии. Склифосовский приезжал в Вишню уговаривать его. Пирогов любил Склифосовского. Десять лет назад угадал его и рекомендовал на кафедру теоретической хирургии. Старик держал Склифосовского весь день при себе, говорил, как всегда, остро, умно, живо. Он говорил не о юбилее и не о старости, не о смерти и не о бессмертии. Увлеченно разбирал способы радикального лечения грыж, ругал себя за то, что в молодости плохо знал биологию. Пирогов анализировал свои дерптские неудачи: сорок лет назад он пытался прирастить к грыжевому отверстию рыбий пузырь, не увидев в этом приеме биологической погрешности. Но Склифосовский все же выполнил свою миссию. Пирогов согласился на чествование — только в Москве. Родная Москва встречала Пирогова 24 мая 1881 года. Он покачивался на мягком диване удобного купе, вспоминал тесную душную карету, в которой ехал некогда из Берлина навстречу будущему. Вот когда ему была нужна Москва! Теперь в университете к его приезду расстилали ковры. Опоздали на полвека… В актовом зале выставили для обозрения документы: прошение сына комиссионера девятого класса Николая Пирогова о приеме в Московский университет, расписка в получении шляпы и шпаги перед поездкой в профессорский институт. Свидетели далекой поры, когда юный человек шел открывать новые земли. Теперь человек стал стариком. Все его земли открыты. Новые землепроходцы жили вокруг, отправлялись на поиск. Сначала Пирогов слушал речи внимательно, подавшись вперед и приложив ладонь к уху. Потом надел темные очки, скрестил на груди руки, сидел тихо и чинно. Приветствий было много. От российских обществ, ведомств и городов, из Мюнхена, Страсбурга, Падуи, Эдинбурга, Парижа, Праги, Вены, Брюсселя. Пирогов устал: ему казалось, что разные люди разными голосами читают один и тот же бесконечный адрес. Когда смолкло жужжание голосов и наступила пронзительная тишина, Пирогов спрятал очки в карман и, задирая седой подбородок, мелкими шажками побежал к кафедре. Он знал, от него ждут трогательного слова о прошлом, благодарности за то, что люди, занятые своим настоящим, не забывают его прошлого. Но он не стал восхвалять прошлое. Он видел жизнь в движении и предпочитал настоящее. Еще больше верил в будущее. Он желал молодому поколению всего лучшего — правды и свободы. На портрете Репина подслеповатый Пирогов, щурясь, заглядывает в себя и видит будущее. Голос Пирогова был по-юному одушевлен и резок. Однако старик пришепетывал — зубов оставалось немного. Зубов почти не было. Это мешало говорить. К тому же мучила болезненная язва на твердом нёбе. Язва появилась еще зимой. Сначала Пирогов принял ее за ожог. У него была привычка полоскать рот горячей водой, чтобы табаком не пахло. Через несколько недель он обронил при жене: «В конце концов это как будто рак». Он показал язву Склифосовскому, когда тот приезжал звать его на празднество. Склифосовскпй ужаснулся: юбилей оборачивался панихидой. В Москве Пирогова снова осматривал Склифосовскпй, осматривали Валь, Грубе, Богдановский. Предложили операцию. Пирогов не изменился в лице, только просил хирургов приехать к нему в Вишню: «Мы едва кончили торжество и вдруг затеваем тризну». Александра Антоновна не захотела верить Склифосовскому — или захотела разубедить мужа, повезла его прямо из Москвы в Вену, к знаменитому Бильроту. Христиан Альберт Теодор Бильрот был влюблен в Пирогова, называл его учителем, смелым и уверенным вождем. Бильрот помнил, что Пирогову семьдесят, уговаривал его не оперироваться, клялся, что язва доброкачественная. Трудно было обмануть такого пациента, как Пирогов. Он не думал, что его обманывают. Полагал, что известные коллеги ошибаются. Он поставил себе окончательный диагноз, написал на четвертушке бумаги [см.]: «Ни Склифосовский, Валь и Грубе, ни Бильрот не узнали у меня ulcus oris mem. muc. cancerosum serpiginosum[9]. Иначе первые три не советовали бы операции, а второй не признал бы болезнь за доброкачественную». Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал. Против такой болезни был бессилен даже сам Пирогов. Николай Иванович Пирогов умер в селе Вишня 23 ноября 1881 года. Торжество завершилось тризной. В газетах поток приветствий и поздравлений на ходу сменился некрологами и соболезнованиями. Власти откликнулись на его кончину в «Правительственном вестнике»: «Исключен из списков умерший: состоявший при Министерстве народного просвещения тайный советник Пирогов». Оказывается, все эти двадцать лет он числился на службе!.. Он сделал за эти годы сотни прекрасных операций, съездил на две войны, изложил на полутора тысячах печатных страниц теорию военной хирургии, а в архивах официальной субординации проходил как служака по ведомству народного просвещения, в котором его отставили от всех дел и лишили жалованья. «Состоявший при…»…Умирающий Пирогов впал в забытье, бредил. Перед самым концом вдруг встрепенулся, открыл глаза, приказал подать пальто, галоши — ему надо было идти. Еще оставалось несколько часов жизни. И пропасть непеределанных дел. Даже в забытьи Пирогов торопливо набивал часы делом. Он не выносил незаполненного времени. Ему было некогда. Он спешил.
Последние месяцы Пирогов работал как одержимый. Сестра милосердия подсовывала ему под руки один лист бумаги за другим. Он исписывал листы нетерпеливым размашистым почерком. Со временем почерк становился крупнее и неразборчивее. В строке едва умещалось два-три слова. Сестра осторожно принимала исписанные листы — нумеровала. Ему было некогда этим заниматься. Он спешил. Пирогов торопливо вел свои записки, названные, как встарь, «Вопросы жизни». Подзаголовок был хитрый: «Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой». В хитром подзаголовке — все тот же Пирогов: полнейшая откровенность, как в разговоре с самим собой, и непоборимое желание раскрыть себя людям. Целый год размышлял он на бумаге о человеческом бытии и сознании, о материализме, о характере мышления, о религии и науке. Но когда заглянул в глаза смерти, почти отбросил философствования, стал торопливо рассказывать свою жизнь. Вначале он не без усилий извлекал образы из туманного мира прошлого. Рассказ прерывается отступлениями. В частности, рассуждениями о странности воспоминаний. Река поэзии подхватила его и понесла. Ему почудилось однажды, будто он подошел к чему-то — к глубокому оврагу; из оврага тянуло сладким и темным теплом, как из детского рта. Он зажмурился, шагнул — и чудом оказался в прошлом. Уже не надо было припоминать, искать образы, продумывать сцены. Прошлое окружало его — звучало, виделось, пахло. Он писал — и прошлое само стекало с его толсто отточенного карандаша. Аромат цветов доносился из сада — он видел розы у детской своей кровати. Тусклое золото текло в комнату — служанка Прасковья вносила лампу. Слышались шаги в коридоре — появлялся Ефрем Осипович, которого обязательно надо будет отблагодарить. Череп с аптечного шкафчика перекатывался на подоконник и оказывался в руках у смешливого студента-медика, дьяконова племянника. Вера гудела в ушах колокольным звоном. Но появлялся улыбчивый череп, вертелся перед глазами, нарушал благочиние. Пирогов привык верить тому, что видит, а не тому, что слышит. Мальчик-студент тянулся к черепу, ловко и бережно поворачивал его в пальцах, шептал наименования каждой косточки, каждого отверстия, каждой перегородки. Наука не хотела сопрягаться с верой. Пирогов вырывался обратно в свой стариковский мир, писал раздраженные отступления — абзацы о материализме и предопределении, которое «все равно» заводит механизм машины. Но повествование снова увлекало его. Поток мышления Пирогова-ученого и Пирогова-поэта смывал эти абзацы, как во время половодья река смывает мосты. Он стал удивительно легким, почти невесомым. Он ничего не мог есть, пил только хлебный квас, который присылали для него из Москвы. Он перестал ощущать свое тело. Ему казалось: шагни он да оттолкнись посильнее — взлетит. Не было сил ни шагать, ни отталкиваться. Но он все еще был в полете. Неукротимый работник — даже накануне неминуемой гибели (приговор сам себе записал на четвертушке бумаги) не в силах перестать делать. Приступы боли невыносимы. Боль выплескивается на бумагу: «Ой, скорее, скорее! Худо, худо!» Но работник одергивает больного старика, к приступу привязывает, из боли выводит очередную задачу: «Так, пожалуй, не успею и половину петербургской жизни описать…» Сестра подсовывает ему лист за листом. Он торопится — пишет, пишет, пишет. Уже совсем неразборчиво. Странно сокращая слова. Толстый карандаш выпадает из уставших пальцев. Пирогова берут под мышки, выводят, почти выносят, на крыльцо. Сажают в таратаечку. Под легкими колесами похрустывает первый ледок. В воздухе морозец. Пирогов жадно дышит. Ему становится легко и радостно. Как будто все, что осталось позади, еще будет впереди. Он начинает перефразировать Пушкина:
Сначала получается:
Свежий морозный воздух бодрит. Пирогов приоткрывает глаза, щурится и вдруг видит все очень ярко и ясно. И тогда само выговаривается:
Мир прорывает мутную пелену болезни, врывается в стариковские глаза — яркий, сверкающий, разный. Снежное поле бросается навстречу таратаечке. В лунных лучах снег серебристый, голубой, зеленый, фиолетовый. Пирогов счастливо улыбается, повторяет: — Жизнь, ты с целью мне дана… Морозный воздух одновременно будоражит его и усыпляет. Он дышит тихо и ровно. Высоко в небе, прямо над головою, горит звезда. Его звезда. Яркая. Лохматая. Неугасимая.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. И. ПИРОГОВА[10]
1810, 13 ноября — Родился Николай Иванович Пирогов. 1822—1824 — Учился в пансионе В. С. Кряжева. 1824—1828 — Студент медицинского отделения Московского университета. 1828 — Зачислен в профессорский институт. 26 мая выехал из Москвы в Петербург для сдачи экзаменов. В июне, успешно сдав экзамены, прибыл в Дерпт. 1828—1831 — Занимался в профессорском институте. 1832, 31 августа — Защитил докторскую диссертацию. 1833—1835 — Находился в заграничной командировке. 1835—1836, зима — Работал в петербургских больницах, читал врачам курс хирургической анатомии. 1836, 9 марта — Утвержден профессором Дерптского университета. 1837 — Вышли из печати первое издание «Хирургической анатомии артериальных стволов и фиброзных фасций» и первая часть «Анналов хирургического отделения клиники Дерптского университета». 1838, февраль—июнь — Находился в Париже. 1839 — Вышла в свет вторая часть «Анналов хирургического отделения клиники Дерптского университета». 1840 — Вышла в свет работа «О перерезке ахиллова сухожилия в качестве оперативно-ортопедического лечебного средства». 1841 — Приступил к исполнению обязанностей профессора Медико-хирургической академии в Петербурге. 1842 — Женился на Е. Д. Березиной. 1843 — Начал выходить «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела». 1843, 7 ноября — Родился старший сын Пирогова — Николай. 1846, 5 января — Родился второй сын Пирогова — Владимир. 25 января — Умерла жена Пирогова Е. Д. Березина. 26 января — Утвержден проект Анатомического института. Март — октябрь — Пирогов путешествовал по Европе. 1847, 14 февраля — Сделал первую операцию под эфирным наркозом. 8 июня — Выехал на кавказский театр войны. Декабрь — Возвратился в Петербург. 1848— Работал на холерной эпидемии. 1849— Вышли в свет «Отчет о путешествии по Кавказу» и «Патологическая анатомия азиатской холеры». 1850 — Женился на А. А. Бистром. 1852 — Вышли в свет первые выпуски «Иллюстрированной топографической анатомии распилов, проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое тело» (издание продолжалось до 1859 года). 1854, ноябрь — 1855, декабрь — Пирогов работал в Крыму. 1856, апрель — Подал заявление об уходе из Медико-хирургической академии. Июль — В «Морском сборнике» опубликована статья Пирогова «Вопросы жизни». Сентябрь — Пирогов назначен попечителем Одесского учебного округа. 1858, июль — Назначен попечителем Киевского учебного округа. 1861, март — Уволен с должности попечителя. Переехал в село Вишня. 1862—1866 — Находился за границей как руководитель молодых русских ученых. 1862, октябрь — Консультировал Гарибальди. 1865 — Вышли в свет «Начала общей военно-полевой хирургии» (на немецком языке — в 1864 г.). 1870, сентябрь — октябрь — Ездил на театр франко-прусской войны. 1871 — Опубликован «Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 г.». 1877, сентябрь — 1878, март — Выезжал на театр русско-турецкой войны. 1879 — Вышел в свет труд «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877—1878 гг.». 1879—1881 — Работа над «Дневником старого врача». 1881, май — Чествование Н. И. Пирогова в Москве. 1881, 23 ноября — Николай Иванович Пирогов умер в селе Вишня.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н. И. ПИРОГОВА
Н. И. Пирогов, Собрание сочинений в восьми томах. М., Медгиз, 1957—1962. Н. И. Пирогов, Избранные педагогические сочинения. М., Акад. пед. наук РСФСР, 1953. Н. И. Пирогов, Севастопольские письма и воспоминания. М., Изд-во АН СССР, 1950. Сочинения Н. И. Пирогова в двух томах. Спб., 1887 (изд. 2-е, Спб., 1900). Сочинения Н. И. Пирогова. Тт. 1—2. Киев, 1910 (изд. 2-е, дополненное — т. 1, Киев, 1914; т. 2, Киев, 1916).
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ О Н. И. ПИРОГОВЕ
Бехтерев В. М., Н. И. Пирогов как научный и общественный деятель. Спб., 1910. Боткин С. П., Речь о Н. И. Пирогове. Протоколы общества русских врачей в Спб., 1881—1882. Бурденко Н. Н., О Н. И. Пирогове с исторической точки зрения. Собр. соч. М., 1950—1952, т. 1. Бурденко Н. Н., К исторической характеристике академической деятельности Н. И. Пирогова (1836—1854). Там же. Вельяминов Н. А., Пирогов и вопросы частной помощи на войне. «Русский хирургический архив», 1907, № 1. Вильшанская М. Л., Н. И. Пирогов. Библиографический указатель, 1911—1965. М., 1966 Герцен А. И., Васильчикова и Рейнгардт доехали Пирогова. Собр. соч. в тридцати томах, т. XV. М., 1958. Герцен А. И., Киевский университет и Н. И. Пирогов. Там же. Геселевич А. М., Научное, литературное и эпистолярное наследие Николая Ивановича Пирогова. М., 1956. Геселевич А. М., Смирнов Е. И., Н. И. Пирогов. Научно-биографический очерк. М., 1960. Гран М. М., Френкель 3. Г., Шингарев А. И., Н. И. Пирогов и его наследие — пироговские съезды. Спб., 1911 (В книге: Библиографический указатель, 1829—1910). Добролюбов Н. А., О значении авторитета в воспитании. Собр. соч. в девяти томах, т. 1. М.—Л., 1961. Добролюбов Н. А., Собрание литературных статей Н. И. Пирогова. Там же, т. 4. М.—Л., 1962. Добролюбов Н. А., Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами. Там же, т. 6. М — Л., 1963. Добролюбов Н. А., От дождя да в воду. Там же, т. 7. М.-Л., 1963. 3аблудовский П. Е., Развитие хирургии в России в XIX веке. Н. И. Пирогов. М., 1955. Калью П. И., Н. И. Пирогов и анатомо-физиологическое направление в хирургии. М., 1959. Корнеев В. М., Великий русский хирург и ученый Н. И. Пирогов. Л., 1952. Красновский А. А., Педагогические идеи Н. И. Пирогова. М., 1949. Левшин Л. Л., Краткий очерк сочинений Н. И. Пирогова по хирургии. Казань, 1881. Максименков А. Н., Н. И. Пирогов. Его жизнь и встречи в портретах и иллюстрациях. Л., 1961. Малис Ю. Г., Н. И. Пирогов. Спб., 1893. Мечников И. И., О Н. И. Пирогове. В кн.: «Страницы воспоминаний». М., 1946. Могилевский Б. Л., Н. И. Пирогов. М., 1961. Оппель В. А., История русской хирургии. Критический очерк. Вологда, 1923. Павлов И. П., Речь на соединенном заседании медицинских обществ Петербурга, посвященном памяти Н. И. Пирогова, 23 ноября 1906 года. «Русский хирургический архив», 1907, кн. 5. «Пироговские чтения». Сборники. М., Медгиз. Выходят ежегодно с 1955 г. Разумовский В. И., Н. И. Пирогов как научный деятель и профессор хирургии. Спб., 1910. Склифосовский Н. В., Памяти Н. И. Пирогова. М., 1883. Смирнов Е. И., Идеи Н. И. Пирогова в Великой Отечественной войне. «Хирургия», 1943, № 2—3. Ушинский К. Д., Педагогические сочинения Н. П. Пирогова. «Журн. мин. нар. просв.», 1862, № 3. Чернышевский Н. Г., Заметки о журналах. Июль, 1856. Полн. собр. соч., т. III. М., 1947. Штрайх С. Я., Н. И. Пирогов. М., 1949. Якобсон С. А., Н. И. Пирогов и зарубежная медицинская наука. М., 1955.
Иллюстрации
Н. И. Пирогов. Годы учения в профессорском институте.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов. Портрет работы А. Д. Хрипкова.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов — профессор Дерптского университета. 1837 год
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов. 40-е годы. Петербург.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов. 40-е годы. Петербург.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов — попечитель Киевского учебного округа.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов. Конец 60-х годов.
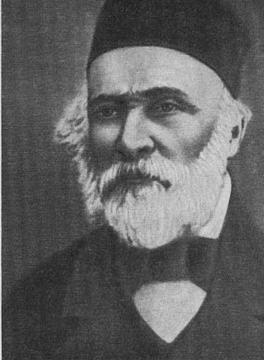 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов. 70-е годы.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов. 1878 год.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов с сыновьями.

(обратно)
Н. И. Пирогов. Портрет работы И. Е. Репина.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов. Рисунок И. Е. Репина.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов. Бюст работы И. Е. Репина.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов. 1881 год.

(обратно)
Диплом почетного гражданина города Москвы, врученный Н. И. Пирогову в 1881 году.
 (обратно)
(обратно)
Прошение Н. И. Пирогова о приеме в Московский университет.
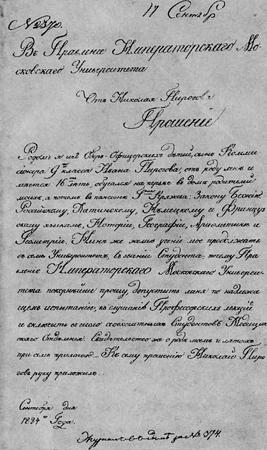 (обратно)
(обратно)
Расписка Н. И. Пирогова при поступлении в университет.
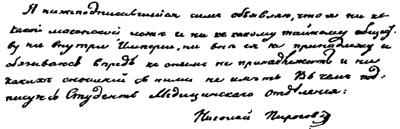
(обратно)
Московский университет в конце 20-х годов XIX века.
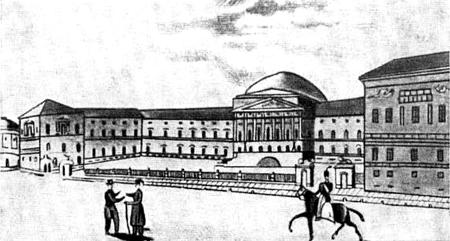 (обратно)
(обратно)
Ефрем Осипович Мухин.
 (обратно)
(обратно)
Матвей Яковлевич Мудров.
 [о нём в тексте и далее]
(обратно)
[о нём в тексте и далее]
(обратно)
Христиан Иванович Лодер.
 [о нём в тексте]
(обратно)
[о нём в тексте]
(обратно)
Иван Федорович Буш.
 [о нём в тексте]
(обратно)
[о нём в тексте]
(обратно)
Илья Васильевич Буяльский
 [о нём в тексте фрагмент 1 и 2]
(обратно)
[о нём в тексте фрагмент 1 и 2]
(обратно)
Иван Филиппович Мойер
 [о нём в тексте]
(обратно)
[о нём в тексте]
(обратно)
Федор Иванович Иноземцев
 [о нём в тексте]
(обратно)
[о нём в тексте]
(обратно)
Пироговский кружок. Н. И. Пирогов — в первом ряду, второй слева.
 (обратно)
(обратно)
Александра Антоновна Бистром.
 (обратно)
(обратно)
Дерпт. Университетская библиотека.

(обратно)
Хирургическая клиника Дерптского университета.

(обратно)
Дерпт. Дом, в котором жил Н. И. Пирогов.
 (обратно)
(обратно)
Анатомический театр. Препаровочная.
 (обратно)
(обратно)
Н. И. Пирогов в пути на перевязочный пункт. С картины Н. Кочергина.
 (обратно)
(обратно)
Повозки, приспособленные для транспортировки раненых.
 (обратно)
(обратно)
Крестьянская изба, в которой оперировал Н. И. Пирогов.
 (обратно)
(обратно)
Русско-турецкая война. Лазарет в Систово.
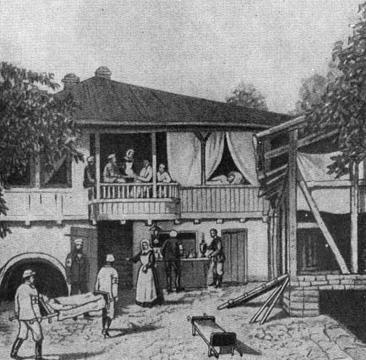 (обратно)
(обратно)
Автограф письма Н. И. Пирогова из Севастополя.

(обратно)
Обложка труда Н. И. Пирогова «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии».
 (обратно)
(обратно)
Иллюстрация из «Топографической анатомии». Распилы через коленный сустав.
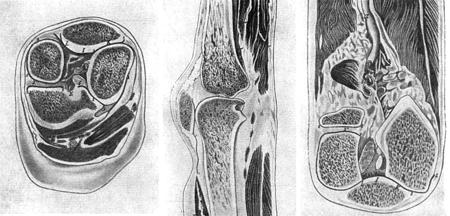 (обратно)
(обратно)
Карманный набор инструментов, принадлежавший Н. И. Пирогову.
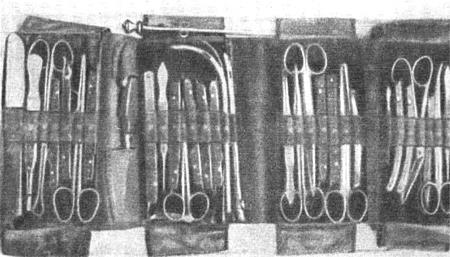 (обратно)
(обратно)
Дом Н. И. Пирогова в селе Вишня.
 (обратно)
(обратно)
Кабинет Н. И. Пирогова. Фрагмент экспозиции музея-усадьбы в Вишне.
 (обратно)
(обратно)
Аптека Н. И. Пирогова. Фрагмент экспозиции музея-усадьбы в Вишне.
 (обратно)
(обратно)
Страницы из записной книжки Н. И. Пирогова с его рисунками.
 (обратно)
(обратно)
Записанный Н. И. Пироговым диагноз своей болезни.
 (обратно)
(обратно)
Рукопись «Дневника старого врача». Одна из первых страниц.
 (обратно)
(обратно)
Рукопись «Дневника старого врача». Одна из последних страниц.
 (обратно)
(обратно)
(обратно)
(обратно)
Последние комментарии
2 часов 44 минут назад
7 часов 47 минут назад
15 часов 36 минут назад
18 часов 7 минут назад
18 часов 15 минут назад
2 дней 5 часов назад