Глазами эксцентрика [Венедикт Васильевич Ерофеев] (fb2) читать постранично, страница - 2
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (12) »
 «Разве это жизнь? — сказал я, поднимаясь с земли, — это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза подлая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда».
Пена пошла у меня изо рта, а может, не только пена. «Спокойно, у тебя остается еще одно средство, кардинальное средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии. Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню, кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: „Animalia omnia post coitum opressi sunt“, то есть „каждая тварь после соития бывает печальной“, а я вот постоянно печален, и до соития, и после».
А лучший из комсомольцев Николай Островский сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.
А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (Тьфу, не могу больше говорить, у меня спазмы.) Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает что еще.
Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленорреи, — так я подумал и постучал. «Отвори мне, Павлик». Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал. «Видишь ли, я занят, — сказал он, — я смешивал яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленорреи».
«О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике!» Я взгромоздился к нему на пуфик и умолил: «Цианистый калий у тебя есть? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои капли и мочевины, волоки все!»
Он ответил: «Не дам».
«Ну, прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия! Что они мне, вкусившему яда Венеры? Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленоррею».
А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленоррею». А у меня, придурка, ни одного гонококка.
А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я чего-нибудь до тридцати лет, я ничего не сделал бы и после тридцати». А я? Что я сделал до тридцати, чтобы иметь надежду что-нибудь сделать после?
А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (О, нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы.)
Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:
«А Василий Розанов сказал: „У каждого в жизни есть своя Страстная Неделя“. Вот и у тебя».
«Вот и у меня, да, Павлик, у меня теперь Страстная Неделя, и на ней семь Страстных Пятниц». Как славно! Кто такой этот Розанов?
Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном. «О чем ты думаешь?» — спросил я его; он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и соскочил с пуфика.
«Разве это жизнь? — сказал я, поднимаясь с земли, — это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза подлая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда».
Пена пошла у меня изо рта, а может, не только пена. «Спокойно, у тебя остается еще одно средство, кардинальное средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии. Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню, кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: „Animalia omnia post coitum opressi sunt“, то есть „каждая тварь после соития бывает печальной“, а я вот постоянно печален, и до соития, и после».
А лучший из комсомольцев Николай Островский сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.
А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (Тьфу, не могу больше говорить, у меня спазмы.) Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает что еще.
Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленорреи, — так я подумал и постучал. «Отвори мне, Павлик». Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал. «Видишь ли, я занят, — сказал он, — я смешивал яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленорреи».
«О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике!» Я взгромоздился к нему на пуфик и умолил: «Цианистый калий у тебя есть? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои капли и мочевины, волоки все!»
Он ответил: «Не дам».
«Ну, прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия! Что они мне, вкусившему яда Венеры? Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленоррею».
А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленоррею». А у меня, придурка, ни одного гонококка.
А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я чего-нибудь до тридцати лет, я ничего не сделал бы и после тридцати». А я? Что я сделал до тридцати, чтобы иметь надежду что-нибудь сделать после?
А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (О, нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы.)
Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:
«А Василий Розанов сказал: „У каждого в жизни есть своя Страстная Неделя“. Вот и у тебя».
«Вот и у меня, да, Павлик, у меня теперь Страстная Неделя, и на ней семь Страстных Пятниц». Как славно! Кто такой этот Розанов?
Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном. «О чем ты думаешь?» — спросил я его; он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и соскочил с пуфика.
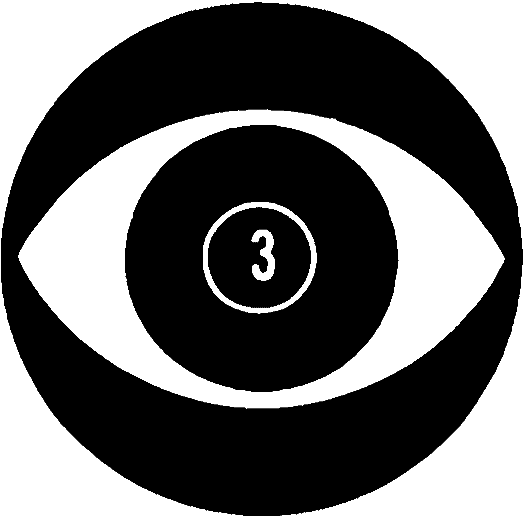 Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутыль с цикутой.
— Реакционер он, конечно, закоренелый?
— Еще бы!
— И ничего более оголтелого нет?
— Более махрового, более одиозного — тоже нет?
— Махровее и одиознее некуда.
— Прелесть какая. Мракобес?
— «От мозга до костей», — как говорят девочки.
— И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?
— Сгубил. Царство ему небесное.
— Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и всякое такое.
— В какой-то степени, да.
— Волшебный человек! Как только у него хватило желчи, и нервов, и досуга? И ни одной мысли за всю жизнь?
— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательного толка.
— И всю жизнь и после жизни — никакой
Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутыль с цикутой.
— Реакционер он, конечно, закоренелый?
— Еще бы!
— И ничего более оголтелого нет?
— Более махрового, более одиозного — тоже нет?
— Махровее и одиознее некуда.
— Прелесть какая. Мракобес?
— «От мозга до костей», — как говорят девочки.
— И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?
— Сгубил. Царство ему небесное.
— Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и всякое такое.
— В какой-то степени, да.
— Волшебный человек! Как только у него хватило желчи, и нервов, и досуга? И ни одной мысли за всю жизнь?
— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательного толка.
— И всю жизнь и после жизни — никакой- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (12) »
Последние комментарии
2 часов 40 минут назад
2 часов 57 минут назад
6 часов 25 минут назад
6 часов 58 минут назад
7 часов 55 минут назад
22 часов 56 минут назад