Малиновский. Солдат Отчизны [Анатолий Тимофеевич Марченко] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Малиновский. Солдат Отчизны



Военная энциклопедия. М., 1996, т. 5
МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич [10 (23).11.1898, Одесса, — 31.3.1967, Москва], советский государственный и военный деятель, полководец, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (8.9.1945 и 22.11.1958). На военной службе с 1914, в Красной Армии с 1919. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (1930). Участник 1-й мировой войны. С февраля 1916 в составе русского экспедиционного корпуса во Франции. По возвращении на Родину во время Гражданской войны и военной интервенции в России 1917—22 сражался с белогвардейцами на Восточном фронте. С декабря 1920, после учёбы в школе младшего начсостава, командир пулемётного взвода, затем начальник пулемётной команды, помощник командира, с ноября 1923 по октябрь 1927 командир батальона. С 1930 начальник штаба кавалерийского полка, затем служил в штабах СКВО и БВО. С января 1935 начальник штаба 3-го кавалерийского корпуса, с июня 1936 помощник инспектора по кавалерии БВО. В 1937—38 как советник республиканской армии участвовал в национально-революционной войне испанского народа 1936—39. С 1939 на преподавательской работе в Военной академии им. М.В. Фрунзе, с марта 1941 командир 48-го стрелкового корпуса (Одесский ВО). Полководческий талант М. ярко проявился в Великую Отечественную войну. С августа 1941 М. командир 6А, с декабря 1941 по июль 1942 — Южным фронтом, в августе-октябре 1942 — 66А, сражавшейся севернее Сталинграда. В октябре-ноябре 1942 заместитель командующего Воронежским фронтом. С ноября 1942 командовал 2 гвардейской А, которая в декабре во взаимодействии с 5 ударной А и 51А остановила, а затем разгромила войска группы армий «Дон», пытавшиеся деблокировать окружённую под Сталинградом крупную группировку немецких войск. В успехе этой операции важную роль сыграло стремительное выдвижение 2 гвардейской А и вступление её в сражение с марша. С февраля 1943 М. командовал Южным, а с марта — Юго-Западным (20.10.1943 переименован в 3-й Украинский) фронтами, войска которых сражались за Донбасс и Правобережную Украину. Под его руководством была подготовлена и успешно проведена Запорожская операция: советские войска внезапным ночным штурмом овладели важным узлом обороны противника — Запорожьем, что оказало большое влияние на разгром мелитопольской группировки немецко-фашистских войск и способствовало изоляции гитлеровцев в Крыму. В последующем войска 3-го Украинского фронта совместно с соседним 2-м Украинским фронтом расширили плацдарм в районе днепровской излучины. Затем во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта успешно провели Никопольско-Криворожскую операцию. Весной 1944 войска 3-го Украинского фронта под руководством М. провели Березнеговато-Снегирёвскую и Одесскую операции: форсировали р. Южный Буг, освободили Николаев и Одессу. С мая 1944 командующий 2-м Украинским фронтом. В августе 1944 войсками фронта совместно с 3-м Украинским фронтом скрытно подготовлена и успешно осуществлена Ясско-Кишинёвская операция — одна из выдающихся операций Великой Отечественной войны. Советские войска добились в ней больших политических и военных результатов: разгромили основные силы немецко-фашистской группы армий «Южная Украина», освободили Молдавию и вышли на румыно-венгерскую и болгаро-югославскую границы, тем самым коренным образом изменив военно-политическую обстановку на южном крыле советско-германского фронта. В октябре 1944 войска 2-го Украинского фронта под командованием М. успешно провели Дебреценскую операцию, в ходе которой нанесли серьёзное поражение группе армий «Юг»; после чего немецко-фашистские войска были изгнаны из Трансильвании. Войска 2-го Украинского фронта заняли выгодное положение для наступления на Будапешт и оказали большую помощь 4-му Украинскому фронту в преодолении Карпат и освобождении Закарпатской Украины. Вслед за Дебреценской операцией они во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта осуществили Будапештскую операцию (октябрь 1944 — февраль 1945), в результате которой советские войска окружили, а затем ликвидировали крупную группировку врага и освободили столицу Венгрии — Будапешт. На завершающем этапе разгрома немецко-фашистских войск на территории Венгрии и восточных районов Австрии войска 2-го Украинского фронта совместно с войсками 3-го Украинского фронта успешно провели Венскую операцию (март-апрель 1945). В ходе её советские войска изгнали немецко-фашистских оккупантов из Западной Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии, восточные районы Австрии и её столицу — Вену. Во время советско-японской войны 1945 М. вновь проявил высокое полководческое искусство. С июля 1945 он командовал войсками Забайкальского фронта, наносившего главный удар в Маньчжурской стратегической операции, в результате которой была разгромлена японская Квантунская армия. Боевые действия войск фронта отличались умелым выбором направления гл. удара, смелым применением танковой армии в первом эшелоне фронта, чёткой организацией взаимодействия при ведении наступления по отдельным разобщённым операциям направлениям, исключительно высокими для того времени темпами наступления. За высокое полководческое искусство, мужество и отвагу М. присвоено звание Героя Советского Союза. После войны с Японией командовал войсками Забайкальско-Амурского ВО (1945—47), главнокомандующий войсками Дальнего Востока (1947 — 53), командовал войсками ДВО (1953—56). С марта 1956 1-й заместитель министра обороны и главнокомандующий Сухопутными войсками. С октября 1957 министр обороны СССР. За заслуги перед Родиной в строительстве и укреплении ВС СССР и в связи с 60-летием награждён второй медалью «Золотая Звезда» . Депутат Верховного Совета СССР 2—7-го созывов. Награждён 5 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени и медалями, а также иностранными орденами и медалями, в том числе французским орденом Почётного Легиона и американским «Легион чести» (высшей степени). Награждён высшим советским военным орденом «Победа». Похоронен на Красной площади.

«Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить».Ф.М. Достоевский
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Пожалуй, перед каждым человеком, решившим посвятить себя литературной деятельности, возникает неизбежный вопрос: писать или не писать? То есть не вообще начинать писать или бросить это каторжное занятие, а браться ли за перо в данном конкретном случае, когда речь идёт о произведении, посвящённом, скажем, знаменитому человеку, коим может быть политик, учёный, полководец, писатель, да мало ли ещё кто! Так было и с этой книгой. Честно признаюсь, взялся я за новую работу с некоторой опаской. Да, я знал о той огромной роли, которую сыграл маршал Малиновский в годы Великой Отечественной войны. Знал и о его работе на посту министра обороны. Читал глубокую, масштабную книгу, написанную самим маршалом, — «Солдаты России», которая в основе своей автобиографична. У меня была искренняя симпатия к этому человеку, привлекала его крупная, самобытная личность. Да и как она могла не привлекать! Далеко не все наши полководцы прошли такой уникальный боевой путь, какой прошёл Родион Яковлевич Малиновский. Вот судите сами: подростком он убегает на русско-германский фронт. Затем в составе Русского экспедиционного корпуса отправляется воевать во Францию. В Россию возвращается, когда на её просторах полыхает Гражданская война, и встаёт в ряды Красной Армии. В 1936 году его посылают в Испанию в качестве военного советника республиканской армии, обязанности которого он исполняет в течение почти двух лет. Июнь сорок первого он встречает в качестве командира корпуса на реке Прут, участвуя в жестоком приграничном сражении. В огненном сорок втором, когда гитлеровские войска, используя своё огромное превосходство в живой силе и технике, рвутся на Кавказ, Малиновский познает всю горечь тяжкого отступления. Затем, будучи командующим 2-й гвардейской армией, сражается под Сталинградом, наносит сильнейший удар по танковым полчищам фельдмаршала Манштейна, пытавшегося деблокировать оказавшуюся в котле трёхсоттысячную армию фельдмаршала Паулюса. А дальше, уже как командующий фронтом, возглавляет последовательно Южный, 3-й Украинский и 2-й Украинский фронты, блестяще проводит знаменитую Ясско-Кишинёвскую операцию, вносит свой вклад в освобождение Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии... Становится Маршалом Советского Союза, награждается высшим орденом «Победа». Гремят салюты сорок пятого... Многие полководцы и военачальники уже «вкушают» радости послевоенного мира. Маршал Малиновский снова в огне сражений: командует Забайкальским фронтом, сыгравшим главную роль в разгроме империалистической Японии. И вот наконец долгожданный мир. Несколько лет Малиновский руководит Дальневосточным военным округом, а затем назначается сперва заместителем, а потом и министром обороны СССР. Этому делу, которое не только сродни фронтовому, но в чём-то, пожалуй, и посложнее, он отдаёт десять лет своей жизни. Десять лет круглосуточной ответственности за обороноспособность страны. Ситуации высшего накала: один Карибский кризис чего стоит! Так что же выходит? А выходит то, что у Родиона Яковлевича Малиновского жизнь прошла без отставки в полном смысле этого слова. Мальчишкой он встал в боевой строй и покинул его лишь тогда, когда в этом строю его настигла смерть. Как же не написать об этом легендарном человеке! Тем более, что писали о нём до обидного мало. В сравнении с другими советскими полководцами он всегда оставался как бы в тени, что в высшей степени несправедливо. Но пора вернуться к началу: писать или не писать? Я изучил немало книг военно-теоретического содержания, в них подробно анализировались сражения Великой Отечественной войны, в которых принимал участие полководец Малиновский. Однако я почти не узнал его как человека, не представлял, что он любил, что ненавидел, кто были его друзья, каким он был отцом, семьянином... Не зная всего этого и многого другого, что характеризует личность, браться за роман было нельзя. И только после того, как я побеседовал со многими людьми, хорошо знавшими маршала, перечитал мемуары других полководцев и военачальников, которых судьба сводила с ним в разные периоды жизни, я ощутил, как постепенно вырисовывается для меня образ Малиновского-человека. Так, например, я узнал, что Родион Яковлевич Малиновский увлекался философией и что одним из любимых его философов был Марк Аврелий[1]. Решив поближе познакомиться с «философом на троне», я открыл его книгу «Наедине с собой» и вскоре понял, почему он так интересовал маршала. Если коротко: их объединяло родство душ! На одной из страниц книги Марка Аврелия я прочитал: «Не иди по стопам цезарей и не позволяй себя увлечь — ведь это бывает. Старайся сохранить в себе простоту, добропорядочность, неиспорченность, серьёзность, скромность, приверженность к справедливости, благочестие, благожелательность, любвеобилие, твёрдость в исполнении настоящего дела. Употреби все усилия на то, чтобы остаться таким, каким тебя желала сделать философия. Чти богов и заботься о благе людей. Жизнь коротка; единственный же плод земной жизни — благочестивое настроение и деятельность, согласная с общим благом. Во всём будь учеником Антонина, подражай его настойчивости и деятельности, согласной с разумом, никогда не изменявшей ему уравновешенности и благочестию, ясности в познании вещей. Он никогда не проходил мимо чего-либо, не рассмотрев его внимательно и не отдав себе в нём, ясного отчёта. Как терпеливо переносил он несправедливые упрёки, не отвечая на них тем же! Как далёк он был от желания всё хулить, от пугливости, подозрительности и софистики! Как скромны были его требования, когда подымался вопрос о помещении, ложе, одежде, еде, услугах, и как он был трудолюбив и сдержан!.. Как был верен и ровен в своих дружеских отношениях! Как терпеливо выслушивал он тех, которые откровенно высказывались против его мнения, и как радовался, если кто-нибудь предлагал лучшее! Как он был благочестив и в то же время чужд суеверия! Пусть свой последний час ты встретишь с такой же спокойной совестью, как он!» Я несколько раз перечитывал эти строки, и каждый раз одна и та же мысль не давала мне покоя: «Так он, Малиновский, тоже был таким. Это всё о нём!» Тогда я окончательно понял, что смогу написать книгу об этом удивительном человеке — маршале Родионе Яковлевиче Малиновском. А получилась она или нет — судить вам, читатели.
 Часть I.
ФРОНТ
Часть I.
ФРОНТ
«Перековеркивая Ларошфуко, можно сказать, что история сокрывает малое и возвеличивает истинно большое, как ветер тушит свечу и раздувает пламя костра».Леонид Леонов
1
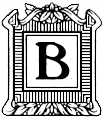 судьбу Родион Яковлевич Малиновский верил. Он считал, что именно судьба ведёт его по дороге жизни и определяет все её изгибы и повороты, внезапные перемены и необъяснимые совпадения.
В самом деле, чем объяснить, что, родившись в Одессе, он накануне войны был отозван с преподавательской работы в военной академии и назначен командиром стрелкового корпуса не куда-нибудь ещё, а в Одесский военный округ? Чем объяснить, что во время Великой Отечественной войны — призван освобождать именно Одессу от фашистских захватчиков? Чем объяснять, что, вынужденный под напором гитлеровских полчищ оставить ворота Кавказа — Ростов и вскоре прочитать пылающие гневом строки сталинского приказа номер 227, гласящие о том, что войска Южного фронта покрыли свои знамёна позором, именно Малиновский, а не кто-нибудь другой, позднее вновь овладел этим, словно заколдованным, городом? Чем объяснить, что, встретив войну на реке Прут в должности командира 48-го стрелкового корпуса, он, уже будучи командующим 2-м Украинским фронтом, форсировал именно эту реку, чтобы повести свои войска в Румынию, Венгрию, Австрию? И наконец, чем объяснить, что Малиновскому, никогда всерьёз не помышлявшему о военной карьере, выпало, пройдя сквозь бури и грозы трёх войн, на всю жизнь остаться военным?
На эти вопросы не смогли бы дать ответа ни самые изощрённые логические построения, ни самые дотошные исследования, ни самые смелые предположения. Случайные совпадения? Случайность, конечно, великая сила, порой ломающая планы и мечты. Она же и непредсказуемая фантазёрка, и шальная колдунья. Но разве все эти знаковые совпадения можно объяснить лишь одной случайностью? Один раз — случайность, второй раз, пожалуй, тоже, но случайность в третий раз, причём случайность одного и того же порядка, — это уже фатум, по определению философов-стоиков — сила, управляющая миром, которая неисповедимыми путями ведёт по жизни каждого, кто родился на этой загадочной планете Земля...
...Но все эти случайности проявятся потом, в будущем, а сейчас комкор Малиновский стоял на высоком берегу Прута и пристально смотрел в бинокль на противоположную сторону реки, за которой простиралась Румыния.
Было самое начало июня, расцвет разгорающегося лета. В редких берёзовых рощах с полуночи до рассвета неистово звенели соловьиные трели, не дававшие покоя молодому комкору. И казалось, в мире, где звучит это волшебное щёлканье, окутывавшее душу счастьем, не может, не должно быть войны. Как могут люди допустить её, нет, даже просто подумать о ней, променяв эти пленительные трели на грохот орудий, на вопли и стоны жертв войны? Она не может породить ничего, кроме жестокости, зла, страданий, ненависти и неутолимого людского горя. Однако война шла — здесь, рядом...
Да, жизнь была бы прекрасна, если бы в голове набатным колоколом не билась мысль о том, что ещё мгновение — и соловьи умолкнут, и всё вокруг неузнаваемо преобразится.
Там, где сейчас буйным разноцветьем радуют глаз полевые травы, оставят свои тяжёлые следы гусеницы танков; в высоком, безмятежном небе пронесутся, вздыбливая небо, армады истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. А там, где колосья пшеницы колышутся на ласковом ветру и где едва ли не до самого горизонта простираются яблоневые сады и виноградники, — там останется лишь пугающая мёртвой чернотой выжженная снарядами земля. Мир начнёт превращаться в руины, в пепел, огромные пространства усеют трупы тех самых людей, которые минутой раньше строили планы на будущее, смеялись, затаив дыханье, вслушивались в трели соловьёв. Изменится всё, в том числе сама цена человеческой жизни...
Эти мысли сейчас, когда надо было думать о том, как подготовить к боевым действиям свой корпус, казались совершенно неуместны. Но Малиновский при всём желании не мог отогнать их от себя. Они давали чувство причастности к жизни, которую он любил несмотря на то, что она уже успела преподать ему немало горьких и жестоких уроков.
Да и как было не любить жизнь, если он прожил на этой земле всего лишь сорок три года — самый расцвет, самая зрелость человека.
Родион Яковлевич никогда не мечтал стать военным, а тем более полководцем. Расхожее утверждение, что солдатами не рождаются, вызывало у него сомнение. Он считал, что если уж суждено человеку стать воином, то он должен родиться им: свойства характера, присущие только военному человеку, должны быть заложены в нём едва ли не в утробе матери. Таких свойств характера он в себе не находил и потому готовился прожить жизнь человеком, занятым другим, не ратным трудом.
Однако эпоха, в которую ему выпало жить, внесла свои коррективы. Эпоха определила необходимость вооружённой борьбы, не суть важно ради чего она ведётся — или ради того, чтобы идеологию одних народов навязать другим, или для того, чтобы одни народы захватили себе чужие богатства, или просто потому, что сильный должен побороть слабого. Эта эпоха — а впрочем, были ли в истории человечества другие эпохи? — и повелела Малиновскому встать в строй воинов. Земля, на которой он родился, молила о защите, народ, к которому он принадлежал, хотел верить в него, как в своего спасителя. И он не мог пойти наперекор своей судьбе.
...Сейчас, на берегу Прута, в отличие от многих, тешивших себя надеждой, что военную угрозу ещё можно отвести, Родион Яковлевич не гадал, будет война или нет. Он знал точно: будет. В эти дни на стол комкора одна за другой ложились полные тревог сводки. Он перечитывал их перед тем, как отправить в вышестоящий штаб. Сводки сомнений не оставляли.
Естественно, самые первые данные поступали от пограничников. Река Прут, левый приток Дуная, одновременно представляла собой линию Государственной границы СССР с королевской Румынией. Где ближе, а где несколько отступая от границы, дислоцировались пограничные отряды Молдавского пограничного округа: в Липканах, Бельцах, Калараше, Кагуле и, уже на Дунае, — в Измаиле.
У Малиновского с пограничниками сложились самые тесные связи, деловые и дружеские, позволявшие организовать эффективное взаимодействие погранотряда с частями его стрелкового корпуса. Это было крайне необходимо: каким, в сущности, вооружением располагала застава? Винтовки образца 1891/30 года, пара пулемётов, гранаты. И чего всё это стоит, если на заставу пойдут танки, если по ней ударят пушки и на неё обрушатся авиабомбы? Без незамедлительной поддержки частей Красной Армии станет невмоготу.
Но как оказать эту помощь, если оборону по Пруту на участке корпуса держит пока лишь одна дивизия, а остальные ещё движутся к месту назначения в железнодорожных эшелонах?
Родион Яковлевич был хорошо знаком с начальником войск Молдавского пограничного округа генерал-майором Никольским, который постоянно держал его в курсе всех событий на границе. В канун войны они снова встретились, чтобы обговорить предстоящие совместные действия.
— В приграничных районах Румынии, — рассказывал Никольский, — сосредоточены румынские и немецкие войска. Перед ними поставлена задача захватить выгодные позиции на советской территории с самого начала боевых действий. Только на участке Бельцского погранотряда сосредоточено более 250 тысяч немецких и румынских войск с танками и артиллерией.
— Совершенно верно, — подтвердил Малиновский. — По нашим данным, основной ударный кулак неприятель собрал на Кишинёвском направлении. Немцы готовят десанты, по всему видно, что они вот-вот предпримут попытки форсировать Прут.
— Не понимаю лишь одного, — вздохнул Никольский, — почему до сих пор нет чётких директив? Немецкие самолёты каждый божий день нарушают границу, летают в нашем воздушном пространстве, как у себя дома, а нам запрещают открывать по ним огонь. Разведка доносит, что румыны отселяют жителей из приграничных сёл, роют траншеи, готовят понтоны и лодки. Немцы постоянно обстреливают наши погранотряды, ведут себя вызывающе и нагло. С каждым днём растёт число задержанных нарушителей границы. Среди них уже выявлены разведчики абвера и диверсанты. Да вы и сами знаете, Родион Яковлевич, что военные приготовления просматриваются, можно сказать, невооружённым глазом.
— Думаю, что не следует нам ждать указаний свыше, — убеждённо произнёс Малиновский. — Надо готовиться к тому, чтобы отразить вражеское нашествие, хотя это и будет стоить огромных жертв. Конечно, много времени уже упущено, но надо сделать всё, что в наших возможностях. Я отдал приказ занять все блокгаузы и доты, оборудовать дополнительные траншеи. Особое внимание — мостам через Прут. На самых важных стратегических направлениях мы их взорвём.
— А что скажет на это Москва? — засомневался Никольский.
— Как говорится, до Бога высоко, а до Москвы далеко. Граница у нас вон какая: от Белого до Чёрного! Разве Москва за всем уследит, всё предусмотрит? Давайте действовать соответственно обстановке. Больше инициативы, решительности. Иначе будем биты, и нещадно.
Никольский не без удивления посмотрел на Малиновского: ещё не приходилось ему слышать от командиров такого ранга заявления, которые никак не укладывались в рамки официальной пропаганды. Ведь та утверждала, что мы будем бить врага малой кровью и на его территории.
— А что, если нам чайку попить, — предложил он. — Пограничного чайку?
— С удовольствием!
Спустя несколько минут повар-солдат в белом халате поверх военной гимнастёрки и в таком же белом колпаке принёс на подносе две больших металлических кружки с чаем и бутерброды с ветчиной.
Родион Яковлевич отхлебнул из кружки:
— Ого! Кипяток!
Никольский рассмеялся:
— Такой у нас пьют на заставах. Чтоб покрепче да погорячее. Для ночных нарядов повар держит чай в кружках на горячей плите. Традиция!
— Из-за этой традиции я себе язык обжёг, — улыбнулся Малиновский, — и как я буду теперь корпусом командовать с ошпаренным языком?
— А мы ваши команды продублируем, — пошутил Никольский.
Подкрепляясь чайком, продолжили разговор.
— Гитлер и Антонеску крепко спелись между собой, — сказал Малиновский. — Конечно, немцы постараются использовать Румынию на всю катушку. Это же отличный плацдарм для нападения на СССР, тем более что румынская армия сейчас подчинена Гитлеру. Фактически. Румыны без устали вопят, что вынуждены пойти на столь тесное сближение с Германией из-за советской военной угрозы. Антонеску заверяет Гитлера в вечной дружбе, клянётся, что будет вместе с ним до конца. Он предоставил в распоряжение Германии двенадцать дивизий, а фюрер пообещал после разгрома СССР отдать Румынии земли от Прута до самого Днепра. Каковы аппетиты?
— Как бы он не подавился! — возмутился Никольский. — Немцам сейчас позарез нужна румынская нефть.
— Верно. Я тут как-то прочитал, что дрезденский банк уже прибрал к рукам финансовый контроль над румынской нефтяной промышленностью. Капиталы крупнейших концернов «ИГ Фарбениндустри», «Крупп АГ» и других активно внедряют в Румынии. Волк волка видит издалека! Так что схватка будет жестокой.
Они ещё долго говорили о накалённой международной обстановке, о положении на конкретных участках советско-румынской границы, детально рассматривали на карте вопросы взаимодействия во время боевых операций. Разошлись далеко за полночь.
...Всё, что они предчувствовали — исходя из реальных фактов и основываясь на своей военной интуиции, — сбылось. Грохот снарядов и авиабомб, раздавшийся на рассвете 22 июня, стал наглядным тому подтверждением.
Но разве мог Родион Яковлевич Малиновский даже предположить в тот день, что спустя три года, испытав и пронзительную горечь отступления, и ошеломляющую радость побед, он со своими войсками, уже в качестве командующего фронтом, снова вернётся сюда, на реку Прут!
Правда, до этого часа было ещё далеко — предстояли суровые, жестокие испытания. Корпус, постоянно огрызаясь и контратакуя противника, вынужденно отступал. Не раз он попадал в окружение противника и каждый раз вырывался из него, обескровленный, но не сдающийся. Вырывался во многом благодаря тому, что комкор Малиновский вовремя разгадывал замыслы немцев. Корпус умело маневрировал, уходя от окружения.
Однако силы были явно неравны, и корпус вместе с другими соединениями и частями отходил и отходил на восток. То было страшное, трагическое время: Совинформбюро почти каждый день сообщало об оставленных Красной Армией городах. В августе 41-го пушки гремели уже перед Днепропетровском, где генерал Малиновский, став командующим 6-й армией, двадцать два дня держал оборону на левом берегу Днепра. Немцам пришлось форсировать эту реку на другом участке фронта.
Но армия Малиновского не только оборонялась. Вместе с 12-й армией Юго-Западного фронта Малиновский осуществил смелую наступательную операцию южнее Лисичанска. Начав атаковать противника с берегов Северского Донца, отбросил его до реки Бахмач. Барвенковско-Лозовская операция, Харьковское сражение, Донбасская операция — через все эти кровопролитные сражения прошли воины Малиновского.
А вслед за этим на огромной территории развернулась жестокая битва за Кавказ. Полгода кровопролитных боев!..
В летнюю кампанию 1942 года гитлеровцы приступили к выполнению директивы своего верховного командования номер 45, получившей кодовое название «Эдельвейс». Узнав об этом на допросе пленного немецкого офицера, Малиновский усмехнулся.
— Оказывается, ваш фюрер не только кровожадный агрессор, он ещё и великий фантазёр, чуть ли не романтик! — воскликнул он. — Надо же такое придумать: эдельвейс! Бедный альпийский цветок! Чем же это растение так провинилось, что его именем обозвали хищный план овладения Кавказом?
Пленный молчал, поражённый тем, что советский генерал, отступающий под напором великой немецкой армии, ещё способен шутить, больше того, издеваться над непобедимым фюрером!
Конечно же, Малиновский понимал всю серьёзность положения. Ставке Верховного Главнокомандования было известно, что на первом этапе операции «Эдельвейс» предусматривалось захватить Кавказ, а на втором — Закавказье, обойдя Главный Кавказский хребет с запада и востока и одновременно преодолев его с севера через перевалы. При этом ставились задачи: на западе захватить Новороссийск и Туапсе, на востоке — Грозный и Баку. После чего, преодолев хребет, выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. Враг рассчитывал парализовать базы Черноморского флота, обеспечить себе полное господство на Черном море и установить непосредственную связь с Турцией, которая уже развернула на границе с СССР двадцать шесть своих дивизий. Отсюда бросок на Ближний и Средний Восток.
Немецкое командование со всей тщательностью подготовилось к этой крупномасштабной операции. Была сформирована группа армий «А» во главе с генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Листом, одним из военных зубров вермахта. Он прошёл Первую мировую войну, командовал дивизией, корпусом, а во время нападения Германии на Польшу в 1939 году — армией. Затем участвовал в агрессии против Югославии и Греции, позже ему доверили возглавлять оккупационные войска на Балканах, где он с изощрённой жестокостью расправлялся с партизанами. В группу «А» были включены 1-я и 4-я танковые армии, 17-я и 3-я румынские армии и часть сил 4-го воздушного флота. В итоге группа насчитывала 167 тысяч солдат и офицеров, более тысячи танков, четыре с половиной тысячи орудий и миномётов и до тысячи самолётов. Войска же Южного фронта уступали противнику в людях в полтора раза, в орудиях и миномётах — в два раза, в танках — более чем в девять и в авиации почти в восемь раз. В самом деле, 121 танк Южного фронта против тысячи с лишним танков в группе «А»! 130 самолётов Южного фронта против тысячи самолётов! Две тысячи орудий и миномётов Южного фронта против почти пяти тысяч стволов.
И всё же приказ Ставки был категоричен: остановить гитлеровские войска, измотать их в оборонительных боях и подготовить все условия для перехода в решительное наступление! Но как, если Сталин, уверенный в том, что и в сорок втором году немцы будут вновь стремиться овладеть Москвой, приказал сосредоточить главные силы армии на Центральном направлении? Ставка и Верховный Главнокомандующий опомнились лишь тогда, когда увидели, что Гитлер, направив главные силы не на Москву, а на юг, достиг Сталинграда и даже водрузил флаг со свастикой аж на самом Эльбрусе!
судьбу Родион Яковлевич Малиновский верил. Он считал, что именно судьба ведёт его по дороге жизни и определяет все её изгибы и повороты, внезапные перемены и необъяснимые совпадения.
В самом деле, чем объяснить, что, родившись в Одессе, он накануне войны был отозван с преподавательской работы в военной академии и назначен командиром стрелкового корпуса не куда-нибудь ещё, а в Одесский военный округ? Чем объяснить, что во время Великой Отечественной войны — призван освобождать именно Одессу от фашистских захватчиков? Чем объяснять, что, вынужденный под напором гитлеровских полчищ оставить ворота Кавказа — Ростов и вскоре прочитать пылающие гневом строки сталинского приказа номер 227, гласящие о том, что войска Южного фронта покрыли свои знамёна позором, именно Малиновский, а не кто-нибудь другой, позднее вновь овладел этим, словно заколдованным, городом? Чем объяснить, что, встретив войну на реке Прут в должности командира 48-го стрелкового корпуса, он, уже будучи командующим 2-м Украинским фронтом, форсировал именно эту реку, чтобы повести свои войска в Румынию, Венгрию, Австрию? И наконец, чем объяснить, что Малиновскому, никогда всерьёз не помышлявшему о военной карьере, выпало, пройдя сквозь бури и грозы трёх войн, на всю жизнь остаться военным?
На эти вопросы не смогли бы дать ответа ни самые изощрённые логические построения, ни самые дотошные исследования, ни самые смелые предположения. Случайные совпадения? Случайность, конечно, великая сила, порой ломающая планы и мечты. Она же и непредсказуемая фантазёрка, и шальная колдунья. Но разве все эти знаковые совпадения можно объяснить лишь одной случайностью? Один раз — случайность, второй раз, пожалуй, тоже, но случайность в третий раз, причём случайность одного и того же порядка, — это уже фатум, по определению философов-стоиков — сила, управляющая миром, которая неисповедимыми путями ведёт по жизни каждого, кто родился на этой загадочной планете Земля...
...Но все эти случайности проявятся потом, в будущем, а сейчас комкор Малиновский стоял на высоком берегу Прута и пристально смотрел в бинокль на противоположную сторону реки, за которой простиралась Румыния.
Было самое начало июня, расцвет разгорающегося лета. В редких берёзовых рощах с полуночи до рассвета неистово звенели соловьиные трели, не дававшие покоя молодому комкору. И казалось, в мире, где звучит это волшебное щёлканье, окутывавшее душу счастьем, не может, не должно быть войны. Как могут люди допустить её, нет, даже просто подумать о ней, променяв эти пленительные трели на грохот орудий, на вопли и стоны жертв войны? Она не может породить ничего, кроме жестокости, зла, страданий, ненависти и неутолимого людского горя. Однако война шла — здесь, рядом...
Да, жизнь была бы прекрасна, если бы в голове набатным колоколом не билась мысль о том, что ещё мгновение — и соловьи умолкнут, и всё вокруг неузнаваемо преобразится.
Там, где сейчас буйным разноцветьем радуют глаз полевые травы, оставят свои тяжёлые следы гусеницы танков; в высоком, безмятежном небе пронесутся, вздыбливая небо, армады истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. А там, где колосья пшеницы колышутся на ласковом ветру и где едва ли не до самого горизонта простираются яблоневые сады и виноградники, — там останется лишь пугающая мёртвой чернотой выжженная снарядами земля. Мир начнёт превращаться в руины, в пепел, огромные пространства усеют трупы тех самых людей, которые минутой раньше строили планы на будущее, смеялись, затаив дыханье, вслушивались в трели соловьёв. Изменится всё, в том числе сама цена человеческой жизни...
Эти мысли сейчас, когда надо было думать о том, как подготовить к боевым действиям свой корпус, казались совершенно неуместны. Но Малиновский при всём желании не мог отогнать их от себя. Они давали чувство причастности к жизни, которую он любил несмотря на то, что она уже успела преподать ему немало горьких и жестоких уроков.
Да и как было не любить жизнь, если он прожил на этой земле всего лишь сорок три года — самый расцвет, самая зрелость человека.
Родион Яковлевич никогда не мечтал стать военным, а тем более полководцем. Расхожее утверждение, что солдатами не рождаются, вызывало у него сомнение. Он считал, что если уж суждено человеку стать воином, то он должен родиться им: свойства характера, присущие только военному человеку, должны быть заложены в нём едва ли не в утробе матери. Таких свойств характера он в себе не находил и потому готовился прожить жизнь человеком, занятым другим, не ратным трудом.
Однако эпоха, в которую ему выпало жить, внесла свои коррективы. Эпоха определила необходимость вооружённой борьбы, не суть важно ради чего она ведётся — или ради того, чтобы идеологию одних народов навязать другим, или для того, чтобы одни народы захватили себе чужие богатства, или просто потому, что сильный должен побороть слабого. Эта эпоха — а впрочем, были ли в истории человечества другие эпохи? — и повелела Малиновскому встать в строй воинов. Земля, на которой он родился, молила о защите, народ, к которому он принадлежал, хотел верить в него, как в своего спасителя. И он не мог пойти наперекор своей судьбе.
...Сейчас, на берегу Прута, в отличие от многих, тешивших себя надеждой, что военную угрозу ещё можно отвести, Родион Яковлевич не гадал, будет война или нет. Он знал точно: будет. В эти дни на стол комкора одна за другой ложились полные тревог сводки. Он перечитывал их перед тем, как отправить в вышестоящий штаб. Сводки сомнений не оставляли.
Естественно, самые первые данные поступали от пограничников. Река Прут, левый приток Дуная, одновременно представляла собой линию Государственной границы СССР с королевской Румынией. Где ближе, а где несколько отступая от границы, дислоцировались пограничные отряды Молдавского пограничного округа: в Липканах, Бельцах, Калараше, Кагуле и, уже на Дунае, — в Измаиле.
У Малиновского с пограничниками сложились самые тесные связи, деловые и дружеские, позволявшие организовать эффективное взаимодействие погранотряда с частями его стрелкового корпуса. Это было крайне необходимо: каким, в сущности, вооружением располагала застава? Винтовки образца 1891/30 года, пара пулемётов, гранаты. И чего всё это стоит, если на заставу пойдут танки, если по ней ударят пушки и на неё обрушатся авиабомбы? Без незамедлительной поддержки частей Красной Армии станет невмоготу.
Но как оказать эту помощь, если оборону по Пруту на участке корпуса держит пока лишь одна дивизия, а остальные ещё движутся к месту назначения в железнодорожных эшелонах?
Родион Яковлевич был хорошо знаком с начальником войск Молдавского пограничного округа генерал-майором Никольским, который постоянно держал его в курсе всех событий на границе. В канун войны они снова встретились, чтобы обговорить предстоящие совместные действия.
— В приграничных районах Румынии, — рассказывал Никольский, — сосредоточены румынские и немецкие войска. Перед ними поставлена задача захватить выгодные позиции на советской территории с самого начала боевых действий. Только на участке Бельцского погранотряда сосредоточено более 250 тысяч немецких и румынских войск с танками и артиллерией.
— Совершенно верно, — подтвердил Малиновский. — По нашим данным, основной ударный кулак неприятель собрал на Кишинёвском направлении. Немцы готовят десанты, по всему видно, что они вот-вот предпримут попытки форсировать Прут.
— Не понимаю лишь одного, — вздохнул Никольский, — почему до сих пор нет чётких директив? Немецкие самолёты каждый божий день нарушают границу, летают в нашем воздушном пространстве, как у себя дома, а нам запрещают открывать по ним огонь. Разведка доносит, что румыны отселяют жителей из приграничных сёл, роют траншеи, готовят понтоны и лодки. Немцы постоянно обстреливают наши погранотряды, ведут себя вызывающе и нагло. С каждым днём растёт число задержанных нарушителей границы. Среди них уже выявлены разведчики абвера и диверсанты. Да вы и сами знаете, Родион Яковлевич, что военные приготовления просматриваются, можно сказать, невооружённым глазом.
— Думаю, что не следует нам ждать указаний свыше, — убеждённо произнёс Малиновский. — Надо готовиться к тому, чтобы отразить вражеское нашествие, хотя это и будет стоить огромных жертв. Конечно, много времени уже упущено, но надо сделать всё, что в наших возможностях. Я отдал приказ занять все блокгаузы и доты, оборудовать дополнительные траншеи. Особое внимание — мостам через Прут. На самых важных стратегических направлениях мы их взорвём.
— А что скажет на это Москва? — засомневался Никольский.
— Как говорится, до Бога высоко, а до Москвы далеко. Граница у нас вон какая: от Белого до Чёрного! Разве Москва за всем уследит, всё предусмотрит? Давайте действовать соответственно обстановке. Больше инициативы, решительности. Иначе будем биты, и нещадно.
Никольский не без удивления посмотрел на Малиновского: ещё не приходилось ему слышать от командиров такого ранга заявления, которые никак не укладывались в рамки официальной пропаганды. Ведь та утверждала, что мы будем бить врага малой кровью и на его территории.
— А что, если нам чайку попить, — предложил он. — Пограничного чайку?
— С удовольствием!
Спустя несколько минут повар-солдат в белом халате поверх военной гимнастёрки и в таком же белом колпаке принёс на подносе две больших металлических кружки с чаем и бутерброды с ветчиной.
Родион Яковлевич отхлебнул из кружки:
— Ого! Кипяток!
Никольский рассмеялся:
— Такой у нас пьют на заставах. Чтоб покрепче да погорячее. Для ночных нарядов повар держит чай в кружках на горячей плите. Традиция!
— Из-за этой традиции я себе язык обжёг, — улыбнулся Малиновский, — и как я буду теперь корпусом командовать с ошпаренным языком?
— А мы ваши команды продублируем, — пошутил Никольский.
Подкрепляясь чайком, продолжили разговор.
— Гитлер и Антонеску крепко спелись между собой, — сказал Малиновский. — Конечно, немцы постараются использовать Румынию на всю катушку. Это же отличный плацдарм для нападения на СССР, тем более что румынская армия сейчас подчинена Гитлеру. Фактически. Румыны без устали вопят, что вынуждены пойти на столь тесное сближение с Германией из-за советской военной угрозы. Антонеску заверяет Гитлера в вечной дружбе, клянётся, что будет вместе с ним до конца. Он предоставил в распоряжение Германии двенадцать дивизий, а фюрер пообещал после разгрома СССР отдать Румынии земли от Прута до самого Днепра. Каковы аппетиты?
— Как бы он не подавился! — возмутился Никольский. — Немцам сейчас позарез нужна румынская нефть.
— Верно. Я тут как-то прочитал, что дрезденский банк уже прибрал к рукам финансовый контроль над румынской нефтяной промышленностью. Капиталы крупнейших концернов «ИГ Фарбениндустри», «Крупп АГ» и других активно внедряют в Румынии. Волк волка видит издалека! Так что схватка будет жестокой.
Они ещё долго говорили о накалённой международной обстановке, о положении на конкретных участках советско-румынской границы, детально рассматривали на карте вопросы взаимодействия во время боевых операций. Разошлись далеко за полночь.
...Всё, что они предчувствовали — исходя из реальных фактов и основываясь на своей военной интуиции, — сбылось. Грохот снарядов и авиабомб, раздавшийся на рассвете 22 июня, стал наглядным тому подтверждением.
Но разве мог Родион Яковлевич Малиновский даже предположить в тот день, что спустя три года, испытав и пронзительную горечь отступления, и ошеломляющую радость побед, он со своими войсками, уже в качестве командующего фронтом, снова вернётся сюда, на реку Прут!
Правда, до этого часа было ещё далеко — предстояли суровые, жестокие испытания. Корпус, постоянно огрызаясь и контратакуя противника, вынужденно отступал. Не раз он попадал в окружение противника и каждый раз вырывался из него, обескровленный, но не сдающийся. Вырывался во многом благодаря тому, что комкор Малиновский вовремя разгадывал замыслы немцев. Корпус умело маневрировал, уходя от окружения.
Однако силы были явно неравны, и корпус вместе с другими соединениями и частями отходил и отходил на восток. То было страшное, трагическое время: Совинформбюро почти каждый день сообщало об оставленных Красной Армией городах. В августе 41-го пушки гремели уже перед Днепропетровском, где генерал Малиновский, став командующим 6-й армией, двадцать два дня держал оборону на левом берегу Днепра. Немцам пришлось форсировать эту реку на другом участке фронта.
Но армия Малиновского не только оборонялась. Вместе с 12-й армией Юго-Западного фронта Малиновский осуществил смелую наступательную операцию южнее Лисичанска. Начав атаковать противника с берегов Северского Донца, отбросил его до реки Бахмач. Барвенковско-Лозовская операция, Харьковское сражение, Донбасская операция — через все эти кровопролитные сражения прошли воины Малиновского.
А вслед за этим на огромной территории развернулась жестокая битва за Кавказ. Полгода кровопролитных боев!..
В летнюю кампанию 1942 года гитлеровцы приступили к выполнению директивы своего верховного командования номер 45, получившей кодовое название «Эдельвейс». Узнав об этом на допросе пленного немецкого офицера, Малиновский усмехнулся.
— Оказывается, ваш фюрер не только кровожадный агрессор, он ещё и великий фантазёр, чуть ли не романтик! — воскликнул он. — Надо же такое придумать: эдельвейс! Бедный альпийский цветок! Чем же это растение так провинилось, что его именем обозвали хищный план овладения Кавказом?
Пленный молчал, поражённый тем, что советский генерал, отступающий под напором великой немецкой армии, ещё способен шутить, больше того, издеваться над непобедимым фюрером!
Конечно же, Малиновский понимал всю серьёзность положения. Ставке Верховного Главнокомандования было известно, что на первом этапе операции «Эдельвейс» предусматривалось захватить Кавказ, а на втором — Закавказье, обойдя Главный Кавказский хребет с запада и востока и одновременно преодолев его с севера через перевалы. При этом ставились задачи: на западе захватить Новороссийск и Туапсе, на востоке — Грозный и Баку. После чего, преодолев хребет, выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. Враг рассчитывал парализовать базы Черноморского флота, обеспечить себе полное господство на Черном море и установить непосредственную связь с Турцией, которая уже развернула на границе с СССР двадцать шесть своих дивизий. Отсюда бросок на Ближний и Средний Восток.
Немецкое командование со всей тщательностью подготовилось к этой крупномасштабной операции. Была сформирована группа армий «А» во главе с генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Листом, одним из военных зубров вермахта. Он прошёл Первую мировую войну, командовал дивизией, корпусом, а во время нападения Германии на Польшу в 1939 году — армией. Затем участвовал в агрессии против Югославии и Греции, позже ему доверили возглавлять оккупационные войска на Балканах, где он с изощрённой жестокостью расправлялся с партизанами. В группу «А» были включены 1-я и 4-я танковые армии, 17-я и 3-я румынские армии и часть сил 4-го воздушного флота. В итоге группа насчитывала 167 тысяч солдат и офицеров, более тысячи танков, четыре с половиной тысячи орудий и миномётов и до тысячи самолётов. Войска же Южного фронта уступали противнику в людях в полтора раза, в орудиях и миномётах — в два раза, в танках — более чем в девять и в авиации почти в восемь раз. В самом деле, 121 танк Южного фронта против тысячи с лишним танков в группе «А»! 130 самолётов Южного фронта против тысячи самолётов! Две тысячи орудий и миномётов Южного фронта против почти пяти тысяч стволов.
И всё же приказ Ставки был категоричен: остановить гитлеровские войска, измотать их в оборонительных боях и подготовить все условия для перехода в решительное наступление! Но как, если Сталин, уверенный в том, что и в сорок втором году немцы будут вновь стремиться овладеть Москвой, приказал сосредоточить главные силы армии на Центральном направлении? Ставка и Верховный Главнокомандующий опомнились лишь тогда, когда увидели, что Гитлер, направив главные силы не на Москву, а на юг, достиг Сталинграда и даже водрузил флаг со свастикой аж на самом Эльбрусе!
2
28 июля 1942 года народный комиссар обороны Союза ССР Иосиф Виссарионович Сталин подписал приказ номер 227 с грифом «Без публикации». В первом абзаце приказа говорилось: «Враг бросает на фронт всё новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперёд, рвётся вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и сёла, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникёрами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьёзного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамёна позором». Родион Малиновский, читавший только что полученный приказ, дойдя до этих страшных для него слов: «...покрыв свои знамёна позором», почувствовал, как кровь взрывной волной ударила в виски, бешено заколотилось сердце. До этого мгновения он никогда ещё в своей прежней жизни, полной тревог и волнений, не испытывал того, что испытывал сейчас. Слова «...покрыв свои знамёна позором» звучали как приговор, как несмываемое клеймо, перечёркивая все прошлые заслуги и удачи. Это было подобно тому, как ослепительная молния пронзает высокое дерево в лесу, испепеляя его так, что оно уже не может воскреснуть... Он взял себя в руки и продолжил читать. Приказ был объёмистый, и Малиновский читал его долго, вникая в каждое слово, впитывая в себя все оттенки и детали этого грозного документа, стараясь понять и то, что подспудно таилось между строк. Сталин со своей неумолимо железной логикой развивал мысль о том, что население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в неё, а многие и проклинают её за то, что она отдаёт советский народ под ярмо немецких угнетателей, а сама отступает на восток. Будучи человеком совестливым, Малиновский тут же переносил прочитанное на самого себя. Когда говорилось, что народ начинает разочаровываться в Красной Армии, он воспринимал это однозначно: народ начинает разочаровываться в нём как в командующем фронтом, теряет веру в него, Малиновского. И именно он, Малиновский, совершает преступление перед народом, за что народ и проклинает именно его. Иначе быть просто не могло. Далее Сталин отмечал, что некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как территории много, земли много, населения много, и хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать своё позорное поведение на фронтах. Сталин заклеймил такие разговоры, назвав их фальшивыми и лживыми, выгодными лишь врагам. Но эту сталинскую мысль Малиновский не мог и не хотел переносить на себя потому, что никогда не оправдывал отступление, хотя оно и было вынужденным. Никогда и в голову ему не приходило, что любое отступление можно оправдать тем, что территория страны огромна по своим масштабам. Он твёрдо считал, что отдавать врагу даже пядь родной земли недопустимо и преступно. Сейчас, читая приказ, он подумал о том, что эти утверждения Сталина содержат в себе элемент некого лукавства. Малиновский был уверен, что, за редким исключением, никто в войсках ни его фронта, ни на других фронтах не мыслит столь наивно и беспечно и в конечном итоге преступно. Вероятнее всего, Сталин, высказывая такие мысли, как бы заранее предостерегал от подобных настроений. Малиновский полностью был согласен с дальнейшими утверждениями Сталина о том, что территория Советского Союза — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, т.е. отцы, матери, жёны, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики и заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей стало намного меньше территории, стало быть, намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. СССР потерял более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас уже теперь нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Всё, что высказывал в этих строчках приказа Сталин, показалось Малиновскому схожим со школьным учебником для младших классов, но он не осуждал Верховного: чем доходчивей и понятней он разъяснял свой тезис, тем доходчивей и понятней всё будет не только генералу, но и рядовому бойцу. Понятней, а главное, убедительней и потому полезней. Сталин снова и снова возвращался к своей главной мысли: надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага. «Из этого следует, — говорилось в приказе, — что пора кончать отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности». Сталин утверждал, что немцы не так сильны, как это кажется паникёрам. Можно выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад. Для этого есть всё, фронт получает больше и больше самолётов, танков, артиллерии, миномётов. Чего же не хватает? В приказе об этом говорилось чётко, ясно и определённо: не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. Поэтому нужно установить в армии строжайший порядок и железную дисциплину. «Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции, — это требование содержалось в приказе. — Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникёров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникёры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования. Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо как с предателями Родины. Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага». Далее в приказе Сталин скрупулёзно обрисовал картину, сложившуюся у немцев. Он утверждал, что после зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для её восстановления приняли суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более ста штрафных рот из бойцов, виновных в нарушении дисциплины, поставили их на опасные участки фронта и приказали кровью искупать свои «грехи». Они сформировали также около десятка штрафных батальонов из провинившихся командиров, лишили их орденов, поставили на ещё более опасные участки фронта и приказали искупать свои «грехи». Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте всех в случае оставления позиций или попытки сдаться в плен. Сталин утверждал далее, что эти меры возымели своё действие и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, подводил итоги немецкого опыта Сталин, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет «возвышенной цели защиты своей Родины», а есть лишь одна «грабительская цель» — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие «возвышенную цель защиты своей Родины», не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение. «Логика железная, — подумал Родион Яковлевич. — Конечно, у врагов тоже нужно учиться. Но только ли созданием штрафных рот, и батальонов, и специальных отрядов заграждения? Как же быть с утверждениями, которые мы неустанно пропагандировали и в мирное время и в ходе войны, что советская воинская дисциплина держится на высоком сознании и патриотическом духе воина? Об этом в приказе ни единого слова». Описав главные элементы немецкого опыта по укреплению дисциплины, Сталин делал вывод: «Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу. Я думаю, что следует». «Наверное, наши предки учились у врагов не только тому, как надо нагонять страх и этим укреплять дисциплину и обеспечивать стойкость в бою», — мысленно прокомментировал этот тезис Малиновский. Ему пришла мысль о том, что, ссылаясь на немецкий опыт, Сталин преследует ещё одну цель: он не хочет стать «автором» этих «изобретений», подчёркивая, что всё это изобрели маниакально любящие дисциплину немцы. «И всё же Сталин прав, — отметил про себя Родион Яковлевич, — в условиях, когда фронт разболтан, когда войска в панике покидают позиции, крайние, даже самые жестокие меры и необходимы, и неизбежны. Другое дело, нужен будет строжайший контроль за исполнением такого приказа, иначе кое-кто из начальников в своём рвении может довести его до полного абсурда». С особым вниманием Малиновский прочёл приказную часть грозного документа: «1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами: а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда. б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования фронта. в) сформировать в пределах фронта от одного до трёх (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на наиболее трудные участки фронта, чтобы, дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины. 2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду. б) сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооружённых заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнять свой долг перед Родиной. в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. 3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для предания военному суду. б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах. Народный комиссар обороны И. Сталин».
Малиновскому всё было ясно. Сталин считает, что отступление Южного фронта, как и других фронтов, — результат вредных настроений, суть которых в том, что страна необъятная и нет ничего трагического в нашем отступлении. Кроме того, это результат разлагающего действия трусов и паникёров, которые увлекают в отступление хороших бойцов и открывают врагу фронт. Он прав? Да, но лишь отчасти. Если бы только это! Разве только в этом причина наших неудач, нашего позорного отступления? Если бы причина крылась только в трусах и паникёрах, то с ними можно было бы легко справиться. Тем более, что трусови паникёров, что ни говори, меньшинство, а смелых, стойких и отважных бойцов, честно выполняющих свой долг по защите Отчизны, — большинство. Значит, причина отступления не только в том, о чём говорит в приказе Верховный? Почему он не сказал о том, что Ставка, а значит, и Верховный Главнокомандующий просчитались в определении стратегических направлений наступления немецких войск? Малиновскому было хорошо известно, что основные силы сосредотачивались на Центральном направлении, так как предполагалось, что гитлеровские войска будут иметь своей главной целью возобновление наступления на Москву. Хотя данные разведки убедительно свидетельствовали о том, что противник готовит главные удары на юге, эти данные не были приняты во внимание, а поэтому юго-западному направлению выделялось намного меньше сил и средств, чем западному. Главные резервы были сосредоточены в основном в районах Тулы, Воронежа, Сталинграда и Саратова. Разведка также доносила, что в результате летнего наступления немцы планируют не только добиться военно-стратегических побед, но, главное, парализовать экономику Советского государства. Поэтому главными направлениями наступательных ударов для них станут Кавказ и Сталинград. В случае успеха наступления немцы рассчитывают, что кавказская нефть, донецкий уголь, индустрия Сталинграда будут у них в кармане. Так почему же все эти данные разведки были игнорированы Ставкой, а следовательно, и Сталиным, и почему, наконец, об этом ни слова не говорится в приказе? А ведь это тоже одна из причин поражений Южного фронта! Но и это ещё не всё. В приказе Сталина нет ни слова о том, что противостоящий Южному фронту противник значительно, многократно сильнее, что он обладает огромными преимуществами в технике и вооружении. Малиновскому было хорошо известно, что по количеству людей и боевой техники наши войска на участке фронта уступали гитлеровцам примерно в полтора раза! Но и об этом — ничего в приказе № 227. Конечно, из истории военного искусства известны случаи — и нередкие, — когда армия побеждает не числом, а умением. Но не при таком перевесе! Нельзя сбрасывать с весов и обстоятельства. Тут играют свою роль множество факторов, вплоть до времени года и ландшафта местности. На южном направлении в это время стояло жаркое лето, а местность представляла собой сплошную степь, по которой танки катились, как по скатерти. На небе — ни единого облачка: раздолье для немецких самолётов. Вот и результат: под мощными ударами вражеских танков, артиллерии и авиации войска Южного и Юго-Западного фронтов покатились назад, на восток. В начале июля 6-я полевая и 4-я танковая армии противника начали наступление из района южнее Воронежа вдоль правого берега реки Дон, а 1-я танковая армия — из района Артёмовска в направлении на Кантемировку. Немцы рвались к большой излучине Дона и уже к середине июля захватили Валуйки, Россошь, Богучар, Кантемировку и Миллерово. Они нацелились теперь на два направления: восточное — на Сталинград и южное — на Кавказ. Размышляя обо всём этом, Малиновский вовсе не собирался себя оправдывать. Ещё в юности он решил, что всегда будет следовать суровому, но мудрому правилу: «Вини во всём себя». В самом деле, даже в этих условиях, когда тебя превосходит противник, ты должен был найти выход, не допускающий такого панического отступления. И коль ты такое отступление допустил, не проявил всей своей воли, не внушил решимости своим подчинённым, не проявил военной хитрости и, отступая, успокаивал себя тем, что таким образом сохранишь армию, которая постепенно опомнится, придёт в себя и, подкреплённая свежими резервами, пойдёт вперёд, круша противника, то грош тебе цена как командиру. А если уж говорить о погоде и о ландшафте, то они одинаковы и для немцев, и для тебя. Что мешает тебе лучше немцев двигать вперёд свои танки по той же степной равнине? Что мешает твоим самолётам столь же вольготно резвиться в чистом летнем небе, как резвятся «ястребы» с чёрными крестами на крыльях? Да, но насколько меньше их у тебя — танков и самолётов. Как бы то ни было, ещё не всё упущено и не всё потеряно. Теперь главное — выполнить приказ Сталина. А прежде чем его выполнять, надо, чтобы этот приказ стал известен всему фронту — от бойца в окопе до генерала на командном пункте. Тоже задачка не из простых! Но тут уж должны постараться командиры и политработники всех степеней, да так постараться, чтобы этот приказ стал законом жизни всего фронта... Малиновский срочно собрал Военный совет. Подходя к блиндажу, где его уже ждали члены совета, он вдруг, будто споткнувшись, остановился и замер. Сопровождавшие офицеры безмолвно переглянулись между собой. Может, командующий приметил какой-то непорядок? Или ему вдруг стало плохо? Они не догадались, что Малиновский, словно заворожённый, не сводил глаз с самого обыкновенного репейника, пышно разросшегося у входа в блиндаж. Он всматривался в него как в предмет, вызывающий в памяти нечто значительное и прекрасное. Так и было: в голове у Родиона Яковлевича словно «вспыхивали» строки из толстовского «Хаджи-Мурата»: «Я набрал большой букет разных цветов и шёл домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своём месте, я бросил его. Какая, однако, энергия и сила жизни, подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь». Эти строки промелькнули в памяти у Родиона Яковлевича, и он едва сдержался, чтобы не произнести следующую фразу Толстого: «...Экая энергия! — подумал я. — Всё победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот всё не сдаётся». Да, вот такой же репейник возродил в памяти великого провидца историю человека, чья сила духа и неистребимая воля к жизни поразила его. Израненный, изувеченный, обескровленный, он продолжал бороться, восхищая этим даже своих врагов. «Вот так же и мы... — думал Малиновский. — Вот так же надо и нам... Иначе не победить. Иначе — вечный позор...» Ему вдруг захотелось именно с этого воспоминания и начать заседание Военного совета, но он тут же отогнал от себя заманчивую мысль. Сейчас более подойдут простые, скупые, суровые слова, сейчас не до художественных символов. Малиновский, ощутив в себе небывалую прежде решимость, вошёл в блиндаж. Там, после яркого солнца, трудно было различить сидевших за длинным столом, сколоченным из неструганых досок, генералов и офицеров. Но постепенно глаза свыкались с полумраком и лица собравшихся приобретали всё более рельефные очертания. Командующий фронтом пристально вглядывался в них: сейчас ему предстояло обнародовать горькую, беспощадную правду сталинского приказа. Он начал читать приказ без всякого вступления, громко, отчётливо, не прибегая к патетике, будто он сам только что написал его. Слова падали в глухую тишину блиндажа. Это заседание Военного совета было самым коротким из всех, когда-либо проводившихся. Не было и прений, только распределение обязанностей — кому, что и как надлежит незамедлительно сделать, когда доложить об исполнении. Все присутствующие внимательно, озабоченно вслушивались в то, что говорил их командующий, и только член Военного совета Ларин, старый друг, насторожил Малиновского своей мрачной подавленностью. Он выглядел как человек, которого Сталин назвал по имени в числе тех, кто своими настроениями оказывает прямую помощь врагу и, таким образом, совершает преступление перед Родиной. Назвал в числе тех, кто не пресекает предательские действия трусов и паникёров, а как бы поощряет их намерения. Чтобы отвлечь Ларина от невесёлых мыслей, Малиновский предоставил ему слово первому. Тот нехотя, с трудом встал, тяжело опираясь ладонями о дощатый стол, и некоторое время не мог произнести ни слова. Все с удивлением смотрели на него: Ларина знали как человека не трусливого, всегда излучавшего оптимизм, умевшего вселить в бойцов и командиров веру в победу. — Такого приказа ещё не было, — наконец заговорил он, едва шевеля обветренными, потрескавшимися губами и широкой ладонью смахивая с почерневшего от загара лба пот. — Да, мы своим благодушием и беспечностью заслужили такую оценку товарища Сталина! — Эту фразу Ларин произнёс уже громче, с надрывом, почти истерично. — И прежде всего я как член Военного совета! Моя вина в том, что у нас есть трусы и паникёры! Моя вина в том, что наш фронт отступает... нет, не отступает, а бежит, бежит в панике! Моя вина в том, что войска нашего фронта покрыли свои знамёна позором! И за это меня следует немедленно отправить в Ставку, чтобы я держал ответ перед товарищем Сталиным! — Подождите, товарищ Ларин, — Малиновский впервые назвал старого друга не по имени-отчеству, как это было принято, а по фамилии. — Зачем же вы так? Виноваты не только вы, виноват в первую очередь я как командующий фронтом, мы все виноваты, и главное сейчас не каяться, а быстрее выправлять положение. Ведь собрались мы здесь не для того, чтобы на своей груди тельняшки рвать, а чтобы выработать чёткий и эффективный план действий, который бы привёл к неукоснительному выполнению приказа Верховного Главнокомандующего. Первое, что необходимо сделать немедленно, — это довести приказ до каждого бойца и командира... — А как его довести? — Казалось, Ларин пропустил мимо ушей всё, что говорил командующий, и услышал только его последние слова. — Вчера я был на переправе, на Дону, — заговорил он торопливо, будто опасаясь, что командующий прервёт его. — Переправу беспрерывно бомбят немцы. А наши строят мост. Бросать работу даже во время бомбёжек категорически запрещено. Темпы строительства — сумасшедшие, словами не передать. К вечеру мост был готов, войска рванули по нему. Опять же, куда? На восток! — выкрикнул Ларин. — И это в то время, когда мы получили приказ товарища Сталина! А ночью из штаба армии шифровка: к пяти ноль-ноль взорвать этот самый мост к чёртовой матери, чтобы не дать немцам пройти на восточный берег Дона! Вот какая комедия получается! — В данной ситуации — не комедия, а трагедия, — ввернул реплику начальник войск связи фронта Леонов. — И что вы предлагаете? Оставлять мост немцу? Чтобы он у нас на хвосте сидел? Ларин словно не услышал вопроса. — Взорвать? Для этого нужно заминировать каждую опору. Или хотя бы через одну. Сколько для этого нужно тола? — А противотанковые мины на что? — спросил кто-то из присутствовавших. — Мины надобно крепить, — бесстрастно отреагировал Ларин. — А гладкой проволоки нет. Надо крепить колючей. Кто из вас возьмётся колючкой крепить? А ещё нужен электропровод, детонирующий шнур. — Товарищ Ларин, мы отвлекаемся от главного вопроса, — остановил его Малиновский. — Сейчас это просто непозволительно. Мы же собрались не детали друг другу рассказывать. Всё это известно. — Я понимаю, — всё с той же виноватой интонацией откликнулся Ларин. — Я к чему всё это? Скажите, как, например, до инженерно-строительной команды приказ довести? — Вы, товарищ Ларин, опытный политработник и, надеюсь, сами способны ответить на свой вопрос, — уже строже сказал Малиновский, взглянув на часы. — В нашем распоряжении не более пятнадцати минут. А то мы рискуем оказаться в роли предателей, стремящихся попасть в плен к противнику. Севший было на своё место Ларин снова вскочил: — Вчера ехал через станицу — женщины, старики, даже дети смотрят на меня как на предателя и труса. По глазам вижу — проклинают. В ушах до сих пор их голоса: «Куда же вы утекаете, на кого нас покидаете? Яки ж вы вояки!» Как такое можно терпеть?! И мы, выходит, опять бежим? А как же приказ товарища Сталина? Товарищ Сталин ясно сказал: «Ни шагу назад!» И я как член Военного совета этот приказ выполню! — Да будь вы хоть храбрец из храбрецов, не удержите сейчас немцев, — твёрдо и даже сурово произнёс Малиновский. Ему было искренне жаль вконец растерявшегося Ларина, но довести себя до такого состояния — это слишком! Родион Яковлевич немного помолчал. — А теперь — по существу вопроса, — продолжил он. — Надо немедленно приступить к формированию штрафных рот, батальонов и отрядов заграждения. Дело это непростое, тем более в нашей ситуации. Надо учитывать, какие «кадры» туда войдут. Во главе рот и батальонов следует поставить опытных, надёжных командиров и политработников. Приказ № 227 не определяет статуса штрафных подразделений, придётся вырабатывать самим. Командиры и политработники должны прежде всего помнить, что штрафник — это тоже человек. Нельзя допустить, чтобы безнаказанно унижалось их человеческое достоинство, иначе какие будут из них бойцы? Кто-то решит, что жизнями штрафников можно пренебречь, будут бросать их на верную гибель, даже если это не вызвано интересами боя. Главное — проверить людей в бою, а не оценивать их по формальному признаку, навечно приклеивая ярлык штрафника. Бой покажет, кто есть кто. Среди них будут и герои, но будут и такие, кто как был трусом, так и останется. Тех, кто отличится в бою, надо поощрять вплоть до досрочного снятия судимости. Или, скажем, засчитывать им месяц участия в боях за полгода. Ну, и разумеется, досрочное присвоение званий, особый паёк, там, где это возможно. — Не преждевременно ли всё это? — спросил кто-то. — Ещё самих штрафных подразделений нет, а мы уже о поощрениях думаем. — В приказе изложены общие принципы, так сказать, стратегическая линия, — ответил Малиновский. — А мы должны определить тактику, чтобы приказ стал руководством к действию, и меры, которые позволят не наломать дров, как это порой бывает... В конце заседания Родион Яковлевич сказал: — Вот вы, товарищ Ларин, сказали, что такого приказа ещё не было. Да, такого действительно не было. Я думаю: этот приказ не только ради того, чтобы сказать нам горькую правду, и не только о нашем, Южном фронте. Приказ товарища Сталина поставил нас перед дилеммой — жизнь или смерть, свобода или рабство. Этот приказ призван разбудить великий дух нашего народа. Могут сказать: приказ жестокий. Но именно такой приказ и нужен сейчас. Мы все нуждаемся в психологическом переломе. Да-да, все без исключения, начиная с меня, командующего, и кончая рядовым бойцом. Проще говоря, встряска нужна, поворот мозгов на сто восемьдесят градусов! И ещё прошу запомнить одно правило: сделать из людей трусов проще простого, а вот сделать их храбрыми гораздо сложней. Но только это и принесёт нам победу. ...Когда Малиновский уже садился в машину, к нему подбежал запыхавшийся адъютант. — Шифровка из Ставки, товарищ командующий! — Он поспешно протянул бланк. Родион Яковлевич стремительно пробежал глазами короткий текст. Ставка приказывала ему и члену Военного совета немедленно прибыть в Москву. Зябкий холодок пробежал по спине Малиновского: Ставка так просто не вызывает. Он обернулся к адъютанту: — Сообщите Ларину. И передайте моё приказание командующему воздушными силами подготовить самолёт. Неожиданно налетел ветер, багровое солнце предвещало перемену погоды. Степь зашумела, словно призывая дождь. Машину трясло на ухабах, вдалеке гремели орудийные залпы. По пути Малиновскому то и дело встречались небольшие группы бойцов, которые понуро брели на восток. Родион Яковлевич всякий раз останавливал машину, интересовался, какую задачу получили, сколько бойцов осталось в роте или взводе, говорил короткие бодрящие слова. Ближе к полевому аэродрому показались упряжки артиллерии на конной тяге. Ездовые, ссутулившись в сёдлах, беспокойно поглядывали на небо: дождь развезёт дороги и тогда полуголодным лошадям будет невмоготу тащить пушки. Так что неизвестно, что лучше: жара или дождь! — Наблюдение за воздухом обеспечено? — спросил командующий у подбежавшего к нему командира батареи. — Так точно, товарищ генерал! Да мы давно фрицев раскусили: ихние стервятники к полудню пожалуют, а то и попозже. Никак не раньше. Пока отсыпаются. — Хорошо, — кивнул Малиновский. — Проследите, чтобы посты ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи. — Авт.) не дремали. — Слушаюсь, товарищ командующий! Тут задремлешь, так и на том свете глаз не откроешь. Им сверху каждая букашка видна. Степь — она и есть степь. Машина тронулась, вздымая пыль, и помчалась дальше, обгоняя колонны солдат и техники. — Вон как начальство драпает, — махнул рукой в сторону удалявшейся машины молоденький, высокий, как жердь солдат. — Никакой немец не догонит. — А ты не болтай, сосунок, — одёрнул его усатый солдат постарше, перекладывая винтовку на другое плечо и поправляя скатку. — Тебе хоть известно, кто там, в машине? Нет? Так чего ж ты свой поганый язык распускаешь? — А мне без разницы, кто там. Вижу, что драпает. В таких машинах наш брат рядовой не раскатывает. — Вертишь языком, как корова хвостом! — рассердился усатый. — А машина эта нашего командующего фронтом генерала Малиновского Родиона Яковлевича. Понял, пустобрёх? Он войск никогда не оставит. И не драпаем мы, а отступаем. Временно. — Усач затянулся самокруткой. — Я вот к тебе давно присматриваюсь, парень. В бою ты храбрый, молодцом, а в мозгах — каша. — Ну чего ты пристал ко мне, Малушкин? По тебе, так и слова не вымолвить? Я ж только предположение высказал. — Предположение! — передразнил его Малушкин. — Молод ты ещё всякие предположения высказывать! Ты слыхал, как нас солдаты с соседнего фронта нарекли? «Орлы Малиновского»! Вот так! — Орлы? — криво усмехнулся боец. — То-то ж мы от немца удираем с орлиной скоростью! — Пустобрёх ты и есть! — вконец разозлился Малушкин. — Отступаем не только мы. А придёт час — так вперёд рванём, что чертям тошно станет! — Хорошо бы! — вздохнул молодой...
3
Малиновский и Ларин летели в Москву с тяжёлым чувством. Они были уверены, что в Москве их ждёт расправа, такая же, какая настигла в сорок первом году командующего Западным фронтом генерала армии, Героя Советского Союза Дмитрия Григорьевича Павлова и высших командиров этого фронта после того, как под напором гитлеровских армий наши войска обратились в бегство. Павлов и его ближайшие сподвижники после допросов были расстреляны. Москва встретила Малиновского и Ларина проливным дождём и сильным ветром. После удушливой жары, которая измучила на Северном Кавказе, ненастная погода даже обрадовала: дышать здесь было куда как легче. Но чем ближе присланная «эмка» подъезжала к центру Москвы, тем мрачнее и безысходнее становилось настроение: кто знает, сколько времени отделяет их от последней черты, за которой может разверзнуться бездна? Родион Яковлевич был почти уверен: в лучшем случае разжалование, ну а в худшем... В пути почти всё время молчали, каждый думал о своём. И только когда машина остановилась у гостиницы «Москва», Ларин хмуро обронил: — Чего уж в гостиницу? Уж сразу бы на Лобное место... Малиновский огорчённо взглянул на него: совсем отчаялся человек, негоже для члена Военного совета! А вслух сказал: — Может, прорвёмся, Иван Степанович! Ведь сколько раз уже прорывались! Как там у поэта: «Ничто на свете не может нас вышибить из седла»? Так, кажется, или я переврал? Ларин оторопело посмотрел на командующего и мрачно отмахнулся: — Сейчас не до поэзии, Родион Яковлевич! В гостинице к ним подошёл офицер в форме НКВД. Увидев его форму, Ларин вовсе сник. Он немного успокоился лишь после того, как услышал от офицера: им заказаны номера, в которых следует находиться безотлучно, так как в любой момент может последовать вызов в Кремль. Разместившись в гостинице, Малиновский и Ларин стали ждать звонка из приёмной Сталина. И если длительное ожидание в обычных обстоятельствах, не предвещающих ничего чрезвычайного, переносится любым человеком тяжело, изматывая его нервы, то это ожидание превратилось в настоящую пытку. Прошёл первый день, наступил второй, а Кремль, будто намеренно издеваясь, не подавал никаких признаков жизни. Может, вождь и впрямь позабыл о них, уже вычеркнув из списка живущих на Земле? Или специально нагнетал атмосферу безнадёжности? В первые сутки ждать было легче: Малиновский обзвонил знакомых в наркомате обороны, Ларин перекинулся короткими фразами со знакомыми в отделах ЦК. Обстоятельных, а тем более дружеских разговоров не получилось: даже самые словоохотливые знакомые, которые прежде были рады пообщаться, теперь предпочитали говорить сухо, неопределённо и официально, ссылаясь на огромную занятость. — Всё ясно, — с горечью констатировал Ларин. — Нас уже списали. Вступил в силу известный закон: падающего толкни, упавшего лягни. — Если мы будем казнить самих себя, нам и Лобное место не потребуется, — Родион Яковлевич попытался вывести друга из подавленного состояния. — Не лучше ли подумать о том, что мы ответим Сталину, скажем, на такой вопрос: каким образом вывести фронт из нынешнего состояния? — Оптимист ты, Родион, великий оптимист! — Ларин был поражён выдержкой Малиновского. — Неужто даже сейчас голова способна так мыслить? — А для чего тогда эта самая голова дана человеку? — Не знаю. Мой мозг совершенно парализован. Впереди — тьма. То, что произошло с нами и с нашим фронтом, — катастрофа. Непоправимая и безысходная... — Безысходная? Непоправимая? — в голосе Родиона Яковлевича послышалось раздражение. — Катастрофа — да, согласен. Но это ещё не конец света. Ты не хуже меня знаешь, что безвыходных положений не бывает! — Наше положение как раз такое, — буркнул Ларин. Такого рода разговоры вспыхивали в номере время от времени, как вспыхивает пламя костра, когда в костёр этот подбрасывают хворост. Малиновский всё больше осознавал, что все его старания переубедить старого друга, заставить его воспрянуть духом оказываются тщетными. Прошли и вторые сутки бесплодного ожидания. Родион Яковлевич попытался читать обнаруженную в номере книгу, но всё, что он воспринимал глазами на её страницах, шло мимо сознания, не оставляя никаких следов. Ларин время от времени включал радио и ещё сильнее паниковал: спокойный голос Юрия Левитана сообщал о новых оставленных городах, о боях «местного значения» или о том, как некий колхозник выстрелом из охотничьего ружья уложил сразу двух немецких офицеров. Еду из гостиничного ресторана приносили в номер. В обед Ларин без всякого энтузиазма ковырнул вилкой котлету и отодвинул от себя тарелку. — Ешь, — требовательно посоветовал ему Родион Яковлевич. — Для того, чтобы выстоять в Кремле, нам потребуются силёнки. — Не лезет, — уныло произнёс Ларин. — В горле застревает. — Может, потому, что за всё время ни разу горло не промочили? — улыбнулся Малиновский. — И то правда, — ухватился за эту фразу Ларин. — Давай по рюмке. — Да грош нам цена, ежели по рюмке! Звони в ресторан. Запотевшая от холода бутылка водки через пять минут стояла в номере. — За что выпьем? — осторожно спросил Ларин. — Как за что? — Вопрос удивил Малиновского. — Разумеется, за грядущую победу. — За победу? — глаза Ларина оживились. — Прекрасный тост. Вот только одна неувязочка. Стоим мы с тобой на вершине Эльбруса... ну, не мы лично, конечно. А чуть пониже — немецкие егеря. А мы выпиваем за победу? — А вот эти стенания лучше бы прекратить, — мягко, но настойчиво посоветовал Родион Яковлевич. — Это не твои слова, Иван. Ты же веришь в победу? — Извини, Родион, сорвался, — голос друга дрожал от волнения. — Товарищ Сталин абсолютно прав. Паникёров надо уничтожать. Безжалостно. — Понимаю, что сорвался. С кем не бывает! Верю в тебя, ты же волевой человек. Ларин неопределённо покачал головой. — Так что же — за победу? — Малиновский посмотрел другу прямо в глаза. — За победу, — негромко отозвался тот, опорожняя рюмку. Принялись за еду. Ларин то и дело наполнял рюмки. Теперь пили уже без тостов. Малиновский молчал: по его убеждению, главный тост уже был произнесён и все другие были бы сейчас совершенно лишними и даже неуместными. Ларин пил, но водка не брала его. Он чувствовал себя абсолютно трезвым, и это пугало: значит, не в состоянии отогнать от себя чёрные мысли, которые, кажется, уже навсегда взяли его душу в плен. В результате была заказана ещё одна бутылка водки. А тут ещё в гости зашёл знакомый полковник из Генштаба, и они «сидели» уже втроём едва ли не до рассвета. Наконец под утро уснули. Родион Яковлевич спал настолько крепко, что его смогли бы разбудить разве что залпы «Авроры». Однако «Авроре» давать залпы не пришлось. Её роль выполнил офицер НКВД, бесцеремонно растолкавший спящего командующего. — Какого чёрта? — приходя в себя, возмутился Родион Яковлевич. Офицер что-то сказал, но Малиновский не разобрал его слов: за окном всё гремело и сверкало. Над Москвой разразилась такая гроза, что Малиновскому сперва показалось, будто он вовсе и не в столице, а на командном пункте своего фронта. — Товарищ генерал! — Офицер был напуган: а вдруг ему не удастся поднять на ноги командующего фронтом? — Вас и товарища Ларина вызывает товарищ Сталин! — выпалил он, пытаясь перекричать громовые раскаты за окном. — Вам приказано быть в Кремле ровно в семь ноль-ноль! — В семь ноль-ноль? — моментально переспросил Малиновский. — А сколько сейчас? — Сейчас? — Офицер взглянул на свои наручные часы. — Шесть часов двенадцать минут. — Так что же вы раньше не разбудили? — вскочил Малиновский. — Быстрее будите Ларина! Родион Яковлевич, словно солдат, поднятый по тревоге, быстро оделся и устремился к умывальнику. В считанные минуты Малиновский был готов, чтобы отправиться в Кремль. Мундир сидел, как всегда, ладно, отливали глянцем сапоги. И весь он являл собой человека здорового, энергичного, уверенного в себе, готового идти хоть в бой. Ларин всё ещё не появлялся. И тут Малиновский услышал какой-то странный шум в коридоре: встревоженные голоса, топот ног, треск ломающегося дерева. Он стремительно распахнул дверь. К нему подбежал растерянный офицер НКВД: — Ларин застрелился! Родион Яковлевич вбежал в соседний номер. Ларин лежал на кровати, раскинув руки, в страшной позе убитого на поле боя. На белой простыне запеклась кровь... Малиновский снял фуражку и застыл у кровати, отдавая последний долг старому другу. Взглянув на часы, понял, что времени у него в обрез: вождь не прощает опозданий.
4
Когда Малиновский вошёл в кабинет Сталина, его нервы будто спрессовались в единый комок. Но мозг работал ясно, готовясь выдержать всё, что ему предстоит: адекватно реагировать на все нюансы во многом непредсказуемого разговора, который должен был сейчас произойти. Сразу же около двери Родион Яковлевич увидел Верховного, который в упор, не мигая смотрел на него, как на совершенно незнакомого и непонятно каким образом появившегося в кабинете человека. Малиновскому почудилось, что Сталин похож сейчас на боксёра, изготовившегося на ринге для удара. Слегка расставленные ноги в мягких сапогах, в которые были Заправлены брюки галифе, слегка наклонённое вперёд туловище, напряжённая готовность. Сходство со стойкой боксёра придавало Сталину и то, что его левая рука была как всегда, полусогнута в локте. И только курительная трубка, крепко зажатая в ладони правой руки, как бы свидетельствовала о том, что эта «стойка» ничего общего с боксёрской не имеет. — Товарищ Сталин, командующий Южным фронтом генерал Малиновский прибыл по вашему приказанию, — чётко отрапортовал Родион Яковлевич. Сталин молчал, продолжая вглядываться в Малиновского, будто не понимая, с какой целью тот пришёл. Он словно давал понять, что какие-либо разговоры с ним, Верховным Главнокомандующим, абсолютно беспредметны в то время, когда гитлеровцы уже водрузили свой флаг на Эльбрусе. Внезапно Сталин повернулся к Малиновскому спиной и медленно пошёл по кабинету, удаляясь всё дальше и дальше, как бы не желая видеть опального генерала. Родион Яковлевич неподвижно стоял на своём месте, чувствуя, что, хотя Сталин до сих пор не произнёс ни одного слова, напряжение постепенно ослабевает. Неожиданно вспомнилось изречение: «В жизни человек с выдержкой всегда побеждает». — А почему не прибыл член Военного совета фронта некий Ларин? — неожиданно громко спросил Сталин, и Родион Яковлевич мысленно выделил из этой короткой фразы слово «некий». — Товарищ Сталин, член Военного совета Ларин застрелился. В кабинете вновь воцарилось гнетущее молчание. — А что вам, товарищ Малиновский, помешало застрелиться? — в этом вопросе прозвучало откровенное любопытство. Родион Яковлевич ожидал именно такого вопроса, и потому он не застал его врасплох. — Товарищ Сталин, это было бы дезертирством с поля боя. Я не имею права бросать свой фронт на произвол судьбы. — Чувство ответственности — хорошее чувство, — заговорил Сталин. — Покончить с собой и этим снять с себя ответственность за судьбу фронта — для этого не требуется большого ума, это удел малодушных. — Товарищ Сталин, — не выдержал Малиновский, — я обязан доложить вам, что товарищ Ларин не был трусом. Он был храбрым, преданным... — Преступное действие, которое совершил Ларин, характеризует его в другом свете, — перебил Сталин и, подойдя, посмотрел на Малиновского в упор. — О вашей дальнейшей судьбе вопрос будет решать Государственный Комитет Обороны. — Сталин дал понять, что разговор окончен. Когда Малиновский вошёл в кабинет Сталина, тот не поздоровался с ним, не подал руки, не предложил сесть. Сейчас же Верховный молча подал ему руку, лишь обозначив пожатие своей ладонью. Но этого было достаточно, чтобы Родион Яковлевич слегка воспрянул духом: может, не разжалуют... На следующий день Малиновскому было объявлено, что он освобождается от должности командующего Южным фронтом и назначается командующим 66-й армией, которая ведёт бои севернее Сталинграда.
5
В конце августа 1942 года Родион Малиновский, развернув только что доставленную самолётом газету «Правда», увидел, что целая полоса в ней занята публикацией пьесы Александра Корнейчука «Фронт». Сразу прочитать не удалось, да и настроение было в это время плохим: снова приходилось отступать. Подумал: больше нечего делать там, в Москве, как пьесы печатать. Кто их, кроме узкого круга любителей драматургии, прочтёт? Малиновский отложил газету в сторону, до лучших времён. Но «лучшие времена» наступили уже через три дня. Позвонивший Сталин после обычного разговора о положении на участке фронта вдруг спросил: — Вы читаете «Правду», товарищ Малиновский? — Конечно, товарищ Сталин. Это же центральный орган нашей партии. — Напрасно удивляетесь моему вопросу, — мягко произнёс Верховный. — У нас есть военные, достигшие значительных высот в военной иерархии и даже возомнившие себя полководцами, которые, оказывается, газет, даже таких, как «Правда», в руки не берут. Говорят, что недосуг, воевать надо, а не газетки почитывать. — Товарищ Сталин, не отношу себя к такого рода военным. — Хочется верить вам, товарищ Малиновский. Сейчас «Правда» печатает пьесу известного советского драматурга Корнейчука «Фронт». Слышали о таком? — Слышал, товарищ Сталин. Даже как-то до войны смотрел спектакль «Платон Кречет». — Понимаю, что сейчас вам, как и всем нашим военачальникам, не до чтения пьес. И всё же постарайтесь найти время, ознакомиться. В центре «Фронта» — конфликт между устаревшими способами военных действий и истинным полководческим мастерством. Уверяю вас: извлечёте из пьесы определённую пользу. Прочитаете — обменяемся мнениями. — Обязательно прочту, товарищ Сталин. «Надо же, — удивился Малиновский, когда необычный разговор завершился. — Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу, а он требует читать пьесы. Видимо, за этим стоит не просто страсть к драматургии, а нечто большее». Позже, когда Родион Яковлевич прочитал пьесу, он понял, почему Сталин велел обратить на неё внимание. Корнейчук ухватил самую суть противоречий между теми военачальниками, которые, оказавшись в водовороте новой войны, всё ещё продолжали жить и воевать точно так же, как жили и воевали в войну Гражданскую. А там нередко исход боя решали лихой кавалерийский налёт да парочка «Максимов». Тогда ещё не знали о танках и самолётах, а если кое-где их видали, скажем, под Каховкой — там на окопы наших бойцов ползли уродливые чудища, именуемые танками, присланными Антантой, — то были уверены, что это всего лишь случай, а не закономерность. Многие красные бойцы, прошедшие всю войну и победившие беляков, так и не видели ни танков, ни самолётов. Теперь на полях невиданных доселе сражений разворачивались в боевом строю и шли в наступление армады танков — быстроходных, бронированных, оснащённых пушками и пулемётами. А в небе, порой затмевая солнце, проносились, неся смерть и разрушения, самолёты новейших конструкций. Каждый военачальник обязан был умело и мудро распорядиться всей этой сложной техникой и вооружением, не допуская шаблона, использовать свои собственные силы с тщательным учётом обстановки, намерений противника и многих других факторов. Многие же военачальники, преклоняясь перед опытом Гражданской войны, полагались главным образом на храбрость бойцов да на свою интуицию, основанную на русском «авось». Родион Яковлевич не просто читал, он «вгрызался» в пьесу, стараясь понять, в чём драматург действительно прав, а в чём работает «на конъюнктуру», и убеждался, что многое было выхвачено автором из самой фронтовой жизни. Кроме того, Родион Яковлевич сразу же «раскусил», что пьеса написана не по творческому озарению автора, а являет собой социальный и, вероятнее всего, заказ самого Сталина. Иначе вряд ли бы Корнейчук осмелился столь нелицеприятно обнажать обычно тщательно скрываемые конфликты между военачальниками высшего звена. Малиновский вспомнил, что ещё в начале сорок второго года Сталин, говоря о значении постоянно действующих факторов, наряду с прочностью тыла, моральным духом армии, количеством и качеством дивизий отметил и такой фактор, как организаторские способности начальствующего состава армии. Верховный потребовал, чтобы командиры всех родов войск научились полностью использовать против врага ту первоклассную военную технику, которую предоставляет Красной Армии тыл. Учиться вождению войск в новой обстановке войны, овладевать искусством побеждать врага по всем правилам советской военной науки — вот условие, которое теперь, когда Красная Армия имеет всё необходимое, чтобы разбить и изгнать гитлеровцев, является важнейшим условием победы. Родион Яковлевич очень хорошо понимал, что косность и отсталость иных военачальников, не видящих разницы между Гражданской и Великой Отечественной войной, преграждают пути к победе. В пьесе Корнейчука таким военачальником был командующий фронтом Иван Горлов. Не раз Малиновскому приходилось видеть таких горловых, а порой и разрабатывать вместе с ними планы операций, вступая при этом в жаркую полемику, чтобы отстоять своё мнение. Горловы исступлённо шли напролом, не считаясь с колоссальными и часто неоправданными людскими потерями, любили хвастаться тем, что «академиев не проходили», но зато прошли «огонь, воду и медные трубы», стояли барьером на пути образованных, инициативных и энергичных военных кадров. Удивляло лишь то, что драматург взял на себя смелость выставить горловых напоказ сейчас, в сорок втором трагичном году, когда слово «отступление» не сходит со страниц газет и всё больше людей отчаиваются и теряют веру в свою армию. Прочитав пьесу, Малиновский пришёл к выводу, что она представляет собой острую сатиру, шарж. Образы были в чём-то плакатны, но сюжет придуман, что называется, «с пылу, с жару». Впрочем, именно такая агитка — простая, ясная, не уводящая читателей (и зрителей) в омут страстей шекспировского накала, и подходила наиболее к настоящему времени. Пусть в ней не было художественного совершенства, зато была та «правда-матка», которая могла помочь вывести горловых «на чистую воду», побудить к их осуждению и борьбе с ними, опираясь не столько на драматурга Корнейчука, сколько на самого генералиссимуса Сталина. В пьесе даже фамилии персонажей были нарочно обозначены соответственно их сути: Горлов — берёт горлом; начальник штаба фронта Благонравов, хотя и понимает, что тот отдаёт безграмотные, с точки зрения военного искусства, приказы, старается обходить острые углы и не вступать со своим командующим в конфликты; начальник разведотдела фронта Удивительный — бездельник и льстец, ничего не смыслящий в делах, остающийся слепым и глухим, когда речь идёт о противнике и его силах; спецкор центральной газеты Крикун, слагающий дифирамбы Горлову и околачивающийся в высших штабах, вместо того чтобы собирать материал для газеты на передовой; начальник связи фронта Хрипун, своим бездействием и некомпетентностью заваливший войсковую связь, но зато как пиявка присосавшийся к командующему фронтом; редактор фронтовой газеты Тихий — безвольный, трусливый человек, не имеющий своего мнения, и так далее, в том же духе. Пьеса заканчивалась так, как и должна была закончиться. Тем самым были предельно ясно выражены где впрямую, а где косвенно установки Верховного Главнокомандующего. Горлова снимают с должности, командующим фронтом становится Огнёв. Что и требовалось доказать. Под самый занавес один из персонажей вещает: «Сталин говорит, что нужно смелее выдвигать на руководящие должности молодых, талантливых полководцев, наряду со старыми полководцами, и выдвигать надо таких, которые способны вести войну по-современному, а не no-старинке, способны учиться на опыте современной войны, способны расти и двигаться вперёд». Родион Яковлевич улыбнулся: тут, кажется, автор пьесы перестарался. Лозунг, безусловно, правильный, главное, чтобы он не привёл к тотальной перетряске кадров, да ещё сейчас, в эту лихую годину... Малиновский, всё время пребывавший в горячке ожесточённых боёв, уже начал было забывать о прочитанной пьесе, как ему позвонил Сталин. — Ну как, товарищ Малиновский, удалось вам ознакомиться с пьесой известного советского драматурга Корнейчука «Фронт»? — голос вождя звучал почти доверительно. — Да, товарищ Сталин, прочитал, можно сказать, от корки до корки. — И каково же ваше мнение? — Думаю, что пьеса весьма актуальна. На злобу дня. — Правильно оцениваете, товарищ Малиновский. А то тут меня некоторые наши полководцы просто бомбят своими протестами: удар по авторитету армии, дискредитация советского высшего командного состава. Мол, критика в пьесе несвоевременна и принесёт один лишь вред. У вас не возникало подобных мыслей? — Честно говоря, товарищ Сталин, такие мысли возникали. Но не по существу пьесы. Сомнения о времени её опубликования. Армия пока ещё терпит неудачи, и как бы пьеса не вселила в души читателей и зрителей ещё большее разочарование в своих вооружённых силах. — Напрасно думаете так, товарищ Малиновский, — возразил Сталин. — Бойцы и командиры Советской армии, да, по сути, и весь советский народ прекрасно видят все наши плюсы и минусы и без драматурга Корнейчука. Что касается публикации пьесы «Фронт» именно сейчас, когда армия терпит неудачи, то это яркое свидетельство нашей уверенности в том, что мы в конце концов одержим победу над немецко-фашистскими захватчиками. Это свидетельство силы нашей армии. Слабая армия, не уверенная в справедливости своего дела, не рискнёт во время войны, да ещё в самый неблагоприятный для неё период, открыто признавать свои ошибки и выражать готовность немедленно приступить к их исправлению. Вы, вероятно, знакомы с известной русской пословицей «На переправе лошадей не меняют»? — Знаком, товарищ Сталин. — Ну вот видите. Сейчас за эту пословицу прячутся те, кто боится решительно преодолевать недостатки и исправлять ошибки. Советский народ не боится смотреть правде в глаза, потому что твёрдо уверен в силе Красной Армии, хорошо знает, что основной тон в Красной Армии задают не отсталые от жизни люди типа Горлова, а новые, такие как Огнёв. Запомните, товарищ Малиновский: открытая критика недостатков идёт от силы, а не от слабости. Ликвидация этих ошибок сделает Красную Армию ещё более сильной, ещё более боеспособной. Это как раз и показано в пьесе драматурга Корнейчука. — Я полностью согласен с вашей оценкой, товарищ Сталин. — Выходит, я вас убедил и наш разговор не напрасен. Главное сейчас — делать без промедления практические выводы, решительно избавляться от горловых на всех уровнях, а не только в высших эшелонах военного руководства. — Абсолютно правильно, товарищ Сталин. Хотя молодых, талантливых кадров пока ещё недостаточно. Мы испытываем в них большой дефицит. — Ничего, с каждым днём приток таких кадров будет нарастать. Военачальники типа Огнёва будут выходить из среды фронтовых командиров. Надо только находить их и помогать им расти. — Задачу понимаю, товарищ Сталин. Верховный немного помолчал, а потом спросил таким тоном, что Малиновскому показалось, будто сейчас там, в Кремле, вождь хитро усмехается: — Товарищ Малиновский, скажите откровенно, в самом себе вы не замечали хотя бы некоторые черты командующего фронтом Горлова? Родион Яковлевич опешил: он не ожидал такого вопроса. И потому ответил не сразу. — Что, мой вопрос поставил вас в тупик? — Нет, товарищ Сталин. Просто давать оценки себе самому сложнее, чем другим. И всё же смею думать, что образ Горлова списан не с меня. — И вам, товарищ Малиновский, не присущ ни один из недостатков Горлова? — Надеюсь, что не присущ, хотя прекрасно понимаю, что недостатки есть и у меня. Например, если бы мне Огнёв заявил, как он заявил Горлову, что хочет лишь одного — чтобы тот некомандовал фронтом, я бы с этой минуты не смог бы воевать рядом с таким человеком. Сталин, видимо, не ожидал такого ответа. — Гордыня, товарищ Малиновский, не относится к лучшим качествам большевика, — услышал Родион Яковлевич посуровевший голос Верховного. «Посмотрел бы я, как бы ты, Иосиф Виссарионович, повёл себя, если бы тебе такое кто-нибудь из ближайших сподвижников сказал. Вроде того, что не хочет, чтобы ты был Верховным Главнокомандующим». А Сталин между тем продолжал: — Хорошо уже то, товарищ Малиновский, что вы честно отвечаете на мои вопросы, не юлите, как некоторые. Ваши слова — подтверждение тому, что у вас есть чувство собственного достоинства. Без этого чувства нет и не может быть истинного военачальника. Но хотя вы и не замечаете у себя черт Горлова, покопайтесь поглубже, может, что-то и найдёте. И тогда постарайтесь их побороть. — Буду стараться, товарищ Сталин. Родион Яковлевич подумал о том, что и без советов вождя он достаточно самокритичен и всегда после жалеет, если порой, поддавшись внезапным эмоциям, поступается своими сложившимися принципами. — Тут к нам поступили сведения, что иные военачальники даже высокого ранга позволяют себе в ходе боя использовать такие недозволенные приёмы, как физические наказания солдат и офицеров, попросту говоря, занимаются мордобоем, — эти слова Сталин произнёс вкрадчиво, словно намекая на то, что и Малиновский, возможно, «грешит» этим. — Этого я себе никогда не позволял и не позволю ни при каких условиях, товарищ Сталин. Расцениваю такие действия как преступные. — Правильно расцениваете. В Ставке даже поговаривают о вашей излишней доброте. — Смотря к кому, товарищ Сталин. Думаю, что доброта к людям, испытывающим невероятные тяготы войны, не может быть излишней. — Что же, это хорошо, что вы правильно восприняли пьесу драматурга Корнейчука. — Сталин ловко «закрыл» им же самим затронутую тему. — Горловым мы объявляем решительный бой. Надеюсь, в этом бою вы займёте правильную, большевистскую линию. — Товарищ Сталин, я сделаю для этого всё возможное и выполню ваш приказ. — Это не мой приказ, товарищ Малиновский, — поправил Сталин. — Это приказ советского народа, который должен войти в историю Второй мировой войны как народ-победитель. — Так оно и будет, — убеждённо сказал Малиновский. — А чтобы это исполнилось, вам, товарищ Малиновский, предстоит держать очень серьёзный экзамен — экзамен на стойкость и волю к победе. Враг рвётся к Сталинграду. Этот город должен стать крепостью на Волге. Именно там немецко-фашистские войска должны быть и будут разбиты. Именно Сталинград должен стать символом коренного перелома в ходе этой войны, после которого враг уже не будет в состоянии оправиться. Вашей армии в решении этой сложнейшей задачи отведено особое место. Надеюсь, что вы выдержите этот экзамен с честью, не в пример Горлову и ему подобным. — Приложу для этого все свои силы и знания, товарищ Сталин!
6
То, что происходило сейчас в заснеженной приволжской степи, вряд ли можно было назвать обычным сражением. Термин «сражение» в точном словарном значении этого слова — совокупность ударов и боёв, связанных общим замыслом и проводимых соединениями и объединениями для достижения цели операции — явно преуменьшил бы колоссальный размах развернувшихся военных действий. То, что здесь происходило, естественно было бы назвать «битвой», ибо этот синоним слова «сражение» показывает необычный, уникальный, почти фантастический, поражающий умы размах и ожесточённость боёв. И тут уже напрашиваются исторические аналогии: Ледовое побоище, Куликовская битва, Бородинская битва... В сентябре 1942 года заместитель Верховного Главнокомандующего Георгий Константинович Жуков, находясь на командном пункте группировки войск севернее Сталинграда, получил директиву Ставки, подписанную Сталиным: «Положение под Сталинградом ухудшилось. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленную помощь. Потребуйте от командующих войсками, стоящих к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам. Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению». Жуков нахмурился. Легко сказать «немедленно ударить по противнику». Разве он, Жуков, и сам не понимает, что помощь войскам 62-й армии генерала Чуйкова и 64-й армии генерала Шумилова необходима им как воздух? Без этой помощи они задохнутся, и Сталинград может пасть. Верховный не любит бросаться угрозами, чтобы нагнать побольше страху на свой генералитет; нет, уж если он охарактеризовал возможную сдачу Сталинграда как преступление, то генералы, волею судьбы оказавшиеся на сталинградских рубежах, сдав город врагу, будут тотчас же всенародно объявлены преступниками и врагами народа. И эта незавидная судьба не минует и его, Жукова. Вождь не посмотрит на то, что он, Жуков, отстоял Москву. Город на Волге носит имя Сталина, это символ государства, что там ни говори. И падение Сталинграда обернётся несмываемым позором советских войск, и слух об этом позоре прокатится по всем континентам. Впрочем, Жуков боялся не столько лично за себя, сколько за судьбу сражения. В сущности, он всегда был готов к крутым переменам в своей судьбе, даже к самым трагичным. Взлёты и падения — постоянные спутники жизни любого полководца. Одержал победу — гремят фанфары, и грудь осыпают орденами, погоны тяжелеют от новых звёзд. Проиграл сражение — слетают с погон звёзды, а с груди — ордена, предвещая опалу, а то и хуже. Был полководец — и нет его! Что касается Сталинграда, то проиграть битву за него — это не просто сдать очередной город, каких уже было сдано бесчисленное количество, нет, это сдать государство, унизить и опозорить его, предать свой собственный народ. Жуков понимал, что задача советских войск не только отстоять Сталинград, но и разгромить противостоящую группировку немецко-фашистских войск. А группировка эта поражала своей мощью: более миллиона солдат и офицеров, более 10 тысяч артиллерийских орудий и миномётов, почти 700 танков, целые армады истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков — 4-й воздушный флот и 8-й авиакорпус. В районе Среднего Дона, Сталинграда и южнее его действовали основные силы группы армий «В», в которую входили также войска 8-й итальянской, 3-й и 4-й румынских армий, 8-я и 4-я танковые немецкие армии. Количественное состояние сторон было почти равное, если не считать наше незначительное превосходство в танках. Но у советских войск было одно важное преимущество: бастионами Сталинграда были мужество и воля к победе наших солдат, офицеров и генералов. Впрочем, размышлял Жуков, немцам тоже нельзя отказать в храбрости и стойкости. Гитлеровские солдаты и офицеры, привыкшие к лёгким победам над армиями западноевропейских государств, нашпигованные геббельсовской пропагандой, верили, что могут разгромить Красную Армию. В своём большинстве немцы показывали хорошую подготовку, особенно те, кто служил в танковых войсках и авиации. Да и дисциплины, упорства и самоуверенности у них хватало. Так что советскому воину вырвать победу будет не так-то просто. Думая над возможными перспективами сражения на Волге, Жуков радовался тому, что благодаря хитрому стратегическому замыслу удалось дезориентировать гитлеровцев: были предприняты активные действия, направленные против немецкой группы «Центр». Немцам внушалось: именно здесь, на западном участке фронта, советское командование сосредоточивает свои основные силы. Противника удалось обмануть: он спешно перебросил из-под Ленинграда в район Великих Лук танковую, моторизованную и пехотную дивизии. В районы Витебска и Смоленска было вызвано семь дивизий из Франции и Германии. В районы Ярцева и Рославля — две танковые дивизии из-под Воронежа и Жиздры. Всего для усиления немецкой группы армий «Центр» направлялось двенадцать дивизий. Не случайно пленные немцы из высших офицеров признавались, что они вообще не имели представления о сосредоточении больших сил русских под Сталинградом в тех местах, где прежде не было ничего, кроме чистого поля. Более того, гитлеровское командование даже утверждало, будто русские в ходе последних боёв были серьёзно ослаблены и поэтому зимой не смогут иметь больших сил. Георгий Константинович склонился над оперативной картой. Молодцы Чуйков и Шумилов! Немцы кое-где проникли в город, а они не сдаются. Бои идут в посёлках «Красный Октябрь» и «Баррикады», идут смертельные схватки за каждую улицу, каждый дом, каждый этаж дома. Город стоит, будто заговорённый. Накануне, прилетев по вызову Ставки в Москву, Жуков вместе с начальником Генерального штаба Александром Михайловичем Василевским почти сутки работал над стратегическим планом наступления, осуществление которого должно было обеспечить разгром немецкой группировки и помочь отстоять Сталинград. Было решено из района Серафимовича, северо-западнее Сталинграда, и из района озёр Цаца и Барманцак, южнее Сталинграда, в общем направлении на Калач, — западнее Сталинграда, нанести мощные концентрические удары по флангам немецких войск, которые вели бои за город. Тем самым планировалось окружить и уничтожить основные силы вражеской группировки — 6-ю и 4-ю танковые армии. Сталин, ознакомившись с планом, одобрил его, но предупредил: — План и все мероприятия по его выполнению должны быть предметом строжайшей государственной и военной тайны. Об этом замысле, кроме вас, не должен знать никто. Категорически требую никому о плане не сообщать, даже членам Государственного Комитета Обороны. До командующих армиями довести лишь то, что касается каждого из них, — и ни единого слова больше. Наступательную операцию назовём «Уран». Говоря это, Сталин выделял каждое слово, как бы придавая именно ему особое значение. Окончательная доработка плана была завершена к концу сентября. Выполнение возложили на войска только что созданного Юго-Западного фронта — командующий Николай Фёдорович Ватутин, Донского фронта во главе с Константином Константиновичем Рокоссовским, а также Сталинградского фронта — командующий Андрей Иванович Ерёменко. И колесо военной машины завертелось. Все, кто был причастен к разработке плана «Уран», не могли не вспомнить о Каннах, без детального исследования которых не обходилась ни одна книга, посвящённая истории военного искусства[2]. Успех Ганнибала был тем более поразителен, что, по сравнению с римлянами, у него было вдвое меньше пехоты и преимущество состояло только в коннице. Поразительно было то, что победу одержал молодой — тридцатитрёхлетний — полководец! Никогда до этого ещё история не знала уничтожения армии, по численности настолько превосходящей противника. Канны стали синонимом успешного окружения и разгрома противника, и повторить их было заветным желанием и мечтой всех полководцев.
7
6, 7 и 8 ноября 1942 года произошли события, которые с полным основанием можно было бы трактовать, как символы. 6 ноября Иосиф Виссарионович Сталин выступил с докладом о 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В этом докладе он, в частности, сказал: «Главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы и создать большой перевес всех своих сил на юго-западном направлении. Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, так же как он существовал в Первую мировую войну, и второй фронт отвлекал бы, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск на нашем фронте? Нетрудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Это значит, что летом этого года немецко-фашистская армия стояла бы перед своей катастрофой. И если этого не случилось, то потому, что немцев спасло отсутствие второго фронта в Европе». На следующий день, 7 ноября, во всех газетах был опубликован приказ Народного комиссара обороны И.В. Сталина № 345, в котором были такие пророческие слова: «Недалёк тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник!» В этот же день, 7 ноября, Гитлер отправился в своём личном поезде в Мюнхен, чтобы отметить очередную годовщину «пивного путча», который, хотя и окончился провалом и заключением Гитлера в ландсбергскую тюрьму, являл для нацистов истинный триумф. В салон-вагоне, крикливо отделанном розовым деревом, был накрыт роскошный стол. Гитлер в возбуждении разглагольствовал за столом, стараясь внушить присутствующим одну и ту же мысль: взятие Сталинграда — дело нескольких дней. — Манштейн не из тех, кто упускает победы, — говорил Гитлер. — Я уже вижу, как он и Паулюс бросаются друг другу в объятия! Неожиданно один из гостей обратил внимание на то, что на соседнем пути стоит товарный поезд. Гитлер, заинтересовавшись, подошёл к окну. Из товарного вагона, предназначенного для перевозки скота, на него смотрели, все в кровавых бинтах, его солдаты. — Эшелон с ранеными, — услужливо подсказал кто-то. — Возвращаются с Восточного фронта. Гитлер нахмурился, сомнений не было, измученные, голодные солдаты, конечно же, видели через окно роскошное застолье. — Немедленно опустите шторы! — велел он. Приказание было тут же исполнено, и пир продолжался. Однако настроение фюрера испортилось: картина эшелона, набитого ранеными солдатами и офицерами, вопиюще противоречила тем картинам, которые так красочно рисовались за столом. На следующий день, выступая в Мюнхене, Гитлер, в частности, заявил: «Я хотел выйти к Волге в определённом месте, у определённого города. По совпадению, этот город благословлён Именем Сталина... это необычайно важный город — здесь перехватывается транспортировка тридцати миллионов тонн грузов по реке, включая девять миллионов тонн нефти, сюда, к этому городу, следовало зерно плодородной Украины и Кубани, здесь переплавлялись руды цветных металлов. Это громадный транспортный узел. Его я хотел захватить, и вы знаете, мы скромны, но я скажу: мы взяли и его! Остались только небольшие «карманы» сопротивления. Некоторые могут спросить: почему вы не возьмёте их побыстрее? Потому, что я не хочу второго Вердена, вот почему!» При слове «Верден» едва ли не все присутствовавшие поёжились — таково было магическое воздействие этого маленького городка на северо-востоке Франции, где в 1916 году развернулись бои между французскими и германскими войсками. Это была борьба на истощение, за два с половиной месяца немцы смогли продвинуться всего на семь километров! В результате под Верденом немецкий стратегический план потерпел полное поражение. Формула немцев «артиллерия разрушает, а пехота занимает» дала осечку, обе стороны понесли колоссальные потери, и вся операция получила название «верденской мясорубки», ставшее нарицательным. После завершения всех мероприятий Гитлер сказал Геббельсу: — Я отправляюсь в Альпы. Сейчас, когда вопрос со Сталинградом практически решён, можно позволить себе хотя бы немного отдохнуть. — Бергоф — прекрасное место для отдыха, мой фюрер! — одобрил Геббельс. — Там вас и застанут победные вести о полном взятии Сталинграда!
8
Операция «Уран» строилась на исключительно точных расчётах, уже в ходе её разработки Жуков, Василевский и другие полководцы твёрдо верили в успех. В самом деле, почти трёхмесячные оборонительные бои наших войск в Сталинграде, хотя и стоили очень многих жертв, были наглядным доказательством того, что советские воины могут выстоять даже в таких сражениях. Уверенность в успехе базировалась и на том, что сейчас советское командование располагало большими людскими ресурсами и новейшим вооружением, которое всё в нарастающих количествах поставлял тыл. Трезво оценили и противника. Слабостью немцев было сейчас то, что их фронт и все коммуникации неимоверно растянулись. К примеру, группа армий «Б», которая вела бои на Воронежском и Сталинградском направлениях, растянулась на 1300 километров. А это — 82 дивизии и 4 бригады, ослабленные в ходе наступательных боёв. Почти тысячу километров составлял фронт и у группы армий «А», которая забуксовала на Северном Кавказе. Потери немцев были огромны, а пополнять войска живой силой, вооружением и боеприпасами стало невероятно сложно: войска слишком растянулись. Резервы вермахта были если не полностью исчерпаны, то всё же не давали возможности в достаточной мере пополнять войска свежими частями. Тем более, что советское командование осуществляло, хотя и частные, операции наступательного характера на Северном и Центральном фронтах, и немцы не решались перебрасывать отсюда свои дивизии на Сталинградское направление. В середине октября Гитлер был вынужден отдать приказ о переходе к обороне, За исключением районов Сталинграда, Туапсе и Нальчика. Этим он рассчитывал создать условия для нового наступления в следующем году. Гром небывалой мощности грянул 19 ноября 1942 года. Ровно в половине восьмого утра на трёх главных направлениях наступления Юго-Западного фронта реактивные миномёты «Катюша» дали мощнейший залп по противнику. В течение полутора часов вели огонь три с половиной тысячи орудий и миномётов — и всё это на участке фронта протяжённостью всего 28 километров! К полудню в прорыв пошли танковые корпуса и пехота. Гитлеровские войска были в шоке, их охватила паника. На следующий день начал наступление Сталинградский фронт, а уже в четыре часа дня 23 ноября свершилось историческое событие, ставшее венцом операции «Уран»: в районе хутора Советского вокруг немецкой группировки сомкнулись стальным кольцом войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Враг оказался в котле. Теперь предстояло сделать всё для того, чтобы не выпустить его из ловушки и воспрепятствовать возможным попыткам деблокировать попавшую в западню трёхсоттысячную армию Паулюса.
9
Рано утром начальник штаба сухопутных войск генерал Цейтцлер получил приказ срочно прибыть к Гитлеру. Не прошло и трёх минут, как автомобиль уже вёз генерала в рейхсканцелярию. Войдя в кабинет фюрера, Цейтцлер удивился: вопреки его ожиданиям, Гитлер был внешне абсолютно спокоен. В его облике было даже нечто торжественное, словно он намеревался сообщить вошедшему генералу о только что достигнутой победе. Едва поздоровавшись с Цейтцлером, Гитлер громогласно провозгласил, будто выступая с трибуны: — Я не уйду с Волги! Цейтцлер заранее решил, что и как он будет отвечать фюреру. Он прекрасно понимал, что вовсе не такого ответа будет ждать от него Гитлер. Он также понимал, что его ответ вызовет резкую отповедь фюрера, более того, он может в ту же минуту снять его, Цейтцлера, с должности, а то и лишить воинского звания и отправить на эшафот. И всё же, преодолев страх, генерал сказал, хотя и негромко, но твёрдо и даже упрямо: — Мой фюрер, оставить 6-ю армию в Сталинграде невозможно. Это равносильно преступлению. Потерять её — значит проиграть на Востоке всю кампанию. — Что?! — взревел Гитлер, и его глаза ошалело забегали по сторонам. — Не хотите ли вы сказать, что я совершаю преступление? — Нет, нет и нет! — взмолился Цейтцлер. — Я лишь хочу предостеречь от ошибки, на которую вас толкают безумные головы! Армия гибнет, мой фюрер! В Сталинграде стоят страшные морозы, продовольствие на исходе. Десятки тысяч раненых лишены элементарной медицинской помощи. Не хватает боеприпасов. Все заверения Геринга о бесперебойном снабжении окружённых войск с воздуха обернулись фикцией. Кольцо окружения стягивается всё плотнее, лишая Паулюса возможности вырваться. Русские подтягивают всё новые силы... — Всё это я слышал уже тысячу раз, Цейтцлер! — резко прервал его Гитлер. — Вы совершенно не учитываете дух немецкого солдата! Он предпочтёт смерть позорной сдаче в плен. Солдата надо воодушевить, возродить в нём волю к победе! Я отдал приказ, разрешающий награждение Железным крестом второй степени производить командирам рот, а первой степени — командирам батальонов. Это позволит воспламенить патриотический дух! «Какие командиры рот? Какие командиры батальонов? — Цейтцлеру казалось, что он слышит всё это в дурном сне. — Ни в ротах, ни в батальонах уже почти нет командиров, да и награждать скоро будет некого — кто погиб, кто замёрз, кто умер от ран». Он промолчал, понимая всю бесполезность своих возражений. Гитлер резко нажал кнопку звонка на столе. В кабинет вбежал адъютант — офицер СС. — Вызовите фельдмаршала Кейтеля и генерала Йодля! Адъютант исчез так же стремительно, как и появился. Наступила гробовая тишина. До прихода вызванных Гитлер не проронил ни слова. Но едва Кейтель и Йодль вошли в кабинет, он провозгласил: — Я должен принять очень важное решение. Но перед его принятием хочу услышать ваше мнение. Оставлять Сталинград или сражаться до победного конца? Я жду вашего ответа. Как только Гитлер произнёс последнюю фразу, Кейтель, вытянувшись, громко, умоляюще воскликнул: — Мой фюрер, не оставляйте Волгу! Гитлер перевёл взгляд на Йодля. — Мой фюрер, это действительно очень важное, поистине историческое решение. Если мы уйдём от Волги, то потеряем большую часть территории, захваченной нами во время летнего наступления ценой огромных потерь. Но если мы не отведём 6-ю армию, её положение станет крайне тяжёлым. Операция по её деблокированию может пройти успешно, но может и провалиться. До тех пор, пока мы не увидим результатов этой операции, надо удерживать позиции на Волге. Кейтель, с солдатской прямолинейностью, уложил своё мнение всего в пять слов. Старый лис Йодль хорошо знал характер своего фюрера и был уверен, что он ждёт именно такого ответа и никакого более. — Теперь ваша очередь, — сухо обратился Гитлер к Цейтцлеру. «Он думает, что, выслушав этих подхалимов, я изменил своё мнение», — мелькнуло в голове у Цейтцлера. А вслух он произнёс: — Мой фюрер, бросить 6-ю армию там, где она находится сейчас, — преступление. Она будет бессмысленно принесена в жертву. — Ваши аргументы? — вскинулся Гитлер. — До сих пор были только слова. Почему вы не верите, что Геринг будет снабжать по воздуху окружённые войска всем необходимым для жизни и боевых действий? — Мой фюрер, сейчас всё необходимое для армии, находящейся в котле, поставляет тридцать один самолёт. Обещанные Герингом сто «юнкерсов» — в море. Даже если ежедневно будут приземляться пятьсот машин, они смогут доставить не более одной тысячи тонн груза. Но этого абсолютно недостаточно для армии, ведущей бои крупного масштаба и к тому же не имеющей запасов. А где взять эти пятьсот машин? Их придётся перебазировать со всей Европы и с Севера. — Геринг обеспечит, — прервал Гитлер. — Но мы должны учитывать и другие обстоятельства, — продолжал Цейтцлер. — Можно заранее предвидеть, что все русские истребители будут брошены в атаку на прибывающие транспортные самолёты и на единственно пригодные посадочные площадки — Питомник и Песковатку. — Цейтцлер провёл указкой по оперативной карте. — Нельзя пренебрегать и тем, что над волжскими степями бушуют смежные бури, которые нередко будут заставлять наши самолёты возвращаться назад. Кроме того, как мы сможем обеспечить большое число самолётов горючим? — Генерал передохнул и, видя, что Гитлер молчит, «переваривая» его аргументы, добавил: — Паулюс уже в третий раз предлагает оставить Сталинград. Надо полагать, на месте ему виднее, чем это представляется из Берлина. Он сообщает, что армия окружена, запасы продовольствия и боеприпасов почти исчерпаны. Продовольствия хватит при самом минимальном пайке лишь на неделю, не больше. — Довольно, — неприязненно прервал его Гитлер. — Если следовать вашим взглядам, нам остаётся только одно — ложиться и медленно умирать. Вам следовало бы для поднятия собственного духа чаще вспоминать слова из песни, которую Геббельс велел ежедневно передавать по радио нашим славным защитникам Сталинграда. Надеюсь, вы знаете эту песню? — К сожалению, нет, мой фюрер. — В ней есть замечательные слова, — радуясь удаче, которая вдруг ему привалила, дав возможность проявить осведомлённость перед фюрером в нужный момент, торопливо вклинился в разговор Йодль. — Я повторяю их каждый день: «Вслед за декабрём всегда приходит май». Это гениальное пророчество, точно отвечающее сегодняшним испытаниям. Гитлер окинул его недоверчивым взглядом, но комментировать не стал. — Обратите внимание, генерал, — внушительно и со значением сказал он, обращаясь единственно к Цейтцлеру, — я не одинок в своём мнении. Его полностью разделяют два преданных мне генерала, которые по должности выше вас. Поэтому моё решение остаётся неизменным — 6-я армия Паулюса должна находиться в Сталинграде! На лицах Кейтеля и Йодля мелькнула откровенно победная усмешка. Гитлер холодно кивнул всем, давая понять, что разговор окончен. Генералы поспешили к выходу. — Армия должна верить, что я сделаю всё возможное для её снабжения и своевременного деблокирования, — вслед им почти прокричал Гитлер. — Мой приказ Паулюсу будет занять круговую оборону и ожидать помощи!
10
Декабрь 1942 года только начал свой отсчёт, когда начальник штаба 48-й армии генерал Сергей Семёнович Бирюзов приехал на наблюдательный пункт. Ночь была ясная, поразительно светлая. Казалось, что звёзды, все до единой, высыпали на небосвод и с любопытством взирают на Землю, как бы стараясь понять, что там на ней происходит. На переднем крае царило спокойствие. Разведчики, высланные Бирюзовым, одетые в белые маскхалаты, смогли подползти едва ли не к самым траншеям немцев, а вернувшись, доложили, что никаких признаков готовящегося наступления не обнаружено. Сергей Семёнович нахмурился: сколько ещё продлится это сидение, бесцельное пребывание в окопах? В эти дни он, как никогда, завидовал своим товарищам по оружию, которые уже отличились в наступательных боях. До сих пор у него в ушах звучал голос Левитана, читавшего по Всесоюзному радио сообщение Совинформбюро «В последний час». «Наши войска за три дня боёв, преодолевая сопротивление, продвинулись на 70-80 километров, заняли ряд городов и перерезали железные дороги, снабжавшие группировку противника, расположенную восточнее Дона. В боях отличились части генералов Романенко, Чистякова, Толбухина, Труфанава и Батова. Наступление продолжается». «Везёт же людям! — недовольно думал Бирюзов. — А тут как застряли в этих чёртовых Брянских лесах, так и сидим». Забрезжил рассвет. Мороз крепчал. — Ну что, может, пойдём вздремнём? — Сергей Семёнович обернулся к начальнику разведки армии. Тот не успел ответить: появился начальник оперативного отдела полковник Долгов: — Товарищ генерал, получен документ из Москвы. Только что позвонили из штаба. Сказали, что документ касается лично вас. — Поехали в штаб, — распорядился Сергей Семёнович. Водитель, сразу же поняв настроение Бирюзова, помчался по заснеженному большаку, что называется, с ветерком. Сергей Семёнович не вошёл, а ворвался в свой кабинет-землянку и схватил протянутый ему телеграфный бланк. В телеграмме сообщалось, что генерал Бирюзов назначается начальником штаба 2-й гвардейской армии и что он должен прибыть к месту назначения немедленно после получения приказа. Бирюзов знал, что управление 2-й гвардейской армии располагалось в Тамбове. Путь не близок — триста километров, да не по шоссе, а по лесным дорогам. «Час от часу не легче, — размышлял он, трясясь в «газике». — С оборонительных рубежей — не в наступление, а, считай, в тыл. Но тогда в чём смысл назначения — из одного штаба в другой? — Подумав, он нашёл ответ: — Вряд ли гвардейцы будут отсиживаться в тылу, когда в Сталинграде такое заварилось! Ну, Ставка, ну, провидцы, ничего не скажешь, разгадали мои думки! И потом, дорогой товарищ, это же гвардия, гордись оказанной честью!» Тамбов, Тамбов... Сергей Семёнович был, по сути, родом из этих мест: городок Скопин, в котором он родился и где много лет отмахал топором, будучи лесорубом, притаился в Рязанской области, а она — соседка Тамбовской. Бывать ему в Тамбове не приходилось, лишь как-то вычитал у Лермонтова: «Тамбов на карте генеральной кружком отмечен не всегда...» Как Бирюзов ни торопил водителя, в Тамбов приехали уже поздней ночью. Город слабо просматривался в кромешной тьме. Тучи скрывали луну и звёзды, да ещё сказывалось строгое соблюдение жителями светомаскировки. Выяснилось, что штаб 2-й гвардейской армии размещается не в городе, а в сосновом лесу, за рекой Цной, в одной из дач. Принимать дела Бирюзов должен был у теперь уже бывшего начальника штаба полковника Грецова. На месте его не оказалось: был на докладе у командующего армией. — У генерала Крейзера? — уточнил Бирюзов. — Никак нет. Прибыл новый командующий. — Кто? — Генерал-лейтенант Малиновский. Прежде чем идти к новому командующему, Бирюзов хотел встретиться с Грецовым. Тот вскоре вернулся. — Прежде всего меня интересует, что собой представляет 2-я гвардейская, — начал Бирюзов. — Армия развёрнута по приказу Ставки в октябре этого года на базе 1-й резервной армии. В неё входят 1-й и 13-й гвардейские стрелковые корпуса, по три дивизии в каждом, один механизированный корпус и специальные части. Формирование армии практически завершено. Личный состав имеет неплохой боевой опыт. Значительная прослойка — моряки Тихоокеанского флота. — Моряки? — оживился Сергей Семёнович. — Это хорошо. Моряки — народ храбрый и надёжный. А как насчёт танков? — В стрелковых корпусах имеется по одному танковому полку. Что касается артиллерии, то её достаточно. — Грецов назвал количество орудий — полевых и противотанковых. — Неплохо, — подвёл итог Бирюзов. — Куда больше, чем в нашей 48-й армии. А чем сейчас занимается личный состав? — Несмотря на морозы и снежные заносы, каждый день переходы по сорок-пятьдесят километров, огневая подготовка на стрельбищах и полигонах. Ведём расчистку железнодорожных путей от снега: со дня на день ждём приказа о погрузке в эшелоны. Разговор продлился допоздна. Затем Бирюзов отправился представляться командующему. В просторной комнате сидели несколько генералов. В одном из них Бирюзов сразу же узнал Крейзера. Что касается Малиновского, то его прежде Бирюзову не приходилось видеть, но он быстро сориентировался: здесь был лишь один генерал-лейтенант, остальные — генерал-майоры. Обратившись к генерал-лейтенанту, он доложил о своём прибытии. Родион Яковлевич выслушал своего начальника штаба стоя, приветливо, как старому знакомому, подал ему руку: — Рад вашему назначению. Будем работать вместе. — Я тоже рад, что попал к гвардейцам, — сказал Бирюзов. Ему хотелось сказать больше: о том, что наслышан о Малиновском как о человеке, имеющем большой опыт командования войсками, и о том, как он рад, что попал в подчинение к такому Начальнику. Но промолчал: искренние слова могут принять и за лесть. Бирюзов подошёл к Крейзеру. Они по-братски обнялись. — Старые знакомые? — улыбнулся Малиновский. — Товарищ генерал-лейтенант, — откликнулся Бирюзов, — да мы же с Яковом Григорьевичем вместе служили в Московской пролетарской дивизии! — Вот и будете продолжать с ним службу: Яков Григорьевич — мой заместитель. И сразу же хочу сказать вам, Сергей Семёнович, что меня величают Родионом Яковлевичем. Договорились? — Вас понял, Родион Яковлевич! — живо воскликнул Бирюзов. — Вот и прекрасно. Как чувствуете себя после дороги? Небось всю душу вытрясло, пока добрались? — Да ведь не привыкать, Родион Яковлевич! — бодро ответил Бирюзов. — Ничего, победим немца, такие автотрассы вымахаем! — улыбнулся Малиновский. — А то у нас, в России-матушке, дороги как при Иване Грозном. Не дороги, а отсутствие всяких дорог. В том числе и указателей, если б не карты — плутали бы почём зря. — Так ведь и карты часто не помогают, а то и врут, — добавил Бирюзов. — Не зря же байку сочинили: приехали офицеры на машине в деревушку, мальчишки орут: «Мамка, иди сюда, офицеры карту достали, сейчас дорогу будут спрашивать!» Малиновский расспросил Бирюзова о прежней службе, о семье. Тот отвечал охотно, чувствуя, что не ради формы задаются эти вопросы. — Сергей Семёнович, сколько вам времени нужно, чтобы вступить в должность? Двух-трёх дней хватит? — Безусловно! Даже многовато. Кое с чем я уже успел ознакомиться. — Очень хорошо. Чем быстрей, тем лучше. Наша армия должна перебазироваться в район Сталинграда для усиления войск Донского фронта. Район сосредоточения — севернее окружённой группировки Паулюса. Район весьма обширный: север — станция Фролово, юг — станция Качалинская, почти сотня километров. Вот посмотрите. — Малиновский кивнул на карту. Это, конечно, будет осложнять связь с дивизиями и полками. Возникнут трудности при разгрузке и размещении войск: все населённые пункты в районе сосредоточения, можно сказать, до отказа забиты тыловыми частями и складами Донского фронта. Именно отсюда этот фронт начал своё знаменитое наступление девятнадцатого ноября, нанеся удар по флангу немецко-фашистской группировки. Придётся нашим молодцам размещаться в чистом поле при таких морозах. Будет множество проблем: организация управления войсками, служба регулирования движения на дорогах, прикрытие частей с воздуха. Ведь предстоит идти форсированным маршем днём и ночью. Сложности будут и со связью. Проводных средств у нас маловато, а радиосвязь мы задействовать не сможем: немцы засекут. Так что забот полон рот. — Товарищ командующий, — попросил Бирюзов, — разрешите мне незамедлительно вылететь в войска, чтобы на месте ознакомиться с тем, как идёт подготовка к передислокации. — Летите, Сергей Семёнович. Но вам следовало бы хоть чуток отдохнуть. — Отдохнём после войны, товарищ командующий. — И то верно. Желаю успеха. Вместе с Грецовым Бирюзов не мешкая отправился в войска, где и провёл целый день. Побывали они в частях 1-го гвардейского стрелкового корпуса, которым командовал генерал Иван Ильич Миссан. Потом отправились в дивизию генерала Петра Кирилловича Кошевого. Внешне эти два военачальника резко отличались один от другого: Миссан — медлительный, замкнутый в себе великан, а Кошевой — подвижный, даже излишне разговорчивый, что называется, душа нараспашку. Но главное, и у того, и у другого в частях был полный порядок: крепкая дисциплина, боевой дух, желание побыстрее идти в наступление. С кем бы Бирюзов ни общался, везде его ждал один и тот же вопрос: когда же на фронт? Бирюзов с пристрастием проверял, всё ли готово к переброске частей, и обнаружил, особенно на железной дороге, множество упущений. Не все командиры учитывали, что при погрузке станции могут быть атакованы авиацией противника, не везде части связи были включены в первые эшелоны. Медленно шло дело с оборудованием дополнительных погрузочных площадок. Большие трудности возникали из-за того, что пути были забиты эшелонами с грузами и порожняком. Малиновский остался очень доволен обстоятельным докладом Бирюзова. Вместе они внесли серьёзные поправки в планы погрузки эшелонов. Решили сократить их число, а также сократить время, отведённое на погрузку. Вместе порадовались боевому настрою бойцов и офицеров. Малиновский ознакомил Бирюзова с новыми данными об обстановке. — Теперь уже есть точные сведения о том, что Гитлер решил деблокировать окружённую армию Паулюса. Его можно понять, ведь в котле оказались целых двадцать две дивизии — более трёхсот тысяч солдат и офицеров! К Тормосину и Котельникове подтянулись довольно крупные силы. Именно отсюда они, видимо, и предпримут попытки прорваться к Паулюсу и вместе с ним восстановить положение на Дону и Волге. Командовать группировкой будет генерал-фельдмаршал Манштейн. Зубр опытный, в прошлом он занимал должность заместителя начальника генштаба вермахта, а после захвата Крыма возглавил группу армий «Дон». Манштейн уже создал мощную группу прорыва. Ему подчинены все войска, действующие к югу от среднего течения Дона до Астрахани, а также войска, которыми командует Паулюс. Мало того, он получил сильное подкрепление — из Франции к нему переброшено до десяти дивизий, в том числе четыре танковые. А это пятьсот танков. Вот-вот он двинет всю эту махину на Сталинград. — Каковы наши планы, товарищ командующий? — поинтересовался Бирюзов. — Против кого мы в первую очередь бросим силы — добивать Паулюса или преграждать путь Манштейну? — Сейчас как раз Ставка и ломает над этим голову. Есть два варианта: всей мощью наброситься на Паулюса или, удерживая кольцо окружения, дать отпор Манштейну и не допустить деблокировки. Убеждён, что от правильности выбора будет зависеть исход всей Сталинградской битвы. — Малиновский пытливо вгляделся в лицо Бирюзова. — А какой вариант выбрали бы вы, Сергей Семёнович, доведись вам принимать решение? — Я за то, чтобы преградить путь Манштейну, — не раздумывая ответил Бирюзов. — Вот и я стою на этом, и Александр Михайлович Василевский тоже за этот вариант. Ждём окончательного решения Ставки. А вам когда-нибудь доводилось, Сергей Семёнович, слышать про реку со странным названием Мышкова? Я лишь совсем недавно, «путешествуя» по карте, узнал, что есть такая река, и не просто река, а левый приток самого Дона. И не просто приток, а теперь ещё и важный водный рубеж на подступах к Сталинграду. Река сейчас, естественно, скована льдом, но всё же... Так вот, если Манштейн переберётся на другой берег этой реки вместе со своими танками, то до самого Сталинграда никаких естественных преград для него уже не будет. И покатятся его таночки прямиком к Волге. — Малиновский вздохнул и отошёл от карты. — Такие вот, дорогой Сергей Семёнович, дела...
11
Представитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал-полковник Александр Михайлович Василевский прошёл в аппаратную и соединился с Верховным Главнокомандующим. — Товарищ Сталин, докладывает Василевский. Обстановка следующая: началось крупное наступление танковых войск Манштейна со стороны Котельникова. С выходом этих войск к реке Аксай может создаться серьёзная опасность прорыва Манштейном внешнего фронта окружённых войск Паулюса. Я дал указание немедленно перебросить 2-ю гвардейскую армию на рубеж реки Мышкова, чтобы остановить продвижение войск Манштейна... — А как обстоят дела с ликвидацией окружённых войск Паулюса? — прервал Сталин. — Товарищ Сталин, эту операцию придётся временно отложить. — Отложить?! — в голосе Сталина прозвучало возмущение. — Вы отдаёте себе отчёт, товарищ Василевский? — Товарищ Сталин, иное решение может привести к пагубным последствиям. Сосредоточение сил 48-го танкового корпуса немцев в районе Рычковского и Нижне-Чирской диктует необходимость направить основные усилия наших войск прежде всего на разгром деблокирующей группировки Манштейна. Иначе Паулюс вырвется из «котла». — А если перебросить дополнительные резервы? — поинтересовался Сталин. — Это было бы желательно. Однако железные дороги перегружены, и мы неизбежно запоздаем с переброской войск. — Хорошо, мы подумаем, — завершил разговор Сталин. Уже через несколько часов, вызвав к аппарату Василевского, Верховный согласился с его предложением. — Но учтите, товарищ Василевский, что операция «Кольцо» откладывается лишь временно. Паулюса в покое оставлять нельзя. Необходимо параллельно с оказанием отпора Манштейну не давать Паулюсу передышки ни днём ни ночью. Надо постоянно, шаг за шагом сжимать кольцо окружения и не допускать попыток даже малых сил окружённых вырваться из «котла». Что же касается Малиновского, то прикажите ему сделать всё возможное и невозможное, чтобы остановить Манштейна, в течение ближайших дней занять Котельниково и прочно там закрепиться. И последнее. Вся ответственность за руководство войсками по ликвидации деблокирующих группировок противника возлагается, товарищ Василевский, на вас. — Слушаюсь, товарищ Сталин, — коротко ответил Василевский. Он тут же связался с Малиновским. — Родион Яковлевич, теперь на вас вся надежда. Вашей армии предстоит совершить форсированный марш к рубежу реки Мышкова и превратить её северный берег в непреодолимый барьер. Все соединения и части, подходящие к линии фронта, с ходу бросать в бой. Или северный берег реки Мышковы станет для Манштейна непреодолимой преградой, или... — Василевский не договорил фразы: — Именно здесь будет решена судьба Сталинградской битвы. — Задачу понял, Александр Михайлович, — стараясь не выдать волнения, ответил Малиновский. — Я решил переподчинить вам вступившие в бой южнее 4-й кавалерийский, 4-й механизированный корпуса и 87-ю стрелковую дивизию. — Благодарю. — Сосредоточьтесь на фронте Нижне-Кумский — Капкинский и с утра двадцать второго переходите к активным действиям. Малиновский в полной мере осознавал свою колоссальную личную ответственность за исход предстоящего сражения: от действий его армии, от того, как она справится с поставленной задачей, будет зависеть многое, если не всё: или его войска остановят танки Манштейна и тогда 6-й армии Паулюса не останется ничего, кроме сдачи в плен, или его армия дрогнет и тогда Паулюс, соединившись с Манштейном, возьмёт Сталинград и начнёт новое, мощное наступление, которое приведёт к непредсказуемым последствиям для всей страны. Кроме того, Родион Яковлевич воспринимал поставленную перед ним задачу, как единственный и, возможно, последний шанс реабилитировать себя после трагического лета сорок второго года. Реабилитировать не только в глазах Сталина. Итак, форсированный марш. Легко сказать! Стояла зима, приволжские степи тонули в глубоких снегах, свирепствовали метели, редкие дороги замело напрочь, трескучие морозы, казалось, были способны погубить всё живое. Требовались поистине нечеловеческие усилия, чтобы пробить дорогу танкам, артиллерии, пехоте и в крайне сжатые сроки, преодолев двести-тристакилометров ледяного ада, выйти на заданный рубеж. К тому же выйти с боями. Вскоре Василевский приехал на командный пункт 2-й гвардейской. Вместе с Малиновским они склонились над оперативной картой. — Хочу подробнее рассказать вам о противнике и его замыслах, — начал Александр Михайлович. — Командовать ударной группировкой немцев поручено танкисту генералу Готу. Ему приказано, осуществив прорыв на узком участке фронта, прорваться к высотам Ерико-Крепинского, а это всего тридцать километров от окружённой группировки. Как только Гот достигнет этого рубежа, Паулюс нанесёт встречный удар. Немцы не поскупились на символику. Прорыв Гота назвали операцией «Зимняя гроза», а встречный удар Паулюса — «Удар грома». Красиво, ничего не скажешь. Но главное в том, что армейская группа Гота включает в себя тринадцать дивизий, из них две танковые, включая батальон «тигров». — Это как раз в полосе 51-й армии, — задумчиво сказал Малиновский. — Нелегко ей придётся: получается едва ли не шестикратное превосходство в танках. — Как форсированный марш? — спросил Василевский. — Темп марша — пятьдесят километров за ночь. Днём — короткий отдых, если его можно назвать отдыхом. Обогреться негде, в сёлах целых домов почти не осталось, а те, что уцелели, заняты под госпитали и тыловые подразделения. Но наступательный порыв у бойцов и офицеров необыкновенно высок. Занимаем позиции по берегу реки Мышкова. Разрешите, Александр Михайлович, отправиться в войска? — Хорошо. И я с вами. Генералы вышли на крыльцо. Мороз сразу хватанул за уши и щёки, настырно полез за меховые воротники полушубков. В небе раздался тяжёлый, надсадный гул самолётов, летящих на восток. И сразу же в уши ударил грохот разрывов. — Хрюкин? — осведомился Василевский. — Да, это Тимофей Тимофеевич работает, — подтвердил Малиновский. — Я его почерк ещё по Испании знаю, он ведь там был вначале лётчиком-бомбардировщиком, а позднее командиром авиаотряда. Испанцы легенды о нём рассказывали. — Наслышан, — сказал Василевский. — Он же до войны и в Китае побывал, и на финской отличился. — Да, геройский мужик. Уже к началу войны имел сто боевых вылетов. — И организатор превосходный. Да что там говорить, лихой казак. Он, кажется, с Кубани? — Да, кубанец. Снова раздался грохот разрывов. Казалось, небо низвергло на заснеженную степь сотни грозовых разрядов. — Густо бомбят, — удовлетворённо заметил Василевский. Они сели в подскочивший к крыльцу «газик». — На КП 98-й дивизии! — приказал Малиновский. — К Васильевке! «Газик» не успел отъехать, как к машине подбежал офицер штаба: — Радиограмма от генерала Бирюзова! Малиновский взял протянутый ему бланк. Бирюзов сообщал, что на узком участке фронта (он указывал координаты) танкам Гота удалось прорвать нашу оборону и выйти на северный берег Мышковы. На остальных участках армия прочно держится и отбивает ожесточённые удары противника. Прочитав сообщение, Малиновский передал бланк Василевскому. — Известие, прямо скажем, не вдохновляет, — коротко прокомментировал радиограмму Александр Михайлович. — Получается, танки Гота всего в сорока километрах от Сталинграда. Надо принимать меры. — На этот случай у меня ещё есть небольшой резерв, — в голосе Малиновского прозвучало удовлетворение. — Самое время пустить его в дело. — Узнаю вас, Родион Яковлевич, — улыбнулся Василевский. — Запасливый вы человек. А то иные военачальники порой так увлекутся, что ни одного солдатика в резерве не оставляют, всех до единого — на поле боя! — В Одессе, когда я был ещё мальчонкой, хозяин магазина, где я работал, очень любил запасы, хотя жил не по средствам и никогда не вылезал из долгов. Бывало, говаривал: «Лишняя деньга кармана не продерёт». Или: «Поезжай на неделю, а хлеба бери на две». И ещё из его лексикона: «Ешь пироги, а хлеб вперёд береги!» Вот я и запомнил. — Понятно, — рассмеялся Александр Михайлович. — А велик ли резерв? — Две противотанковых батареи и танковый батальон. — Совсем неплохо... Попрощавшись с Василевским, который отправлялся на другой участок фронта, Малиновский поехал на командный пункт 98-й дивизии. Впереди, насколько мог охватить глаз, под багрово-сизым небом простиралась укрытая снегами степь. Белизна её нарушалась чёрными воронками от снарядов и авиабомб, чёрными остовами подбитых и сгоревших танков, пушками с тяжёлыми грузными лафетами, с задранными вверх, теперь уже бессильными стволами. Вблизи от дороги то и дело встречались трупы солдат, полузанесённые снегом. Жаркая битва бушевала в эти дни в приволжских степях! Машина миновала балку, сплошь заваленную брошенной немцами техникой. На этой свалке были и наши подбитые танки. «Главное, что мы успели выиграть время для полного развёртывания армии на заданном рубеже, — думал Малиновский. — Успех налицо. За двое суток непрерывных боёв Манштейн, за исключением одного небольшого участка, не смог преодолеть рубеж Мышковы. Будем считать, что сегодня — решающий день». Наконец Родион Яковлевич прибыл на командный пункт дивизии, расположившийся неподалёку от деревни. Подбежавший командир дивизии доложил, что северный берег реки удерживается прочно, хотя противник беспрерывно атакует. — Подмога прибыла? — Прибыла, товарищ командующий, и очень кстати. Его слова заглушил страшный грохот — вблизи наблюдательного пункта разорвался снаряд. За ним второй, третий... Едва умолкла пушечная канонада, в полевой бинокль Малиновский рассмотрел контуры вражеских танков. — Товарищ генерал, — взволнованно обратился к Малиновскому командир дивизии, — вам лучше перебазироваться на командный пункт армии. Сейчас тут будет такое! Я насчитал уже шестьдесят танков! — Руководите боем, — спокойно ответил Малиновский. По приказу комдива артиллеристы 20-й истребительной противотанковой бригады выдвинули орудия на прямую наводку. В окопах изготовились бронебойщики. А когда танки едва не вплотную приблизились к траншеям, им навстречу бросились моряки-тихоокеанцы со связками гранат. Родион Яковлевич видел, что моряки, сбросив бушлаты, остались в одних тельняшках. «Геройские ребята», — думал он. Началась жаркая схватка. Факелы от горящих танков огненными хвостами потянулись в зимнее небо. Прямой наводкой били не только противотанковые пушки, но и полевые гаубицы, хотя они были предназначены главным образом для стрельбы с закрытых позиций. Ближе к ночи танковая атака немцев захлебнулась. Малиновский отправился на командный пункт армии. Душа полнилась радостью: прогноз оказался верным, Мышкова Манштейну не по зубам. Теперь надо думать, как перейти в контрнаступление. И чем быстрее, тем лучше. На командном пункте армии царило оживление. Ещё бы! Манштейн остановлен, деблокирование провалилось! Малиновский сразу же обратил внимание на то, что те же самые офицеры и генералы, которые в сорок втором выглядели подавленными и виноватыми, сейчас будто «расправили крылья». Научились бить непобедимых гитлеровских вояк! — Теперь главная цель — Котельниково, — весело произнёс Василевский. — Заняв его, мы лишим врага оперативного манёвра. Ведь это — крупный железнодорожный пункт. Прошу командующих и начальников родов войск доложить о готовности. После доклада началось уточнение задач, деталей и особенностей предстоящего наступления. Когда всё было обговорено и решено, Родион Яковлевич поднялся из-за стола: — Ну что, товарищи, всыплем Манштейну? Да так, чтобы он на всю жизнь забыл дорогу к Сталинграду! — Всыплем, товарищ командующий! — раздались голоса. — Не слышу начальника штаба, — лукаво проронил Родион Яковлевич. — Сомневаетесь, Сергей Семёнович? — Да Боже упаси! — живо откликнулся Бирюзов, — Как взаимодействие с соседями? — Всё в порядке. С 5-й армией и её 300-й стрелковой дивизией, которая обеспечивает наступление нашего правого фланга, имеется вполне устойчивая связь. Всё нормально и со связью с 51-й армией, которая будет наносить удар по противнику слева, с направления Гнило-Аксайская. — Теперь доложите, какие у нас сигналы выхода на рубежи. Крайне важно, чтобы наступление шло организованно и точно по плану. Бирюзов все сигналы знал, можно сказать, наизусть: — Выход на рубеж Верхне-Кумский, Заготскот, высота сто двадцать один, три, «Парижская Коммуна» — сигнал «Дон»; второй рубеж — Клыков, балка Неклинская, луг, высота сто четыре — сигнал «Волга». Сигнал «Канал» означает, что задача выполнена. — Отлично, — подытожил Малиновский. — Считаю, что всем нам на командном пункте быть незачем, важнее находиться в войсках. Я буду в 1-м гвардейском стрелковом корпусе. В 13-й гвардейский, к генералу Чанчибадзе, думаю, следует отправиться вам, Сергей Семёнович. А что скажет член Военного совета? — Люблю танкистов, — был ответ. — Тогда — к Ротмистрову. — Ну а я — к Рокоссовскому, — улыбнулся Василевский. — Засиделся я у вас. — Всем желаю боевых удач, — на прощание сказал Малиновский. — И пока не добьём этого Манштейна, на КП не возвращаемся. Договорились?..
12
В первых числах января уже наступившего сорок третьего года Малиновскому позвонил Василевский: — Родион Яковлевич, кажется, вам давно не приходилось быть в роли человека, дающего интервью? Все бои да сражения... — Да не очень-то я охоч до таких занятий. К тому же журналисты — народ въедливый, впиваются в тебя, как клещи. Вы же сами знаете. — Да уж знаю, но тут случай особый. Где-то через недельку к вам пожалует некий Александр Верт, корреспондент английской газеты «Санди таймс» и радиокомпании «Би-би-си». Придётся его принять. — Александр Михайлович, нельзя ли как-то уйти от этого? Может, кто другой? — Уважил бы, Родион Яковлевич, да не в моих силах. По этому вопросу мне звонил лично Верховный. И назвал вашу фамилию. И кроме того, Верт рвётся именно к вам, ведь это вы не дали Манштейну облобызаться с Паулюсом. Вот теперь и расплачивайтесь. — Александр Михайлович, но ведь не один я! К тому же корреспондент иностранный. Каждое слово надо взвешивать. — Родион Яковлевич, я вас не узнаю. Вы никогда не боялись ответственности, не раз это доказали. — Ну что поделать. — Малиновский понимал: «от Верта не отвертеться». — Воспринимаю это как директиву. — Не директиву, а просьбу, — уточнил Василевский. — Сами понимаете, когда мы отступали, никто у нас интервью не брал. Да и не до этого было. А сейчас в самый раз прославить наше оружие. Да и неплохой случай нашим союзникам здравые мысли подбросить. — Понимаю. Вот только будет у меня проблема с переводчиком, — посетовал Родион Яковлевич. — С немецкого — их пруд пруди, а с английского — никого нет. Может, он французский знает или испанский. Я пока что эти языки не забыл. — Проблема перевода пусть вас не тревожит, — успокоил его Василевский. — Верт прекрасно владеет русским. Он родом из Петербурга. И что главное — сочувствует Советскому Союзу, журналист левой ориентации. — Хорошо, Александр Михайлович, постараюсь выполнить поставленную задачу. На том разговор завершился. И действительно, вскоре, 11 января, Верт прибыл в штаб армии, который располагался в большом селе на берегу Дона. Это были дни, когда продолжалось наступление 2-й гвардейской армии, гнавшей остатки войск Манштейна со Среднего Дона. Родион Яковлевич встретил Верта радушно, усадил поближе к большой русской печи, в которой полыхал огонь. Иностранец и впрямь основательно продрог, хотя и был одет в новенький полушубок, на голове — цигейковая шапка. Малиновский подумал, что, доведись ему встретить Верта где-нибудь на позиции, вряд ли смог бы узнать в нём англичанина: в лице журналиста было много славянских черт. С первых минут встречи Верт радовался, что попал именно к Малиновскому: от многих военных с их солдатской прямотой и резкостью этот генерал отличался естественной интеллигентностью и способностью располагать к себе собеседника. — Вы, вероятно, устали? — осведомился Малиновский. — Дороги-то у нас — не английские автострады. — Корреспондента, как и волка, ноги кормят, — заулыбался Верт, гордясь тем, что знает русские пословицы. — Что значит усталость по сравнению с общением с таким прославленным полководцем, как вы! — Ну, это слишком, — Малиновский смутился. — Я обычный командующий армией, каких у нас немало. Верт замахал руками, давая понять, что опровергает такое самоуничижение. — Я всегда поражаюсь скромности советских полководцев, — поспешно заговорил Верт. — Это одно из их основных отличий от немецких генералов. Сколько там хвастунов! Выиграют сражение и ходят как павлины, распустив хвосты. А вы, господин генерал, можно сказать, сломав рога Манштейну, решили исход Сталинградской битвы, а приравниваете себя ко всем остальным. — Исход Сталинградской битвы не мог быть решён одним военачальником, — возразил Родион Яковлевич. — Вы это прекрасно знаете. К тому же не следует забывать о солдате. Мы, военачальники, без наших солдат — ничто. Но мы, кажется, слишком рано взялись обсуждать деловые вопросы. Ведь вы, вероятно, проголодались? — Нет-нет, я успел перекусить перед дорогой, — опять замахал руками Верт. — Сейчас для меня важнее другое. Я прекрасно понимаю, что вы дорожите каждым часом, даже каждой минутой. К тому же нам могут помешать непредвиденные обстоятельства, и тогда — прощай интервью! — Что верно, то верно, — согласился Малиновский. — Но, думаю, чашечка кофе не помешает? Составлю вам компанию. — Кофе? — обрадованно переспросил Верт. — От кофе не откажусь! Через несколько минут кофе был на столе. — Какой потрясающий аромат! — Верт отхлебнул из чашки. — Натуральный кофе, не какой-то там немецкий эрзац! — Вы только что из Котельникова? — поинтересовался Родион Яковлевич. — Как там обстановка? — Да, я там пробыл уже целую неделю, — охотно стал рассказывать Верт. — Да, в том самом Котельниково, из которого вы так успешно выбили Манштейна. Своими глазами видел, как «похозяйничали» там немцы! Вы знаете, это район казачий и немцы здесь зверствовали меньше, чем в других местах. И всё же то, что они натворили, потрясает воображение! Меня и моего друга Эдгара Сноу поместили в небольшой деревянной избе, в которой жила местная учительница со старухой матерью и единственным сыном. Они многое мне рассказали. Особенно о том, с каким презрением и высокомерием относились к ним немцы, сколько горечи и унижения пришлось им испытать во время оккупации. Елена Николаевна — так зовут хозяйку — рассказала, что в их доме стояли сперва румыны, потом немцы — экипаж танка, пять человек. Я был очень удивлён, увидев здесь, в задонских степях, то, что они бросили в доме: карту парижского метро с указателем улиц и номер газеты «Виттгенштейнерцейтунг» от 4 декабря с передовой статьёй «К 50-летию Франко — спасителя Испании»[3]. Насколько я знаю, вам доводилось бывать в Испании, господин генерал? — Я чувствую, мы уже перешли к интервью? — улыбка промелькнула на губах Малиновского. — Да, я был в Испании с конца тридцать шестого по лето тридцать восьмого года, так что знаю о «спасителе» не понаслышке. И я не только побывал в этой стране, но и полюбил её, полюбил народ Испании. Сейчас наша война, казалось бы, заслонила собой всё, что было в прошлом, и всё же нет-нет, а испанские годы дают о себе знать. — Это понятно! — воскликнул Верт. — Испания — очень колоритная страна! — Мне кажется, что вы не всё ещё рассказали о Котельникове, — вернулся к первоначальной теме Малиновский. — Да-да. Вы знаете, меня очень порадовал пятнадцатилетний сын этой учительницы, его зовут Гай. Странное имя, не правда ли? Худой, очень худой мальчик с умным лицом. Я расспрашивал, как к нему относились немцы. «Да они нас и за людей не считали, — был ответ. — Если бы немцы здесь остались, девушек заставили бы мыть полы, а парней — пасти скот». Его особенно возмущало, что немцы вывесили на стенах домов портреты Гитлера с надписью «Фюрер-освободитель». А этот «освободитель», сказал мальчик, и на человека-то не похож — лицо прямо звериное. «У немцев страсть — всё разрушать. В последнюю ночь они сожгли городскую библиотеку. Даже с моей домашней библиотечкой расправились. Выдрали из всех книг портреты Ленина и Сталина». Глупо, правда? — То, что вам рассказали, — это детские шалости немцев. Наверное, вам не раз довелось видеть виселицы на городских площадях, сожжённые дома, трупы расстрелянных мирных жителей. — Конечно, господин генерал, я хорошо осведомлён о зверствах гитлеровцев. Это просто каннибалы двадцатого века! Кстати, председатель местного исполкома Терехов рассказал мне, что в Котельниково было расстреляно немцами много мирных людей, а триста человек, в основном молодёжь, были угнаны как рабы в Германию. И если бы немцы оставались в Котельниково ещё дольше — они бы полностью разрушили город и угнали в рабство куда больше людей. — Я слышал, что вы побывали и в Зимовниках? — поинтересовался Малиновский. — Это важный узел коммуникаций на железной дороге Сталинград — Кавказ. Немцы очень боятся, что мы перекроем эту дорогу. — В районе Зимовников очень активно действует немецкая авиация, — сообщил Верт. — Я был свидетелем боя советских истребителей с немецкими. Совсем близко слышал залпы «Катюш». А сам городок сильно разрушен артиллерийским огнём. Кстати, мне довелось присутствовать при допросе пленного немецкого офицера. Он весьма спесиво утверждал, что весной фюрер начнёт новое наступление и Сталинград будет взят. И что Ростов они ни в коем случае не отдадут. — Маловероятно, — усмехнулся Малиновский. — Я тоже убеждён, что этого не случится, — подхватил Верт. — Куда им теперь против такой мощи, такого натиска! Да, забыл рассказать об одной интересной детали. Это касается того самого мальчика, Гая, из Котельниково. Он рассказывал мне, как немцы в их доме праздновали Рождество. Нарядили маленькую ёлку, выставили на стол конфеты, много банок консервов, бутылки с вином. Я спросил, приглашали ли они их за пиршественный стол. «Конечно, нет, — ответил мальчик, — им это и в голову не пришло. Для них мы — просто рабы. Да я бы и не пошёл к ним, мне противно было бы участвовать в их пиршестве». — Этот мальчик внушает уважение, — заметил Родион Яковлевич. — Он вырастет настоящим патриотом. А патриотизм — залог победы в войне. — В Зимовниках я был свидетелем печального зрелища, — продолжал Верт. — За зданием клуба есть маленький сад. Там ваши солдаты копали братскую могилу и хоронили убитых немцами людей из мирного населения. Рядами были сложены десятки трупов, окоченевших в страшных позах, — одни в сидячем положении, другие с раскинутыми руками, третьи с оторванной головой. Сколько же таких братских могил копают ежедневно! — Да. Советский народ в этой войне несёт огромные жертвы. И нет прощения гитлеровским злодеяниям, — кивнул Малиновский. — Господин генерал, теперь я был бы вам очень признателен за рассказ об арьергардных боях, которые вела ваша армия с двенадцатого по шестнадцатое декабря, и о боях, происходивших в течение следующей недели. Разумеется, и за рассказ о контрударе, отбросившем немцев за Зимовники. Поверьте, это не праздное любопытство. Я собираю материал для книги, которую хочу назвать «Россия в войне». Название, конечно же, условное. В этой книге я хочу отвести достойное место действиям вашей армии на Сталинградском фронте. — Благодарю за внимание к моей армии, господин Верт, — откликнулся Малиновский, — и готов рассказать обо всём, что вас интересует. Он разложил на столе уже отработанную оперативную карту и подробно осветил поставленный Вертом вопрос. Особенно детально Малиновский рассказал о подвигах офицеров и солдат армии при отражении гитлеровского наступления. — Хочу обратить ваше внимание ещё вот на что, — продолжил он. — Сейчас немцы впервые проявляют признаки серьёзного замешательства. Пытаясь заткнуть образующиеся бреши, они перебрасывают свои войска с места на место, что свидетельствует о нехватке резервов. Многие немецкие части отступают на запад в беспорядке, бросая огромное количество техники. Такие части становятся легко уязвимыми для наших самолётов. Войска же гитлеровских сателлитов в большинстве полностью разгромлены. Многие немецкие офицеры, которых мы захватили в плен, разочарованы и в своём верховном командовании, и даже в самом фюрере. От самоуверенности, которой они отличались ещё летом, не осталось и следа. — А каковы трудности вашей армии? — Мы испытываем значительные трудности из-за растянутости наших коммуникаций, но довольно успешно справляемся с ними. И вообще, Красная Армия резко изменилась в лучшую сторону. В организационной структуре летом сорок второго года были произведены многие поистине революционные перемены. — Господин генерал, а как вы оцениваете боевой дух ваших войск? — Наступательный дух наших войск сейчас гораздо выше, чем прежде, — уверенно ответил Малиновский. — Зимнее наступление сорок второго — сорок третьего годов мы ведём по более широкому фронту, чем зимнее наступление сорок первого — сорок второго годов. У наших солдат сейчас гораздо больше опыта. Теперь они способны стойко держаться в таких условиях, которые год назад показались бы им невыносимыми, — например, при наступлении большого количества вражеских танков. Во время последнего наступления Манштейна наши войска успешно отражали такие атаки. — А как вы оцениваете судьбу окружённой армии Паулюса в Сталинграде? — Сталинград сейчас — это фактически лагерь вооружённых военнопленных. Положение его безнадёжно. Ликвидация «котла» уже началась, и огромные потери, которые немцы несут в Сталинграде, будут иметь решающее значение для исхода всей войны. Попытки снабжать Сталинград по воздуху теперь, когда немецкие истребители не могут сопровождать транспортные самолёты, полностью провалились. — Хотелось бы знать ваши прогнозы боевых действий на нынешний, сорок третий год? — Прогнозы? — переспросил Малиновский. — Любые прогнозы — дело неблагодарное. Однако попытаюсь. Нельзя не учитывать того обстоятельства, что немцы ещё сильны в воздухе и танков у них тоже ещё много. Солдаты войск СС дерутся яростно. Что же касается боевых качеств остальных немецких войск, они весьма неравноценны. Тем не менее я твёрдо уверен, что Ростов будет освобождён, но пока говорить о конкретных сроках я не хотел бы. Знаете, «Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь» — есть такая поговорка. Немцы ещё могут предпринять контрнаступления, пусть и ограниченных масштабов. Нам предстоят тяжёлые испытания. Поэтому, господин Верт, мы и призываем наших союзников умножить свои усилия на Западе. Высадка в Северной Африке — это довольно скромное начало, она лишь незначительно ослабила нажим немцев на Востоке. Верт оценил то, что упрёк в адрес союзников был на удивление мягким, их действия, по его мнению, заслуживали более основательной и даже жёсткой критики. Беседа затянулась, и Малиновский наконец сказал: — Господин Верт, вы, может, слыхали и такую русскую пословицу: «Без соли, без хлеба худая беседа»? — О, я обожаю русские пословицы! — обрадовался Верт. — В них столько мудрости! — Вы правы, — весело подхватил Малиновский. — И что же вам говорит именно эта пословица? — Я так думаю, что господин генерал приглашает меня на обед? — Именно это я и имел в виду. Отправимся в нашу столовую, ибо и на этот случай в народе припасён хороший совет: «Наперёд накорми, а там уж и расспроси». Жаль, что мы сразу не последовали этому совету. — Нет возражений, — развёл руками Верт. Англичанин был изумлён, увидев на столе запечённого в печке гуся и всевозможную закуску: солёные огурчики, капусту и грибы. — Нам могут позавидовать даже немцы, встречавшие Рождество! — пошутил Верт. Особый восторг вызвал у него трофейный французский коньяк и немецкие сигары. — Но хочу вас предупредить, господин Верт, — лукаво сказал Малиновский, — что главное блюдо появится чуть позже. — Сгораю от любопытства! — Хорошо, выдам тайну. Мои умельцы сварили уху из стерляди. — Уху из стерляди?! — Мы же с вами находимся на берегу Дона. Да и Волга отсюда недалече. После того как выпили по рюмке, разговор стал менее официальным. — Я немного знаком с вашей биографией, — Верт торопился как можно больше расспросить Малиновского, — и слышал, что в Первую мировую войну вы в составе Русского экспедиционного корпуса воевали во Франции. Это действительно так? — Так, — подтвердил Родион Яковлевич. Ему вдруг самому захотелось вспомнить о юности. — Это, знаете ли, целый приключенческий роман. Ведь наш экспедиционный корпус отправлялся во Францию морем. И мы через всю Россию по Великому Сибирскому пути сперва добирались до порта Дайрен. А там нас посадили на старенький грузовой пароход «Гималаи». Ну конечно, море потрепало, жестокие были штормы. Восемь суток добирались до Гонконга. Потом — Южно-Китайское море, Сингапур, остров Цейлон, побывали и в порту Коломбо. Затем вышли в Индийский океан, прошли Баб-эль-Мандебский пролив, попали в Красное море. В Суэцке перебрались на французский лайнер «Лютеция» и наконец оказались в Средиземном море. А потом уж Марсель, порт выгрузки. — Да вы просто великий путешественник! — вскричал Верт, поражённый размахом этого едва ли не кругосветного плавания. — Хватили мы лиха в этом путешествии, — рассмеялся Малиновский. — Теперь смешно, а тогда, честно скажу, было не до смеха. Только когда оказались на берегу — воспрянули духом. А знаете, господин Верт, чем мне понравился Марсель? — Ума не приложу. — Он очень напомнил мне родную Одессу! Одинаковый у этих городов характер — бурный, жизнерадостный. И дух бунтарский. Вы, конечно, знаете, что именно батальон марсельских волонтёров во время Французской революции принёс в Париж революционный гимн «Марсельезу», ставший национальным гимном Франции. — О да, да! Одесса и Марсель — это как брат и сестра! — Встречали нас с ликованием. Впрочем, я вас, кажется, немного заговорил. А вот и уха подоспела. Давайте попробуем? — Охотно! — Такую слышали присказку: «Год не пей, два не пей, а под ушицу выпей»? — Как, как? — Верт пришёл в полный восторг. — Позвольте, я это немедленно запишу. — Он выхватил из кармана блокнот. — Год не пей, два не пей... Это же фольклорный шедевр! — Что касается моего пребывания во Франции, об этом можно очень долго рассказывать. Кстати, должен заметить, что вам повезло — меня ещё ни разу не оторвали от нашей беседы. — Да, мне повезло. Я вообще везучий человек, — похвастался Верт. — Но уха, боже мой, какая уха, умереть можно от одного аромата. — Вот и выпьем под ушицу за вашу везучесть! — И всё-таки ещё хоть немного из ваших французских впечатлений! — попросил Верт. — Всего не вспомнишь. Вначале разместили нас в знаменитом военном лагере Майн, примерно в ста пятидесяти километрах на восток от Парижа. Надо сказать, русские войска здесь появились впервые за последние сто лет. Они могли проходить здесь только в тысяча восемьсот четырнадцатом году, направляясь в Париж. Наши смоленские, черниговские и тамбовские мужики быстро нашли общий язык с французскими солдатами — бывшими пахарями и виноградарями. Началось формирование пулемётных команд, и вскоре наш командующий генерал Лохвицкий доложил русскому представителю при французском верховном командовании и главнокомандующему генералу Жоффру, что 1-я Особая пехотная бригада русских войск во Франции в полной боевой готовности и может выступить на фронт. Так начались мои боевые денёчки. Кстати, на русско-германский фронт я сбежал, ещё будучи подростком. А во Франции стал начальником пулемётной команды. — О, это невероятно! Выходит, вы ведёте свою военную биографию едва ли не с детства! — Почти что. В общем, началась окопная война. Тяжёлая, изнурительная. Забрасывали мы друг друга гранатами, вели стрельбу из миномётов и пулемётов. Как-то наш аванпост немцы накрыли артогнём. Несколько мин, угодив в траншею, разворотили её. Там меня и ранило. Довольно тяжело, пришлось поваляться в госпитале. Сослуживцы считали, что я убит. А я, видите, до сих пор живой. Малиновский задумался. Видения тех тяжёлых боёв всплыли в памяти, будто это было вчера. — В июле восемнадцатого года Германия начала новое наступление, нанося удар огромной силы по обе стороны Реймса, прямо на Париж. Но удар этот был остановлен. Началась вторая Марна. Впрочем, это долгая история. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... — Нет-нет! — замахал руками Верт. — Это исключительно интересно. Получается, что немцев вы впервые узнали много лет назад, и опять судьба свела вас с ними. — Лучше бы их вовсе не знать, — усмехнулся Родион Яковлевич. — Или знать, когда кругом тишь, гладь да Божья благодать. — Простите, господин генерал, у меня есть ещё один, может быть, не совсем деликатный вопрос. Я имел возможность слышать, что в тридцатых годах вам ставилось в вину якобы ваше нежелание возвращаться из Франции в Россию и будто бы сам Сталин этого не забыл. Да и в Испании были очень уж долго... Малиновский нахмурился. — У меня есть принцип, господин Верт, — сухо сказал он, — и этот принцип заключается в том, что я доверяю не слухам, а фактам. Поэтому позвольте оставить ваш вопрос без комментариев. Что же касается моего возвращения из Франции, то я вернулся на Родину, когда узнал, что там свершилась Октябрьская революция. — Ради бога, извините меня. — Верт, кажется, и впрямь досадовал на себя за бестактность. — Извиняю, конечно, — улыбнулся Малиновский. — Я понимаю, у вас такая профессия. Иные журналисты за сенсацию готовы душу дьяволу заложить, лишь бы удивить мир. Главное — что щедро заплатят. Да вы не смущайтесь, речь не о вас. Вы как раз известны как честный, правдивый журналист... А теперь мне бы хотелось произнести небольшой тост. — Родион Яковлевич встал с рюмкой в руке. — Победа — самый счастливый момент в жизни каждого солдата! Мы, советские люди, понимаем технические трудности, препятствующие открытию второго фронта в Европе. В настоящее время мы сражаемся одни, но твёрдо верим, что второй фронт скоро будет открыт. Расскажите вашему народу о том, как чисты наши цели и наши мотивы. Мы хотим свободы — не будем препираться по поводу некоторых различий в её понимании, это вопрос второстепенный. Мы хотим победы для того, чтобы войн больше не было. За нашу общую победу! — Прекрасный тост! — взволнованно сказал Верт. — За вашу и нашу победу! За нашу общую победу! Казалось, этот тост подводил черту под продолжительной беседой, но они говорили ещё о многом. — Выходит, господин генерал, Гитлер зря подарил Манштейну ещё в сорок втором году после падения Севастополя бывший царский дворец крымской «Ривьеры»! Фюрер ведь величал своего фельдмаршала не иначе как «герой Крыма». — Выходит, зря, — засмеялся Малиновский. — Этот Манштейн предложил Гитлеру переименовать Крым в Готенланд на основании того, что в Крыму ещё в шестнадцатом веке жили последние готы. Он даже и на наши города замахнулся — предлагал Симферополь переименовать в Готенбург, а Севастополь — в Теодорихгафен! А получилось, как в басне Крылова «Лиса и виноград»... Наконец стали прощаться. Верт был растроган: такой тёплый приём, к тому же командующий проводил его до самой машины. Он долго благодарил Малиновского и крепко жал ему руку. — Вы снова на свою временную «базу» в Котельниково?— спросил Родион Яковлевич. — Я хочу пригласить вас в Ростов. Вскоре! Вот там мы сочиним настоящую рыбацкую уху, уже ростовскую. — Буду счастлив, Родион Яковлевич! — Верт впервые назвал Малиновского по имени-отчеству. — Постойте, — вдруг спохватился он, — я совсем упустил традиционный вопрос: какое у вас хобби? — Хобби? — переспросил Малиновский. — Хороший вопрос! Смело пишите: рыбалка! — Чудесное хобби! — воскликнул Верт. — Я не рыбак, но слышал, что уженье рыбы укрепляет нервы. — Это уж точно! Не только нервы — жизнь укрепляет и продлевает. — Сейчас, в войну, жалеете, что лишены этого удовольствия — посидеть с удочкой на берегу реки? — Конечно, жалею. Бывают, правда, передышки между боями. Но во время передышек хочется лишь одного — хорошенько выспаться. — Спасибо за приглашение в Ростов! Желаю вам новых боевых удач, господин генерал! — Будем стараться. А вам — побед на фронте журналистики. Правдивой журналистики, — немного помедлив, добавил Малиновский со значением. — Будем стараться! — в тон ему ответил Верт. Машина тронулась с места, а Верт ещё долго оглядывался и видел, что Малиновский стоит на том же месте и машет вслед рукой. «Удивительный человек», — благодарно подумал Верт. Взяв блокнот, он стал, несмотря на тряску, торопливо писать, боясь, что со временем самые яркие, свежие впечатления могут померкнуть: «Командующий армией Малиновский, энергичный молодой генерал-лейтенант — ему 44 года, — великолепный образчик профессионального военного, одетый в элегантный мундир, высокий, красивый, с длинными тёмными волосами, зачёсанными назад, и с круглым загорелым лицом, на котором после нескольких недель непрерывных походов не было заметно ни малейших признаков утомления. Он казался гораздо моложе своих 44 лет. Он всё ещё командует 2-й гвардейской армией, которая сыграла решающую роль в отражении наступления котельниковской группы Манштейна».
13
2 февраля 1943 года Родион Яковлевич Малиновский вступил в командование Южным фронтом. Сталин, сняв его летом сорок второго с этой должности и доверив ему лишь армию, оценил-таки блестящую победу над бронированными армадами Манштейна и вернул на тот пост, который Малиновский заслужил своим полководческим талантом. Теперь Родион Яковлевич получил шанс отбить у врага Ростов, тот самый Ростов, который пришлось сдать трагическим летом сорок второго года. Собственно, сражение за Ростов Малиновский начал ещё в роли командующего 2-й гвардейской армией, штурмуя позиции немцев в устье Маныча, с тем чтобы пробить себе дорогу к Батайску, который немцы превратили в мощный узел сопротивления. Ещё бы, ведь Батайск — это почти Ростов, совсем рядом с ним. 3-й танковый корпус уже достиг окраин Батайска, но это мало радовало командующего: лобовым штурмом город не взять. Разведка доносила: через Батайск днём и ночью сплошным потоком движутся немецкие войска — танки, артиллерия, пехота. Немцы форсированным маршем отводили свои войска с Северного Кавказа, и обороне Батайска придавали особое значение: если они потеряют этот крупный железнодорожный узел, то их войска могут быть рассечены на две части, а это уже чревато угрозой полного уничтожения. Малиновский был прав: танкисты не смогли ни продвинуться дальше, ни закрепиться на достигнутых рубежах. Возникла угроза окружения с флангов, тем более что большие силы немцев были не только в Батайске, но и в прилегающих к нему казачьих станицах. Разумнее было выбить противника из этих станиц, и, прежде всего из, Манычской и Самодуровки. Став командующим фронтом, Малиновский в самые сжатые сроки, буквально за несколько дней, вместе со своим штабом разработал план операции по овладению Ростовом. Мглистой февральской ночью план приобрёл силу приказа командующего Южным фронтом и был введён в действие. Артподготовка была непродолжительной, но мощной. Едва умолк последний залп, как 44-я армия вместе с конно-механизированной группой форсировала Мёртвый Донец и Дон на линии Ростов—Таганрог. Спустя менее суток бросок к Ростову совершила 28-я армия. Она шла на город с юга, с востока же пошла в наступление ставшая Родиону Яковлевичу родной 2-я гвардейская. Три армии, выполняя замысел командующего фронтом, нанесли мощный удар по войскам противника, удерживавшим Ростов. И этого сокрушительного удара немцы не выдержали. Малиновский въехал в город вместе с передовыми частями наступающих войск. Пламя пожара полыхало над вокзалом, в руины было превращено здание театра, дымились развалины домов в центре и на окраинах. На многих улицах ещё трещали пулемёты и автоматы. Машина, в которой ехали Малиновский и член Военного совета фронта Хрущёв, сделала короткую остановку у вокзала. На вздыбленной руинами площади небольшими группами сидели и стояли бойцы в мокрых шинелях, облепленных жидкой грязью сапогах, с усталыми лицами. Но какой радостью горели глаза, каким теплом светились эти усталые лица, как лихо свёртывали солдаты самокрутки! Это были совсем не те бойцы, которые, сгибаясь не столько под тяжестью воинской поклажи, сколько под тяжестью собственной вины и бессилия, отходили, вернее, бежали на восток, на восток, на восток. Сейчас перед Малиновским были бойцы, на лицах которых сквозь смертельную усталость, боль ранений, скорбь о погибших проступала гордость воина, одолевшего ворога. Того самого ворога, который — как казалось в трагическом сорок втором, — был непобедим. Едва Малиновский подошёл к солдатам, как откуда-то, из самой гущи бойцов, вырвался вперёд невысокий, смуглолицый и черноволосый старший лейтенант. Он был необычайно подвижен, полон молодой энергии. Задорно взглянув на генерала, лейтенант гортанно, с кавказским акцентом подал команду: — Батальон, становись! В тот же момент раздробленная и как бы неуправляемая масса бойцов, представлявшая собой нечто аморфное и рыхлое, — многие даже успели, привалившись к разрушенным стенам вокзала, задремать, — взметнулась, пришла в движение и построилась в четыре шеренги перед своим командующим, будто готовясь пройти перед ним парадным маршем. — Товарищ генерал-полковник! — громко и весело отрапортовал офицер. — Вверенный мне батальон штурмом овладел городским вокзалом города Ростова-на-Дону! Уничтожена рота гитлеровцев. Командир батальона старший лейтенант Мадоян! — Здравствуйте, герои-гвардейцы! — испытывая чувство радостного волнения, поздоровался с бойцами Малиновский. — Здра-а-а жела-а-а, товарищ генерал! — не вразнобой, а удивительно стройно прозвучало в ответ, и Родион Яковлевич почувствовал себя будто на параде. — Товарищ старший лейтенант, когда выбили фашистов с вокзала? Мадоян ответил. — Выходит, ещё восемь дней назад! — удивился Малиновский. — Так точно, товарищ командующий фронтом! Вокзал был взят до подхода главных сил армии. Немец бешено контратаковал, но мы его всё равно расколошматили! — Молодцы! — коротко похвалил Малиновский и, взяв из рук адъютанта орден Красного Знамени, вручил его Мадояну. — Отличившихся при взятии вокзала представить к награждению. — И он крепко обнял и расцеловал Мадояна. Распахнул свои объятия офицеру и Хрущёв: — Немедля дам указание начальнику Политуправления дать материал о подвиге батальона во фронтовой газете. — Товарищи гвардейцы! — Малиновский обратился к замершему строю. — Спасибо вам за геройство, за Ростов, за победу. Мы уже не те, что были в сорок втором! Пусть знает враг: отступления больше не будет, мы будем наступать, наступать и наступать! Мы победили в Сталинграде, а теперь — вперёд на Запад. Вышвырнем эту поганую гитлеровскую орду с нашей родной советской земли! Хорошо сказал наш великий вождь товарищ Сталин: «Будет и на нашей улице праздник!» Малиновский говорил горячо, как давно уже не говорил, и ощущал, как от волнения спазмы перехватывают горло и влажнеют глаза. Как хотелось ему сейчас обнять каждого в этом строю! Чего бы стоил он, военачальник, не будь у него таких вот орлов, которые способны выдержать всё, даже то, что немыслимо выдержать, победить саму смерть... «Да, и на нашей улице будет праздник», — хотелось повторять и повторять эту меткую, точную фразу. И Ростов — разве это не праздник на нашей улице? А каждый вновь отвоёванный город, каждое отвоёванное село, каждая отвоёванная пядь родной земли? Всё это будет праздником на нашей улице! «Да, — думал Малиновский, — умеет Сталин находить нужные слова в нужный момент, в этом ему не откажешь. Умеет произнести всего одну фразу, но такую, которая, казалось, уже жила в душах фронтовиков, вселяя в них надежду на будущие победы, на то, что враг будет разбит. Умеет сказать такую фразу, которая впечатается в память нынешних и грядущих поколений. Да, праздник будет! Но чего он будет стоить, этот желанный, всё ещё далёкий праздник — окончательной победы и завоёванного мира? Всё, что предстоит совершить, — это не триумфальный парад, это жестокие, беспощадные бои, это в голос рыдающие и бьющиеся в истерике вдовы погибших солдат и офицеров, это сироты — сыновья и дочери не вернувшихся с поля боя воинов. Это — миллионы тех, кто ещё поляжет на кровавых дорогах войны, и тех, кто ждёт своих мужей, отцов, братьев и сестёр домой, да так и не дождётся никогда. Всё это хотелось сказать Родиону Яковлевичу в эти минуты. Но зачем? Они и так всё знают и всё понимают! Знают, что тот — главный — праздник на нашей улице, что ждёт впереди, будет стоить колоссальных жертв. Но ради того, чтобы этот праздник состоялся, они отдадут всё, даже самое дорогое, что есть у человека, — жизнь. А сейчас пусть они хоть немного отдохнут, твои орлы. Не надо утомлять их длинными речами. Достаточно сказать, что и на нашей улице будет праздник! Малиновский и Хрущёв сели в машину. Вдогонку им гремело «ура!» — Я тебя должен поздравить, Родион Яковлевич, — торопливо заговорил Хрущёв, устраиваясь на сиденье. — Ты выполнил своё обещание взять Ростов. Верховный будет доволен. Считай, что это твой звёздный час. — Спасибо, Никита Сергеевич. Стараюсь следовать народной мудрости: «Не спеши языком, торопись делом». А насчёт звёздного часа — так он, может, ещё впереди. — Не скромничай. Кстати, мы ещё не отметили твоё назначение командующим фронтом. — Это дело не хитрое, — усмехнулся Малиновский. — Будет затишье — отчего же не отметить? Машина ехала по набережной Дона. Родион Яковлевич неотрывно смотрел на реку, на город. Он любил южные города, полные песен и весёлого смеха. А к Ростову отношение было особое: Ростов есть Ростов! А дальше на юг шли города, сами названия которых звучали волшебно-притягательно: Тихорецк, Армавир, Минеральные воды. И конечно же, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск... Вспомнились «Казаки» Толстого, отъезд Оленина на Кавказ. Вспомнилось, что даже тогда, в чёрные дни отступления, увидев снеговые горы, он, Малиновский, спасался тем, что мысленно воспроизводил в своей памяти части горячо любимойповести, многие из которых знал наизусть: «...на другой, день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчётливую воздушную линию их вершин и далёкого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон». И ещё: «Теперь началось? — как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ — всё это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы, едет арба, женщины ходят красивые, женщины молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружьё, и сила, и молодость; а горы...» Хрущёв между тем говорил и говорил, как всегда, косноязычно, перепрыгивая с одного на другое, но Родион Яковлевич почти не слышал его. Строки великого писателя не просто воспроизводились в памяти — они звучали ликующей песней, гимном жизни... И только когда Хрущёв несколько раз повторил какой-то свой вопрос, Родион Яковлевич очнулся. — Ты что это? — подозрительно взглянул на него Хрущёв. — На вопросы перестал отвечать. — Да, немного замечтался, — признался Родион Яковлевич. — Ростовом любуюсь, хоть и здорово его немцы испоганили. Кавказ я люблю. — Всё это лирика, Родион Яковлевич, — Хрущёв быстро вернул Малиновского на грешную землю. — Тебе сейчас дела фронта надо обмозговывать, вот что я тебе скажу. — Обмозгуем, Никита Сергеевич! Обязательно... Малиновский быстро и привычно входил в дела Южного фронта. И чем глубже их изучал, тем большая радость охватывала его. Ещё бы: шесть армий, танковый и механизированный корпуса, пятнадцать тысяч орудий и миномётов, полторы тысячи танков! А ещё самолёты! Никогда ещё под его командованием не было такого мощного сосредоточения военных сил. Такой бы фронт летом сорок второго, тогда ещё неизвестно, кому бы пришлось отступать! Но что поделаешь, история не имеет сослагательного наклонения. Малиновский заметил и один существенный изъян: его фронт почти не имел резервов. А ведь бои впереди жестокие, немцы так просто не оставят занятой территории и будут отчаянно огрызаться, контратаковать, переходить в наступление. Малиновский переговорил на эту тему с Жуковым. Тот ответил на следующий день: — Резервы выбить не смог! Верховный упёрся. Сказал, что Южный фронт и без того представляет собой большую силу. И сообщил, что координировать действия твоего и Юго-Западного фронтов будет Василевский. Ну, к нему тебе не привыкать, ты с ним сработался. Так что нажимай теперь на него. Вскоре Жуков снова позвонил: — Ну, Родион, пошло у тебя сплошное везение. Велено мне передать приказ Верховного о присвоении тебе звания генерала армии. Принимай мои горячие поздравления! — Спасибо, Георгий Константинович. — Главное — боевых удач! — продолжил Жуков. — Главное, Родион, чтобы тебе больше не пришлось города сдавать, а потом опять брать. — Постараюсь! «Не удержался, чтобы не подковырнуть. Ну, характерец!» — подумал, впрочем, не зло Малиновский.
14
Летняя кампания 43-го года отличалась от летней кампании 42-го года, как небо от земли. Год назад даже те военные стратеги, которые считались оптимистами, не всегда были уверены, что паническое отступление советских фронтов можно в конце концов остановить. Теперь же, после триумфа Сталинградской битвы, после сокрушительного поражения немецко-фашистских войск на Курской дуге, даже отъявленные пессимисты воспрянули духом: «праздник на нашей улице», которого так долго и страстно ждали, обрёл реальные очертания. Отступившие под натиском Юго-Западного и других фронтов с Северного Кавказа, гитлеровские войска из кожи вон лезли, чтобы удержать в своих руках угольно-металлургические районы Донбасса и Криворожья и, конечно же, плодородные земли Украины. Советское Верховное Главнокомандование противопоставило замыслам противника свой стратегический план, главной целью которого было незамедлительное расширение фронта наступления наших войск на юго-западном направлении. Маршалу Василевскому было поручено координировать действия фронтов. Прибыв на командный пункт Малиновского, Александр Михайлович довёл до него и других генералов сущность плана: — Перед Центральным, Воронежским, Степным, Юго-Западным и Южным фронтами стоят следующие задачи: разгромить главные силы врага на одном из центральных участков и на всём южном крыле советско-германского фронта, освободить Донбасс, Левобережную Украину и Крым, выйти на Днепр и захватить плацдармы на его правом берегу. При этом Центральный, Воронежский и Степной фронты должны выйти на среднее течение Днепра, а Юго-Западный и Южный — на нижнее. Вашему фронту, Родион Яковлевич, предстоит выполнить задачи исключительной важности и сложности. Главное — овладеть Донбассом. Здесь немецкое сопротивление будет наивысшим. Из разведданных известно, что генерал-фельдмаршал Кейтель уже забил тревогу. Он доложил Гитлеру, что оставление Донбасса и Центральной Украины повлечёт за собой утрату важнейших аэродромов, большие потери в продуктах питания, угле, энергетических ресурсах. — Василевский подошёл к оперативной карте. — Прошу обратить внимание: передний край главной оборонительной полосы немцев, с разрядами проволочных заграждений и минными полями, проходит по Северскому Донцу и Миусу. В глубине противник имеет оборонительные рубежи по рекам Крынка, Мокрый Еланчик, Конка, Берда, Кальмиус, Волчья и Самара. На переднем крае и в глубине укрепрайона построено много дерево-земляных и железобетонных сооружений. Гитлер отдал особый приказ о строительстве стратегического узла обороны, который получил название «Восточный вал». Узел простирается с юга по линии реки Молочной, среднего течения Днепра, реки Сож, через Оршу, Витебск, Псков и по реке Нарве. Донбасский район обороняет 1-я танковая и вновь созданная 6-я полевая армия — преемник той самой армии Паулюса. Её Гитлер объявил армией мстителей. Она входит в группу армий «Юг» и насчитывает двадцать две дивизии. К моему прибытию, — продолжал Василевский, — Родион Яковлевич Малиновский подготовил проект выполнения предстоящей операции. Мы положили его в основу дальнейшего обсуждения. Такое обсуждение состоялось. Решено нанести главный удар южнее города Изюм через Барвенково на Лозовую, Павлоград и Синельниково. Для этого в качестве исходного положения необходимо использовать ранее захваченные плацдармы на западном берегу Северского Донца. К участию в операции привлекаются: 6-я армия генерал-лейтенанта Шлемина, 12-я армия генерал-майора Данилова, 8-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Чуйкова, 23-й танковый, 1-й гвардейский механизированный и 1-й гвардейский кавалерийский корпуса, а также вся фронтовая авиация 17-й воздушной армии генерал-лейтенанта Судца. Пока всё. Главная группировка фронта под командованием Малиновского, реализуя этот стратегический план, перешла в наступление 18 августа. Войска форсировали Северский Донец и овладели городом Змиев. Но вскоре наступление захлебнулось: противник ожесточённо сопротивлялся, бросая в бой всё новые и новые резервы. С ходу прорвать его оборону не удалось. Василевский и Малиновский непрерывно обсуждали план дальнейших действий. Командный пункт фронта жил бурной, напряжённой жизнью. Было решено на следующий день повторить атаку, усилив ударную группировку за счёт второстепенных участков и сократив до минимума ширину прорыва немецкой обороны. Но и это не принесло желаемого результата. Несмотря на то что по позициям немцев был нанесён мощный артиллерийский удар, они, видимо, разгадав замыслы советских войск, сменили позиции, и шквальный огонь артиллерии оказался мало результативным; огневые позиции врага остались почти невредимыми, и немцы открыли ответный артиллерийский и пулемётный огонь по наступающим частям. Ценой больших потерь советские войска за восемь часов боя продвинулись лишь на один-два километра. — Надо прекратить эти бесполезные атаки и перегруппировать главные силы несколько южнее, — предложил Малиновский. — Наступать тут будет, конечно, сложнее. Зато сработает элемент внезапности: здесь нас противник не ждёт. — Разумная идея, — поддержал его Василевский. — Основную роль надо возложить на 8-ю гвардейскую Чуйкова. — Но на перегруппировку потребуется пять-шесть суток, — озабоченно произнёс Малиновский. — Надо получить добро у Верховного, — вздохнул Василевский. — Вечером я ему позвоню. В это время к ним поспешно подошёл начальник штаба фронта Сергей Семёнович Бирюзов. По его встревоженному лицу Василевский понял, что он хочет сообщить новость чрезвычайного характера. — Товарищ маршал, получена срочная телеграмма от Верховного Главнокомандующего. Василевский взял протянутый Бирюзовым бланк. Внимательно прочитав текст, он передал бланк Малиновскому: — Ознакомьтесь, пожалуйста. Пока мы тут голову ломали, я уже схлопотал себе грозное замечание. Родион Яковлевич прочёл: «Маршалу Василевскому. Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а Вы ещё не изволили прислать в Ставку донесение об итогах операции за 16 августа с Вашей оценкой обстановки. Я давно уже обязал Вас как уполномоченного Ставки обязательно присылать в Ставку к исходу каждого дня операции специальные донесения. Вы почти каждый раз забывали об этой своей обязанности и не присылали в Ставку донесений. 16 августа является первым днём важной операции на Юго-Западном фронте, где Вы состоите уполномоченным Ставки. И вот Вы опять изволили забыть о своём долге перед Ставкой и не присылаете в Ставку донесений. Последний раз предупреждаю Вас, что в случае, что если Вы хоть раз ещё позволите себе забыть о своём долге перед Ставкой, Вы будете отстранены от должности начальника Генерального штаба и будете отозваны с фронта. И. Сталин». Прочитав, Родион Яковлевич взглянул на Василевского. Маршал стоял смущённый, как провинившийся школьник. Было видно, что нагоняй Сталина расстроил его и он никак не может прийти в себя. Ещё бы: такое замечание Верховного, зная его крутой характер, спокойно воспринять просто немыслимо. Наконец Василевский заговорил: — Представляете, Родион Яковлевич, за все годы военной службы я не получил не то что взыскания, но даже замечания. Верховный всегда хорошо относился ко мне, а сейчас, судя по этой телеграмме, он просто разъярён. И в чём моя вина? В том, что я всего на несколько часов задержал очередное донесение. — Действительно странно, — посочувствовал Малиновский. — Может, в Генштабе что-то не сработало? — Сейчас свяжусь с Антоновым. — Правильно. Уж кто-кто, а ваш заместитель должен быть в курсе дела. Да вы, Александр Михайлович, не принимайте всё это так близко к сердцу. Вместе прошли в аппаратную. Выслушав объяснение Антонова, Василевский пересказал содержание разговора. — Чувствуется, что Антонов тоже чрезвычайно взволнован. Он говорит, что как только полученное от меня донесение пришло в Генштаб, оно сразу же было отослано в Ставку. Но это произошло уже после того, как мне направили послание Сталина. — Василевский невесело усмехнулся. — Антонов меня всячески успокаивает. Говорит, что получил указание Сталина никого с этой телеграммой не знакомить и хранить её у себя в сейфе. Оказывается, не получив от меня донесения в точно установленный час, Верховный попытался связаться со мной по телефону, но не удалось. Тогда он и продиктовал Антонову то, что вы только что прочитали. Впрочем, поделом мне, Родион Яковлевич. Вперёд наука, надо быть всегда предельно точным. На войне и минута на вес золота. Верховный, как заметил Антонов, в весьма скверном настроении. С наступлением не клеится не только у нас, но и на Воронежском и Степном фронтах. Воронежский фронт немцы контратакуют со стороны Ахтырки. Конев всё ещё ведёт затяжные бои за Харьков. Так что в «двоечниках» не только мы. Но это слабое утешение. Думаю, мой вечерний разговор с Верховным будет непростым. Предвидение Александра Михайловича сбылось: когда он стал докладывать Верховному план перегруппировки войск фронта, Сталин отреагировал резко: — Создаётся впечатление, что я разговариваю не с практиками, а с некими теоретиками, которые вместо решительного наступления, определённого стратегическим планом Ставки, придумывают всё новые и новые военные игры. Известно, что одними перегруппировками невозможно одолеть сильного противника. Это будет не наступление, а топтание на месте. Василевский, как только мог, постарался убедить Сталина в необходимости осуществить намеченный им и Малиновским план. В конце концов Сталин сердито сказал: — Хорошо. Ваше предложение принимается. Но наступление фронта Малиновского должно начаться не позднее двадцать седьмого августа. Это крайний срок. — Будет исполнено, товарищ Сталин, — заверил Василевский. Новое наступление принесло более благоприятные результаты: был освобождён Лисичанск. Командующий немецкой группы армий «Юг» Манштейн пришёл к весьма печальному выводу: «К концу августа только наша группа потеряла 7 командиров дивизий, 38 командиров полков и 252 командира батальона... Наши ресурсы иссякли... Мы не ожидали от советской стороны таких больших организаторских способностей, которые она проявила в этом деле, а также в развёртывании своей военной промышленности. Мы встретили поистине гидру, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две новые». Паника охватила и самого Гитлера. 27 августа из Восточной Пруссии он помчался в Винницу, в свою полевую ставку. Манштейн на совещании руководящего состава «слёзно» просил Гитлера усилить группу новыми дивизиями, заменить ослабленные части частями с более спокойных участков фронта. В противном случае, говорил он, придётся отдать Донбасс. Гитлер заверил, что выполнит все просьбы, но дальше обещаний дело не пошло. Это, конечно же, не могло не радовать советское военное командование, которое продолжало наращивать силу ударов по противнику. 7 сентября начался завершающий этап сражений за освобождение Донбасса. И уже на следующий день был освобождён центр Донбасса — город Сталино, бывший Донецк. Отныне стратегическая инициатива стала прочно удерживаться советскими войсками.
15
Вдохновлённые успехом наступления «орлы Малиновского» рвались к Днепру. Они отбросили немцев за реку на участке от Днепропетровска до Запорожья и подошли к правому краю «Восточного вала» немцев на реке Молочной. Здесь, на высотах западных отрогов Приазовской низменности, немцы потрудились изрядно. Куда ни кинь глаз — противотанковые рвы, надолбы, несколько линий траншей на глубину до шести километров с дотами и дзотами. Правда, «Восточный вал» к этому времени уже не был достаточно прочным: наши войска захватили на нём двадцать три плацдарма. Однако самый мощный из них — запорожский — всё ещё оставался в руках у немцев. 28 сентября Василевский получил директиву Ставки. Текст её был также направлен Жукову и командующим Центральным, Воронежским, Степным, Юго-Западным и Южным фронтами: «Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 1. В ближайшее время ликвидировать все плацдармы, находящиеся в руках противника на левом берегу реки Днепр. В первую очередь командующему Юго-Западным фронтом полностью очистить от немцев запорожский плацдарм. Иметь в виду, что до тех пор, пока не будет очищен от противника левый берег Днепра, немцы, используя занимаемые ими плацдармы, будут иметь возможность наносить удары во фланг и тыл нашим войскам, как находящимся на левом берегу Днепра, так и переправившимся на его правый берег. 2. Немедленно подтягивать к переправам зенитные средства и надёжно обеспечивать как боевые порядки переправившихся войск, так и безопасность самих переправ от ударов авиации противника, вне зависимости от количества переправившихся войск». В эти дни Малиновский почти безотлучно находился на командно-наблюдательном пункте армии генерала Василия Ивановича Чуйкова, которой предстояло сыграть главную роль в штурме Запорожья. Собственно, армейский командный пункт и стал командным пунктом фронта. Родион Яковлевич, верный укоренившейся привычке, хотел оценивать ход боёв не по сводкам, а своими глазами. Стояла поздняя украинская осень. На чёрном небе изредка мерцали по ночам тревожные звёзды. Неторопливые запоздалые рассветы теснили ночную тьму, заменяя её тяжёлыми обложными туманами. В преддверии утренних заморозков воздух был бодрящим и чистым. На штурм запорожского плацдарма Малиновский бросил значительные силы. Перед каждым этапом наступления тяжёлая артиллерия обрушивала на позиции врага тонны смертоносного металла. Грозные залпы гвардейских миномётов, пушек и гаубиц сливались в едином «оркестре». Едва умолкала артиллерия, как штурмовики наносили удар с воздуха. И так — сорок минут. Сорок минут ада для гитлеровцев. После этого сквозь облака чёрного дыма устремлялась в атаку пехота. Малиновский смотрел на поле боя. Продвинулись или залегли его бойцы? Чуйков приказал своим гвардейцам в случае немецких контратак не залегать, не переходить к обороне, а противостоять им своей, ещё более решительной атакой. Фашисты огрызались с упорством. У них было много танков, в том числе и славившихся своей непробиваемостью «тигров». «Тигр» — штука и впрямь серьёзная. Его 88-миллиметровая пушка обладала высокой «пробойностыо», имея очень большую начальную скорость полёта снаряда. Лобовая броня столь мощна, что даже 76-миллиметровая пушка не могла с ней совладать. Тут нужен был калибр не менее 122-х миллиметров! Но были у этой ползущей крепости и уязвимые места: борта и хвостовая часть. — Ну как, подбили хоть одного «тигра»? — поинтересовался Малиновский у Чуйкова. — А как же, товарищ командующий! — весело ответил тот. — Сейчас возле одного такого зверя мой начальник артиллерии Пекарский учит бойцов, как надо обращаться к этому чудищу — на «ты» или на «вы». — Ну и как же? — Говорит, что с ним можно расправляться, как Бог с черепахой! — Да ведь и немцы не дураки, — заметил Малиновский. — Думаете, Василий Иванович, они нам свои борта и хвосты будут с готовностью подставлять? — Всё одно, русский немца обхитрит, — засмеялся Чуйков. — Мои гвардейцы уже не боятся этих «тигров». Они их в траншеях поджидают. Пригнутся, танк поверх них перемахнёт через траншею, вот они его в хвост и лупят. Из противотанковых ружей, гранатами, бутылками с горючкой. — Молодцы, — похвалил Малиновский. — Но пока что плохо удаётся нам с танками справляться. Как только наша пехота вклинивается в боевые позиции, так немцы с помощью танков восстанавливают положение. Это простым глазом видно, без бинокля. — Мы сформировали специальные штурмовые группы для борьбы с танками, — сказал Чуйков. — Но они могут действовать эффективно только ночью или же под прикрытием дымовой завесы. — Ночью? — Малиновский задумался. — Ночью, говорите? Василий Иванович, ведь вторые сутки бьёмся, а где результат? Истребительные группы уже не один десяток танков сожгли, да, видно, их у немцев много. Так мы здесь пол-армии положим, а плацдарм как стоял, так и будет стоять. Верховный приказал взять Запорожье к пятнадцатому октября, а мы — ни с места. Надо думать, как нам быть. Я сейчас съезжу к Василевскому, завтра вернусь. Какое у нас завтра число? — Тринадцатое. — Чёртова дюжина? Ну, ничего. Вы, Василий Иванович, пока ведите бой ограниченными силами, не давайте немчуре расслабляться. К утру Чуйков перенёс свой командный пункт на высоту южнее посёлка Никифоровский. Вместе с офицерами штаба он поехал в дивизии, чтобы лучше представить сложившуюся обстановку. Было пять часов вечера, когда Чуйков вернулся на свой командный пункт. Оказалось, Малиновский уже разыскивал его. — Командующий фронтом находится в землянке, — доложил офицер штаба. Чуйков поспешно спустился в землянку. После яркого света он очутился в кромешной темноте. Василий Иванович наугад сделал несколько шагов и вдруг почувствовал, что наступил на чьи-то ноги. — Василий Иванович, ослепли вы, что ли? — услышал он шутливый голос Родиона Яковлевича. — Виноват, товарищ командующий. Со свету ни черта не видно. — А что, если мы, Василий Иванович, — заговорил Малиновский, — вот так же противника ночью ослепим да и ударим по нему? — Штурмовыми группами? — Какими там группами! — воскликнул Малиновский. — Всеми силами фронта! — Замечательная идея! — Чуйков пришёл в полный восторг. Он обожал рискованные, нестандартные решения. — А как на это посмотрит Василевский? — С ним я ещё не советовался. Надо всё тщательно продумать. Выслушав Малиновского, Василевский задумался. — Ночной штурм? — наконец переспросил он. — Но это же, Родион Яковлевич, не то, что батальоном штурмовать. Бросить ночью на Запорожье три армии и два корпуса? Такого в истории я что-то не припоминаю. — Он задымил трубкой. «Любитель трубок, — подумал Малиновский. — Сталину, что ли, подражает?» А вслух сказал: — Что история, Александр Михайлович? Тут мы сами творцы истории! — Что-то есть в этом плане рискованное, — сомнения не оставляли Василевского. — Представляете, что будет, если результат окажется неудачным? — Александр Михайлович, вы же знаете, тем, кто терпит поражение — независимо от того, произошло ли это днём или ночью, — всё равно обеспечена порка. Но я как никогда уверен в успехе. Немцы никогда не догадаются, что на город наступает едва ли не весь фронт, а потому неизбежно упустят момент для маневрирования резервами. Операцию подготовим тщательно, на разработку переключим штабы всех соединений. Сформируем штурмовые группы для уличных боёв, а также танковые десанты. Командиры всех степеней изучат план города. Организуем прожекторные подразделения, из числа офицеров, знающих город и прилегающую к нему местность, выделим проводников. — Так-то оно так, однако вы же знаете, что Запорожье — непростой город. Разлёгся, как барин, на двух берегах Днепра, да ещё остров Хортицу прихватил. Он и для дневного штурма — не подарок. Какие там у немцев силы? — По данным разведки, шестьсот орудий и миномётов, гарнизон в тридцать пять тысяч солдат и офицеров, сотни две танков. — Вот видите. И конечно же, многие улицы, площади да и здания заминированы? — Безусловно. — Крепкий орешек, — снова задумался Василевский. — Идея-то, конечно, заманчивая. Надо посоветоваться с командующими армиями, ведь им придётся этот орешек разгрызать. — Не скрою, я уже с ними советовался. И все как один поддерживают. Особенно Чуйков. Сколько можно топтаться у этого треклятого плацдарма? Он же как заколдованный. Тем более Верховный торопит. — Ему придётся доложить, — озабоченно произнёс Василевский. — А может, в этот раз воздержаться? — осторожно «закинул удочку» Малиновский. — Верховный приказал взять Запорожье к определённому сроку — вот мы и будем его брать. А то знаете... Найдутся советчики, заразят Верховного сомнениями, он возьмёт и запретит. Вот освободим Запорожье, тогда и доложите: так, мол, и так, в ходе ночного штурма... Василевский покачал головой: — На что толкаете, Родион Яковлевич? Не ожидал от вас... — Он замолк и вдруг сказал твёрдо: — А, была не была, трус в карты не играет! — Собственно, план Малиновского Василевскому сразу пришёлся по душе, и, высказывая свои сомнения, он лишь проверял свою интуицию. — Ладно, как говорится, с Богом. Если что — отвечу перед Верховным, мне не привыкать. — Александр Михайлович, я тоже от ответственности не собираюсь уходить. И вас, будьте уверены, не подставлю. Разговор затронул слишком уж щепетильную тему. — Не будем сейчас об этом, Родион Яковлевич, — решительно произнёс Василевский. — Лучше пожелаем друг другу боевой удачи. Как думаете наносить удары по Запорожью? — Думаю, что надо действовать одновременно с северо-востока и с юго-востока по сходящимся направлениям на центр города. — Разумно. Особое внимание следует обратить на взаимодействие армий, дивизий и частей, иначе в темноте и в суматохе недолго и своих пострелять. К тому же от длительной артподготовки придётся отказаться. Малиновский хотел сказать, что все вопросы взаимодействия уже полным ходом отрабатываются на местности, но сдержался: чего доброго, заденет это представителя Ставки, если и не скажет, то подумает: оказывается, комфронта уже без всяких согласований всё сам решил. А это ни к чему. Главное, Василевский поддержал его, а мог бы и запретить ночной штурм, чреватый непредсказуемыми последствиями.
16
Часы показывали 21 час 50 минут, когда почудилось, будто разверзлась земля: вся артиллерия фронта одновременно открыла мощный огонь по противнику. Даже небесные громы и молнии не смогли бы соперничать с земными грохотом и молниями. Всего лишь десять минут — но каких минут! — продолжалась артподготовка, и тут же вперёд ринулись танки. На танках — штурмовые группы десантников, за ними — пехота. Запорожье оказалось в огненном котле. Ближе к рассвету «орлы Малиновского» ворвались на окраины города. Немцы в панике спасались бегством, стараясь переправиться на остров. В городе завязались тяжёлые, самые опасные — уличные бои. 8-я гвардейская армия Чуйкова наступала на Центральном направлении. Василий Иванович был возбуждён, его переполняло чувство азарта и предвкушение победы. Любил он такие моменты войны, когда все — и танкисты, и артиллеристы, и пехота — на пределе своих сил рвутся вперёд. К рассвету темп наступления приобрёл наибольший размах. Пришедшие в себя после ночного шока гитлеровцы огрызались всё сильнее и яростнее, с Хортицы давала о себе знать вражеская артиллерия. Малиновский приказал направить и туда штурмовые группы. Днём троица неразлучных генералов — Василевский, Малиновский и Чуйков — была в центре Запорожья. Взорванные корпуса заводов, руины жилых домов, пожары, убитые и раненые — всё это предстало перед их глазами. Но город был взят! Малиновский взглянул на часы. Стрелки показывали 13.00. — Какое сегодня число? — спросил Василевский, как бы проверяя самого себя. — Уже четырнадцатое! Родион Яковлевич, Василий Иванович, поздравляю! Это на целые сутки раньше срока, который определил нам Верховный! Вечером полководцы подводили итоги. — Противник отходит к переправам, — говорил Малиновский. — Я отдал приказ командующему авиацией генералу Судцу разбомбить их, чтобы таким образом воспрепятствовать бегству немецких войск, оставшихся после овладения нами Запорожьем. Василий Иванович, у вас уже есть данные о потерях противника на фронте вашей армии? — Есть, товарищ командующий. По предварительным данным, только силами 8-й гвардейской уничтожено более трёх тысяч солдат и офицеров, двадцать шесть тяжёлых орудий, тридцать два танка, сто двадцать автомашин. Запищал полевой телефон. Малиновский взял трубку. Выслушав звонившего, он просиял: — Давно не получал таких радостных известий! Днепрогэс спасён! — Обычно не склонный к душевным откровениям, на этот раз Малиновский не сдержался: — Какое счастье! Сердце болело за него... Плотину немцы хоть и заминировали, но взорвать не успели. — Куда там успеть! — Василевский тоже был рад. — Попробуй успей после такого штурма! — Спасибо 1-му гвардейскому мехкорпусу, это его бойцы перебрались на правый берег и обрезали электрокабели, соединённые с зарядами, — уточнил Малиновский. — Ну что же, пора докладывать Верховному, — подвёл итог Василевский. — Думаю, и он порадуется вместе с нами. Верховный не только порадовался: этим же вечером был написан специальный приказ. А над Москвой загремели салюты в честь одержанной победы.
17
В результате летне-осенней кампании 1943 года была освобождена Левобережная Украина. Вражеские войска оказались изолированными в Крыму. Были захвачены крупные стратегические плацдармы на правом берегу Днепра. Освобождены Кременчуг, Днепропетровск, Запорожье, Черкассы, Киев. Теперь предстояло освободить Правобережную Украину и Крым и выйти на Государственную границу. Малиновский был в курсе того, что Ставка предполагает в течение зимы развернуть наступательные операции от Ленинграда до Чёрного моря. 3-му Украинскому фронту (этим фронтом теперь командовал Малиновский) Ставка поставила задачу: ликвидировать никопольско-криворожскую группировку врага, в дальнейшем развивая наступление на Первомайск, Николаев и Одессу. Фронту предписывалось действовать по сходящимся направлениям в тесном взаимодействии с 4-м Украинским фронтом, которому предстояло ещё и освободить Крым. Предстоящая стратегическая операция была не из простых: против наших четырёх Украинских фронтов действовали от реки Припять до Чёрного моря группа армий «Юг» генерал-фельдмаршала Манштейна и группа армий «А» генерал-фельдмаршала Клейста плюс 4-й воздушный флот. В обеих группах более миллиона солдат и офицеров, почти семнадцать тысяч орудий и миномётов, свыше двух тысяч танков и штурмовых орудий, около полутора тысяч самолётов. Грозная сила! Но Малиновский был твёрдо убеждён в том, что ни в коем случае нельзя приостанавливать наступление, иначе немцам будут созданы прямо-таки комфортные условия для планомерного отхода или, как в официальных сводках любили говорить сами немцы, для сокращения линии фронта. Нужно было сидеть у них, что называется, на загривке. Родион Яковлевич подошёл к окну и нахмурился: ну и мерзопакостная же погодка стоит нынче на дворе! Давненько он не видел такой распутицы. Всё правобережье Украины превратилось в сплошное месиво. Бездорожье, грязь — по колено. А ведь надо поспевать за немцем! И это при том, что он не будет непрерывно удирать, будет цепляться за свои плацдармы, переходить в контратаки. Нужно было решить вопрос о направлении главного удара. Малиновский пришёл к выводу, что наиболее верный вариант — удар на Апостолово, Новый Буг, Вознесенск с выходом на берега Южного Буга. Там — закрепиться. Но для этого, конечно же, нужны резервы, нужна дополнительная техника и боеприпасы. Малиновский поделился своими мыслями с Василевским. — Знакомые запросы, — вздохнул тот. — Впрочем, на вашем месте я бы тоже запрашивал. Попробую разжалобить Верховного. Однако вначале эта попытка не удалась: мало того, что Верховный не согласился с Василевским, он ещё и в резкой форме упрекнул его в желании поддаваться бесконечным просьбам о выделении резервов: «Вы забыли, товарищ Василевский, как Кутузов отвечал Барклаю-де-Толли, когда тот клянчил у него резервы? «У меня своих резервов нет». — Вас понял, товарищ Сталин. — Василевскому ничего не оставалось, как произнести эту дежурную фразу. И всё же разговор не оказался напрасным: Малиновский вскоре получил 37-ю армию генерал-лейтенанта Шарохина, переданную ему со 2-го Украинского фронта, а из резерва Ставки — 31-й гвардейский стрелковый корпус. Кроме того, командующему 4-м Украинским фронтом Толбухину было приказано передать Малиновскому 4-й гвардейский механизированный корпус. — Вечно мой фронт на подхвате, за всех отдувается, — то ли всерьёз, то ли в шутку жалобно говорил штабникам Толбухин. — А мне хоть бы захудалую роту или с десяток танков кто подбросил. Наступление на Никопольско-Криворожском направлении развернулось в точности по плану Малиновского. Ну и хлебнули же лиха наступающие армии в этой операции! Метель сменялась оттепелью, и тогда пехотинцы брели по непролазной грязи, которая как кандалами сковывала ноги; артиллеристы тащили пушки, навалившись на одну несколькими расчётами; в размокшей степи оставались, не желая подчиняться воле людей, танки, тракторы, тягачи. На дорогах, если их можно было назвать дорогами, часто встречался строй конников, которые правой рукой держали поводья, управляя лошадьми, а левой, как ребёнка, прижимали к себе пушечный или гаубичный снаряд. Оттепель переходила в дожди, и тогда становилось совсем худо: шинели, накидки, шапки насквозь пропитывались водой — хоть бери и выжимай, тело дубело от холода, в сапогах хлюпала жидкая вязкая грязь... И если бы не всепобеждающее стремление идти вперёд и вперёд, тоска и отчаяние охватили бы весь этот огромный, утонувший в туманах, в снежной круговерти и ливнях фронт. Главный удар наносился силами всего фронта из района северо-восточнее Кривого Рога на Апостолово. За двое суток оборона немцев была прорвана, и 5 февраля армия Чуйкова овладела Апостоловым. Дотоле никому не известный городок Украины вдруг стал «героем дня». Он явился настоящим подарком для наших наступающих войск. Наступать прямиком, в лоб, на Никополь было безрассудно: этот город превратился в крепость, немцы обнесли его мощными оборонительными укреплениями. А бросок советских войск на Апостолово был для немцев грозным предостережением; теперь они попадали в капкан. Кроме того, перерезалась железная дорога, протянувшаяся вдоль берега Днепра и связывавшая марганцевые рудники с Кривым Рогом и Николаевом...
18
Если после ожесточённых сражений наступала долгожданная передышка, Малиновский вспоминал о доброй традиции: те, кто отличился в боях, должны быть награждены. Так было и на этот раз. Над степью уже сгущались ранние сумерки, когда Малиновский велел собрать отличившихся солдат и офицеров в штабе, который разместился в просторной украинской хате. Охрипший и невыспавшийся адъютант командующего зачитывал приказ о награждении, безуспешно пытаясь придать своему голосу как можно больше торжественности. Родион Яковлевич, вручая ордена и медали, крепко жал руки награждённым, произносил принятые в таком случае поздравления и напутственные слова. Когда подошло время вручать ордена Красной Звезды, вслед за тремя награждёнными артиллеристами к Малиновскому подошла совсем ещё юная девушка. Генерала удивила и восхитила её изящная военная выправка, в которой прирождённая женственность неуловимо соединялась с фронтовой выучкой. Девушка подошла к командующему, вскинула узкую ладонь к пилотке и певучим голосом отрапортовала: — Товарищ генерал, боец Кучеренко... — Вольно! — Малиновский, поражённый чудесным явлением красоты, вдруг понял, что не может отвести взора от больших, сияющих карих глаз девушки, глядевшей на него. — Боец Кучеренко Раиса Яковлевна за мужество, проявленное в боях, и за представление в штаб полка важных разведданных о противнике награждается орденом Красной Звезды. Родион Яковлевич ещё пристальнее вгляделся в девушку и, уловив в её лице украинские чёрточки, столь знаковые и милые, подумал: «Гарна, дуже гарна дивчина!» — От имени Президиума Верховного Совета СССР вручаю вам, Раиса Яковлевна, орден Красной Звезды и поздравляю с высокой наградой Родины. Вы её заслужили! Желаю вам новых боевых успехов в боях с немецко-фашистскими захватчиками! Малиновскому хотелось сказать и другие слова — о том, что именно такой он представляет подругу своей жизни, ту, которая будет рядом и в горе и в радости... Но он не мог сказать ей это сейчас, едва увидев, в присутствии хмурых, уставших, измотанных боями людей. Встретились — и это главное. Слова ещё будут сказаны, когда придёт время. А сейчас он может только поздравить её с наградой. И ещё Малиновский подумал о том, что война — это проклятье, исчадие ада — ставит себя выше красоты и выше жизни. Вот эта девушка, Рая Кучеренко... Разве здесь должна быть она сейчас? Да ей, с её красотой и статью, впору войти в бальном платье в сияющий огнями зал, как Наташе Ростовой! Или на морском берегу слушать ласкающий шёпот волн! Или сидеть «в садке вишнёвом коло хаты» рядом с любимым человеком, с маленькой, такой же ясноглазой дочуркой на коленях! А Рая здесь, на фронте, в опасности, не так давно вышла из окружения... Для чего же человек выдумал эти треклятые войны, в круговорот которых вовлечены и дети, и старики, и такие вот ещё совсем молодые, пленительно красивые девушки? — Служу Советскому Союзу! — услышал Малиновский прорвавшийся сквозь его мысли радостный голос Раи Кучеренко. Она, повернувшись кругом, отошла от него, уступая место следующему награждённому. Родион Яковлевич посмотрел ей вслед: неужели уйдёт навсегда, сгинет в хаосе войны?.. После награждения начальник тыла фронта предложил, по русскому обычаю, принять фронтовые сто граммов — «обмыть награды». Малиновский пригласил Раю Кучеренко сесть в центре стола, рядом с ним. Та присела, невероятно смущаясь. После обычных в подобных случаях тостов Родион Яковлевич спросил у девушки: — А я ведь о вас ничего не знаю. Только знаю, что вы отважная фронтовичка. — Биография у меня обычная, товарищ командующий, — зарделась Рая. — Родилась в селе Богородичном, в крестьянской семье. — В Богородичном? Это где ж такое? — Около Славянска, на Донце. Может, слыхали? — Слышал, конечно. — Там я закончила железнодорожный техникум. А потом попала в Ленинград. Сестра моя там жила. А мне так захотелось учиться! Я и поехала. Поступила в библиотечный институт. — Хороший институт, — заметил Малиновский. — Книги — это чудо, созданное человеком. — Книги — моя вторая жизнь, — улыбнулась Рая. — Но разве вам интересно? — Чудачка вы, Раиса Яковлевна. Вы ж мне только и сказали, что родились на свет. И в каком селе. А мне хотелось бы узнать о вас побольше. — Побольше? Есть у меня сын. Был муж. — И у меня есть сыновья... — кивнул Родион Яковлевич. — А почему вы сказали «был» муж? — Потому что он погиб на Ленинградском фронте. Вечная ему память. Ленинградец, инженер-строитель. Отец его был архитектор: интеллигентный, умный человек. В первую блокадную зиму и он умер, и свекровь, и золовки... Сына в Сибирь увезли — всех маленьких из Ленинграда вывезли. А мать с сестрой — в оккупации. Что с ними, что с сыном — не знаю... — Да, сурово обошлась с вами судьба. — Он помолчал. — Знаете, Раиса Яковлевна, что сейчас для вас самое важное? Не терять надежды. Найдутся ваши близкие. — Этой верой и живу. — А как же вы здесь оказались? — после паузы поинтересовался Родион Яковлевич. — Когда из Ленинграда эвакуировали, по Дороге жизни, я в Грозный попала. А оттуда с нашими войсками ушла. Часть в окружении оказалась, едва выбрались. Вышла я вдвоём с одним лейтенантом, так мы поневоле и стали разведчиками. Высмотрели у немцев батареи, полевой аэродром и в штаб передали. — Рая передохнула, взглянув на Малиновского, чтобы понять, слушает ли он её. Она вдруг рассмеялась — выпитые сто граммов сделали её смелее: — А знаете, товарищ командующий, какой самый счастливый момент у меня был, когда из окружения вырвалась? — Нет, конечно. — Встретился мне солдатик, с полевой кухни шёл. В руке — котелок с кашей. Перловой. А у меня от голода аж скулы свело. Смотрю я на эту кашу, и слюнки текут. Ну, солдатик понял, что к чему, и говорит: «Хочешь каши?» Я и ответить не могу. А он уже мне котелок протягивает. Схватила я этот котелок и плачу, слёзы в котелок... А солдатик и говорит: «Чего ты, дурёха, плачешь. Повар-то кашу без твоих слёз уже посолил». Никогда в жизни я так не рыдала, как над тем котелком с кашей, честное слово. — Да вы успокойтесь, Раиса Яковлевна. — Малиновского растрогал её нехитрый рассказ. ...Когда застолье было закончено, Родион Яковлевич тепло попрощался с Раей, сказав ей на прощанье: — Удачи вам, Раиса Яковлевна. На всех жизненных фронтах. — Он помедлил и сказал почти требовательно: — И не пропадайте надолго. Прошу вас...
19
Однажды утром в Апостолово, недавно отбитом у немцев, Рая внезапно оказалась в непростой ситуации. Девушка, типичная южанка, стояла на крыльце большого дома, а вокруг неё столпились несколько бойцов в плащпалатках и с автоматами. Один из них, здоровенный, рыжий, по всему видно — сибиряк, был настроен особенно агрессивно. — А ну поди сюда, немецкая овчарка! — повторял он, размахивая руками. Его пыталась образумить пожилая женщина, похоже, хозяйка дома: — Чего ты напал на дивчину? Она немцам не продавалась! Все были бы такие честные, как она! И не трожь её, а то возьму кочергу да по башке! Девушка держалась стойко и, вместо того чтобы звать на помощь, огрызалась: — Если я овчарка, то ты пёс паршивый! Услышав эту перепалку, Рая подбежала к крыльцу и накинулась на рыжего: — А ну прекрати! Откуда ты знаешь, кто она такая и как себя вела в оккупации? — А то разве не видать? Вон какая краля! Неужто немцы её пропустили? — Ты не следователь и не трибунал! Не смей творить самосуд! — А ты кто такая? — ощерился рыжий. — Всё понятно, братцы, одна сука другую защищает! Разгневанная Рая выхватила из кобуры пистолет: — Ещё одно твоё поганое слово... — Да я тебя, курву... — Рыжий начал стаскивать с плеча автомат. Девушка спрыгнула с крыльца и вцепилась в рыжего. Подскочившие бойцы, с трудом утихомирив своего товарища, увели его. Рая взглянула на незнакомку повнимательнее. Перед ней стояла Кармен, словно сошедшая со страниц Мериме[4]. Стройная, тоненькая, как тростинка, с гривой чёрных волос. — Спасибо вам, вы меня спасли! — Девушка благодарно посмотрела на Раю. — Подумать только: под снарядами, под бомбами уцелела, а тут от руки какого-то гада... — Что поделаешь, — улыбнулась Рая, — его тоже можно понять. Но с людьми так, без разбору, нельзя. А то ведь всех, кто был в оккупации, можно под немецких овчарок и прихлебателей подвести. Ладно, давайте знакомиться. Меня зовут Рая Кучеренко. — А меня Катя. Катя Ставицкая, — охотно откликнулась девушка. — Я понимаю. Нам, тем, кто здесь оставался, наверное, долго не будут верить. А как доказать свою невиновность? Не знаю... — Постепенно всё встанет на свои места, — ободряюще сказала Рая. — Сейчас главное — немчуру со своей земливышвырнуть. — Да-да, конечно! — закивала Катя. — А вы заходите к нам. Чаю хотите? А хотите, так ночуйте в нашем доме, мы будем рады. Вы здесь надолго? — Несколько дней, наверное, пробудем, а там кто знает, это командирам решать. Вместе с Катей Рая вошла в дом. Сразу бросалось в глаза, что жили здесь бедновато, но радовала чистота в комнатах и скромный уют. Хозяйка, назвавшись Оксаной Семёновной, поставила на стол, накрытый холщовой скатертью, чайник и чашки с блюдцами. Рая вынула из своего вещмешка консервы и галеты. — Ох и ждали мы вас, кабы вы только знали, как ждали! — тихо заговорила хозяйка. — Отчаялись уже, думали, что во веки веков немца с нашей земли не прогнать. Ан нет — наша берёт! — Да, наша берёт, — подтвердила Рая. — Теперь не на восток — на запад двигаем. Наступать вот только тяжко: сплошь распутица! — И не говорите, — вздохнула Оксана Семёновна. — А немцы туточки ещё как завязли! — оживлённо добавила Катя. — Там, за околицей, вся их техника — в два ряда, по самые ступицы. Да вот и нашим достаётся... После чая Катя повела Раю в соседнюю комнату поболтать. — Мы сами-то нездешние, — начала она свой рассказ, не ожидая вопросов Раи. — Родичи нас здесь приютили. — Ты не одна? — Нет, со мной мама, две младших сестрёнки и братик, самый меньший. Мы беженцы, из Нальчика. — Какие же вы беженцы? — удивилась Рая. — Беженцы — те, что на восток уходили. Ведь и в Нальчике были немцы, и здесь вы к ним попали. — Так это всё моя мама. Когда немцы Нальчик взяли, она за меня страсть как испугалась. Там все знали, что я комсомолка и пионервожатой была. Мама боялась, что донесут, она же видела, как немцы коммунистов и комсомольцев расстреливают, вешают. А здесь, в Апостолово, у нас родичи со стороны отца. Он погиб ещё в сорок первом. — И как вам удалось сюда пробраться? Не близкий свет. — Нам и самим не верится, — подтвердила Катя. — Маме ещё кто-то в Нальчике сказал, что, мол, с Украины в Германию не угоняют, вот она и поверила. Потом увидели: ещё как угоняют! А как добрались?.. Как в страшном сне! Пешком и на попутках, в поезда же немцы не пускали без пропуска. Иной раз теряли друг друга в этом аду, потом чудом снова вместе оказывались. Обтрёпанные, голодные, холодные... Ох, Рая, подробно рассказывать — ночи не хватит. — Что такое холод и голод, мне тоже знакомо, всё пережила. Я же в ленинградской блокаде была. — В Нальчике тоже были эвакуированные из Ленинграда. Так я их рассказы слушать спокойно не могла. Едва начнут, я — в рёв. Сколько слёз выплакала, жалеючи. Хотя у самих тоже было несладко. У мамы — гипертония, в дороге чуть не погибла, всё близко к сердцу принимает. А как здесь стали жить, так она все подушки слезами промочила: немцы же молодых почти каждый день угоняли. Вот она и дрожала, боялась, что и меня заберут. А меня эта война так закалила, я такой отчаянной стала! — вдруг похвасталась Катя. — Помню, в школе такой тихоней была, скромницей, а дома все цветы в палисаднике разводила. Я, Раечка, так цветы люблю! Они для меня как живые. Бывало, если не полью какой — переживаю, он же, бедненький, пить хочет. Ночью встану и полью. — Катя сама не заметила, как ушла от разговора. — А всё-таки, как ты тут жила при немцах? — спросила Рая. — Как? На работу пошла, — просто ответила Катя. — На работу? К немцам? — А к кому же ещё? Почти целый год мы тут при них прожили. Больше не у кого было работать. — И какая же у тебя была работа? — Я уборщицей была на железнодорожном продпункте. Там немцы проходящие эшелоны провизией снабжали. У меня выбора не было: или грязь убирать, или вся семья с голоду помрёт. — И как к тебе немцы относились? — Как относились? Свысока, конечно, мы же для них недочеловеки. Нос задирали, хвастались, что почти всю Россию захватили. Убирать за ними трудно было: только везде уже приберу, а они опять грязь за собой волокут. Так я иной раз обругаю их. Чуть не прибили меня за это. Были и такие, что пытались клинья под меня подбивать, но я отчаянно себя вела. Да и внешность свою старалась скрывать: одевалась в старенькое, штопанное-перештопанное, на ноги — кирзачи солдатские, платком голову покрывала — так за дурнушку и сходила. А ещё мне немецкий язык здорово помог. Немцы любили, чтобы русские на их языке шпрехали, — таких они уважали. — А ты что, немецким владеешь? — Да. — Где же ты научилась? Неужто в школе? — Если бы только в школе, наверное бы, не смогла бы хорошо шпрехать. У моей подружки в Нальчике мать немка. Так мы с подружкой только на немецком говорили. У меня и в школе по немецкому одни пятёрки были. Учила я его вроде бы шутя, даже не думала, что мне этот немецкий так в жизни пригодится. — Катя немного передохнула и продолжила уже о другом: — Храбрая я стала до сумасшествия. Бывало, как есть нечего, мама просит: «Катенька, там, на площади, полевая кухня стоит. Немцы солдат кормят. Сходи, попроси — может, дадут хоть миску каши гороховой». Ну, иду, конечно, к полевой кухне, на меня вся надежда, я ж понимаю. Пошпрехаю с поваром, он мне целую кастрюльку каши даст да ещё и тушёнки положит. Ну, мои рады без памяти! Рае так и хотелось спросить, неужели Катя, работая у немцев, не помогала партизанам, ведь она могла узнать многое даже из обычных разговоров. Катя будто угадала её мысли. — Уборщицей чем хорошо? Работа такая, что в пособничестве немцам никто не упрекнёт, разве только дурак какой-нибудь. А я с первого дня, как стала работать, про себя решила: всё, что услышу важного, буду нашим передавать. Дружила я тут с одним пареньком, железнодорожником. Он мне сказал, что связан с партизанами. Вот я ему всё и передавала. А паренька этого, Васю Кленова, я за мужа выдавала, он меня вечерами встречать приходил. Так что он тоже может подтвердить, что я не брешу. — Молодец, — похвалила Рая, — правильно поступала. И что важное слышала? — Ну, они больше о том болтали, что нового на фронте, какие трофеи в Германию отправили, что из дому пишут. Немцы секреты умеют хранить. Но нет-нет, да и проговорятся: какие эшелоны через станцию пройдут, с какими грузами. Вот это я сразу Васе передавала. Партизанам иной раз удавалось такой эшелон под откос пустить. — Выходит, Катюша, не зря ты в Апостолово оказалась и к немцам работать пошла. — Это так. Да только как теперь доказать? Вечно буду под подозрением. — Ты не права, Катюша. Вокруг тебя ведь наши люди были, советские. Они всё видели. — Конечно, — согласилась Катя. — Да и потом, разве я бы осталась здесь, если бы работала на немцев? Вместе с ними драпанула бы, как некоторые. Но Рая и Катя не могли тогда и предположить, что кончится война и люди во всех анкетах, которые им придётся по разным поводам заполнять, должны будут в обязательном порядке отвечать на вопрос: «Находились ли вы на оккупированной территории в период Великой Отечественной войны, где и когда?» И положительный ответ неизбежно сделает их людьми «второго сорта», они будут всегда находиться под подозрением. Более того, органы каждый раз будут дотошно проверять и перепроверять, рассылая запросы в местные отделы госбезопасности, где тот или иной подозреваемый жил на оккупированной территории, и от ответов на такие запросы будет всецело зависеть судьба человека. Рая и Катя проговорили допоздна. Катя рассказывала о Нальчике, в котором родилась, выросла и окончила среднюю школу перед самой войной, где встретила первую любовь. Рассказывала с восхищением. Выходило, что на всей земле нет более прекрасного города, чем Нальчик: он как бы прилёг отдохнуть у самого подножия Главного Кавказского хребта, а из окон домов видны красавцы Казбек и Эльбрус, увенчанные белыми шапками вечных снегов. — Как бы я хотела там побывать! — воскликнула Рая. — Помнишь: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство моё!» — Ещё бы! — радостно откликнулась Катя. — Вот разобьём немцев, кончится война, приезжайте к нам. Наш дом в самом центре, в Школьном переулке. — Это пока мечты... Рано утром, проснувшись, Рая заторопилась. — Меня небось уже без вести пропавшей посчитали, — беспокоилась она. — Но зато я с тобой познакомилась. Будем считать, что мы с тобой теперь подруги. Ты не против? — Ещё бы против! — обрадовалась Катя. — Да я очень рада. — Катюша, а давай вместе с нами? Чего тебе сидеть в этом Апостолово? Глядишь, до Берлина дойдём! — Эх, Раечка, а мама больная? На кого же я её покину? — Да, правда. Бросать их ты не имеешь права. Но если мама выздоровеет, — приезжай к нам. — Как же я вас найду? — А я тебе номер своей полевой почты оставлю.
20
Когда до Раи дошла ошеломляющая весть о том, что Смерш арестовал Катю Ставицкую, она не могла в это поверить. В это время Рая уже работала связисткой в штабе фронта. Попала она туда неожиданно для себя. Однажды Рая, проходя мимо штаба, лицом к лицу столкнулась с генералом Алексеем Ивановичем Леоновым, начальником войск связи фронта. Увидев Раю, Леонов остановился. — Здравия желаю, товарищ генерал! — Рая строевым шагом прошествовала мимо. — Подождите, товарищ боец! — нарочито строго остановил её генерал. Рая вернулась, не понимая, в чём провинилась. — Кто вы такая? — тоном взыскательного начальника спросил Леонов. — Боец Кучеренко, товарищ генерал. — Боец Кучеренко? — переспросил Леонов, уже улыбаясь. — А почему я вас не знаю? Рая удивлённо пожала плечами: — А почему вы, товарищ генерал, должны знать рядового бойца? — Почему? — тон Леонова стал шутливым. — Да хотя бы потому, что я всех женщин нашего фронта знаю, а вот вас вижу впервые. Рая тоже улыбнулась: — В этом моей вины нет, товарищ генерал. — Хороший ответ! А в каком подразделении вы служите? Рая назвала свою роту. — Боец Кучеренко, а как вы посмотрите, ежели я вас возьму в штаб связисткой? — Связисткой? — переспросила Рая. — Так я же не сумею. Никогда связисткой не была. — Э нет, так дело не пойдёт, боец Кучеренко! — сделав вид, что рассержен, воскликнул Леонов. — Знаете, какой у нас закон в армии? Не можешь — научим, не хочешь — заставим! — Понятно, товарищ генерал. — Ну и чудненько! Так вот и оказалась Рая Кучеренко в штабе фронта. И, узнав о судьбе Кати Ставицкой, она вдруг решила: надо обо всём рассказать Леонову, а уж он подскажет, как действовать. Выслушав Раю, Алексей Иванович задумался. — Непростую задачку вы мне подсунули. Это, прямо скажу, не арифметика, это — алгебра. Рая упала духом: неужели Леонов не сможет помочь? Увидев, как она сникла, Алексей Иванович поспешил подбодрить её: — Ладно, не падайте духом. Доложу командующему. Каково же было удивление Раи, когда запыхавшийся вестовой из штаба сообщил, что ей велено срочно прибыть к генералу Малиновскому. Рая помчалась в штаб. Адъютант провёл её в кабинет командующего — просторную комнату в хате. Когда девушка переступила порог, Родион Яковлевич встал из-за стола и поспешил ей навстречу, радостно улыбаясь: — Неужели вы, Раиса Яковлевна? Не верю своим глазам! — Не забыли, товарищ командующий? — смутилась Рая. — Как видите, не забыл. Тут Леонов о вас говорил. — Вы уж простите меня, товарищ командующий. За себя не стала бы хлопотать. Хорошего человека спасать надо! — Раиса Яковлевна, в дела Смерша вмешиваться мне не с руки. Надеюсь, вы понимаете. — Выходит, невиновного человека, нашего, советского, — под расстрел? — Почему обязательно под расстрел? Ей что, уже вынесли приговор? Это решает военный трибунал. Думаю, разберутся. — Ох, если бы разобрались. А если нет? Малиновский нахмурился. — Смерш — орган серьёзный, компетентный. Без него наши войска будут беззащитны от вражеской агентуры. — Это я понимаю, товарищ командующий, — не сдавалась Рая. — Только Катя Ставицкая — никакая не агентура! — А на чём основана ваша уверенность? Вы же, насколько я осведомлён, знакомы с ней без году неделя и уже убеждены, что она — ангел во плоти? — Убеждена, товарищ командующий! Я всех, кто её знает, расспросила: никто о ней дурного слова не сказал. Это просто поклёп. — Ну, хорошо, Раиса Яковлевна, я постараюсь в этом деле разобраться. — Очень вас прошу, товарищ командующий! Разрешите идти? — Разрешаю, — улыбнулся Родион Яковлевич. — Только не исчезайте совсем. — Есть, товарищ командующий! И Рая проворно вышла из кабинета. Вечером Малиновский пригласил к себе полковника Барахвостова, представителя ведомства Берии, который уже неделю пребывал в Апостолово. — Как подвигается ваша инспекция, товарищ Барахвостов? — Инспекция, товарищ командующий, идёт в строгом соответствии с планом, утверждённым лично Лаврентием Павловичем, — Барахвостов отвечал неохотно, нарочито растягивая слова и давая понять, что мог бы и вовсе не отвечать. — Накопал уже массу ошибок у вашего фронтового Смерша. Теряет он классовое чутьё. А это — смерть для чекиста! Здесь, в Апостолово, можно сказать, змеиное гнездо немецкой агентуры, а они благодушествовали. Уже выявлено несколько агентов абвера, которых немцы специально оставили на занятой нами территории для работы. — Это хорошо, — кивнул головой Малиновский. — Этого от фашистов и следовало ожидать. Тут нужно действовать стремительно и беспощадно. Но важно не покарать невиновных. А то ведь у нас как бывает: лес рубят — щепки летят. — У нас так не бывает, — высокомерно процедил Барахвостов. — Мы действуем не наобум, а в соответствии с указаниями нашего вождя товарища Сталина и наркома товарища Берия. У чекистов глаз намётан, холостые выстрелы здесь исключены. — Ну, это как сказать, — усомнился Малиновский. — И на солнце ведь бывают пятна. Указания абсолютно правильные, тут сомнений быть не может, а что касается исполнения этих указаний — случаются перехлёсты. — Перехлёсты? — переспросил Барахвостов. Его пухлые щёки раскраснелись. — Я вас не совсем понимаю, Родион Яковлевич. — Я ведь на русском языке говорю, чего тут не поднимать? — спокойно произнёс Малиновский. — К примеру, поступили ко мне сведения, что Смерш вчера ночью арестовал жительницу Апостолово гражданку Ставицкую. «Откуда он знает? — Барахвостов был неприятно удивлён. — Утечка, выходит... Непорядок!» — Совершенно верно, товарищ командующий. Ставицкая Екатерина Фёдоровна подозревается в пособничестве гитлеровцам. В период нахождения на оккупированной фашистами территории... — И что, есть прямые, неопровержимые доказательства? — прервал его Малиновский. — Донесение нашего агента, человек проверенный. — Арестованная призналась? — Пока всё отрицает. Обычная тактика... — Свидетели есть? — Пока нет. Но свидетели найдутся. Ребята наши работают. Да какие сомнения тут могут быть, товарищ командующий? Посмотрели бы вы на эту Ставицкую! Девка красивая, хоть куда, — неужели немцы мимо неё прошли? Как пить дать завербовали! — Выходит, всё, что вы сейчас говорите, всего лишь предположения. Значит, всех красивых девчат, кто оставался при немцах, — под трибунал? — Так она же осталась на оккупированной территории! — Барахвостов, удивляясь непониманию командующего, пытался понять, почему Малиновский так заинтересовался этой Ставицкой. — Тут и доказывать нечего! — Осталась на оккупированной территории? — негромко сказал Малиновский. — Значит, осталась?! — переспросил он ещё раз уже погромче и вдруг закричал: — А знаешь ты, почему она осталась, знаешь?! — Малиновский поймал себя на мысли, что, пожалуй, кроме своих близких, он ни к кому больше не обращался на «ты». — Ты её оставил, ты, понял?! — Я?! — едва не подпрыгнул на стуле Барахвостов. — Я оставил?! — Ты! — зло бросил Малиновский. — И ты, и я, и все мы оставили! Драпанули и бросили таких, как эта Катя Ставицкая, а теперь их шпыняем, зачисляем в пособники немцев! Справедливо это, Барахвостов? Пораскинь-ка мозгами! Под фашистами сколько наших людей? Прибалтика, Белоруссия, Украина, Молдавия, запад и юг России... Кто это всё немцам отдал? Мы с тобой отдали, Барахвостов, вот кто! Так что, теперь всех, кого мы бросили, — к стенке? Без разбору? Барахвостов опешил: и это говорит командующий? Да понимает ли он обстановку текущего момента? Понимает ли задачи Смерша? Он готов был бросить все эти обвинения Малиновскому, но удержал себя от этого шага: как-никак, командующий фронтом, выходит напрямик на Сталина. Хотя Лаврентий Павлович и напутствовал его, Барахвостова, не считаться ни с какими авторитетами, лучше выждать. — Товарищ командующий, а как же насчёт ненависти к врагу и его пособникам? Как быть с лозунгом: «Нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души»? Или как быть со стихами поэта Симонова, я в «Красной звезде» читал: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей»? Немца то есть. А раз немца, следовательно, и того, кто ему подсобляет. Выходит, надо прощать? — А вы доказали, что эта Ставицкая — пособница немцев? — уже спокойно спросил Малиновский, вновь переходя на «вы». — Или что она — агент абвера? У вас есть неопровержимые факты? Если нет, вы обязаны извиниться перед ней и освободить из-под ареста. Мало нам смертей тех людей, что гибнут на поле боя? — Товарищ комфронта, я, к сожалению, не могу руководствоваться эмоциями. У меня прямая директива товарища Берия: проверять каждого досконально, вдоль и поперёк. Этого я требую и от вашего фронтового Смерша. Иной раз, чтобы выбить показания, приходится кое-кому душу наизнанку выворачивать. — Душу наизнанку? Ну, это вы, Барахвостов, перегибаете палку. Добиваться признаний следует чекистским мастерством, а не инквизиторскими методами. И как быть с требованиями социалистической законности? Надобно факты добывать, неопровержимые факты, а не с ходу припечатывать клеймо гитлеровского агента. Апостолово — сравнительно небольшой посёлок, все на виду. Тут каждый о каждом знает. И судя по всему, фактами-то вы как раз и не располагаете. Ставицкую надо отпустить. — Отпустить? — поразился Барахвостов. — Только при условии, что последует ваш письменный приказ. Малиновский посмотрел на него в упор. — Ну, если не письменный, то хотя бы устный... — Считайте, что моё устное указание вы уже получили, — сухо произнёс Малиновский. — Понял вас, товарищ командующий, — промямлил Барахвостов, вскакивая со стула. — Я могу заниматься своими делами? — Конечно. О выполнении полученного вами указания доложите. «Хорошо, что не все чекисты такие, как этот Барахвостов, — глядя ему вслед, подумал Малиновский. — Со многими доводилось работать — честные, порядочные люди. А этот готов всех за решётку засадить, лишь бы лишний орденок к своему мундиру прикрутить». ...Через несколько дней Малиновский сообщил Рае, что Катя Ставицкая уже на свободе, он проверил лично. — Я уже знаю, она ко мне прибегала, рыдает от счастья. — Рая и сама едва не плакала от радости. — Спасибо вам, товарищ командующий, за справедливость! И за сочувствие!.. А в это время полковник Барахвостов заканчивал составлять донесение лично товарищу Берия под грифом «совершенно секретно». Он сообщал, что командующий фронтом Малиновский Родион Яковлевич ведёт странную линию, идущую вразрез с установками товарища Сталина и товарища Берия, — линию на защиту арестованных агентов немецко-фашистских захватчиков. Это не может не отразиться на уровне боеспособности фронта, о чём он, полковник Барахвостов, считает необходимым незамедлительно сигнализировать для принятия соответствующих мер. Закончив писать, Барахвостов ощутил в себе прилив торжества от честно исполненного долга.
21
В своей книге «Солдаты России», которую Родион Яковлевич Малиновский завершил через двадцать лет после войны, есть страницы, посвящённые городу, в котором родился будущий Маршал. Имя этому городу — Одесса. Родион Яковлевич любил Одессу, как можно любить то, без чего немыслимо представить себе жизнь, любил трепетно, романтично и даже возвышенно. Ему казалось, что Одесса — самый прекрасный город на всей земле, город-сказка, подаренный людям Всевышним. Малиновского необычайно интересовало всё связанное с этим городом, с его историей и даже с названием. Об одной из версий происхождения этого названия Родион Яковлевич и рассказал в своей книге: «Екатерина II, всесильная императрица Российской империи, немка по происхождению, весьма благоволила к французским просветителям и даже переписывалась с Вольтером — колоссом французской прогрессивной мысли. На военной службе у неё состояли много французов: Де Рибас, де Ришелье, Ланжерон... И вот после славной победы над Турцией, когда к России отошли районы нынешней Одессы, Екатерина поручила французам выбрать на побережье Чёрного моря хорошее место для закладки большого города. Она ведь подражала Петру I и, надо отдать ей справедливость, много сделала для российского дворянства. Французы старательно выполнили наказ русской императрицы и остановили свой выбор на местности около турецкого селения Хаджибей. В конце донесения Екатерине, которое было, естественно, написано на французском языке, стояло Assez d’eaux (довольно воды), чем ещё раз подтверждалась правильность выбора места будущего города. Когда императрица подбирала для него название, её внимание почему-то привлекла последняя фраза донесения французов. Она прочла его наоборот и повелела, чтобы именно так и назывался город — Одесса. А вслед за тем появились и названия улиц — Дерибасовская, Ришельевская, целого района — Ланжерон, — все по именам служивших у Екатерины французских офицеров. Трудно судить, насколько эта версия достоверна. Как бы там ни было, а прекрасный город Одесса существует, и каждый в нём побывавший отдаёт должное вкусу французов, выбравших для него место на берегу Чёрного моря...» Но всё это Малиновский напишет через двадцать лет, а сейчас ему предстояло отвоевать у захватчиков этот прекрасный город. Брать Одессу предстояло весной, когда на юге Украины свирепствует распутица. Тут и пехоте невмоготу, в этих воспетых поэтами «степях Украины», не то что танкам. Дороги практически исчезли, и попасть из одного села в другое было под силу лишь коннице. Немцы, не выдержав мощнейшего натиска советских войск, старались поскорее унести ноги. Над ними опять витал призрак «сталинградского котла». И если силой жесточайших приказов немецкие солдаты иной раз отваживались ответить нашим наступающим частям контратакой, то это были действия обречённых. ...11 марта 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования направила директиву командующему фронтом Малиновскому и представителю Ставки Василевскому. 3-му Украинскому фронту предписывалось преследовать отступающего противника, не допуская его отхода за реку Южный Буг, и захватить переправы через эту реку на участке Константинов, Вознесенск — Новая Одесса. В дальнейшем Ставка требовала с ходу освободить города Николаев и Херсон, занять Тирасполь, Одессу и продолжать наступление с целью выхода на реку Прут и северный берег реки Дунай. Малиновский несколько раз перечитал строку: «с целью выхода на реку Прут», и сердце его дрогнуло. Выйти на реку Прут означало выйти на Государственную границу. На ту самую границу, где он встретил войну в сорок первом и куда поклялся вернуться, чего бы это ни стоило. Обещал вернуться скоро, а получалось, едва ли не через три года! Ну что ж, лучше поздно, как говорится... 21 марта на командный пункт командующего 8-й гвардейской армией генерала Василия Ивановича Чуйкова позвонил генерал Исса Александрович Плиев. — Василий Иванович, дорогой! Приглашаю тебя в гости, на шашлык! Из настоящего молодого барашка, представляешь? — Ещё как представляю, Исса Александрович, уже слюнки текут, — отозвался Чуйков, смекнув, что звонок с подтекстом: до шашлыков ли сейчас? — Благодарю за приглашение, ты знаешь, как меня в свои сети заманить! Очень я тебе понадобился? — Ещё как понадобился, дорогой Василий Иванович! Хотя кому не нужен герой Сталинграда? Могу лишь добавить, что сейчас нужен ты не только мне, а кое-кому повыше. — Всё понял, дорогой Исса Александрович! Слушаюсь и повинуюсь, аллюр три креста! Чуйков догадался: очень высокое начальство пожалует к Плиеву. И понятно почему: Ставка разгневана, что фронт никак не может форсировать Южный Буг. А как его форсируешь? Бугский лиман и в тихую погоду так просто не преодолеешь, а уж если с моря подует ветер... В лиман хлынет вода, и тогда держись! Даже те плацдармы, что удалось захватить на правом берегу, пришлось оставить под угрозой затопления. Но разве Ставке есть дело до таких «мелочей»? Чуйков не мешкая отправился к Плиеву. Он не ошибся: на командном пункте его ждали Маршал Василевский и генерал армии Малиновский. Тут же находились вызванные к начальству командир 4-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса генерал-лейтенант Танасчишин и командующий 8-й гвардейской воздушной армией генерал-полковник Судец. — Василий Иванович, я и Родион Яковлевич поздравляем вас от всей души... — С чем? — От неожиданности Чуйков даже слегка растерялся: шутит, что ли, Александр Михайлович, «поздравляет» с тем, что гвардейцы командарма никак не могут перемахнуть через Южный Буг? — Неужто не догадываетесь? — широко улыбнулся Василевский. — Вам присвоено звание Героя Советского Союза! Принимайте наши сердечные поздравления! — Служу Советскому Союзу, — вытянувшись, отчеканил Чуйков. — Примите и мои поздравления, Василий Иванович! — присоединился Малиновский. — Заслуженная награда! — Спасибо! А вас, Родион Яковлевич, я, в свою очередь, поздравляю со вторым орденом Суворова I степени! — Уже узнали? — удивился Малиновский. — Мне самому совсем недавно об этом сообщили. — А у меня хорошо разведка работает! — похвастался Чуйков. — Особо, если речь идёт о хороших новостях! В разговор вмешался генерал Плиев: — А у меня разведка ещё лучше работает, чем у тебя, Василий Иванович! — гортанно воскликнул он. — И знаешь почему? Потому что у меня уже и стол накрыт, чтобы отметить награждение. Прошу к столу! Шашлык и впрямь был отменный. Разговор начался с шуток. Малиновский неожиданно припомнил, как Чуйков под Каменкой решил сам принять участие в разведке и едва не попал в плен к немцам. Тогда под ним был убит конь. Василевский как бы ненароком поинтересовался, на чём Чуйков добирался до Плиева. Не на коне ли? А Малиновский тут же с показной озабоченностью осведомился: — Василий Иванович, думаю, вам надо прислать новую сбрую и папаху? Сейчас позвоню начальнику тыла, это не проблема... — Товарищ командующий, благодарю за заботу, но в этом нет необходимости. — Чуйков воспринял шутку всерьёз. — И сбруя, и седло, и папаха у меня целёхонькие. И даже сапоги. О себе не говорю — вот он я, перед вами. — Это мы и лицезреем, — улыбаясь, продолжил Малиновский. — Чему искренне радуемся. Да вот, думаю, всю эту амуницию вы, Василий Иванович, не без риска для жизни вызволили прямо-таки из пасти ворога. На манер Тараса Бульбы: тот за своей трубкой в самое пекло полез. А как бы обрадовался фон Шверин, ежели бы ему такие трофеи доставили! — Так что же, мне из блиндажа не вылезать? — возмутился Чуйков. — Из него ни черта не увидишь! — Василий Иванович, это просто шутка! — весело заметил Василевский. — Мы же ещё по Сталинграду знаем, что вы не из пугливых. Пугливым геройскую звезду не дают! Чуйков успокоился. — Пора переходить к делу, — сказал Василевский. — Спасибо, Исса Александрович, за шашлык. Только на земле твоей родной Осетии доводилось мне такой испробовать. Сейчас Родион Яковлевич изложит план предстоящей операции. — Ближайшая цель наступательной операции — форсирование Южного Буга и освобождение Одессы. Конечная цель — выход наших войск на Днестр. — Малиновский подошёл к карте. — Основной удар будем наносить силами четырёх общевойсковых армий, конно-механизированной группы и 23-го танкового корпуса с Южного Буга в общем направлении на Раздельную, Тирасполь, с тем чтобы охватить с северо-запада группировку противника, действующую в Одессе и на побережье. Вспомогательный удар в направлении на Николаев и Одессу. — Решение верное, — поддержал Василевский. — Морскую пехоту привлечём для захвата приморских городов и портов. Разгром противника будем осуществлять во взаимодействии с левым крылом 2-го Украинского фронта. После артподготовки войскам следует без промедления форсировать Южный Буг и прорвать оборону немцев на его западном берегу. В это же время левофланговые армии начнут штурм Николаева. Продолжайте, Родион Яковлевич. — Ваша армия, товарищ Чуйков, — снова заговорил Малиновский, — должна прорвать оборону противника по правому берегу Южного Буга и создать условия для ввода в бой подвижной группы генерала Плиева. Прорыв обороны противника — с Андреевского плацдарма переходом в решительное наступление в общем направлении на Карлсруэ, Ландау. Вашей группе, товарищ Плиев, овладеть Березовкой и наступать на Раздельную и к долине Кучургана. Генерал-полковнику Судцу прикрыть наступающие части с воздуха. С севера и востока наносить удар на Одессу будут войска армий Глаголева, Чуйкова, Шлемина и Цветаева. — Таким образом, практически весь 3-й Украинский фронт, Родион Яковлевич, — заметил Василевский, — нацеливается на освобождение вашей родной Одессы. — Благодарю за доверие, — отозвался Малиновский. — Освободить Одессу — это наш долг. — Мы оказываем вам это доверие лишь с одним условием — после взятия Одессы вы не останетесь в ней навсегда, а продолжите наступление вплоть до взятия Берлина, — засмеялся Василевский. — Главное, помните, товарищи, гитлеровцы потеряли стратегическую инициативу. Манштейн, которого Гитлер считал лучшим оперативным умом германского вермахта, терпит поражение за поражением. Это надо внушить бойцам и офицерам. Продолжая разговаривать, генералы вышли из землянки. Было уже темно, небо грозно чернело, моросил дождь. — Достанется нашим ребятам, — невесело сказал Василевский. — Чем-то мы провинились перед небесной канцелярией. Может, завтра смилостивится Всевышний? Однако утром погода не изменилась, будто решила окончательно запугать наступавших. Тем не менее войска пошли на прорыв немецкой обороны точно по разработанному плану. Двигаться было тяжело. Местность, на которой разворачивалось наступление, была такая, будто её сам чёрт перепахал: овраги, балки, буераки, речки, болота. Да и морское побережье не подарок: холмы, крутые песчаные обрывы, колючий кустарник. Но настрой был воинственный — чем скорее вперёд, тем ближе победа! 8-я гвардейская армия Чуйкова, сбивая с позиций пытавшихся задержаться на них немцев, неудержимо рвалась к Троицкому, где ей предстояло форсировать Южный Буг. Река в разгаре весеннего половодья казалась совершенно непреодолимой. Мутные потоки бурлили, вода всё прибывала и прибывала. — Без моста не обойтись, — мрачно сказал Чуйков армейскому инженеру полковнику Ткаченко. — Пока льёт дождь и небо затянуто тучами, «стервятники» не прилетят. Дерзай, Давид-строитель, мост позарез нужен! Ткаченко, мастерски наводивший переправы даже под огнём артиллерии и бомбёжкой, развёл руками: — Мы уже строим, вот только никак закончить не можем: материалы, что у нас были, все израсходовали полностью. Больше нет ни единого брёвнышка. Степь! А ещё целый пролёт остался. Чуйков осмотрелся вокруг. — Ткаченко, видишь что-нибудь окрест? Полковник огляделся. — Вижу, товарищ генерал! — радостно воскликнул он. — Ветряная мельница на крутояре. Всё понял, товарищ командующий! — Да их тут целых пять штук! — вдогонку ему крикнул Чуйков. Вскоре Ткаченко вернулся: на его круглом лице сияла улыбка. — Отличный материал, товарищ командующий. Разберём по брёвнышку! — Ты, строитель, прежде выдай сапёрам фронтовую норму да сала украинского на закуску. Да не по сто граммов, а по двести, не жадничай! Пойдём к сапёрам, я вместе с ними чарку за успех опрокину. Сапёры, узнав о приказе Чуйкова, взбодрились. — Ну как, гвардейцы, через пару часов мост будет готов? — спросил Чуйков. — Да мы в таком разе и за полтора его сварганим! Когда через два часа Чуйков со своим штабом подъехал к берегу Южного Буга, мост был уже готов. Машина командарма въехала на переправу. Неожиданно взмахом сильной руки её остановил богатырь-сапёр с лихо закрученными усами. — Товарищ командующий! — громко и торжественно провозгласил он простуженным басом. — Прошу предъявить пропуск! Поражённый Чуйков высунулся из машины: что ещё за анархист? Сапёр поспешно протянул алюминиевую солдатскую кружку: — Мост построен, товарищ генерал! По русскому обычаю надобно обмыть, иначе не пропустим! Чуйков, смеясь, вышел из машины и увидел на груди сапёра медаль «За оборону Сталинграда». — Молодец, сталинградец! Только я уже свою чарку принял. Разве что символически, раз обычай велит? — Ага! — обрадованно кивнул сапёр. — Символически — значит, до дна! — Да от такого, как ты, разве отвяжешься? — с нарочитой грубостью воскликнул Чуйков. — Ладно — за сапёров, прокладывающих путь от Сталинграда до Берлина!.. На правом берегу Южного Буга Чуйкова ждал приказ Малиновского: наступление ускорить, не давая врагу ни минуты передышки. Чуйков распорядился подтянуть отставшую на бездорожье артиллерию и боеприпасы. То и дело приходилось преодолевать речки и лиманы, заливы и заливчики, пока наконец войска не подошли вплотную к раскинувшемуся уже перед самой Одессой Хаджибеевскому лиману. Тогда на командном пункте вновь появились Василевский и Малиновский. Они молча стояли на берегу лимана, думая об одном и том же — о переправах. Сколько переправ через великие и малые реки совершили и при отступлении, и при наступлении наши воины! Не перечесть их, этих великих и малых рек! Одному человеку, да с грузом, и то трудно, а порой и вовсе не под силу перебраться с одного берега реки на другой, а каково целой армии? Переправа... Это значит перевезти на другой берег множество различных грузов и техники — танков, орудий, автомашин, боеприпасов, не говоря уже о тысячах вооружённых людей. И всё это не под голубым ласковым небом, а под рёв бомбардировщиков и штурмовиков, для которых переправа — лакомая цель; под орудийным обстрелом, когда снаряды ложатся рядом с наводящейся через реку переправой, а то и попадают прямо в неё, круша всё, что сделано сапёрами и инженерами, отправляя на дно убитых и раненых, технику и снаряжение. Как там в «Василии Теркине»? «Переправа, переправа, берег левый, берег правый...»[5] ...Очнувшись от своих мыслей, Малиновский промолвил: — Я думаю, если Василий Иванович на тот берег перемахнёт, то его уже ничем не удержишь. А вот от Плиева что-то нет вестей. Надо побывать у него... Когда ПО-2 приземлился на полевом аэродроме вблизи командного пункта Плиева, оказалось, что Малиновский волновался напрасно: у знаменитого конника дела шли блестяще. За десять дней конно-механизированная группа с боями прошла сотни километров по глубоким тылам противника и овладела важнейшим опорным пунктом врага — узловой станцией Раздельная, а также Беляевкой, где находились водонапорные башни, снабжающие Одессу водой. Гитлеровцы хотя и подготовили водонапорные башни к взрыву, не успели осуществить своё чёрное дело: Плиев неожиданно повернул свои войска в обход Одессы с запада. Отряд казаков, поддерживаемый танками, ворвался в Беляевку и Маяки и захватил их, отрезав врагу пути отхода за Днестр. Это окончательно добило немцев: в панике, бросая технику и раненых, они бежали. Вечером 9 апреля «орлы Малиновского» ворвались на северную окраину Одессы, другая часть их, гоня противника на запад, вышла к Днестру, отбила у врага Тирасполь и захватила кицканский плацдарм. Малиновский не медля доложил в Ставку об успехе наступательной операции. При этом он особенно подчеркнул заслуги генерала Плиева: — Войска конно-механизированной группы Плиева действовали изолированно в тылу противника и своими мощными внезапными ударами деморализовали его. Судьбу Одессы решил обходной марш 8-й гвардейской армии Чуйкова и конно-механизированной группы Плиева. Город обороняли румынские войска, 72-й армейский корпус в составе четырёх дивизий и свыше двадцати батальонов эсэсовцев. Северные и северо-западные окраины города были сильно укреплены, и лобовой удар здесь оказался бы бесцельным, привёл бы к большим жертвам и к разрушению города. Поэтому успех обходного манёвра привёл к желаемым результатам. После недолгого молчания Сталин заговорил: — Примите поздравления, товарищ Малиновский. Взятие Одессы — большая победа советских войск, имеющая поистине историческое значение. Что же касается товарища Плиева, то поздравьте его с присвоением звания Героя Советского Союза. Товарищ Чуйков, кажется, уже удостоен этого высокого звания? — Совершенно верно, товарищ Сталин. Чуйков — Герой Советского Союза. — Оба — и товарищ Чуйков, и товарищ Плиев — получили эти высокие звания вполне заслуженно, — подытожил разговор Сталин. — Продолжайте, товарищ Малиновский, действовать в том же духе. Ставка удовлетворена боевыми успехами вашего фронта. На следующий день Сталин вызвал к аппарату Василевского: — Товарищ Василевский, на мою долю выпала благородная миссия поздравить вас с награждением орденом «Победа». Вы награждаетесь этим орденом за умелое выполнение заданий Верховного Командования по руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских захватчиков. — Сталин говорил не торопясь. — И учтите, товарищ Василевский, что вы награждаетесь не только за освобождение Донбасса и Украины, а и за предстоящее освобождение Крыма. Вам необходимо сейчас переключить своё внимание на Крым. При этом не следует забывать о своей ответственности за дальнейшие действия 3-го Украинского фронта товарища Малиновского. — Благодарю за высокое доверие, товарищ Сталин! — на одном дыхании выпалил Василевский. — Приложу все свои силы и знания, чтобы и впредь... — Хорошо, товарищ Василевский, — перебил Сталин, как бы давая понять, что ему хорошо известно, какие ещё слова произнесёт маршал. — Хочу сделать одно дополнение. Вам будет вручён орден «Победа» за номером два. А орден «Победа» за номером один предназначен товарищу Жукову. — Это в высшей степени справедливо. Малиновский, присутствовавший при этом разговоре, едва Василевский положил трубку, подошёл к нему, крепко охватил его за широкие плечи. — Безмерно рад за вас, Александр Михайлович! Поздравляю! — Спасибо, дорогой Родион Яковлевич. — Василевский был тронут. — Уверен, придёт и ваш черёд получать такую же награду. — По рюмочке коньячку. — Нет возражений! — весело откликнулся Василевский. — А ночью снова будем с вами сидеть над оперативной картой. Надо срочно обмозговать план операции по выходу вашего фронта к Государственной границе по рекам Прут и Дунай. — Я готов. А вы завтра отправляетесь к Толбухину. — Да, он уже начал Крымскую операцию, — кивнул Василевский. — А как хотелось бы вместе с вами пройтись по улицам вашей родной Одессы!
22
Ясным весенним утром 15 апреля Малиновский въехал в освобождённую войсками его фронта Одессу. Но это была не та Одесса, которую он знал в детстве. Весёлый, шумный город притих, онемел, неузнаваемо преобразился. Дымы пожарищ вздымались к небу. Куда ни кинь взгляд — развалины домов, воронки от снарядов и авиабомб, сгоревшие танки, искалеченные орудия и трупы, трупы, трупы... Порт и доки, большинство фабрик и заводов были превращены в руины. К счастью, почти сохранилась центральная часть города. Но вот и бывший Французский бульвар. Малиновский велел водителю остановиться. Тот затормозил, и Родион Яковлевич нетерпеливо распахнул дверцу машины. Ослепительное весеннее солнце плеснуло ему в глаза так яростно, что он зажмурился и, выйдя из машины, с высокого пригорка огляделся вокруг. Пусть война, жертвы, разруха, — но вот же она, знакомая до боли сердечной живая Одесса, самый любимый город в его жизни! Всё будоражило, возвышало душу: и весёлое солнце, и синее небо, море, каштаны, акации, опьяняющий воздух, которым хотелось дышать взахлёб. Несмотря на запустение, город был сейчас, когда Малиновский с упоением смотрел на него, таким же желанным, ярким, зовущим — не город, а праздник души, созданный для счастья людей, для того, чтобы родиться в нём и жить вечно, не покидая его никогда. Родиону Яковлевичу вдруг почудилось, что война кончилась, отгремели орудийные залпы и автоматные очереди, разлетелись неизвестно куда истребители и бомбардировщики, пошли на переплав танки и самоходки. Он вдруг почувствовал, будто снова превратился в босоногого мальчишку, бегущего к морю ловить бычков и ставриду, ошалело нырять в морские глубины, нежиться на горячей прибрежной гальке, глядеть в небо и мечтать, мечтать, мечтать... Малиновский вспомнил, как по этому самому бульвару ездил на трамвае в Аркадию, к морю, а перед этим в обратную сторону — на весёлый и суматошный одесский рынок — Привоз, чтобы купить морских рачков — наживку для ловли рыбы. Ему даже послышались громыханье трамвайных колёс на стыках рельсов и сердитый голос кондукторши: «Высовывайся, высовывайся, вчера один уже высунулся!» Светлые воспоминания морскими волнами накатывали на Родиона Яковлевича. Они были непоследовательны, хаотичны, приносили ощущение радости и лёгкой печали. Он вспомнил, как вот по этому самому Французскому бульвару медленно ехали открытые автомобили, по обе стороны сопровождаемые конными стражниками и кавказскими горцами с кинжалами и в газырях. В одной из машин стоял невысокий человек с рыжей бородкой и усами, в мундире пехотного полковника. Лицо его было печально и откровенно равнодушно, он как-то неохотно помахивал рукой, приветствуя встречавших его горожан. То и дело раздавалось нестройное «ура!». Затерявшийся в толпе подросток Родион был разочарован: «И это — царь?» Он представлял себе Николая Второго совсем другим — могучим богатырём. И когда его спросил сосед, как ему показался царь, Родион ответил: — Да ничего, только тихий очень. — Потому и тихий, что в нём божественный дух сидит, — возразил его собеседник. — А лучше бы боевой дух сидел, — стоял на своём Родион. ...Всё это сейчасвозродилось в памяти. И галантерейная лавка купца Припускова, где Родион служил с двенадцати лет мальчиком на побегушках, и жизнь впроголодь, и униженное положение байстрюка — незаконнорождённого сына, и постоянное стремление поскорее встать на ноги, уйти в большую жизнь, стать самостоятельным человеком. Из людей, с которыми его столкнула судьба в детстве и отрочестве, ясным солнышком была для него тётя Наташа, Наталья Николаевна, к которой он уехал из дома в Юрковку и где жил до переезда в Одессу. До сих пор звучал в его ушах её певучий, мягкий голос: — Запомни, Родичка: самое главное в жизни — быть честным и порядочным человеком. Тогда жить будет радостно и легко. И никогда не давай себя в обиду, не пресмыкайся перед всякими мерзавцами и негодяями и не стремись к большому богатству, будь вместе с простыми людьми, они всегда помогут в трудную минуту. Тётя Наташа говорила как молитву читала. Наверное, потому её слова запали в детскую душу. Жизнь у неё в доме показалась Родиону праздником. Тётя Наташа дала мальчику прочитать «Кобзаря» Тараса Шевченко на украинском языке. Стихи эти ошеломили Родиона. Он часто повторял запомнившиеся строки:
Малиновский смотрел на море, море его детства. Вспомнилось, как однажды это родное море едва не погубило его. Больше всего Родион любил купаться и загорать на пляже в Аркадии, где вдали от берега скрывался под водой огромный кусок скалы. Родион обычно доплывал до него, отдыхал, а потом плыл обратно к берегу. Но однажды случилось так, что, добравшись до знакомого места, он не обнаружил камня. Сил уже почти не было, а предстояло возвращаться. Он плыл, задыхался, уже не раз глотнул солёной морской воды, а берег оставался далеко. Родион с ужасом понял, что ещё немного... Сильные волны выбросили его на берег без сознания. Сбежавшиеся люди откачали, сделали искусственное дыхание. Кто-то убеждённо сказал: — Ну, парень, жить будешь долго... ...Родион Яковлевич вздохнул и повернулся к машине. — А теперь махнём на Госпитальную. — Где это, товарищ генерал? — озаботился водитель. — Поехали, дорогу буду показывать, — успокоил Малиновский. — Это окраина. Госпитальная улица, дом номер 79. Когда приехали, Родион Яковлевич вышел и устремился к знакомому дому. Каким маленьким и приземистым показался он ему сейчас, спустя столько лет! Какой узенькой и неказистой выглядела улочка, которую он так любил в детстве и которая тогда казалась широкой и просторной! «Да, время меняет не только людей, оно меняет всё: дома, улицы, города», — невесело подумал Малиновский. Подойдя к дому, он увидел сидевшего на ступеньках крыльца старика. Тот подслеповато всматривался в незнакомого военного. — Дядя Миша! Неужто не узнаешь? Старик приподнялся со ступенек. — Погоди, погоди, — растерянно проговорил он, — никак... да ты ли это, Родька?! — Ну я же, я самый и есть, дядя Миша. — Родион Яковлевич обнял старика за худые плечи. — Кто же ещё? — Так как же это... Мальчишкой был, помню... — Дядя Миша был растроган до слёз. — А ты вон каким оказался... Генерал! Возле дома стали собираться люди — ахали, охали, дивясь удивительной встрече. — Заходи, Родион, заходи, дорогой, гостем будешь, желанным гостем! — беспрестанно повторял дядя Миша. Он всё никак не мог поверить, что его племянник Родька — боевой генерал, и сиял от гордости. Малиновский долго просидел у дяди Миши. Вспомнили о былых временах, перебрали в памяти всех, кого знали, и тех, кто уже ушёл на тот свет, и тех, кто остался в живых. Родион Яковлевич спросил дядю Мишу, как тут жилось при немцах. — А как жилось? — Дядя Миша неторопливо погладил рукой небритый подбородок. — Жизнью это не назовёшь, язык не поворачивается. Румыны тут долго хозяйничали, весь наш край Транснистрией обозвали, на каждом шагу кричали: «Великая Румыния, великая Румыния!» Ещё кричали, что сделают из нашей Одессы второй Бухарест. Рестораны пооткрывали, магазины, дома игорные. Да что игорные — публичные дома были на каждом шагу. Требовали изучать их язык, совсем орумынить нас захотели. А в последние месяцы до вашего прихода верх здесь немцы взяли. Сколько они людей безвинных расстреляли, особенно евреев, не сосчитать! — Да, не позавидуешь одесситам, — вздохнул Родион Яковлевич. — Зато и немцам, и румынской сигуранце наши партизаны шороху давали! — продолжал дядя Миша. — Партизаны в катакомбах скрывались, ты же знаешь, катакомбы у нас громадные — считай, не меньше десяти километров в длину да глубина метров под тридцать. Там у них и склады с оружием и продовольствием были. Ох и боялись фрицы да румыны партизан. — Да, они здорово помогли нам, — подтвердил Малиновский. — Сказался одесский характер. — А румыны эти здесь чувствовали себя хозяевами, — дяде Мише хотелось рассказать как можно больше. — Всем командовал губернатор Алексяну, именовавший себя профессором. — Да, видел я на Пушкинской улице на домах их воззвания на румынском, немецком и русском языках: «Мы, Ион Антонеску, маршал Румынии[6], профессор Алексяну, губернатор Транснистрии...» — Антонеску, так тот даже сидел в бывшей царской ложе Одесской оперы, — голос дяди Миши задрожал от возмущения. — Возомнили, что будут здесь теперь во веки веков. И какой же ты молодчина, Родион, что дал им пинка под зад!.. А какие они шкурники и спекулянты! — продолжал возмущаться дядя Миша. — Румынские генералы привозили из Бухареста целыми чемоданами дамское бельё, чулки, косметику, а ихние ординарцы сбывали всё это на нашем рынке по спекулятивным ценам. Да ещё продавали немецкие сигареты, консервы и всякое барахло. Зла на них не хватает! В конце разговора Малиновский спросил, в чём дядя Миша испытывает нужду. Тот нуждался, как легко было догадаться, во всём. Хотя щепетильный дядя Миша и отказывался, вскоре после того, как Родион Яковлевич уехал, старику привезли продукты и одежду. Дядя Миша поделился продуктами с соседями и каждый день с гордостью рассказывал, какой у него необыкновенный племянник — герой, полководец. — Да он и мальчонкой был головастый и шустрый. Я верил, что далеко пойдёт парень, но чтоб до таких высот! Освободитель Одессы! Полководец! — торжественно повторял и повторял дядя Миша. ...Что же касается Родиона Яковлевича Малиновского, то он сейчас, находясь в освобождённой Одессе, не мог и представить, что в этом городе ему ещё при жизни будет установлен памятник. 22 ноября 1958 года все газеты опубликуют Указ Верховного Совета СССР: «В связи с шестидесятилетием со дня рождения министра обороны СССР Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Малиновского Р.Я. и отмечая его заслуги перед Советским государством и вооружёнными силами СССР, наградить Малиновского Родиона Яковлевича второй медалью «Золотая Звезда», соорудить бронзовый бюст и установить его на родине награждённого». Малиновский не мог знать и того, что за год до смерти он совершит последнюю поездку в Одессу, как бы прощаясь со своей малой родиной. Вместе с женой Раисой Яковлевной он посетит все памятные с детства места: дома дяди Миши и купца Припускова, Одессу-товарную, Аркадию, гавань и ещё много дорогих для него мест. А на углу улицы Советской Армии и улицы Короленко, к которому он выйдет с женой, будет стоять памятник ему. И когда Раиса Яковлевна предложит поближе посмотреть его бюст, выполненный знаменитым скульптором Вучетичем, то услышит в ответ: — Иди одна, если хочешь...
23
С 1936 года слово «Испания» было знакомо каждому советскому человеку. Родион Малиновский, раскрывая свежие газеты, прежде всего искал в них новые сообщения об этой стране, воспетой в любимой им «Гренаде». Однажды он заинтересовался одной из публикаций, которая сообщала о выступлении в Париже писателя Ильи Эренбурга. Эренбург выступал на собрании интеллигенции, которое проходило в Париже, неподалёку от метро Сен-Лазар, в банкетном зале на втором этаже ресторана. Дотошный репортёр, взявшийся отобразить это событие на страницах газеты, уделил особое внимание подробностям и деталям. Он не преминул сообщить, что Эренбург расположился на эстраде и непрестанно курил трубку, выбивая пепел в стоявшую на круглом столе пепельницу. Далее он восхищался тем, как Эренбург владеет французским. Выступление писателя проходило весной, когда в Испании победил Народный фронт. Эренбург только что вернулся из поездки по этой привлёкшей к себе внимание всего мира стране. Фактически он был, пожалуй, первым советским писателем, побывавшим за Пиринеями ещё пять лет назад, когда там свергли монархию. Многие были уже знакомы с его книгой об Испании, и это обстоятельство, естественно, подогревало интерес к выступлению советского писателя. Выступая, Эренбург процитировал собственное смелое высказывание из книги: «Испания — страна двадцати миллионов оборванных донкихотов». Смелым его можно было назвать прежде всего потому, что для испанцев, страстно любящих свою родину, оно могло показаться оскорбительным. Поэтому Эренбург подробно объяснил, почему он прибег к такому, мягко говоря, парадоксальному определению. — В Испании совсем недавно начали проходить антифеодальные и антиклерикальные перемены, — начал Эренбург. — Это стало возможным после ликвидации королевской власти. Процесс идёт чрезвычайно медленно, ибо на пути революционных перемен стоят правые силы. Но народ устал ждать, и это видно на примере андалузских крестьян. В этом смысле Михаил Светлов со своей «Гренадой» оказался пророком. Впрочем, настоящие поэты довольно часто оказываются пророками. Да, Испания, это, в сущности, и есть «гренадская волость», — голос Эренбурга стал взволнованным. — Да — Испания — это, поверьте, вовсе не Франция! В Испании на десять жителей приходится одна сутана или монашеская ряса, а на каждые шесть солдат — генерал, и потому реакция здесь всесильна. Фалангистов пока не так уж много, но их активно подкармливают финансовые и промышленные магнаты. Как германский промышленник фон Тиссен подкармливал Гитлера, когда тот пребывал ещё в политических пелёнках, так в Испании миллиардер Хуан Марч, который перевозит беспошлинный табак на собственных подводных лодках, финансирует противников республиканского строя. В замках грандов, не примирившихся с падением монархии, и в мадридских аристократических салонах готовится заговор. Плетут этот заговор очень искусно. А вся армия — в руках генералов, которые спят и видят возрождение реакции. — А как же правительство Народного фронта? — послышался голос из заднего ряда. — Почему оно бездействует? — Правительство прекраснодушно, — ответил Эренбург. — Донкихоты. Оно, видите ли, боится посягнуть на основы демократии. Оно не думает о необходимости единения трудящихся, о их готовности с оружием в руках отстоять свободу. А между тем ядовитое жало фашистской кобры уже нацелено на Испанию. Не только к оливковым рощам Андалузии и виноградникам Кастилии, но, главное, к душам людей уже тянется паучья лапа фашистской свастики. Я беру на себя смелость утверждать, что республика в опасности. Процитировав это высказывание Эренбурга, корреспондент газеты, однако, добавил, что в кулуарах собрания он не без удовлетворения услышал такой отзыв о выступлении писателя: — Этот Эренбург — пессимист. И паникёр. Он сгущает краски! Да ещё с этаким большевистским сладострастием. Я неделю назад встречался с Полем Вайяном-Кутюрье и слышал от него совсем иные прогнозы. Поль пребывал в прекраснейшем расположении духа. А он, как-никак, — один из руководителей Коммунистической партии Франции! Этими словами публикация и заканчивалась. Настроение, схожее с настроением корреспондента этой французской газеты, появилось и у Малиновского. Он слышал о том, что Эренбург — человек беспартийный, почти безвыездно живёт во Франции и не устаёт восхвалять любезный его сердцу Париж. А значит, и оценки испанских событий, которые он даёт, не могут не быть субъективными. Однако прошло совсем немного времени, и Малиновский прочёл в «Правде» тревожные сообщения из Испании: одно за другим были совершены покушения на политических деятелей левого толка, устроены террористические акты. Газета сообщала и о схватках между левыми и правыми. Явственно чувствовалось, что обстановка в стране накаляется с каждым днём. Выходит, Эренбург был прав? Когда грянул гром и в Испании разразилась гражданская война, Малиновский уже не сомневался: Эренбург бил тревогу не случайно. Но он не мог и предположить, что вскоре сам окажется в Испании. А придёт время, и к нему, теперь уже командующему 2-м Украинским фронтом, в качестве корреспондента «Красной звезды» приедет этот самый Илья Эренбург и в ответ на восклицание Родиона Яковлевича: «Как быстро проходит время! Кажется, ещё совсем недавно мы были с вами в Испании!» — философски заметит: — Время не проходит. Время стоит. Проходим мы. И тут же пояснит: — Так утверждает Талмуд. — А знаете, Илья Григорьевич, — Малиновского вдруг потянуло к задушевной беседе, — я ведь храню вырезки из «Красной звезды» с вашими публикациями. В самые жестокие и трагические дни войны вы согревали наши души, — слова были из области высокого стиля, но Родион Яковлевич произнёс их настолько тепло и искренне, что патетика улетучилась. — Спасибо вам за это. — Спасибо солдатам, спасибо офицерам, спасибо полководцам России, — будто все они могли слышать его, тихо проговорил Эренбург. — Сейчас говорить о тех днях и ночах легко, а тогда меня, признаюсь, охватило отчаяние. На всю жизнь запомню пометки из моей записной книжки той поры: 27 июня — Минск, 1 июля — Рига, 20 июля — Смоленск, 14 августа — Кривой Рог, 20 августа — Новгород, Гомель, Херсон, 26 августа — Днепропетровск, 20 сентября — Киев... Помните, «радиотарелка» сообщала, что отделение сержанта Васильева уничтожило три вражеских танка, что пленные говорят о моральном разложении немецкой армии и что мы все отходим, отходим, отходим... — Эренбург помолчал. — Я помню Первую мировую войну, Испанию, видел разгром Франции, мною не раз овладевало отчаяние. А каково было людям простым, поверившим в довоенные лозунги? В их головах накрепко засело: если враг посмеет сунуть своё свиное рыло в наш советский огород, то ему хана! А тут пришлось своими глазами увидеть, как фашисты почти без остановки прошли от Бреста до Смоленска, а потом и до самой Москвы. Чем это объяснить? Люди ломали головы, мысли путались, а объяснения не было. Были только недоумение, разочарование, горечь и тревога. — Эренбург снова умолк. — Впрочем, встречалось и смешное, — внезапно встрепенулся он. — Был у меня знакомый, некто Богатырев, учёный-славист. Однажды утром приходит он чрезвычайно весёлый и уверенно говорит: «Всё, немцам конец, ещё немного — и мы их разобьём». Люба, моя жена, спрашивает, откуда такая уверенность. Отвечает: «Когда ехал к вам, слышал в метро, как один военный сказал, что к Москве подходит армия Гудерьяна, у него много танков. Значит, скоро погоним немчуру». Мы засмеялись: Богатырев подумал, что Гудерьян — советский военачальник, армянин. Когда мы объяснили, как всё на самом деле, он помрачнел: «Но в таком случае здесь нет ничего смешного». Малиновский весело улыбнулся: — Да, Гудериан — это не Гудерьян! — В эвакуации, когда Совинформбюро перевели в Куйбышев, — продолжал вспоминать Эренбург, — я тоже там оказался по требованию Щербакова. Потом довелось побывать и в Саратове. Там мхатовцы ставили чеховских «Трёх сестёр». Вершинин на сцене говорил: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной...» Все слушали и вздыхали. Вы знаете генерала Ортенберга? — вдруг спросил писатель. — Конечно. Кто же не знает редактора «Красной звезды?» — Газету он подписывает фамилией Вадимов. Так вот, было это ещё в июле сорок первого. Попросил он меня написать передовую статью. Я отмахнулся: передовицы никогда не писал. Но Ортенберг был неумолим: «На войне нужно всё уметь». Два часа спустя я принёс статью. Он прочитал и рассмеялся, хотя я очень редко слышал, чтобы он смеялся. «Какая же это передовица? С первой фразы видно, кто её написал...» Оказывается, для передовицы нужны штампы, а не личное восприятие событий и фактов. Ортенберг подписал под статьёй моё имя и высказал; «Пойдёт на третьей полосе» Вместо первой». — А знаете, я думал, что привлекает людей в вашей публицистике, — сказал Малиновский. — Вам всегда удаётся выразить то, что думает народ, показать его душу. Мне врезались в память многие ваши мысли. К примеру, вот: «Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней. Мы перевели дыхание на другой счёт. Мы смело глядим вперёд: там горе и там победа». А знаете, почему я это так хорошо запомнил? Я вспоминал эти слова, когда мне приходилось говорить перед строем бойцов накануне важного сражения или когда присаживался к ним на привале в минуты затишья. Не будете меня обвинять в плагиате, Илья Григорьевич? Эренбург лишь улыбнулся уголками тонких губ: — У вас прекрасная память! Знаете, я очень рад, что мы с вами — однополчане, — вдруг резко сменил тему писатель. — В каком смысле? — Мы же оба были в Испании? — Да-да, конечно. Испания многому научила. Кстати, я помню, как на позиции под Гвадалахарой вы привезли и показали бойцам фильм «Чапаев». — Верно, верно, — оживился Эренбург, — было и такое! — А у меня с тех пор сидит в голове вопрос: почему последнюю часть фильма не докрутили до конца? Показали, как Чапаев плывёт через реку Урал, беляки поливают его огнём из пулемёта, — и всё. Но фильм же кончается тем, что Чапаев тонет, потом лава красной конницы сметает беляков. Может, лента оказалась бракованной? Эренбург слушал, хитровато посмеиваясь. — А вы лукавите, Родион Яковлевич! — сказал он. — По глазам вижу, что сами догадались, но решили проверить. Я специально предупредил киномеханика — не показывать, что Чапаев утонул. Зачем расстраивать бойцов перед предстоящим боем? Пусть думают: Чапаев жив! — И правильно поступили! — кивнул Малиновский. — А помните Вишневского? — спросил Эренбург. — Всеволода? — Ещё бы! Он всё рвался на передовую, требовал дать ему пулемёт. Испанцы относились к нему с большим уважением. Неуёмный характер, смельчак из смельчаков. — Да, он прекрасно показал себя и в блокадном Ленинграде. Его, как и меня, нередко упрекают в том, что, мол, размениваемся на публицистику. А я всегда отвечаю: писатель должен уметь писать не только для веков, но и для минуты, если в эту минуту решается судьба его народа. Фашисты обворовали, изуродовали нашу жизнь... Годы всеобщего горя и ненависти. И знаете, мне кажется — нет, я в этом просто уверен, — что молодые поколения, которые придут после нас, вряд ли поймут, что нам пришлось пережить. Не потому, что они будут хуже нас. Просто потому, что пока всё не испытаешь сам, как ни рассказывай об этом, как ярко и вдохновенно ни описывай, по-настоящему не понять... — Эренбург горько улыбнулся. — А знаете, меня однажды обидел сам Гитлер. Знаете, что он сказал? «Сталинский придворный лакей Эренбург заявляет, что немецкий народ должен быть уничтожен». — Болтун и лгун, — откликнулся Малиновский. — Каждый понимает, что речь идёт не о немецком народе, а о варварах нашего века — фашистах. — И всё же немцы считают меня исчадием ада. — Эренбург ещё более ссутулился. — За мои статьи в «Красной звезде». Малиновский встал, достал из шкафчика бутылку трофейного коньяка, разлил по рюмкам. Эренбург повеселел и стал необычайно разговорчивым. Теперь его потянуло к поэзии. — Вам, конечно, не знакомо такое имя: Семён Гудзенко? — заявил он, не ожидая ответа Малиновского. — Я и сам лишь недавно узнал о нём. Нет, не узнал, а открыл. Истинный талант, фронтовик, хотя совсем ещё юноша. Пришёл ко мне в гостиницу «Москва». Высокий, нескладный, с грустными глазами. Читал мне свои стихи. Я слушал и просил: «Читайте, ещё, ещё...» Такого со мной давно не было. Вот послушайте:
Родиона Яковлевича словно обожгла пронзительная правда стихов. — Будь проклят сорок первый год? — повторил он. — Как точно! Ты, вмерзшая в снега пехота... — Так вот, — торопливо прервал Эренбург, словно боялся потерять мысль. — Пришло бы вам в голову переделать эту строку вот так: «Ракеты просят небосвод и вмерзшая в снега пехота»? Мне бы никогда. А Гудзенко именно так и переделал. — Но почему? — Редактор потребовал! Я набросился на парня, а он виновато улыбается: «Что я мог сделать?» Я на его месте ни за что бы не исправил, ведь получилась какая-то чертовщина! При чём тут небосвод? Я бы сказал: или печатайте так, как есть, или я забираю стихи. Да, Семён Гудзенко — настоящий поэт. Его стихами я прожужжал все уши и Алексею Толстому, и Евгению Петрову, и Василию Гроссману, и всем редакторам, каких знал. Вы ещё услышите о нём. Малиновскому по душе была тема разговора: она была интересна, и хоть на какое-то время отвлекала от оперативных планов и фронтовых забот. — А сколько талантов уже полегло на войне и ещё поляжет! — задумчиво произнёс Эренбург. — Может, среди убитых были новые Пушкин, Лермонтов... или Толстой... Он пригубил рюмку и сказал вроде совсем о другом: — Первой жертвой на войне становится правда. Малиновский удивлённо взглянул на него — но внезапное появление адъютанта прервало беседу: срочный вызов к аппарату ВЧ. — А я с вашего разрешения прилягу, отдохну, — как-то виновато сказал Эренбург, отправляясь в соседнюю комнату. Он надеялся вздремнуть, но не получилось: где-то грохотали орудия, в голове роились мысли. Эренбург встал с топчана, присел к маленькому столику и принялся писать. Закончив, снова лёг и наконец уснул. На следующий день, встретившись с Малиновским, он протянул ему исписанные листы: «Десять лет назад, в мутный январский вечер, бесноватый Гитлер с балкона приветствовал берлинскую чернь. Он сулил немцам счастье. Он сулил им жирные окорока, тихие садики с сиренью, парчовые туфли для престарелой ведьмы и золотую соску для новорождённого фрица. Сегодня бесноватому придётся выступить с очередной речью. Волк снова залает. Но никогда ещё Гитлеру не было так трудно разговаривать с немцами. Праздник людоеда сорвался. Десятилетие превратилось в панихиду по мёртвым дивизиям. Богини мщения Эринии уже проходят по улицам немецких городов... Десять лет он царил и правил. Пришёл день ответа. Маленький человек с усиками приказчика и повадками кликуши взойдёт на трибуну, как на эшафот. Он промотал Германию. Он раскидал свои дивизии под Сталинградом, на горах Кавказа, в степях Калмыкии. Всё, что немки породили, он способен проиграть за одну ночь. Десять лет фрицы и гретхен превозносили Гитлера. Десять лет вместе с ним они убивали и грабили. Вместо кадильниц — пепелища. Вместо вина — кровь. Они жгли книги. Они травили мысль. Они придумывали новые казни. Они изобретали новые пытки. Они глумились над человеком, над добром, над свободой, над светом простой человеческой жизни. Десять лет. Теперь идёт год расплаты... Десять лет людоеда. Немцам не до плошек, не до флагов. Они угрюмо слушают, как на землю ступают воины и судьи...» — Это звучит, как приговор фашизму, — закончив читать, тихо произнёс Малиновский. — И это, пожалуй, самое сильное из того, что вы написали за годы войны. И заголовок точный: «Мене. Текел. Фарес». Навеян библейским преданием? — Совершенно верно. — Эренбург мысленно удивился осведомлённости командующего. — Когда Валтасар, тиран Вавилона, поработивший окрестные народы, пировал в своём дворце, незримая рука написала на стене три слова: «Мене. Текел. Фарес». — «Взвешено. Подсчитано. Отмерено». В тот час армия мщения уже шла к Вавилону. Грехи тирана были взвешены. Его преступления подсчитаны. Возмездие отмерено. Хочу провести некую аналогию. Немцы ещё топчут Европу. Ещё бесчинствуют во многих наших городах. Ещё семь миллионов чужеземных рабов томятся в новом Вавилоне. Но уже на стенах дворца, где сидит людоед, рука истории пишет роковые слова: «Мене. Текел. Фарес».
24
Заседание Военного совета 2-го Украинского фронта, призванного обсудить чрезвычайно важный вопрос, было назначено на восемь ноль-ноль. Малиновский, только что прилетевший из Москвы, из Ставки Верховного Главнокомандования, скорым шагом шёл к дому, где уже собрались командующие армиями и командиры корпусов. Он шёл своей обычной походкой — походкой человека, уверенно чувствующего себя на земле, какие бы события ни происходили на ней. Он хорошо знал, что ему предстоит сделать в ближайшее время, и сейчас обдумывал, с чего начнёт ведение заседания. Было начало августа, и лето ещё не собиралось сдавать своих позиций. Всё вокруг — и поля, и сады, и виноградники, и белые домишки молдавских хуторов, и даже высокое небо с белоснежными, неподвижными облаками — являло собой безмятежность, вечную природную красоту, которую, казалось, не способна уничтожить никакая война. Но сейчас эта безмятежность не действовала умиротворяюще на душу Родиона Яковлевича. Он размышлял о директиве Ставки, которая предписывала ему и его соседу, командующему 3-м Украинским фронтом Фёдору Ивановичу Толбухину, начать подготовку к новой крупной стратегической операции. (Эта операция вошла затем в историю советского военного искусства как «Ясско-Кишинёвские Канны»). В большой комнате кирпичного дома, щедро залитой солнечными лучами, врывавшимися в широкие окна, было прохладно. За большим столом и вдоль стен сидели те, с кем Малиновскому предстояло выполнять директиву. В центре стола расположился Матвей Васильевич Захаров, давний друг Родиона Яковлевича: вместе служили в Белоруссии, вместе начали войну. Справа от него — член Военного совета Сусайков, выполнявший эту роль и на Брянском, и на Воронежском, и на Степном фронтах, слева — второй член Военного совета Стахурский. Малиновский не принадлежал к тем командующим, которые косо смотрели на ЧВС-ов: мол, в военном деле ни бум-бум, зато соглядатаи и контролёры — чуть что, сразу депешу в ЦК. Георгий Константинович Жуков их на дух не терпел, часто повторял, что эти болтуны суют нос не в своё дело да путаются под ногами. Малиновский знал, что ему повезло с ЧВС-ами: Сусайков — бывший танкист, порой такой совет даст. А Стахурский — интендант, тоже знающий толк в своей епархии: лучшего помощника, чем он, когда дело касается жизнеобеспечения личного состава, не найти. Не зря Андрей Григорьевич Кравченко восседает сейчас за столом рядом с Сусайковым, хотя фронтовой опыт у него куда богаче: он и на финской успел «попахать» снежную целину своими танками, и в битве за Москву поучаствовал. А кто, как не он, замкнул своим танковым корпусом кольцо окружения фашистов под Сталинградом? С краю стола — знаменитый острослов, неистребимый жизнелюб, кудесник по части установления и проводной, и радиосвязи, этого главного нерва войны, — Алексей Иванович Леонов. Дальше вдоль стен сидели боевые, испытанные командармы: 4-й гвардейской — Иван Васильевич Галанин, участник подавления Кронштадтского мятежа и боёв на Халхин-Голе, а в эту войну — участник Сталинградской и Курской битв; 7-й гвардейской — Михаил Степанович Шумилов, герой Сталинграда и Курска; 27-й — Сергей Георгиевич Трофименко, повоевавший и на Карельском фронте, и под Курском; 52-й — Константин Аполлонович Коротеев, воевал ещё с деникинцами на Северном Кавказе, а теперь и оборонял, и освобождал этот же самый Северный Кавказ. Ну и конечно же, присутствуют на Военном совете те, без кого немыслимы ни наступление, ни оборона: командующий артиллерией Николай Сергеевич Фомин. Его пушечки стреляли ещё по войскам Деникина, Врангеля, по бандам батьки Махно. К Малиновскому пришёл со Степного фронта, рядом с ним — невысокий, коренастый Сергей Георгиевич Горшков, до войны успевший побороздить волны и Чёрного моря, и Тихого океана на сторожевиках и крейсерах. В войну нынешнюю он оборонял Одессу, провёл Керченско-Феодосийскую десантную операцию, участвовал в обороне Новороссийска, поддерживал наземные войска при ликвидации Таманской группировки противника, да мало ли ещё где воевал! Теперь вот командует Дунайской военной флотилией, тоже будет участвовать в Ясско-Кишинёвской операции! Все военачальники стояли сейчас навытяжку перед вошедшим в комнату командующим фронтом, а он смотрел на них, как бы испытывая их готовность к предстоящим действиям. Поздоровавшись, Малиновский попросил всех сесть и открыл заседание. — В соответствии с замыслом Ставки Верховного Главнокомандования и лично товарища Сталина нам предстоит в ближайшее время осуществить наступательную операцию такого масштаба, которую наш фронт ранее не проводил. Она будет называться Ясско-Кишинёвской. Мы готовим её ещё с весны. Теперь пришла пора её реализовать, привести фронт в действие. Ставка приказывает нам разгромить группировку противника «Южная Украина» в районе Яссы — Кишинёв — Бендеры и овладеть рубежом Бакэу, Леово, Тарутино, Молдавка, имея в виду в дальнейшем наступать на Фокшаны, Галац и Измаил, — указка в руке командующего скользила по оперативной карте, вывешенной на стене. — Удар будем наносить силами 27-й, 52-й, 53-й армий и 6-го танкового корпуса в общем направлении на Яссы — Васлуй — Фельчиул. 7-й танковый корпус Ставка «уговорила» меня передать Толбухину. — Выклянчил-таки, — вырвалось у Захарова. — Что делать, приходится думать не только о себе, — развёл руками Малиновский. — Фёдор Иванович сумел убедить Ставку, что у него-де мало танков. Этого вопроса давай больше не касаться, — Малиновский чувствовал, что Захаров на одной реплике не успокоится. — Нам предстоит захватить переправы через реку Прут на участке Хуши, Фельчиул и совместно с войсками 3-го Украинского фронта разгромить кишинёвскую группировку противника, не допуская её отхода на Бырлад-Фокшаны. В операции будет участвовать и 1-я добровольческая румынская дивизия. Вы знаете, эта дивизия была сформирована из пленных румынских солдат и офицеров ещё в феврале. Командует ею полковник Камбря. После разгрома кишинёвской группировки мы будем развивать наступление, обеспечивая правый фланг ударной группировки со стороны Карпат. 5-му гвардейскому кавалерийскому корпусу предстоит форсировать реку Серет. Теперь, перед постановкой более конкретных задач армиям, давайте послушаем начальника штаба фронта о состоянии наших войск, их готовности к проведению операции. Прошу, Матвей Васильевич. — Войска фронта в основном готовы к осуществлению предстоящей операции, — уверенно начал Захаров. — К началу операции на линии фронта отрыто более четырёх тысяч траншей, обустроено более двадцати пяти тысяч блиндажей и укрытий, более трёх тысяч командных пунктов, построены десятки переправ. Помимо надводных мостов сооружены подводные, особенно на мутных реках, чтобы не просматривались с воздуха. Проведены необходимые аэрофотосъёмки. Большое значение штаб фронта придаёт дезинформации противника, особенно относительно направления главных ударов и сроков начала наступления. Проведена имитация сосредоточения войск в ложных районах, построены ложные укрытия, склады, выставлены макеты танков, пушек, миномётов. Осуществлено передвижение танков, орудий, автомашин и пехоты из реальных районов в ложные, с последующим возвращением в тёмное время суток в исходное положение. В ложных районах оставлено не более двух стрелковых полков и инженерная бригада. В дневное время части в ложных районах усиленно имитируют размещение большого числа войск. Эти районы специально прикрываются авиацией и зенитной артиллерией. — Неплохо поработали штаб и командующие соединениями, — похвалил Малиновский. — Главное, самим бы не запутаться, где реальное, а где нет, — шутливо добавил он. — А это уж забота командующих армиями и командиров частей, — откликнулся Захаров. — У каждого есть голова на плечах. Но готов поручиться, что Фриснера мы вокруг пальца обведём! — Сплюньте через левое плечо, — улыбнулся Малиновский. — Да тут Стахурский сидит. Боюсь, поймёт неправильно. Все дружно рассмеялись. Малиновский уже серьёзно сказал: — Хорошо, что Матвей Васильевич напомнил о Фриснере. Может, кто ещё не знает, что Гитлер заменил им Шёрнера. Что касается последнего, мы его хорошо запомним, иной раз он нам основательно настроение портил. Гитлер его очень ценил. А Геббельс просто громогласно заявлял: единственные военачальники, которые соответствуют требованиям войны, — это Модель и Шёрнер. — Чем же это Шёрнер не угодил Гитлеру, что он заменил его на Фриснера? — подал голос Сусайков. — Этот Фриснер уже был бит и на севере, и в Прибалтике. — Этот вопрос, наверное, лучше задать фюреру, — усмехнулся Малиновский. — Сами знаете: сейчас у немцев свистопляска, кадровая карусель. Проиграл бой — снят с должности. А проиграл сражение — так и головы можешь лишиться. Ладно, это их дела. А наши — ввести противника в заблуждение. Наибольшее внимание немцы уделяют Кишинёвскому направлению. Они полагают, что именно здесь, где сосредоточены их основные силы и резервы, мы нанесём главный удар. К тому же они уверены, что наш фронт ослаблен переброской части сил против группы армий «Центр» и «Северная Украина» и не способен к мощному наступлению. Вот в этом заблуждении и следует держать их как можно дольше. Что касается флангов противника, то надо помнить, что они слабоваты: там сосредоточены румынские войска. Вооружены они хуже немцев да и обучены послабее, а главное — у них не моральный дух, а так себе, душок. Значит, нам надо сосредоточить мощные удары по флангам группы «Южная Украина» в районе Кишинёва с тем, чтобы окружить противника плотным кольцом. Подчёркиваю: не захват города Кишинёва, а окружение и разгром немцев в районе Кишинёва — вот первоочередная оперативно-стратегическая задача нашего фронта и наших соседей. Это даст нам возможность быстрого наступления в глубину Румынии, овладения Бухарестом и другими крупными городами. Мы сможем наступать через знаменитые Фокшанские ворота, в основном по равнине. В дальнейшем же предусматривается выход советских войск широким фронтом к Дунаю, восточным границам Венгрии, северным рубежам Югославии и Болгарии. Наше политическое руководство надеется, что в результате нынешней наступательной операции Румыния будет выведена из войны на стороне Германии. Так что, дорогие товарищи, мы с вами будем выполнять не только сугубо военную, но и важнейшую политическую задачу. — Но удастся ли нам упредить возможный отход противника, его бегство из «котла»? — сказал Стахурский. — А вот это уже будет зависеть от нас, и только от нас. Главное условие успеха — внезапность. Когда Фриснер сможет распознать наш замысел, а затем постараться вывести свои силы из-под удара? Думаю, что не ранее второго дня операции. В этом случае до переправ на Пруте в районе Хуши ему придётся преодолеть... сколько, Матвей Васильевич? — Шестьдесят-восемьдесят километров. — Вот видите! Нашим же войскам, чтобы отсечь ему пути отхода, нужно пройти до переправы не менее сотни. И если мы не успеем, то считайте, вся операция по окружению провалится с треском. Значит, нужен высочайший темп наступления! Такой же темп необходим и для того, чтобы овладеть второй полосой оборонительных укреплений противника на хребте Маре, не дать немцам зарыться в землю. Матвей Васильевич наверняка со своим штабом подсчитал, каков должен быть максимальный темп наступления. — Двадцать пять километров в час! — ответил Захаров. — Вот так! Пехота должна совершить дерзкий прорыв, а танки, не теряя ни секунды, развить этот прорыв в глубину и прорваться к переправам на Пруте. Танковые войска, Андрей Григорьевич, — обратился Малиновский к Кравченко, — держите одним кулаком, ни в коем случае не распыляйте. Однако мы слегка отвлеклись, вы уж извините нас, Матвей Васильевич. — Противник обладает мощнейшей обороной, — продолжил свой доклад Захаров. — Особенно много железобетонных сооружений в междуречье Прута и Серета. На Ясском направлении — четыре оборонительных рубежа на глубину до восьмидесяти километров. Оборонительные рубежи располагаются... Я посоветовал бы командармам по ходу моего доклада делать необходимые пометки в своих планшетах, а то я замечаю, что кое-кто слишком уж самоуверенно полагается на свою память. И получится, как у нас в деревне над беспамятными зубоскалили: «Забыл, что женился, да и пошёл спать на сеновал». Малиновский рассмеялся вместе со всеми: любит Захаров забавными присловьями сыпать, тут они с Леоновым соревнуются, кто кого. — Так вот, эти самые оборонительные рубежи располагаются, — повторил Захаров, убедившись, что его замечание учтено, — по высотам севернее Яссы, затем, по реке Бахлуй; третий рубеж — вдоль северных отрогов хребта Маре, что в переводе означает «Великий», и самый мощный — это Фокшанский оборонительный район. Тут нам немцы предлагают полный набор: противотанковые рвы, минные поля, колючую проволоку. Прошу также учесть, что река Бахлуй — дама капризная, близко к себе не подпускает. Здесь сплошь болотистая пойма, топкие берега, илистое дно, танкам вброд не пройти. Разведка в полосе наступления насчитала — а считать она умеет — девяносто четыре дота и сто тридцать пять дзотов только под Яссами. Не дремали фрицы, в поте лица работали. На километр фронта нагромоздили аж по семь долговременных сооружений! Я уж не говорю об узких горных проходах — все они наглухо «запечатаны». Добавлю, что и Фокшанские ворота, которые нам так нахваливает Ставка, — ох, не подарок! Да, согласен, это лучший проход между Карпатами и Дунаем, второго такого нет. Да, это самый удобный путь вглубь Румынии. Всё так. Ежели бы не одна загогулина: в этих распрекрасных райских воротах около двух тысяч долговременных инженерных сооружений, противотанковых надолбов, на которые немцы и румыны извели целые рощи вековых дубов и буков. А ещё там и такие сюрпризы, как рвы, заполненные водой, — думаю от этого наш Александр Григорьевич в восторг не придёт. И наконец, целых три линии дотов, в больших — по 150-миллиметровой пушке да ещё по два тяжёлых пулемёта. А толщина боевого покрытия — два метра. — Ничего себе! — не выдержал Фомин. — Матвей Васильевич, может, хватит? — прервал Малиновский. — А то вы так запугаете наших храбрых командиров, что они побоятся лезть в эти самые ворота! — А пусть знают, что их ожидает, тогда настырнее будут, — шуткой на шутку ответил Захаров. — Суворов турок у Фокшанских ворот колошматил. А мы-то чем хуже? — задорно подхватил Леонов. — Вот-вот, — поддержал его Малиновский. — К тому же у Суворова не было такой связи, как у нас, да и не было у него нашего Алексея Ивановича Леонова. Он тогда ещё не успел родиться. Комнату заполнил дружный хохот. — Теперь о задачах родов войск более конкретно, — снова заговорил Малиновский. — К артподготовке будет привлечена вся артиллерия фронта, в том числе и артиллерия резерва Главного Командования. А для огневого налёта по отдельным опорным пунктам противника — даже зенитки. Какую плотность артиллерии на километр фронта вы предлагаете, товарищ Фомин? — Двадцать шесть орудий на километр, товарищ командующий. — Это и орудия, и миномёты, калибр от семидесяти шести миллиметров и выше. — А на направлении главного удара? — Думаю, что двести — двести двадцать. — Не маловато ли? — Товарищ командующий, резервных стволов у меня нет. Всё подмели, подчистую. — Попробую поговорить со Ставкой, — вздохнул Малиновский. — Знаю, нет ничего хуже попрошайничества, но операция-то у нас особенная. А каков план артподготовки? — Продолжительность — полтора часа, шесть массированных огневых налётов, каждый по пятнадцать минут. — Думаю, расчёт верный. Надо так громыхнуть, чтобы у фрицев земля под ногами дыбом встала! — Постараемся, товарищ командующий, — довольный одобрением своих расчётов, ответил Фомин. — А что планирует наша авиация? Слушаем вас, Сергей Кондратьевич. Встал Горюнов. Волевое лицо, широкий лоб, подбородок с ямочкой. В Гражданскую Горюнов был командиром батальона на Восточном фронте. Громил барона Унгерна в Монголии, потом оказался в авиационной части. Был командиром звена, авиаэскадрильи, авиабригады. В финскую войну командовал военно-воздушными силами 7-й армии на Карельском перешейке. В Отечественную — всё время на юге, на Северном Кавказе, возглавил 5-ю воздушную армию. Надёжный рыцарь неба! — Планирую в ходе наступления нанести массированные удары бомбардировщиков и штурмовиков, для чего введу в бой двести двадцать самолётов под прикрытием истребителей. — Подходяще, — одобрил Малиновский. — Ваша главная задача — содействовать наземным войскам в прорыве обороны. Массированные удары — главным образом по объектам в глубине обороны противника и, конечно же, по переправам. — Будет исполнено, товарищ командующий. — Кстати, Николай Сергеевич, — обратился Малиновский к Фомину. — Артподготовку надобно обязательно закончить налётом гвардейских ракетных миномётов. И не забудьте о ложных переносах огня. — Так точно, товарищ командующий! Малиновскому нравился общий настрой. Нет нытья и просьб: дайте то, прибавьте это. Вероятно, всё, что могли, уже успели получить у Захарова. Хотя Матвей Васильевич прижимист, а бывает и скуповат. Ничего, зато в решающий момент у него всегда есть резерв. А вообще-то сразу видно: поднаторели гвардейцы в предыдущих боях, уже совсем не те командиры, что были в сорок первом... — Ну что ж, будем закругляться. Запомните: полная готовность — к двадцатому августа. Силушка у нас немалая, ворога по многим позициям превосходим, обязаны одолеть. — Малиновский вдруг поддался воспоминаниям. — Не забуду, как в этих же краях я войну встретил. Так в то время навсём фронте от Липканы до Унген почти на такой же протяжённости, как сейчас наш фронт, было всего три дивизии моего корпуса. Бойцы и командиры почти все необстрелянные, порох нюхали только на учениях. А кто и на учениях не успел понюхать. А нынче? Пятьдесят пять стрелковых дивизий, танковая армия, четыре танковых и механизированных корпуса, да ещё артиллерия, авиация, моряки... Кстати, как же это мы обошли моряков? А Горшков сидит себе да помалкивает. Задача у вас, Сергей Георгиевич, непростая. Вам предстоит высадить десанты в районе Аккермана и на западном побережье Чёрного моря. И не давать покоя противнику, нарушать морские коммуникации. А с выходом флотилии на Дунай содействовать сухопутным войскам в его форсировании. — Задача ясна, товарищ командующий, — чётко отрапортовал Горшков. В это время вошёл адъютант: — Товарищ командующий, вас к аппарату ВЧ. Малиновский поспешил в аппаратную. Звонил Сталин. — Товарищ Малиновский, — неторопливо начал он, — мы тут, в Ставке, не забываем о вас. Мы хотели бы знать, какова у вас будет плотность артиллерии на километр фронта в предстоящей операции? Я имею в виду главное направление. «Словно слышал мои разговор с Фоминым, — поразился Малиновский. — Ну, интуиция!» — Товарищ Сталин, я могу сосредоточить на двадцати двух километрах фронта — на главном направлении прорыва — по двести двадцать орудий калибра не менее семидесяти шести миллиметров. — А не кажется ли вам, товарищ Малиновский, что даже такая, на первый взгляд, высокая плотность артиллерии будет недостаточной для успешного решения задачи, которая поставлена перед вашим фронтом? — Хотелось бы обеспечить большую плотность, товарищ Сталин, но у меня, к сожалению, артиллерийских резервов больше нет. — В таком случае не следует ли сократить участок прорыва, скажем, до шестнадцати километров и таким образом добиться плотности двести сорок и больше орудий на километр? Это было бы более надёжной гарантией поражения противника, взлома его прочной обороны и, следовательно, развития успеха наступления в глубину и к переправам на реке Прут и в направлении Фокшан. И что особенно важно: такой мощный удар подействует отрезвляюще на правительство королевской Румынии и вынудит его выйти из войны. Как вы считаете, товарищ Малиновский? — Полностью с вами согласен, товарищ Сталин. — Вот и хорошо, — удовлетворённо заметил Верховный. — Ставка рассчитывает, что вы успешно форсируете реку Прут. Эта река вам, кажется, хорошо знакома? — Совершенно верно, товарищ Сталин. Именно с берегов Прута я и начал воевать. — Главное, товарищ Малиновский, не начинать, а заканчивать войну. Осталось немного. — Да, товарищ Сталин, как говорится, осталось начать да кончить, — вырвалось у Родиона Яковлевича. Наступила продолжительная пауза, прежде чем Сталин заговорил снова: — А я, товарищ Малиновский, считал, что вы принадлежите не к пессимистам, а к оптимистам. — Я всегда был оптимистом, товарищ Сталин, — поспешно возразил Родион Яковлевич. — Однако, когда вы оставляли противнику город Ростов, оптимизм ваш, видимо, куда-то испарился. Малиновский поёжился: вот злопамятность. Так хорошо начавшийся разговор заканчивался до обидного плохо: неужели он, Малиновский, после Ростова не освободил ни одного города, неужели это не его войска первыми вышли на Государственную границу СССР? Сталин сейчас, видимо, ждал каких-то слов, может быть, оправданий, но Малиновский молчал. — Ничего, товарищ Малиновский. — Родиону Яковлевичу показалось, что эти слова Сталин произнёс почти весело. — С кем не бывает? Даже Наполеон испытывал горечь поражений. Главное, чтобы у вас была полная уверенность в победе. — Я уверен в победе, товарищ Сталин, — тихо и убеждённо произнёс Малиновский. — Ну вот и прекрасно. Вера в победу — самое главное качество полководца. «Вот кнут, а вот и пряник», — думал Малиновский, выходя из дома, чтобы немного освежиться. На крыльце он остановился, поражённый. На него смотрел куст репейника, совсем такой, какой рос у входа в блиндаж два года назад в июле сорок второго. Родион Яковлевич улыбнулся: «Вот дьявол! Снова напоминает: выстоять и победить...» — Товарищ боец, — обратился он к часовому, — передайте коменданту штаба, чтоб ни в коем случае не трогал этот репейник. Пусть растёт! — Слушаюсь, товарищ командующий, — раздался сзади громкий, зычный голос. Малиновский обернулся: перед ним стоял рослый, с лихими усами комендант штаба. Родион Яковлевич слегка смутился: на фронте гибнут сотни, тысячи людей, а он проявляет заботу о цветке. — Это не простой цветок, — словно оправдываясь, сказал Малиновский. — Вы читали повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат»? Комендант непонимающе молчал. — Товарищ командующий, сдаётся мне, что мы... это... ну, в школе вроде проходили... — наконец растерянно промямлил он. — Проходили... вроде... Толстого надо не проходить, а читать и перечитывать. Всю жизнь. — Вот раздолбаем фрицев, товарищ командующий, тогда обязательно прочитаю! — уже бодро ответил комендант, радуясь, что командующий не стал «экзаменовать» его по какому-то «Хаджи-Мурату». — Только чтобы без обмана, — шутливо пригрозил Малиновский. — Кончится война — лично проверю!..
25
Искусство полководца — сложнейшее из искусств, которое за свою многовековую историю человечество выработало для того, чтобы побеждать в войнах: захватнических и оборонительных, локальных и мировых. Планы выдающихся операций созревают в головах полководцев то как мгновенное озарение, то как длительная, поистине каторжная работа ума сродни той, при которой из тонн руды отсеивается лишь песчинка золота. Но именно эта песчинка и есть то единственное, что полководец искал день за днём, кропотливо анализируя бессонными ночами сложившуюся на полях сражений обстановку, перебирая в уме различные варианты действий, подвергая сомнению одни и отдавая предпочтение другим. Легко сказать: разработать план военной операции стратегического значения! Но какой должна быть у полководца голова, чтобы «родить» этот план, а потом реализовать его в ходе боевых действий! Сколько факторов надо учесть: оценить свои силы и силы противника, попытаться разгадать его замыслы; зная излюбленные приёмы действий, определить моральный дух войск — как своих собственных, так и противника; сильные и слабые стороны военачальников — опять-таки и своих, и чужих. Надо досконально знать не только свои резервы, но и, по возможности, какими резервами обладает враг, оценить свой тыл и тыл противника. Необходимо организовать доставку вооружений, боеприпасов, продовольствия, обмундирования в нужное место и в нужные сроки. Всё это многообразие проблем следует постоянно держать в голове в условиях непрерывно меняющейся обстановки в полосе действий фронта, в условиях, когда противник тоже не дремлет, вырабатывает ответные действия. А погода, её капризные изменения, независимые от воли людей? А рельеф местности? Да мало ли что ещё. Короче говоря, полководец должен быть мудрым, решительным, волевым, уметь направлять мысль и волю к достижению победы над сильным врагом. К тому же он должен обладать поистине нечеловеческой интуицией, чтобы безошибочно определить, когда его армии должны переходить в наступление, когда обороняться, а когда и отступать, чтобы накопить силы для нового рывка. Качествами истинного полководца обладают единицы из миллионов, они оставляют немеркнущий след в истории военного искусства, государств и народов... Одним из главным факторов победы генерал Малиновский всегда считал моральный дух войск. Он на своём собственном опыте не раз убедился, что нельзя ввязываться в бои без уверенности в прочности силы духа твоих войск. И потому Малиновский всегда помнил о людях, которых будет вынужден в силу жесточайших законов войны направить в самое пекло сражений. Каждый раз, когда он был уверен, что план очередной операции «дозрел» у него в голове, проработан усилиями офицеров штаба до мельчайших деталей, он ставил перед собой и своими подчинёнными главный вопрос: а каких жертв будет стоить это сражение? Прекрасно понимая, что сражений без потерь не бывает, он тем не менее требовал предусмотреть все коллизии наступления таким образом, чтобы этих неизбежных потерь было меньше. Никогда, несмотря на все приказы свыше, Малиновский не бросал в бой свои войска с расчётом на русский «авось», если не был уверен в реальности поставленной цели. Однажды, уже после войны, Родиону Яковлевичу случайно попалась книга Николая Бердяева «Самопознание»[7]. В ней он натолкнулся на строки, которые были настолько ему близки, что казалось, будто автор подслушал его мысли: «Я с трудом выношу страдания людей и животных и совсем не выношу жестокости. Мне очень жаль всю тварь, которая стонет и плачет и ждёт избавления. Проблема Ивана Карамазова о слезинке ребёнка мне бесконечно близка... Я не выносил холодной жестокости государства. Я никогда не мог переносить жестоких наказаний... Я постоянно заботился о близких людях, не мог примириться с мыслью об их смерти. Я преувеличивал грозящие им опасности. Я бывал часто раздавлен заботой. Мне казалось, что от моей заботы зависит, погибнет ли человек или нет». Эту последнюю строку Родион Яковлевич выписал в свою записную книжку. Искренним убеждением Малиновского было то, что трагизм положения полководца состоит в том, что он принуждён посылать людей на верную смерть. И потому призвание полководца — это трагическое призвание. Полководца, выигравшего сражение, одержавшего блистательную победу, встречают громом литавр, который заглушает тихие звуки траурных маршей, провожающих в последний путь тех, кто пал на поле боя. Сначала — восторг и ликование, и лишь потом — горечь и скорбь. Победа любой ценой — против такого принципа действий всегда восставала душа Малиновского. ...Великая Отечественная война породила, сформировала и закалила целую плеяду замечательных полководцев, чья слава останется в истории. И среди них всегда будет имя Родиона Яковлевича Малиновского. Он одержал целый ряд ярких побед на полях сражений Великой Отечественной войны. Но, пожалуй, венцом его полководческого искусства можно считать масштабную Ясско-Кишинёвскую операцию.
26
Вряд ли можно было предвидеть, что одна из самых обычных безымянных высот на самой обычной молдавской равнине, отмеченная на карте как высота 195,0, — станет передовым наблюдательным пунктом 2-го Украинского фронта, приготовившегося к решительному наступлению. Вечером 19 августа 1944 года именно на эту высоту прибыли представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Семён Константинович Тимошенко и генерал армии Родион Яковлевич Малиновский вместе с генералами и офицерами оперативных групп. Во всей этой большой и разнокалиберной по званиям и должностям группе особо выделялся своим высоченным ростом и крупной фигурой Тимошенко. Казалось, что, если бы не маскировочные сети, надёжно скрывавшие командный пункт, его вполне могли бы заметить немецкие лётчики, время от времени облетавшие прилегающие районы. В эту ночь на высоте 195,0 никто не сомкнул глаз. Все — и самые высокие начальники, и офицеры-управленцы, и даже солдаты-связисты, внешне спокойные, — на самом деле были внутренне напряжены и полны тревожного ожидания того, что должно произойти всего через несколько часов. Именно отсюда, с высоты 195,0, должна прозвучать, повторившись в тысячах телефонных трубок и рациях, короткая, закодированная команда о переходе фронта в решительное наступление. Этой команды с напряжением, подобным напряжению, которое испытывает до предела натянутая струна, ждал весь фронт: пехота в траншеях, артиллеристы у орудий, танкисты в танках, лётчики у штурвалов самолётов, сапёры у наведённых переправ, медицинские сёстры и врачи в медсанбатах, повара у походных кухонь — словом, все, кто призван был внести свой, посильный вклад в то мощное, стремительное и грозное действо, которое называется наступлением. Несмотря на жаркий, раскалённый солнцем день, ночь выдалась на удивление прохладной, тянуло свежим ветерком. С рассветом и поля, и деревья покрылись обильной росой, над низинами медленно стелился густой туман. Генералам не сиделось в тесном блиндаже. Первым из него вышел Малиновский. Поднявшись наверх, он увидел, как на горизонте показался краешек солнца. За командующим вышли на гребень высоты и все остальные, то и дело поглядывая на часы. — Где располагаются наблюдательные пункты командармов? — спросил Тимошенко. — В среднем — четыреста метров от переднего края, — ответил Малиновский. — Молодцы, даже в бинокль не заметишь, хорошо замаскировались, — похвалил Тимошенко. — Сверим часы, Родион Яковлевич. Сколько на твоих? — Ровно шесть ноль-ноль. — Ещё десять минут... Все стояли, не сводя глаз с циферблатов. Казалось, стрелки часов остановились... Наконец секундная стрелка подошла к нужной отметке. — Шесть часов десять минут, — спокойно констатировал Малиновский. Громовой адский грохот заглушил его последние слова: тысячи орудий и миномётов ударили из всех стволов, тучи огня, земли и дыма заволокли собой видневшийся вдали хребет Маре и восходившее солнце. Смертоносный шквал сметал и сжигал всё на своём пути. Лицо генерал-полковника артиллерии Фомина было вроде бы равнодушным, но всё равно чувствовалось, что он полон радости и гордости: это его артиллерия подавит противника, ошеломит, заставит обратиться в бегство, откроет путь танкам и пехоте. Полтора часа будет длиться этот артиллерийский «концерт». А затем в бой вступят две сотни штурмовиков генерал-полковника авиации Горюнова, старательно «проутюжат» участок фронта, где выпало идти в наступление 27-й армии генерала Трофименко. Малиновскому доложили: 27-я армия форсировала реку Бахлуй и стремительным броском ринулась к хребту Маре. Он приказал ещё раз проверить это донесение. Всё правильно: армия, с ходу захватив два моста, а также используя переправы, заблаговременно наведённые сапёрами и понтонёрами, преодолела реку. Связавшись с Кравченко, Малиновский приказал ему бросить в прорыв свою танковую армию. Танкисты ринулись вперёд, они нанесли мощный, сокрушительный удар по 1-й танковой дивизии «Великая Румыния»: румынские танки были в своём большинстве уничтожены. Уже к исходу дня танковая армия Кравченко подошла вплотную к третьему оборонительному рубежу противника на хребте Маре. — Поздравляю, Родион Яковлевич! — обычно суровый Тимошенко сиял широкой улыбкой. — Это первый случай за все годы войны, когда танковая армия пошла в прорыв уже в середине первого дня наступления. — Что поделаешь, — Малиновский тоже был необычайно взволнован. — Многое на этой войне нам приходится делать впервые. — Как говорится, то ли ещё будет! — продолжал улыбаться Тимошенко. — Но картина, прямо скажу, очень впечатляет. Мне даже вспомнилось, как в Гражданскую мои кавалеристы лавиной неслись на беляков. Но танки — это, конечно, не конники. К Малиновскому подошёл член Военного совета Сусайков. — Родион Яковлевич, Горюнов сообщил о подвиге командира эскадрильи капитана Лозоренко. Северо-восточнее Хуши он обнаружил большое скопление вражеских машин, обозов, живой силы. Двумя заходами эскадрильи уничтожил 15 машин, множество солдат и офицеров. — Молодец! — Кстати, Лозоренко — участник боёв с первых дней войны. В сорок третьем самолёт его был сбит, и он, тяжело раненный, попал в плен. Был отправлен в Германию. Организовал группу пленных, вместе с ними вырезал отверстие в вагоне и в сентябре прошлого года в районе Борисова совершил побег. Разыскал партизан и попал в бригаду имени Щорса. Но, лётчик по призванию, он не мог без авиации. Партизаны переправили его через линию фронта. Лозоренко вернулся опять в свою часть и стал командиром эскадрильи. — Вот это герой, — восхитился Малиновский. — Думаю, вполне заслуживает звания Героя Советского Союза. — Полностью с вами согласен, Родион Яковлевич, — кивнул Сусайков. — Разрешите дать указание подготовить представление? — И побыстрее. «Золотой Звезды» он, безусловно, достоин. Наступление успешно продолжалось. То и дело на командный пункт фронта поступали донесения: 5-я воздушная армия только за один день 20 августа совершила более полутора тысяч боевых вылетов. Сбито сорок три самолёта противника... 52-я армия генерал-лейтенанта Коротеева прорвала оборону на двенадцатикилометровом участке фронта и ещё до наступления сумерек ворвалась на северо-западную окраину Яссы... Успешно наступает 7-я гвардейская армия генерал-полковника Шумилова. Упорно пробивается вперёд 18-й танковый корпус генерал-майора Полозкова... Командующий фронтом отдал приказ: 27-й армии завершить прорыв оборонительной линии по хребту Маре и оказать помощь 6-й танковой армии в выходе её на оперативный простор. 52-й армии было приказано овладеть Яссами и продолжать наступление на Хуши. Уже поздно вечером Малиновский связался со Ставкой: — За два дня боевых действий войска фронта уничтожили одиннадцать тысяч четыреста солдат и офицеров противника, подбили и сожгли семьдесят два танка и самоходных орудия, до трёхсот автомашин. Взято в плен около шести тысяч солдат и офицеров. Фронт расширил прорыв до пятидесяти пяти километров и вышел на направление главного удара на глубину до сорока километров, в результате чего преодолёна линия организованной обороны противника. Резервы в бой ещё не вводились. Первые итоги наступления Малиновский подводил вместе с Тимошенко: — Думаю, что теперь самое главное состоит в том, чтобы командующие армиями и командиры корпусов не прекращали боевых действий и в ночное время суток. Я приказал выделить подвижные отряды для преследования противника: очень важно не дать ему оторваться. Иначе противник получит возможность закрепиться на промежуточных рубежах. Всем соединениям приказано ускорить темп наступления, сделать его максимально стремительным. — Абсолютно верно, — поддержал Тимошенко. — Что касается ликвидации вражеских гарнизонов в опорных пунктах, то это с успехом могут сделать части вторых эшелонов и резервы. — С утра двадцать второго августа в наступление перейдёт 4-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Галанина, — продолжил Малиновский. — Совместно с 52-й армией и 18-м танковым корпусом она будет действовать на внутреннем фронте окружения. 18-му танковому корпусу приказано в районе Хуши соединиться с войсками 3-го Украинского фронта... Вечером 22 августа по Всесоюзному радио был передан приказ Верховного Главнокомандующего: «Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону противника северо-западнее города Яссы и за три дня наступательных боёв продвинулись вперёд до шестидесяти километров, расширив прорыв до ста двадцати километров по фронту. В ходе наступления войска фронта штурмом овладели мощными опорными пунктами обороны противника — городами Яссы, Тыргу-Фрумос, Унгены и с боями заняли более двухсот других населённых пунктов». В приказе отмечались командующие армиями Коротеев, Трофименко, Шумилов, Галанин, артиллеристы Фомина, танкисты Куркина, лётчики Горюнова, сапёры Цырлина и связисты Леонова. Москва салютовала героическим воинам двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. ...— Как вы представляете себе дальнейшее развитие наступления двадцать третьего и двадцать четвёртого августа? — поинтересовался Тимошенко у Малиновского. — Необходимо сформировать внутренний фронт окружения кишинёвской группировки. Самое энергичное наступление следует развивать на юг, к Фокшанским воротам. И этот рубеж надо взять во что бы то ни стало до того момента, как противник отойдёт на него. Мною уже подготовлен приказ, прошу ознакомиться. Семён Константинович, мне очень важно знать ваше мнение. Тимошенко взял в руки листок с отпечатанным на нём текстом приказа. Малиновский требовал от командующего 52-й армией и командира 18-го танкового корпуса сомкнуть кольцо окружения кишинёвской группировки и к исходу 22 августа овладеть основными переправами через Прут от Котумори до Фэльчиу, прижать к реке отступающие немецкие соединения и перекрыть пути отступления противника на восток. 4-й гвардейской армии ставилась задача — нанести мощный удар вдоль восточного берега Прута. Эти действия в тесном контакте с войсками 3-го Украинского фронта Толбухина должны были привести к окружению крупных сил противника юго-западнее Кишинёва. Что касается 27-й армии, то она нацеливалась на Бырлад. В этом же районе сосредоточивались 6-я танковая армия, 7-я гвардейская армия и конно-механизированная группа, которой предстояло действовать вдоль реки Серет. Горюнову приказывалось нацелить удары штурмовиков на уничтожение отходящих колонн противника. Тимошенко внёс в приказ лишь небольшие коррективы. Вечером Матвей Васильевич Захаров ознакомил Малиновского с перехватом разговора начальника штаба 4-й румынской армии полковника Драгомира с генералом Сантанеску. Драгомир в панике докладывал своему начальнику, что фронт полностью прорван. «Танки русских устремились в стокилометровую брешь. Оказать серьёзное сопротивление невозможно. Немцы преднамеренно замедляют отвод румынских войск, — истерически жаловался Драгомир, — они отдали приказ не выполнять указания командования 4-й армии. Генерал Аврамеску был обруган немецким командующим в присутствии подчинённых». Драгомир просил воздействовать на немцев, чтобы — незамедлительно! — отводить армии. Сантанеску в ответ беспомощно мямлил, что он не знал о сложившейся катастрофической обстановке и что тотчас же направляется к королю. Будет убеждать его, чтобы он или отправил Антонеску в отставку, или же немедленно подписал перемирие. — И вот, — усмехнулся Захаров, — только что румынское радио оповестило: отныне Сантанеску — глава румынского правительства. Вот как шельмецы делают карьеру! — Не без нашей помощи, — пошутил Малиновский. — Ладно, вы лучше скажите, Матвей Васильевич, какой сейчас темп наступления у Кравченко? — Танкисты дают по сорок-пятьдесят километров и более. Кравченко выбил противника из многих населённых пунктов, а 27-я армия закрепила их за собой. Сейчас Кравченко вышел на шоссе Текучи—Фокшаны. Теперь немчуре и румынам дороги на юг заказаны. — Скорее бы наши танкисты заняли Хуши, — Малиновский озабоченно вздохнул. — Тогда противнику будут заказаны пути и на юго-запад. Танкисты Кравченко словно угадали желание своего командующего: вскоре они ворвались в город Хуши. И снова, теперь уже 24 августа, на всю страну раздался голос диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, который зачитал новый приказ Верховного Главнокомандующего: «Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительного наступления танковых соединений, конницы и пехоты разгромили группировку противника южнее Яссы, и сегодня, 24 августа, овладели городами Роман, Бакэу, Бырлад и Хуши — стратегически важными опорными пунктами обороны противника, прикрывающими пути к центральным районам Румынии». И снова загремел победный салют! На следующий день штаб фронта перебрался поближе к наступающим войскам. Тимошенко и Малиновский ехали в машине по местам недавних боёв. Родион Яковлевич указал маршалу на застывший возле дороги подбитый немецкий танк: — Видите, Семён Константинович, надпись на танке? Интересная надпись, можно сказать, автограф: «Подбил наводчик комсомолец Колесов Михаил». — Побольше бы таких автографов, — весело прокомментировал Тимошенко. — За этим дело не станет, — уверенно сказал Малиновский. — Теперь наших орлов не остановить! Навстречу им по дороге неторопливо двигалась огромная колонна пленных. Сопровождали её всего три автоматчика. Малиновский велел остановить машину рядом с одним из них — коренастым крепышом с двумя орденами Славы на гимнастёрке. — А не маловато ли конвоиров для такой оравы, товарищ младший сержант? — спросил он. Младший сержант посмотрел на командующего с нескрываемым удивлением и бодро ответил: — Нас мало, товарищ генерал армии, да мы, как говорят, в тельняшках! Не разбегутся! Да и куда им теперь бежать? Сто километров не пробежишь. А в Карпатах все дороги наша кавалерия перекрыла. — Ну, — рассмеялся Малиновский, — рассуждаете вы, младший сержант, вполне логично. — Вот только обидно мне, товарищ генерал армии... — А что такое? — Да вот ведь незадача. Я тут прикинул: пока я с этими паразитами до места назначения дотащусь, так рота моя уже чёрт знает где окажется! А я воевать в своей роте хочу. Она скоро до Бухареста дойдёт, а мне тут возись с этими. — Ничего, младший сержант, — вступил в разговор Тимошенко, — догонишь свою роту, и награды от тебя не уйдут. — Я не за награды воюю, товарищ маршал, — возмутился тот. — Я не хочу пропустить штурм Бухареста! — Не пропустишь. А пока что гляди в оба за своими подопечными. — Есть смотреть в оба, товарищ маршал! — во всю глотку рявкнул младший сержант, несказанно гордый тем, что ему так повезло: довелось поговорить и с маршалом, и с командующим. Будет что рассказать фронтовым друзьям, лишь бы поверили! А то скажут: ну заливает Серёга Кудрявцев!.. Едва Тимошенко и Малиновский расположились на новом командном пункте, как Захаров принёс очередную новость: 23 августа в 23 часа 30 минут румынский король Михай объявил по радио о создании нового правительства во главе с генералом Сантанеску. Он заявил также, что Румыния прекращает военные действия и новое правительство должно заключить мир со странами антигитлеровской коалиции. Тем самым Румыния принимает условия перемирия, предложенные Советским правительством ещё 12 апреля 1944 года. — Гитлер приказал арестовать короля Михая, — добавил Захаров, — а в Румынии передать власть правительству, которое бы сотрудничало с немцами. — Что же, путь на Румынию теперь открыт, — заметил Тимошенко. — Так-то оно так, только немцы своих позиций в Румынии за здорово живёшь не отдадут, — возразил Малиновский. — Ставка требует, чтобы фронт обратил особое внимание на Плоешти и, конечно же, на Бухарест, — продолжил Тимошенко. — Оно и понятно, Плоешти — это нефть, а без нефти Гитлеру хана. Разведка доносит, что в Плоешти более двадцати пяти тысяч немецких войск и почти сотня самолётов. Кроме того, Плоешти — крупнейший узел коммуникаций на пути в Трансильванию. — Плоешти всего в шестидесяти километрах от Бухареста, — сказал Малиновский. — Мы можем изолировать Плоешти. Для этого нужен одновременный удар наших подвижных войск. Думаю, что следует бросить на Плоешти и Бухарест 6-ю танковую армию Кравченко. Два корпуса он сможет стремительно двинуть на Бухарест, а один корпус ударит по Плоешти. — Разумно, — согласился Тимошенко. Начался второй этап наступательной операции 2-го и 3-го Украинских фронтов. Что касается 2-го Украинского фронта, то ему предстояло частью войск, развивая наступление на запад, преодолеть Восточные Карпаты. Основные же силы фронта предназначались для преследования отступающих войск противника в южном направлении, овладения Фокшанскими воротами и выхода в центральные районы Румынии. Кроме того, совместно с 3-м Украинским фронтом надо было осуществить и ещё одну крупнейшую задачу: завершить ликвидацию войск противника, оказавшихся в «котле». Исходя из этого, Малиновский приказал командующему 52-й армии Трофименко к утру 25 августа выйти на реку Прут и пресечь попытки противника прорваться на его другой берег. 18-й танковый корпус должен был отрезать противнику пути отхода на Кагул. Особая роль отводилась 4-й гвардейской армии генерала Галанина, которая вела наступление вдоль восточного берега Прута. Ей предстояло в контакте с войсками 3-го Украинского фронта завершить полную ликвидацию противника в районе Котумори, Леушени, Лозова. Но здесь завязались ожесточённые бои: пришлось взорвать мост через Прут, после чего все старания немцев и румын прорваться через реку окончились полным провалом. В ходе боёв 4-я гвардейская уничтожила свыше б тысяч солдат и офицеров противника и около 10 тысяч взяла в плен. Однако тут произошло то, что нередко бывает на войне: нарушение взаимодействия двух фронтов. Планы идеально выглядят лишь на бумаге. А на деле соседние фронты в азарте сражения запросто могут «вклиниться друг в друга», что создаёт большую неразбериху. Нечто подобное произошло и теперь. 4-я гвардейская армия Галанина так увлеклась преследованием отходящего противника, что совершенно непроизвольно оказалась в полосе наступления 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Берзарина, входившей в состав 3-го Украинского фронта. Озадаченный Берзарин тут же доложил об этом Толбухину, заявив, что 4-я гвардейская мешает наступлению его армии. Толбухин в ответ, вместо того чтобы обговорить возникшую ситуацию с Малиновским, стал «бомбить» своими жалобами Ставку: безобразие, надо немедленно навести порядок, вывести «анархистов» на западный берег Прута... Антонов, выслушавший Толбухина, тоже возмутился и сразу же позвонил Малиновскому. Выговорив за непорядок, он приказал вывести 4-ю гвардейскую за Прут. — Алексей Иннокентьевич, — воззвал к разуму первого заместителя начальника Генерального штаба Малиновский, — это практически очень трудно осуществить в ходе стремительных боевых действий. Да и последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми: противник непременно бросит основные силы на переправы и по тылам моего фронта уйдёт в Карпаты. Считаю, что ничего страшного в создавшейся ситуации нет. Более того, 4-я армия усиливает правый фланг фронта Толбухина, отсекая окружённую группировку с севера и не давая ей возможности овладеть переправами через Прут. Но Антонов закусил удила: — Товарищ Малиновский, Ставка категорически приказывает вам вывести 4-ю гвардейскую армию в свои границы. Об исполнении донести. И повесил трубку. Малиновскому пришлось подчиниться. Он не узнавал сейчас Антонова: знал его как интеллектуала, человека выдержанного, предельно тактичного. Видимо, Толбухин так «подогрел» его... Эмоции, как известно, затемняют разум и порождают амбиции. А в результате страдает дело. Всё вышло так, как и предвидел Малиновский. Ему пришлось приостанавливать наступление 4-й гвардейской и тем самым дать противнику фору. Армия Берзарина не смогла сдержать противника, и тот, естественно, устремился в брешь, образовавшуюся после отвода 4-й гвардейской. Несколько десятков тысяч человек из войск, находившихся в «котле», вырвались и переправились на правый берег Прута, причём вместе с танками и другим вооружением. Вырвавшиеся из «котла» войска сосредоточились, заняли оборонительные позиции в лесах в районе Хуши и повели бой с тыловыми частями 52-й армии, поставив её в крайне опасное положение. Началась полная неразбериха: и немцы, и наши войска ломали голову, кто же попал в окружение. В результате фронт понёс ощутимые потери. В одном из этих непредвиденных боёв погиб командир 18-го танкового корпуса генерал-майор Полозков — храбрейший командир. Разумеется, главным виновником происшедших драматических событий был Генеральный штаб, но Малиновский, тяжело переживая случившееся, ругал самого себя: «Это твоя вина, дорогой товарищ. Что-то на этот раз, вопреки своим принципам, ты оказался слишком послушным. А надо было доказать Антонову, что такие «лихие» манёвры в ходе боя могут привести к срыву всей операции. Война — это не игрушка, и тут всяческие капризы неуместны. Конечно, приказ есть приказ, но ведь можно было, даже приняв его к исполнению, потом оправдаться невозможностью его реализации. Забыл ты, Родион, мудрый завет Суворова. А ведь он учил: «Если тебе командуют направо, а ты в бою видишь, что надо повернуть налево, — поворачивай налево». Ставка отсюда за тысячи километров, а у тебя здесь всё перед глазами. Впредь тебе наука...» Отчаянными усилиями выправив положение, фронт продолжал решительное наступление. 5-й гвардейский танковый корпус 26 августа ворвался в Фокшаны и вскоре Фокшанские ворота были преодолёны. Выполняя приказ Малиновского, танкисты Кравченко направились к Плоешти. Тут отличились и пехотинцы. 6-я гвардейская мотострелковая бригада полковника Осадчего за полсуток совершила семидесятикилометровый марш от Бузэу до Плоешти. Глазам наступавших предстало страшное зрелище: Плоешти был весь в клубах огня и дыма. Это немцы, отступая, взорвали нефтеперегонные заводы и нефтеналивные баки. Сапёрные части взялись за тушение пожаров, работа была опасная. К этому адскому труду подключили и пленных немцев. Два танковых корпуса из армии Кравченко неудержимо рвались к Бухаресту. Накануне Кравченко получил приказ Малиновского: «Вхождение в Бухарест провести организованно. Обозы пропускать только за городской чертой. Пехота, двигающаяся походом, должна иметь оркестры. Командиры полков, дивизий — впереди своих колонн на конях». И вот 31 августа 1944 года войска 2-го Украинского фронта вошли в Бухарест. Ослепительно сияло солнце, десятки тысяч жителей румынской столицы вышли на улицы. Войска шли через живой коридор восторженных людей, осыпаемые букетами цветов. Нескончаемо звучали крики «ура!» и здравицы в честь Красной Арии — армии-освободительницы. По улицам к центру города катились танки с гвардейцами на броне, самоходные артиллерийские установки, пушки, гаубицы. Это была великолепная победа, венец Ясско-Кишинёвской операции. В её честь Москва снова дала 24 залпа из 324 орудий. ...За три дня до взятия Бухареста произошло непредвиденное событие. Малиновский решил облететь передний край наступления на самолёте ПО-2, который на фронте окрестили «кукурузником» за его способность летать на предельно низких высотах и садиться хоть на кукурузное поле. Родион Яковлевич любил этот самолёт, созданный ещё в 1928 году знаменитым конструктором Николаем Николаевичем Поликарповым. Пусть фанера, пусть обит всего лишь перкалем — тонкой хлопчатобумажной тканью из некручёной пряжи, пусть без закрытой кабины, «небесный тихоход», зато куда более скорое средство передвижения, чем автомобиль, — всё же почти двести километров в час. К тому же может обмануть зенитки, прижимаясь к земле. Да и специально оборудованные аэродромы ему ни к чему: сядет на любой пятачок. Перед взлётом пилот вручил командующему большие круглые очки со стёклами, схожими с иллюминаторами, и кожаный шлемофон с подшлемником из шёлковой ткани. Малиновский занял место на сиденье позади пилота. — Товарищ командующий, прошу пристегнуться, сейчас взлетаем. Самолёт, подпрыгивая на неровностях поляны, враскачку устремился вперёд и после короткого разбега легко взмыл в небо. Воздушная струя туго ударила в лицо, и Малиновский ощутил то, что ощущает любой лётчик, — пленительное чувство высоты. Нагнув голову, Родион Яковлевич пристально следил за тем, что происходило на земле. Вот наконец показалась широкая лента Прута, стали отчётливо видны группы вражеских войск, в суматохе переправлявшиеся через реку. И тут вдруг по крыльям и фюзеляжу самолёта, будто градины, забарабанили пули. Пилот мгновенно рванул рукоять управления на себя, и самолёт послушно пошёл вверх, набирая высоту и стремясь уйти от обстрела. Но пуля всё же достала командующего. Малиновский ощутил удар в спину и почувствовал, как по телу потекла кровь... Когда приземлились, Родиона Яковлевича незамедлительно отправили в медсанбат. Рана оказалась довольно серьёзной. После перевязки Малиновский, отлежавшись, отправился на командный пункт армии. А в конце дня пожелал видеть пилота ПО-2. Тот вскоре явился — молодой, загорелый. — Молодец, майор. Не растерялся. — Как учили, товарищ командующий. Сделал, что мог. — За это тебе великое спасибо. — Малиновский приказал адъютанту записать фамилию пилота. — А в обшивке, товарищ командующий, двадцать шесть пробоин, — улыбнулся лётчик, будто сообщая что-то приятное. — Видишь, какой живучий у тебя самолёт! Хоть и зовут его «кукурузником»! — Так то ж любя...
27
На очередной приём к Сталину Лаврентий Павлович Берия пришёл с увесистой папкой. Увидев, как он кладёт её перед собой на стол, Сталин вкрадчиво осведомился: — Что, Лаврентий, рукопись романа принёс? Решил знаменитым писателем стать? Берия порадовался, что появился в кабинете, когда у вождя хорошее настроение. — Завидую я писателям, товарищ Сталин! — Берия, в неофициальной обстановке называвший вождя запросто Кобой, во время официальных встреч подчёркнуто обращался к нему «товарищ Сталин» или «Иосиф Виссарионович». — Лучшей профессии на свете нет! Отвечает только за самого себя, никому не подчиняется короче, кум королю и сват министру. — А не правильнее ли предположить, Лаврентий, что писатель, как инженер человеческих душ, отвечает не только за себя, он обязан отвечать перед всем народом за результаты своего творчества? К тому же писатель находится в постоянном подчинении воле нашей большевистской партии. Я думаю, что ты пришёл не для того, чтобы обсуждать преимущества той или иной профессии. Что там, в твоей папке? — Товарищ Сталин, я располагаю сведениями о том, что готовится Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении генералу армии Малиновскому звания маршала. — Молодец, Лаврентий, хорошо информирован. Такой указ действительно готовится. Мы тут приняли решение, что при восстановлении Государственной границы СССР командующим фронтами необходимо присваивать маршальское звание. И решили, что Малиновский и Толбухин вполне достойны этого звания. А ты что — против? — Безусловно против, товарищ Сталин! Категорически! Вот в этой самой папке — досье на Малиновского, компромат такой силы, что ему впору не маршала присваивать, а генеральские звёзды снимать! Сталин с интересом посмотрел на папку, будто ожидал, что из неё само собой появится нечто удивительное. Глядя, как Берия среди множества бумаг, содержащихся в папке, выискивает что-то особенно важное, он недовольно сказал: — Зачем копаться в бумагах, Лаврентий? Ты наверняка уже изучил их. Память у тебя хорошая. Не тяни время, рассказывай. — Товарищ Сталин, я постараюсь предельно коротко. Начну с документа, в котором изложено поведение Малиновского во Франции, когда он находился там в Русском экспедиционном корпусе. Ещё будучи в военном лагере Майи, что в ста пятидесяти километрах от Парижа, Малиновский был завербован французской разведкой. Не исключено, что уже позже, в лагере ЛяКуртин, его завербовала и немецкая разведка. Есть данные агентуры, что Малиновский намеревался не возвращаться в Россию, когда узнал об Октябрьской революции. Однако французская и немецкая разведка настояли на его возвращении в Россию с целью внедрения в Красную Армию и сбора информации. Сталин слушал со скучающим видом. — Всё это, Лаврентий, ты мне рассказывал ещё в тридцать девятом. Неужели запамятовал? В результате, когда Жуков просил, чтобы Малиновского назначили к нему начальником штаба во время боёв на Халхин-Голе, мы вынуждены были отказаться. — Это было совершенно правильное решение, товарищ Сталин. — Берия даже привстал со стула. — Мало того что Малиновский прохлаждался во Франции, пока мы здесь беляков рубали, так он ещё и в нашу армию проник. Даже обладая большим воображением, товарищ Сталин, трудно себе представить, как он мог совершенно беспрепятственно пройти территории, занятые колчаковскими армиями! Между прочим, контрразведка у Колчака работала так, что мышь не могла проскочить! — Тебе бы следовало знать, Лаврентий, — задумчиво изрёк Сталин, — что все контрразведки обладают свойством приписывать себе мифические заслуги. Мышь не могла проскочить! — Неприкрытая ирония зазвучала в его голосе. — Но это же подтверждено фактами! — попытался доказать своё Берия. — Ну, хорошо. — У Сталина не было никакого желания спорить на эту тему. — Сейчас ты будешь рассказывать мне, что Малиновский, являясь советником республиканской армии в Испании в тридцать шестом — тридцать восьмом годах, был к тому же завербован и гитлеровской разведкой. — Именно так и было, — закивал Берия. — И тому есть неопровержимые доказательства! Сталин встал и медленно прошёлся по кабинету, мимоходом взглянув на портреты Суворова и Кутузова, которые он приказал повесить на стене после начала войны с гитлеровской Германией. — Посмотри, Лаврентий, на портреты этих великих русских полководцев, — тон у Сталина был дружелюбный. — Слушают они тебя и, наверное, очень удивляются. А знаешь чему? Удивляются они такому странному факту: как этот гитлеровский агент Малиновский вовсю лупит гитлеровскую армию, изгоняя её из пределов Советского Союза, вместо того чтобы, как Власов, перебежать на сторону немцев? И как этот гитлеровский агент Малиновский блестяще осуществил Ясско-Кишинёвскую операцию, которая войдёт в историю советского военного искусства как Ясско-Кишинёвские Канны? И ещё, Лаврентий, великие русские полководцы очень удивляются тому, что, оказывается, это не Малиновский разгромил армию Манштейна под Сталинградом, не Малиновский освободил Ростов, Одессу, Запорожье и другие города, и, наконец, вовсе не Малиновский победоносно вошёл в Бухарест. Всё это, оказывается, совершил товарищ Берия с помощью своего досье? Произнеся эту длительную тираду, Сталин снова уселся в кресло и принялся раскуривать трубку. — Товарищ Сталин! — Берия понял, что за вроде бы безобидной шуткой кроется пугающее своей непредсказуемостью раздражение. — В досье много других материалов, компрометирующих Малиновского. Можно предположить, что он и в Испанию улизнул, чтобы оказаться подальше от Ежова и чтобы сподручнее было передавать информацию нашим противникам. Кроме того, есть компромат и бытового характера — к примеру, его увлечение разными женщинами. — Не тебе бы говорить об этом, Лаврентий, — негромко произнёс Сталин. — А ещё, товарищ Сталин, у него в квартире висел портрет врага народа Уборевича, а вашего портрета не было! Сталин молчал, а Берия приводил всё новые и новые «факты». — Думаю, товарищ Сталин, чтоМалиновский оказался на крючке и у английской разведки. Недаром с таким упорством добивался встречи с ним английский журналист Александр Верт. А какой журналист не является одновременно и агентом? — Ты уж выкладывай, Лаврентий, свой самый главный козырь, — проворчал Сталин. — Что Малиновский иногда принародно не боится покритиковать самого Верховного. — Вы — гениальный провидец, Иосиф Виссарионович! — В общем, Лаврентий, ничего нового в твоей папке не содержится. Интересно, кто это нарыл столько материалов? — Один из моих лучших, опытнейших контрразведчиков, товарищ Сталин. Фамилия его Барахвостов. Не контрразведчик — рентген. Он этого Малиновского, можно сказать, с самой люльки пасёт. Не так давно выезжал на 2-й Украинский фронт, сообщил, что командующий фронтом встаёт на защиту выявленных агентов абвера. Сталин пропустил эти слова мимо ушей. Его вдруг заинтересовало совсем другое. — Как его фамилия? Барахвостов? Думаю, что если бы у твоего лучшего и опытнейшего оказалась другая фамилия, ему следовало бы сменить её именно на Барахвостова. Ты знаешь, что означает это слово? — Ума не приложу. — Так вот, запомни: барахвост — это наушник, сплетник. Ты, наверное, Лаврентий, словарь Даля[8] никогда в руки не брал, а то бы там прочёл: «Он такой барахвост, что с ним говори, да оглядывайся». — Буду штудировать этот словарь, товарищ Сталин, — ничуть не смутился Берия. — Должен тебе напомнить, Лаврентий Павлович, — впервые за всё время разговора Сталин назвал его по имени-отчеству, — что в нашем государстве человек, занимающий высокую должность, обязан хорошо знать русский язык. И кроме того, по возможности не быть завистливым. Полагаю, что ты очень завидуешь тем военачальникам, которым мы присваиваем высшие воинские звания. Придётся тебя огорчить: Малиновский будет Маршалом Советского Союза, он это заслужил. Но это вовсе не значит, что мы запрещаем тебе впредь наблюдать за нашими маршалами. Бдительность, высокая большевистская бдительность — это закон нашей жизни. — Понятно, товарищ Сталин! — с облегчением воскликнул Берия. — Мы с честью выполним ваши указания! — А чтобы товарища Берию не глодала зависть, могу тебе обещать, Лаврентий, что ты тоже будешь у нас маршалом. За победы, одержанные в тайной войне с агентурой мирового империализма. Берия вскочил с кресла, порываясь обнять вождя. — Подожди, Лаврентий, успокойся. Благодарить будешь, когда Указ опубликуем. Высшие воинские звания в нашем государстве присваивает не товарищ Сталин. Высшие воинские звания присваивает законодательная власть. А её, как известно, возглавляет товарищ Калинин. — Да уж куда как известно! — хихикнул Берия. — На товарища Калинина у меня компромата побольше, чем в этой папке. — Я в этом не сомневаюсь, — усмехнулся Сталин. — Не сомневаюсь я, Лаврентий, и в том, что у тебя компромата и на товарища Сталина не одна такая папка. — Товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, клянусь вам, заверяю... — начал было Берия, но Сталин коротким взмахом ладони с зажатой в ней дымящейся трубкой остановил его: — Не надо клятв, Лаврентий. Всё равно не поверю. ...Сидя в машине, Берия ликовал: он будет маршалом! Сталин не бросает слов на ветер! Пусть это звание присвоят ему не сегодня, не сейчас, а после войны, но среди всех прочих маршалов он, Берия, будет самым сильным. Потому что в его руках не просто войска какого-то там фронта, а огромная власть. Ну и пусть Малиновский станет маршалом! Зато в его, Берия, сейфе будет храниться папка с компроматом на этого маршала, и в нужный момент она будет извлечена на свет, чтобы сделать своё нужное дело. Ублажив себя этими размышлениями, Берия стал думать о другом. Разве это справедливо, что о многих маршалах, например, о Будённом, Ворошилове, и даже не о маршалах — о Чапаеве, Щорсе или о каком-то там матросе Железняке сложены песни, написаны книги, сняты кинофильмы, а о нём, человеке, обеспечивающем государственную безопасность огромной страны, нет ни единого словечка?! Ну, ладно, можно смириться с тем, что нет книг, это ещё можно понять — он закрытый для общества человек, но кто мешает прославить его в песнях? Которые бы пели в воинских колоннах, передавали по радио, которые бы пел весь великий советский народ? Почему нет таких песен? А всё потому, что ты, дорогой товарищ, не в меру скромен. Но к чертям скромность! Товарищ Сталин тоже воплощение скромности, а сколько песен о нём гремит по всей стране каждый день! И уже сейчас в голове у Берия начала складываться эта песня. Он был твёрдо убеждён, что в ней обязательно должны присутствовать такие, к примеру, строки: «Овеян славою народного доверия» по той простой причине, что «доверия» — прекрасно рифмуется с «Берия». И ещё: «Громи врагов, товарищ Берия, ты наш железный сталинский нарком!» Берия всё больше укреплялся в мысли, что в самые ближайшие дни ему следует пригласить на свою дачу известного поэта и известного композитора, угостить их хорошим коньячком и воодушевить на создание такой песни. И пусть звание маршала ему пока не присвоено, ничего, песня дождётся своего часа, всё надо делать заблаговременно...
28
После Бухареста 2-й Украинский фронт нацелился на Трансильванию. Противник предпринял отчаянные попытки отбросить наши войска за Карпаты. Ему удалось контратаковать на рубеже реки Мурешул и замедлить продвижение армий Малиновского. Командующий 6-й немецкой армии генерал Фреттер-Пико поспешил выдать частный успех своих войск за образование сплошного фронта и разразился хвастливым приказом: «Благодаря нашей постоянной готовности к действиям и искусству боевых групп удалось, несмотря на продолжительное давление противника, с помощью заново сформированных соединений создать новый фронт здесь, в Карпатах. Долой бездельников, болтунов и сплетников! Соблюдайте солдатскую дисциплину, содержите в исправности ваше оружие, ваше снаряжение, ваше обмундирование. Пусть каждый из вас служит примером для другого; пусть каждый внесёт в дело самое лучшее; пусть каждый делает больше, чем требует от него приказ. Тогда ни один большевик не ступит на немецкую землю. Тогда мы опять будем скоро по ту сторону этих гор. Тогда фюрер выиграет время, чтобы с новым оружием в надлежащий момент нанести ответный удар так, что противник потеряет способность слышать и видеть! Поэтому, солдаты 6-й армии, держитесь ради нашего любимого отечества, ради нашего фюрера и его народа, ради наших жён и детей на родине. Кто сдаётся без борьбы, тот погиб. Всем силам наперекор. Твёрдо держаться, никогда не сгибаться, храбро сражаться! Призовите на помощь десницу Господню!» Как бы в противовес этой длинной приказной тираде, в которой смешались бахвальство и отчаяние, газета 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск» призывала предельно кратко: «Солдат Родины! Ты сражаешься в сердце Карпатских гор. Тебя окружают седые вершины-великаны. Нелегко здесь воевать. Узкие ущелья, бурные горные реки встают на твоём пути. Но ты везде пройдёшь. На то ты русский солдат...» Наступление «орлов Малиновского» продолжалось. Топографы еле успевали склеивать оперативные карты. Когда-то на обрезах значилось: «Можайск», «Волоколамск», «Истра», «Клин», потом: «Днепропетровск», «Харьков», «Запорожье». Теперь же на полях топографических карт стояли названия государств: «Румыния», «Болгария», «Югославия», «Венгрия». Когда в октябре 1944 года фронт Малиновского вёл тяжёлые изнурительные бои в Венгрии, в Москву пожаловал с визитом английский премьер Уинстон Черчилль. Он был чрезвычайно встревожен советским проникновением на Балканы и в Центральную Европу и поэтому тщательно готовился к предстоящим переговорам со Сталиным. Черчилль готов был пожертвовать Румынией и Болгарией, уже почти согласившись включить эти страны в сферу советского влияния, но решил стоять насмерть и не позволить Сталину взять под свою опеку Венгрию, Югославию и тем более Грецию. Союзники не так давно высадились в Нормандии, положив, таким образом, начало долгожданному второму фронту. Английский премьер полагал, что это событие обеспечит успех предстоящим переговорам. Черчилль с удовлетворением перечитывал опубликованный в печати ответ Сталина на вопрос корреспондента газеты «Правда»: «Подводя итоги семидневных боёв... можно без колебаний сказать, что широкое форсирование Ла-Манша и массовая высадка союзников на севере Франции удались полностью. Это, несомненно, блестящий успех наших союзников. Нельзя не признать, что история войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству выполнения. Как известно, «непобедимый» Наполеон в своё время позорно провалился со своим планом форсировать Ла-Манш, не рискнул сделать даже попытку осуществить свою угрозу. Только британским и американским войскам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша и массовой высадки десантных войск. История отметит это дело как достижение высшего порядка». Английский премьер был доволен: похвала Сталина, весьма скупого на всякого рода проявления чувств, дорого стоила! Как и предполагал Черчилль, его переговоры со Сталиным прошли в самой дружественной обстановке. В заключение они вместе побывали в Большом театре. Взоры всех зрителей были устремлены к правительственной ложе, по театру несколько минут прокатывались волны оваций. Перед отъездом из Москвы Черчилль пригласил в английское посольство представителей прессы, чтобы поделиться результатами своего визита. — Когда я приезжал сюда в прошлый раз, — начал английский премьер, — Сталинград всё ещё был в осаде. Гитлер находился в восьмидесяти—девяноста пяти километрах от Москвы, а от Каира даже ещё ближе. Это было в августе тысяча девятьсот сорок второго года... С тех пор события приняли иной оборот, мы одержали не одну блестящую победу и покрыли огромные расстояния... В этот раз я нашёл здесь атмосферу надежды и уверенности в том, что испытаниям придёт скорый конец. Но нам предстоит ещё немало жестоких боёв. Противник сопротивляется отчаянно, и лучше, если мы будем трезво оценивать те темпы, какими может быть достигнута окончательная победа. Однако мы ежедневно получаем хорошие новости, и поэтому нам трудно не быть оптимистичными. Черчилль сказал также, что его совещания с маршалом Сталиным содействовали улучшению межсоюзнических отношений. — Мы вникли самым глубочайшим образом в проблемы, связанные с Венгрией, — продолжал, всё более воодушевляясь, Черчилль, — и я считаю себя вправе утверждать, что нам удалось достигнуть хороших результатов и существенно уменьшить наши расхождения... Нельзя допустить, чтобы Венгрия стала уязвимым местом в наших отношениях... Затем Черчилль перешёл к Балканам, сказав, что решить любую из балканских проблем путём переписки было очень трудно и это обстоятельство послужило ещё одной важной причиной его приезда в Москву. Он признался, что при обсуждении балканских проблем его министру иностранных дел Идену пришлось нелегко. О конкретных трудностях английский премьер предпочёл дипломатично умолчать... Сталину во время переговоров очень хотелось напомнить Черчиллю, что Венгрия всегда занимала особое место в стратегических планах англо-американского блока. Для этого ему было бы достаточно упомянуть такой симптоматичный факт: Англия объявила войну Венгрии только в конце 1941 года, а США и того позже — в июне 1942 года. И это в то время, когда Венгрия с первых дней войны была впряжена в «германскую колесницу». Хортисты[9] неустанно молили Бога о том, чтобы англичане и американцы пришли в Венгрию раньше советских войск, возлагая надежды на то, что русские не смогут преодолеть Карпаты. Эти мечты и надежды полностью совпали с мечтами самого Черчилля. После войны он признавался в своих мемуарах: «Я очень хотел, чтобы мы опередили русских в некоторых районах Центральной Европы. Венгры, например, выразили намерение оказать сопротивление советскому вторжению, но они капитулировали бы перед английскими войсками, если бы последние могли подойти вовремя». ...Таким образом осенью 1944 года Венгрия оказалась в эпицентре военно-политических событий в Европе. И потому наступление фронта Малиновского, как и наступление соседнего с ним фронта Толбухина, приобретало не только военное, но и политическое значение. Боевая обстановка сложилась так, что «первую скрипку» в освобождении Венгрии выпало играть 2-му Украинскому фронту. Гитлер хорошо понимал, что потерять Венгрию означает потерять Австрию и Чехословакию и, по существу, открыть советским войскам дорогу в южные промышленные районы самой Германии. Он перебросил сюда двадцать две дивизии, и генерал Фриснер, чудом унёсший ноги из Румынии, сформировал мощную группу. Весь оборонительный рубеж фюрер назвал лирически: «Маргарита». На пути к столице Венгрии Будапешту стоял город Дебрецен. Малиновскому вспомнилась весна сорок третьего года на Украине, Апостолово, сплошная распутица. Здесь, под Будапештом, погода была похожа: проливные дожди, кругом одно сплошное болото. Надежда была на «тридцатьчетвёрки», которые преодолевали всё, что казалось непроходимым. Битва с противником и с непогодой продолжалась двадцать три дня. В результате фронт Малиновского продвинулся почти на три сотни километров! После мощных ударов танков, артиллерии и пехоты будапештская и трансильванская группировки противника оказались разобщёнными, в плен сдалось более сорока двух тысяч солдат и офицеров. Трофеями стали более тысячи танков и штурмовых орудий, две с половиной тысячи орудий и миномётов, восемьсот самолётов. В итоге Дебреценской операции войска 2-го Украинского фронта вышли на рубеж Чоп-Сольнок-Байя протяжённостью более восьмисот километров. Наступление в поистине невыносимых условиях сильно истощило войска: люди были вымотаны до предела, тылы завязли в бездорожье, части испытывали большой дефицит боеприпасов, горючего, продовольствия. Требовалось время, чтобы прийти в себя, получив передышку после непрерывных четырёхмесячных боёв. И конечно же, надо было как можно основательнее продумать план взятия Будапешта. Главная роль здесь отводилась 46-й армии генерал-лейтенанта Шлемина, участвовавшего ранее в Никопольско-Криворожской, Одесской, Ясско-Кишинёвской операциях. Его армия пятнадцать раз отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего за успешные боевые действия. Неожиданным препятствием на пути к Будапешту оказались разногласия Малиновского со Ставкой. Малиновский и Захаров были уверены, что Будапешт следует брать с северо-востока. Ставка настаивала на другом направлении — юго-восточном, полагая, что эти подступы к городу укреплены значительно слабее. И, не считаясь с тем, что фронту требуется передышка, что нельзя наступать на Будапешт до подхода свежих резервов, Сталин требовал брать венгерскую столицу немедленно. Разговор Малиновского со Сталиным был до предела накалённым. — Товарищ Сталин, для выполнения плана Ставки мне необходимо перегруппировать силы и средства, сосредоточив их на юго-восточном направлении. В условиях почти полного бездорожья этот манёвр отнимет много времени и сил, что даст возможность противнику разгадать наши замыслы и ещё более прочно подготовить свою оборону. — Товарищ Малиновский, вы обязаны во что бы то ни стало в самое ближайшее время овладеть Будапештом. — Казалось Сталин пропустил мимо ушей всё услышанное. — В таком случае, товарищ Сталин, я прошу разрешения дать мне хотя бы пять дней для того, чтобы подтянуть для поддержки 46-й армии 4-й гвардейский механизированный корпус. Тогда армия Шлемина будет усилена двумя мехкорпусами и сможет нанести по Будапешту более мощный удар. — Вы предстаёте аполитичным человеком, если не понимаете политического значения взятия Будапешта в максимально сжатые сроки. Такая аполитичность большевикам не присуща. — Сталин произнёс эти слова вроде спокойно, но Малиновский почувствовал, как в них проступает едва скрываемый гнев. И всё же он решил настаивать на своём. — Я хорошо понимаю политическое значение взятия Будапешта, — Малиновский прекрасно знал, что Сталин не терпит такого рода возражений: если сказал, что командующий политически близорук, значит, так оно и есть. — Пять дней отсрочки наступления — это тот минимум, который необходим фронту, чтобы обрести второе дыхание. Если мы бросим армию Шлемина до подхода мехкорпуса, мы можем погубить её и не добиться успеха. Родиону Яковлевичу хотелось добавить другие слова: «Погубим не только армию, но и провалим всю Будапештскую операцию. В лучшем случае затянем — на долгое время». Но он отлично знал, что Сталин этих слов ему никогда не простит, а результат разговора будет тот же. Некоторое время трубка молчала. Наконец прозвучали негромкие сухие фразы: — Столица Венгрии должна быть взята к 7 ноября. К празднику Великой Октябрьской социалистической революции! Малиновский не мог знать, что в это время на столе Верховного лежала телеграмма члена Военного совета Льва Захаровича Мехлиса: «Противостоящие нашему фронту части 1-й венгерской армии находятся в процессе разложения и деморализации. Ежедневно войска берут по 1000— 1500—2000 и более пленных... 18-я армия взяла за один день 2500 пленных, причём сдавались в плен целыми подразделениями... В связи с обходными манёврами войск фронта многие венгерские части попросту рассыпались, и отдельные группы солдат бродят по лесам, часть с оружием, часть без оружия, некоторые переоделись в гражданское...» И Малиновский вынужден был выполнять приказ. После артподготовки генерал Шлемин повёл свою армию в наступление. Ему удалось прорвать оборону противника, продвинуться на 25 километров и захватить плацдарм на берегу реки Тисы. Но тут наступление захлебнулось: немцы в спешном порядке бросили в контрнаступление три танковые и механизированные дивизии. Сталин накинулся с обвинениями на Ставку, а та «сосредоточила огонь» на командующем 2-м Украинским фронтом. Звучал один и тот же вопрос: «Почему?» Масла в огонь подлил Тимошенко, сообразив, что надо срочно перекинуть ответственность на других. Он не мешкая отправил в Ставку донесение: «2-й Украинский фронт является одним из сильных фронтов, имеющим крупные силы для разгрома противостоящего противника. Но, несмотря на это, в последнее время он не имеет успеха. Основными причинами малоуспешных действий считаю следующие. При относительном преимуществе в силах командующий фронтом стремится разгромить группировки противника на всех направлениях. Такое стремление бить противника на всех направлениях приводит к распылению сил и не позволяет создать необходимого преимущества. Командиры соединений и их штабы несколько избалованы успешными действиями в Румынии и Трансильвании и не организуют по-настоящему взаимодействие родов войск...» Что Будапешт будет рано или поздно взят, в этом Малиновский не сомневался ни на минуту. Но взят будет ценой очень больших жертв, которых можно было бы избежать при разумном подходе к организации наступления. Конечно, можно понять и Сталина: Верховный торопится опередить войска союзников, обойти Черчилля и Рузвельта, которые спят и видят Венгрию в своих «объятиях». Кроме того, чем скорее будет взят Будапешт, тем увереннее смогут чувствовать себя левые силы Венгрии, тем легче им будет взять власть в этой стране. Но Малиновский был твёрдо убеждён, что даже самые важные политические решения не должны оплачиваться бессмысленными жертвами. Он вложил в разработку плана взятия Будапешта столько ума, сердца и сил, настолько основательно продумал всё до мельчайших деталей, что нисколько не сомневался в успехе. Теперь всё это рушилось. Пока фронт будет маневрировать, пока Шлемин будет действовать в одиночку, немцы укрепят оборону. По данным разведки, немцы уже перебрасывают на венгерский фронт свежие дивизии из Греции и Албании... Но что поделаешь: приказ есть приказ. А чтобы его выполнить, надо нажимать на Ставку: пусть раскошеливается! 20 октября Малиновский обратился в Ставку с просьбой усилить его фронт танками, обосновав это такими доводами: «Противник, видимо, правильно оценил, что войска 2-го Украинского фронта выходят на очень важное оперативно-стратегическое направление, бросил в бой против фронта восемь танковых дивизий... Фронту предстоят впереди упорные бои. Противник легко не сдаст Венгрию, так как это его самое уязвимое место, а венгры продолжают под руководством Салаши[10] упорно драться». Одновременно Малиновский доложил, что в последних боях противник потерял до 400 танков, но и его фронт лишился трёхсот танковых единиц. В ответ на просьбу Малиновского Ставка решила привлечь к Будапештской операции и 3-й Украинский фронт Толбухина. Двумя фронтами предстояло выполнить следующую задачу. Мощные оборонительные рубежи гитлеровцев полудугами прикрывали Будапешт, флангами упираясь в Дунай. Противник рассчитывал сковать здесь основные силы наступающих, измотать их и не дать им прорваться к границам Германии. Местность Венгерской равнины, ненастная погода, обложившая небо низкими чёрными тучами, при которой авиация вынуждена была бездействовать, бездорожье — всё играло на руку обороняющимся немцам и венграм. По сравнению со стремительной победоносной Ясско-Кишинёвской операцией нынешние действия не могли не разочаровывать фронтовых военачальников, не говоря уж о Ставке и Верховном Главнокомандующем. Темпы наступления были почти черепашьи при многочисленных, совершенно неоправданных жертвах. Срок 7 ноября, определённый Верховным, теперь выглядел настолько нереальным, что о нём предпочитали даже не вспоминать. Вслух не вспоминал его и Родион Яковлевич. Но внутри это сидело саднящей занозой... Оба фронта перешли в наступление на Будапешт лишь 20 декабря. Немецкие и венгерские войска чувствовали себя смертниками, которым нечего терять. Они переходили в яростные контратаки по нескольку раз в день. Но советские богатыри оказались и терпеливее, и настырнее, и злее. Через шесть суток наступления войска двух фронтов соединились на Дунае, на участке Эстергом-Несмей, — таким образом, Будапешт оказался в плотном кольце. В капкан попало почти сто тысяч солдат и офицеров противника. Тогда немцы и венгры принялись с бешеным рвением сильнее укреплять и без того мощную оборону города. К началу нового, 1945 года они подтянули сюда тринадцать танковых, две моторизованных дивизии и мотобригаду. Такой плотности танковых войск на восточном фронте не было за всю войну. Малиновский и Толбухин чувствовали, что противник готов превратить венгерскую столицу с её многочисленными историческими и культурными памятниками в груду развалин. Генералы попытались остановить безумие отчаявшегося врага, решив направить к нему парламентёров. — В ультиматуме изложим противнику наши условия капитуляции, — предложил Малиновский. — Я уже говорил со Ставкой. Можно будет гарантировать всем венгерским генералам, офицерам и солдатам немедленное возвращение домой. — Есть смысл попробовать. Если получится, и у нас жертв будет гораздо меньше, — поддержал Толбухин. Но гуманная идея «не прошла». Едва парламентёр 2-го Украинского фронта капитан Штеймец приблизился к немецким траншеям, держа в руках белый флажок, как тут же загремели выстрелы. Такая же судьба ждала и парламентёра 3-го Украинского фронта капитана Остапенко: его убили выстрелом в спину. Стало ясно: с волками мировой быть не может. Оставалось одно: брать Будапешт приступом. Это наступление было одним из самых драматических за все годы войны. Советские войска несли большие потери, но неуклонно продвигались вперёд. Оборону Будапешта возглавлял немецкий генерал Пфеффер-Вилленбрух. Малиновский приказал штурмовать город раздельно: сначала овладеть восточной частью столицы — Пештом, а затем, переправившись через Дунай, — брать Буду. Это был штурм, напомнивший уличные бои в Сталинграде. Здесь, в Будапеште, тоже приходилось брать штурмом каждый дом, каждый этаж. Специальные группы сапёров разминировали улицы, пробивали в стенах домов лазы, чтобы через них обходить точки сопротивления. Двадцать три дня ушло на то, чтобы овладеть Пештом. Почти месяц жарких кровопролитных уличных боёв. Затем двухдневная передышка — и снова в бой, теперь уже, преодолевая Дунай под плотным огнём противника. Дунай оказался рекой строптивой и коварной. С вечера, когда части пошли в наступление, лёд ещё держался, а на рассвете затрещал, кое-где начался ледоход. Но и это, хотя опять-таки с большими потерями, преодолели «орлы Малиновского». Будапешт полностью перешёл в руки советских войск 13 февраля 1945 года. По этому поводу Захаров позволил себе пошутить: — Родион Яковлевич, пожалуй, число тринадцать для вас — счастливое число! Он не мог и догадаться, что и Вена будет освобождена тринадцатого, только — апреля. Ровно через три дня после взятия Будапешта Малиновский получил новую директиву Ставки, содержавшую в себе план проведения Венской операции. Его «напарником» снова был Толбухин, но главная роль отводилась 2-му Украинскому. Пришло ощутимое подкрепление из резерва Ставки — 9-я гвардейская армия генерала Глаголева, участника многих наступательных операций. — Теперь немцы перенесут центр сопротивления в горные районы Австрии и Чехословакии, — поделился своими мыслями с Захаровым Малиновский. — В горах они смогут создать крепкую оборону. — На Будапештскую операцию у нас ушло сто восемь дней, — вздохнул тот. — А сколько уйдёт на Венскую? — А я всё-таки надеюсь, что с Веной мы справимся быстрее. Вряд ли сопротивление будет таким же яростным, как в Будапеште. — Да уж, фрицы и мадьяры развернулись тут на полную катушку, — Захаров покачал головой. — Сколько там было железобетонных надолбов, противотанковых препятствий, дотов, минных полей! Право слово, нашим сапёрам следует в пояс поклониться. — Поклониться надо всем — и сапёрам, и пехотинцам, и танкистам, и артиллеристам, и лётчикам. — Малиновский задумался. — Какой всё же геройский у нас народ, Матвей Васильевич! Геройский и терпеливый. Другой бы народ уже в сорок первом перед немцами на коленках ползал...
29
Пауль Йозеф Геббельс, министр пропаганды нацистской Германии (подобного министерства не было ни в одном другом государстве мира), предпочитал не выезжать на передовую линию фронта даже тогда, когда одна победа немцев следовала за другой. Теперь же, весной сорок пятого, когда военные сводки были ошеломляющими или даже паническими, а линия фронта стремительно приближалась к самому Берлину, посещение отступающих частей и соединений тем более не предвещало ничего хорошего. Куда лучше было сидеть в своём уютном, комфортабельном доме, сочиняя очередную речь, истерически зовущую немецкий народ к самопожертвованию во имя рейха, или же помногу часов беседовать с фюрером в имперской канцелярии. Однако отсиживание в тылу (хотя понятие тыла теперь стало весьма условным — Берлин каждую ночь подвергался массированным бомбёжкам американской и английской авиации) становилось, можно сказать, неприличным. К тому же до Геббельса дошли слухи о том, что его «заклятый друг» Геринг в присутствии своих подчинённых высмеивает его, Геббельса, почём зря, напирая на то, что министр пропаганды «работает» и «сражается» лишь своим длинным языком. И это произносит тот самый Геринг, который развалил военно-воздушные силы вермахта и который даже теперь устраивает пышные банкеты и опереточные выезды на охоту, в специальном поезде мчится из Берлина в Оберзальцберг лишь для того, чтобы навестить свою жену, кстати, оказывающую на него самое неблагоприятное влияние. А недавно этот самовлюблённый павлин и вовсе выкинул чёрт знает что! В газете «Иоахимсталер цайтунг» Геббельс наткнулся на сообщение о том, что Геринг на охоте подстрелил зубра и приказал передать его в распоряжение беженцев. Эта комедия напомнила Геббельсу историю о принцессе, которая, завидев толпы, штурмующие дворец с криками «Хлеба!», наивно поинтересовалась у своей свиты: «Если у них нет хлеба, то почему же они не едят пирожные?» Да, большей обиды чем та, какую нанёс Геринг, высмеивая его, Геббельса, язык, трудно было придумать. Видно, придётся послать фюреру главу из Томаса Карлейля[11], в которой рассказывается, как поступил Фридрих Великий с принцем прусским Августом-Вильгельмом, когда тот подпортил ему одно важное дело. И это несмотря на то, что Август-Вильгельм доводится ему племянником! Август-Вильгельм, обидевшись, пригрозил королю, что уедет в Дрезден; вскоре он получил монаршее послание. Фридрих Великий предупредил, что если племянничек отважится на такой поступок, не испросив разрешения у дяди, то тут же будет арестован. «Вот так следовало бы действовать и нам, чтобы разделаться с Герингом и ему подобными бездельниками, неспособными выполнять свой долг в партии, в государственной сфере или же в рядах вермахта! Неужели фюрер не понимает, что именно геринги «привели нацию к тяжелейшим бедам»?! Размышляя об этом и обдумывая свои ответные действия, Геббельс немного успокоился. Однако спал он на редкость плохо. Так бывало всегда, когда накануне требовалось соблюдать ритуал прохождения перед строем почётного караула. Колченогий от рождения, Геббельс при ходьбе сильно волочил левую ногу. Он понимал, что все, кто смотрит на него, в душе издеваются над ним и мысленно злословят. Для него не было ничего мучительнее и страшнее, чем тот момент, когда его физический недостаток выставлялся «напоказ». Была середина мартовского дня, когда Геббельс в сопровождении своей свиты выехал в Гёрлиц. Весна запаздывала, день был ясный, солнечный, но морозный. Казалось, шла борьба старухи зимы, не желающей сдавать своих позиций, и юной весны, которая призвана сокрушить зиму. «Вот так бы и нам, немцам, уподобиться весне, чтобы обратить вспять вражеские армии, олицетворяющие собой зиму», — словно сочиняя очередную речь, подумал Геббельс, радуясь солнцу и в то же время ругая его: солнце ярко озаряло страшные развалины берлинских домов, напоминая о грядущих катастрофах. Геббельс облегчённо вздохнул лишь тогда, когда машина вырвалась из уродливого нагромождения руин и понеслась мимо целёхоньких коттеджей, которых, казалось, совсем не коснулась война. Воздух здесь был чист и свеж, не чувствовался страшный, омерзительный запах гари и смрада. На сельские населённые пункты, встречавшиеся по пути, смотреть было ещё отраднее. Здешние жители, казалось, не почувствовали огненного дыхания войны. Острая зависть к этим людям кольнула сердце Геббельса. Каким счастьем было бы остаться сейчас в одном из этих домов. Но машина мчалась всё дальше и дальше, пока развалины Дрездена вновь не напомнили ему, что война сокрушает один немецкий город за другим. Смягчил душу лишь Баутцен, который каким-то чудом остался цел. Неподалёку от Гёрлица Геббельс приказал сделать остановку. Едва он вышел из машины, как к нему из ближайшего фермерского домика подбежали несколько взволнованных женщин. Они узнали своего министра пропаганды и шумными возгласами приветствовали его. Геббельса это чрезвычайно тронуло. Будто с трибуны, он громко заявил, что фюрер делает всё для того, чтобы отбить яростные атаки большевиков и, в конечном счёте, одержать победу. По лицам женщин трудно было понять, верят ли они своему министру или нет, но всё же эта встреча порадовала Геббельса. «Нет, — подумал он, — мы ещё имеем в народе большой запас доверия и авторитета. Надо только уметь использовать их. Если бы национал-социализм являлся перед народом как чистая идея, освобождённая от всей наносной грязи, то он сегодня был бы единственной великой идеей нашего столетия». Геббельс внезапно подумал, что встреча с небольшой группой женщин вряд ли представляет собой прочное основание для глубоких обобщающих выводов, но успокоил себя тем, что такой же приём был бы оказан ему во всех населённых пунктах Германии, появись он в них. Часы показывали два часа пополудни, когда Геббельс наконец добрался до Гёрлица. Почти обезлюдевший город поразил его, на улицах не встретилось ни одной женщины. — Что здесь произошло? — удивлённо спросил Геббельс встречавшего его крейслейтера Малица. — Гёрлиц — это город мужчин? Тот угодливо и поспешно ответил, что все женщины и дети уже давно эвакуированы в тыл. — Вы уверены, что сегодня в Германии хоть где-то существует тыл? — Геббельс горько усмехнулся. Между тем доложили о прибытии генерал-полковника Шёрнера, который проделал немалый путь из своей ставки, чтобы принять участие в поездке министра пропаганды. Шёрнера сопровождала группа его офицеров — рослых, аристократически породистых и, что сразу бросалось в глаза, отлично вымуштрованных. — О, у вас прекрасные офицеры! — воскликнул Геббельс, преувеличенно крепко пожимая всем руки. Слово «прекрасные» прозвучало сейчас совершенно искренно в устах министра пропаганды: по внешнему виду и выражению лиц офицеров нельзя было даже подумать, что они заражены пораженческими настроениями. Не задерживаясь в Гёрлице, Геббельс вместе с Шёрнером выехали в Лаубаи. Геббельс был рад своему спутнику: он всегда высоко ценил Шёрнера, считая его одним из лучших военачальников вермахта. Более того, Шёрнер был кумиром Геббельса. Он очень сожалел, что ещё в июле прошлого года фюрер заменил Шёрнера, командовавшего тогда группой «Южная Украина», генералом Фриснером. То, что русским удалось окружить немецкие армии в районе Кишинёва и Ясс, Геббельс объяснял именно этой перетасовкой генералов, считая её серьёзнейшей ошибкой фюрера. Геббельс не раз убеждался, что Шёрнер имеет несомненный полководческий талант, светлую голову и, кроме того, обладает ещё и поразительной интуицией. Геббельс, конечно же, не мог знать, какие мысли роятся сейчас в голове обожаемого им Шёрнера. А генерал думал, что политики третьего рейха, в том числе и сидящий сейчас рядом Геббельс, — ничтожные люди, совершенно не способные предвидеть, в какой исторический тупик они ведут нацию и государство. Геббельс же был особенно неприятен Шёрнеру из-за своего физического уродства. Ему припомнилась сейчас нижнесаксонская поговорка: «Берегись уродством отмеченного!» На намять приходили характерные факты истории. Хромой и горбатый король Ричард III английский приказал убить в Тауэре обоих своих племянников и задушить жену во время родов. Придворный шут Франциска I французского, известный гнусностью и злословием, был хромым. Талейран, прославившийся подлостью и коварством, был, как и Геббельс, колченогим. — Я полагаю, — заговорил Геббельс, — было бы хорошо, если бы вы проинформировали меня, пока мы едем, о положении дел в вашей группе армий. — Мы осуществили локальное наступление на Лаубан, — начал докладывать Шёрнер. — Моей целью было вынудить врага к перегруппировке сил, и этого удалось добиться. Во время операции мы разгромили большую часть танкового корпуса противника и при этом не понесли ощутимых потерь. Я убеждён, что если хорошо организовать наступление, то можно громить большевиков при любых обстоятельствах. Их пехота безнадёжна, и они выигрывают лишь благодаря своему численному превосходству, особенно в танках. — Каковы ваши дальнейшие планы? — Рассуждения генерала понравились Геббельсу. — Моя цель — освободить Бреслау. — И как скоро? — Думаю, через несколько недель. Я рассчитывал провести эту операцию одновременно с наступлением на Лаубан, однако был вынужден по приказу Генштаба часть своих дивизий передать для обороны в Померании. — А как обстоят дела в районе Моравска—Остравы? Ведь этот промышленный район особенно важен. — Здесь я ожидаю крупного удара русских. Рано утром я отдал приказ о новом наступлении из района Ратибора. Мы должны постоянно атаковать врага, создавать для него максимальные трудности и заставлять всё время проводить перегруппировки. Только этим можно расшатать крепость его фронта. — Шёрнер, вы — истинный полководец! — не смог сдержать эмоций Геббельс. — Отрадно, в высшей степени отрадно, что вы действуете новыми, современными методами, исходя из складывающейся ситуации. Мне хорошо известно, что вы не сидите за письменным столом, а всё время в полевых частях! — Благодарю вас. — Эта оценка справедлива. Если бы вермахт имел много таких военачальников, как вы, нам не пришлось бы испытывать позора небывалого отступления. Кстати, как вам удаётся поддерживать образцовую дисциплину в войсках и бороться с паникёрами и дезертирами? — Мы сурово расправляемся с ними, — охотно ответил Шёрнер: это было предметом его особой гордости. — Есть немало солдат и даже офицеров, которые в сложной ситуации всегда стремятся отстать от своих частей и под каким-нибудь благовидным предлогом исчезнуть в тылу. Я приказал вешать их на ближайшем дереве, прикрепляя щит с надписью: «Я дезертир, отказавшийся защищать германских женщин и детей». Это служит хорошим уроком для других. — Прекрасный метод для поднятия морального духа! — восхитился Геббельс. — Кстати, я хочу поделиться с вами некоторыми своими мыслями о роли полководцев. Не так давно Генеральный штаб представил мне для просмотра книгу о советских маршалах и генералах. Я изучил её самым тщательным образом, и у меня создалось твёрдое впечатление, что мы вообще не в состоянии конкурировать с советскими военными руководителями. Наши генералы в своём большинстве слишком стары, они изжили себя. Разумеется, вас, Шёрнер, я исключаю. Особенно прискорбно, что значительная часть наших генералов не стремится к победе национал-социализма. Советские же маршалы и генералы не только фанатично верят в коммунизм, но и так же фанатично борются за его победу, защищают его. Это говорит о колоссальном превосходстве советского генералитета. Фюрер полностью согласен с моим мнением. — Вы сделали абсолютно точный вывод! — воскликнул Шёрнер, желая польстить Геббельсу, про себя подумав: «Когда немецкие генералы побеждают, их победы вы приписываете себе. Когда же они терпят поражение, вы взваливаете на них всю вину и объявляете их бездарными!» — Вот, кстати, Шёрнер, кто возглавлял советский фронт, против которого сражалась ваша группа армий до того, как вы сдали свою должность Фриснеру? — Генерал Малиновский, сейчас уже маршал. Сталин не жалеет высоких званий и наград для своих полководцев, — с явным намёком произнёс Шёрнер. — И каково ваше мнение о его полководческих качествах? — Геббельс сделал вид, будто не понял намёка. — Малиновский — достойный противник. Он, несомненно, обладает стратегическим мышлением. Я пришёл к выводу, что он всегда тщательно готовит операции и в их проведении никогда не допускает авантюризма, которым частенько «болеют» военачальники. Ему чужд принцип Наполеона: главное — ввязаться в бой, а там будь что будет. Мне кажется, что он не ставит своей целью добиться победы любой ценой, дорожит жизнью своих солдат и офицеров. Кроме того, я заметил, что у него хитрый ум: ему часто удавалось путём ложных действий вводить нас в заблуждение и наносить удары на тех участках фронта, где мы не ждали. — Я так и подумал, когда рассматривал его портрет, помещённый в книге. Мне показалось, что это умный и решительный полководец. Любопытный факт: все советские маршалы и генералы высокого ранга молоды, обычно не старше пятидесяти лет. И что удивительно, в своём большинстве они выходцы из рабочих и мелких крестьян. Возьмите того же Жукова — он сын сапожника. Конев — сын крестьянина. Рокоссовский — из семьи простого машиниста. Поэтому они обладают крепкими «корнями», неприхотливы, терпеливы, адски выносливы и к тому же фанатично преданы своим идеалам. Они — выходцы из более здоровых слоёв, чем наши собственные генералы. Но я снова акцентирую ваше внимание, Шёрнер, на том, что вы и ещё несколько военных — приятное исключение. Фюрер и я, мы оба высоко ценим ваш ратный труд. — Я готов вновь и вновь оправдывать высокое доверие, которое оказывает мне фюрер и вы, господин министр! — Говоря откровенно, Шёрнер, я уверен, что если бы вы возглавляли оборону Будапешта, то Малиновскому не удалось бы взять его. Вы же знаете, какое колоссальное значение имел для нас этот город, сколько сил было брошено на укрепление его обороны! Теперь же мы уязвимы не только с востока, но и с юга! — Да, Фриснер мог бы действовать более активно и лучше распорядиться силами, которые были в его распоряжении, — согласился Шёрнер. После непродолжительной паузы Геббельс заговорил вновь: — А вспомните-ка, Шёрнер, как мы побеждали в сорок первом да и в сорок втором! Нам сопутствовал небывалый, потрясающий успех! Весь мир дрожал от страха! И всё потому, что в своё время фюрер гениально разорвал грязную пачкотню, именуемую Версальским договором! По этой бумажке, место которой в солдатской уборной, мы могли иметь всего восемьдесят четыре орудия! Это означает лишь двадцать одну батарею десяти с половиной миллиметровых гаубиц! Но мы знали, что надо делать! В одном только Хайденау, в Саксонии, уже в двадцать первом году на заводе «Рокштро» было изготовлено шестьсот гаубиц. Под полами цехов было спрятано пять нарезных станков в отличном состоянии. А в двух комнатах арсенала Шпандау близ Берлина до потолка были навалены документы со сведениями об артиллерийских инженерах и других специалистах по Берлинскому военному округу. Но когда контрольная межсоюзническая комиссия этих ублюдков прибыла на место проверки, комнаты были пусты. Часовой был посажен на гауптвахту на шесть суток, а через два месяца генерал-лейтенант фон Бок — он был тогда начальником штаба третьего военного округа, — произвёл его в чин фельдфебеля. Кстати, фон Бок при вторжении в Судетскую область взял с собой своего девятилетнего сына, одетого в военную форму. Генерал хотел, чтобы на мальчика произвела впечатление красота солдатской службы. У Бока крепкие нервы и полное презрение к опасности! Он может требовать от солдат величайших лишений, но обязательно разделит их сам. Для него не существует ничего, кроме армии. Ещё бы, ведь он родом из Кюстрина! Казармы там построены ещё во времена Фридриха Второго... Шёрнер с удивлениемслушал скачущую от одной темы к другой речь Геббельса, не понимая, зачем сейчас, когда немецкая армия отступает на всех фронтах, вспоминать бог знает что. — А как боялись нас так называемые союзники! — Геббельс опять перескочил на новую тему. — Стоило фюреру только свистнуть — они мчались к нему, как официанты в ресторане! ...Поздно вечером Геббельс, довольный поездкой, возвратился в Берлин. Здесь ему принесли новые сводки с фронтов. Сводки были неутешительные. Самые удручающие сообщения поступали из Венгрии, где немецкие контратаки окончательно захлебнулись. «Кажется, всё идёт прахом! — Геббельс в ярости отшвырнул листы бумаги. — Сталин имеет все основания, как кинозвёзд, чествовать своих маршалов. А этот проклятый Малиновский уже нацелился на Вену...» Сводки с фронтов с каждым днём становились всё более мрачными. Геббельс заносил в свой дневник: «День наполнен тяжелейшими заботами. Драматические доклады поступают ко мне один за другим, и каждый из них взваливает на меня массу острейших проблем. В этой атмосфере чудесная весенняя погода прямо-таки раздражает. Хочется закрыть маскировочные шторы и спрятаться в четырёх стенах... Сталин, по-видимому, поставил перед Красной Армией цель овладеть к 25 апреля Веной, Прагой и Берлином. Значит, в ближайшие недели нам надо готовиться к чему-то ещё более трудному. Пока что об улучшении критической обстановки на фронте не может быть и речи». Геббельс был абсолютно прав: уже в начале апреля войска Малиновского вступили в предместья Вены и повели бои за овладение центром австрийской столицы. Жители предместий активно помогали Красной Армии, и это вызвало следующую запись: «Таковы последствия так называемого весёлого нрава венцев, который, вопреки моей воле, всегда приукрашивали и прославляли наши пресса и радио. Фюрер-таки раскусил венцев. Это отвратительные подонки — смесь поляков, чехов, евреев и немцев. Но я думаю, что венцев можно было бы держать в узде, если бы там у кормила власти было приличное и прежде всего энергичное политическое руководство. Ширах явно не подходил для этого. Но сколько раз я говорил об этом и сколько раз меня не слушали!» Выпустив пар, Геббельс позвонил в Генеральный штаб. Ничего утешительного! Он глянул на карту. Германская империя предстала перед его глазами в виде узкой длинной кишки, тянущейся от Норвегии до озера Комаккьо. «Мы потеряли всё — от центров военной промышленности до источников продовольствия. Это конец».
30
Такого количества радостных лиц старый московский Кремль, наверное, не видел за всю свою историю. Большой Кремлёвский дворец был переполнен ликующими людьми, основную массу которых составляли военные, чьи парадные кители были увешаны многочисленными орденами и медалями. И потому, что вся масса приглашённых не стояла на месте, а непрестанно находилась в движении, ожидая приглашения в Георгиевский зал, всё время слышался малиновый перезвон. Многие из тех, кто находился сейчас в Кремле, прошли два дня назад торжественным маршем на параде Победы по брусчатке Красной площади, прошли под проливным дождём, который, казалось, был плачем народа по тем, кто не вернулся с полей сражений. Они видели, как скакал манежным галопом на белом коне Георгий Константинович Жуков, принимавший рапорт командующего парадом Константина Константиновича Рокоссовского, как шли, печатая шаг, суровые, полные гордого достоинства колонны войск фронтов во главе со своими командующими, как мелькали штандарты «непобедимых» гитлеровских армий, швыряемые к подножию Мавзолея, и как реяло Знамя Победы, осенявшее величественный, теперь уже навеки «впечатавшийся» в историю Парад. В зале постоянно раздавались восторженные восклицания, то встречались однополчане, то кто-то на манер Василия Теркина рассказывал весёлую байку, вызывавшую громкий смех, то кто-то пересказывал врезавшийся в память эпизод боя, когда только чудо спасло от неминуемой гибели. Многие торопливо записывали в блокноты адреса и телефоны фронтовых побратимов, с которыми не хотели терять связи в наступавшей, полной неизвестности мирной жизни. Объятия, поцелуи, крепкие рукопожатия и бесконечные то радостные, то печальные: «А помнишь? А этот? Как? Погиб? Где?..» На этом торжестве, схожем с фейерверком, особенно выделялись, вызывая восхищение, женщины-фронтовички. Почти все они вместо военной формы надели нарядные платья, вместо сапог — туфельки и потому были похожи сейчас на фей, выпорхнувших из сказок Андерсена. Это празднество отличалось от других, проходивших прежде в Кремле празднеств и тем, что люди не делились на группы по своим званиям, чинам или положению в обществе. Маршалы разговаривали с младшими офицерами, лейтенант со Звездой Героя запросто подходил к известному военачальнику и заводил с ним беседу. Это было истинное фронтовое братство, где все, независимо от служебного положения, были равны между собой. И снова звучало и звучало то восторженное, то грустное: «А помнишь? А этот? Как? Погиб? Где?..» Часто печаль ложилась на их лица — искренняя, глубокая, ненарочитая печаль, когда назывались имена однополчан, погибших в бою и не доживших до этого праздника. Фронтовики, не стесняясь, смахивали слёзы: даже их воля, закалённая в боях, не могла совладать сейчас с этими горькими, чистыми слезами... Родион Яковлевич Малиновский пришёл в Кремль вместе с женой Раисой Яковлевной, одетой в строгое, почти форменное, чёрное платье с орденом Красной Звезды. В этом платье она сидела и в ложе венской оперы, восхищённо слушая чарующую музыку. В Кремлёвском дворце Малиновскому было с кем здороваться и с кем общаться. Сколько вокруг фронтовых друзей — наверное, и года не хватит, чтобы с каждым переброситься хотя бы парой слов. Тут грянул оркестр. Приглашённые потянулись в Георгиевский зал, где шумно, после длительных «прикидок» разместились за праздничными столами. Верховного ещё не было, и все с напряжённым ожиданием всматривались в ту сторону, откуда он должен был прийти. И когда этот главный момент торжества настал и Сталин появился, громыхнули такие мощные аплодисменты, такие овации, что даже самый яростный гром с небес не смог бы их заглушить. Малиновский подумал, что даже явление Христа не вызвало бы такого неистовства и ликования в этом огромном зале. Сталин внешне как бы преобразился: стал выше, плечистее, величественнее, не так сильно, как раньше, сгибал левую руку. Только лицо заметно постарело, выглядело усталым, хотя и было всё таким же безмятежно-спокойным. Вождь был сосредоточен и временами даже суров. «Постарел, — подумал Малиновский, — да и как не постареть. Он не был на фронте, но тяжкий груз ответственности за всю страну лежал на его плечах». Застолье пошло по обычному сценарию, принятому для подобных торжеств: Сталин произнёс первый тост в честь Победы, затем начались тосты в честь командующих фронтами. Речи были очень похожи друг на друга, как близнецы, но Родион Яковлевич внимательно слушал. Но всё равно, о чём-то задумавшись, он едва не пропустил тост, который Сталин начал произносить в его честь. Раиса Яковлевна крепко сжала своей горячей ладошкой его руку, шепнув: — Это о тебе... Малиновский слушал, внимая каждому слову, и, как ни стремился, не мог пригасить в душе чувство гордости и счастья, возникшее сейчас именно из-за этих немногих слов, которые произносил Верховный Главнокомандующий. Потом пошли тосты присутствующих. Главным образом они произносились в честь великого вождя всех народов товарища Сталина, в честь Коммунистической партии — организатора и вдохновителя побед... Несмотря на то что тостов было много, Малиновскому казалось, что время за праздничным столом летит стремительно. Внезапно до него донёсся какой-то непривычный голос Сталина. Непривычный потому, что в этом голосе сейчас было столько тепла и искренности, что даже те, кого винные пары уже успели настроить на игривый лад, притихли, вслушиваясь в отрывистые негромкие слова вождя: — Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний, тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа. Шквал аплодисментов заглушил последние слова Сталина. Могучее «ура!», подобное тому, какое гремело в рядах бойцов, идущих в решительную атаку, едва не взорвало зал. Неистовство, казалось, никогда не прекратится, но Сталин поднял руку, призывая к вниманию. — Да, я пью, — продолжал он спокойно, говоря самые простые, обыденные слова, которые тем не менее приобретали в ушах слушавших его чрезвычайно важное значение, — прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Потому, что русский народ заслужил в этой войне общее признание как руководящая сила Советского Союза, всех народов нашей страны... Сталин приостановился, словно хотел убедиться, насколько внимательно слушают его присутствующие и правильно ли понимают глубинный смысл слов. Он отдавал себе отчёт в том, что в зале сидят не только русские, хотя их и было большинство. Сидят украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, узбеки, таджики, туркмены, киргизы, татары, евреи, осетины, кабардинцы, эстонцы, латыши, литовцы, молдаване — сидят представители всех национальностей великой страны. Он хорошо знал, что содержание его тоста будет передано по радио, размножено в многомиллионных тиражах газет и журналов по всему миру и наверняка большинство оценят эти слова не однозначно. Он понимал, на какой риск идёт: ведь каждая нация, пусть даже самая крохотная, обладает сильнейшим, въевшимся в плоть и кровь национальным самосознанием (и, как правило, чем нация меньше по численности, тем в большей степени ей присущи национальные чувства), — слова, которыми он возвысил русских над всеми другими нациями страны, могли быть восприняты как ущемление национального самолюбия. И всё же он, Сталин, пошёл на это, будучи твёрдо убеждённым, что произносит справедливые слова, отвечающие ходу минувшей войны и её победоносному результату. Он верил в то, что любой, самый закоренелый националист, если он способен отличать справедливость от несправедливости и трезво и беспристрастно оценивать исторические события, сумеет подняться над своими амбициями и признать высшую справедливость его, Сталина, слов. Поэтому он всё так же уверенно, будто говоря о самом простом и обыденном и не придавая своим словам оттенка торжественности, продолжил: — ...потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства, — говорил Сталин, — было немало ошибок. Были моменты отчаянного положения в тысяча девятьсот сорок первом — тысяча девятьсот сорок втором годах... Малиновский воспринял это напоминание как упрёк ему: сразу «вспыхнули» в памяти страшные слова приказа о знамёнах Южного фронта, покрывших себя позором, об оставленном Ростове. — ...когда наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода... «Не было другого выхода». Да теперь он говорит то, чего не было в приказе № 227, — думал Малиновский. — Впрочем, в го время о таких словах нельзя было и думать...» — Другой народ мог бы сказать своему правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите. Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ, — голос Сталина окреп, — верил в правильность политики своего правительства и шёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — фашизмом. Сталин перевёл дух и после небольшой паузы закончил: — Спасибо русскому народу за это доверие! За здоровье русского народа! Все, кто был в зале, в едином порыве встали со своих мест, и шквал аплодисментов снова напомнил Малиновскому грохот тысяч орудий во время артподготовки перед решающим наступлением. ...На другой день в гостинице «Москва», где разместился весь Военный совет 2-го Украинского фронта, Малиновский дважды перечитал речь Сталина в «Правде». Когда к нему зашли Захаров и Леонов, он первый завёл об этом разговор. — Кажется, впервые с семнадцатого года произнесена такая похвала русскому народу. — Однако могут найтись люди, которые расценят этот тост по-своему, — осторожно возразил Леонов. — Может быть, следовало сказать и о других нациях. — Но это уже был бы совсем другой тост, — заметил Малиновский. — Иосиф Виссарионович, по всему видно, хотел сделать акцент именно на русской нации. А какая логика! У тебя, Матвей Васильевич, — обратился он к Захарову, — даже в лучших приказах, что ты мне приносил на подпись, не было такой железной логики. — Упрёк принимаю, — добродушно откликнулся Захаров. — Но прошу учесть, что Верховный не приказ зачитывал, а тост произносил. — Одно мне непонятно, — вступила в разговор Раиса Яковлевна, — почему Иосиф Виссарионович сказал «поднять тост». Насколько я знаю, правильно говорить по-русски «произнести тост». Тост — это же застольное пожелание, здравица в честь кого-либо. Поднимают бокалы, а тосты произносят. — Ну, Раечка, это уже буквоедство, — засмеялся Малиновский. — Сразу видно, что ты книжный человек. — Почему книжный? — удивился Леонов. — А как же! — с гордостью ответил Родион Яковлевич. — Выпускница Ленинградского библиотечного института. В таких институтах языку учат лучше, чем ты своих связистов воевать учил. — Ну, тогда понятно. Тогда есть повод выпить за Раису Яковлевну. — Леонов обрадовался. — И не только за её фронтовые подвиги, а и за победы на фронте русского языка!.. К вечеру в номер Малиновских подтянулись и другие члены Военного совета, командармы, сослуживцы по фронту. Было тесновато, но весело. Воспоминаниям не было конца: «Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Не верилось, что всё пережитое и выстраданное уже постепенно становится историей. Помянули тех, кто пал на поле боя и не пришёл на великое торжество. Малиновский вспомнил о парламентёре Штеймеце. — Штеймец был моим настоящим другом. Очень я переживал его гибель. Если в бою погибает человек, это понятно. Но чтобы вот так... Ведь, по существу, это я послал его на верную смерть, хоть он и вызвался сам идти парламентёром. Говорил: «Сколько жизней сохраним, если они, гады, примут наш ультиматум!» Да разве можно было ожидать от этих мерзавцев чего-либо, кроме подлости и коварства? — Малиновский помолчал, спазмы сдавили горло. — Мы же с ним в Испании всё время локоть к локтю... Настоящий был человек... Грустные воспоминания перемежались смехом: война, она ведь и трагедия, и комедия! Леонов беспрестанно шутил с Раисой Яковлевной. Дружно хохоча, вспомнили знаменитое: впервые увидев Раису Яковлевну, вместо того, чтобы сказать: «здравствуйте!», он спросил: «Почему это я вас не знаю?» — А я возьми да и скажи: «А почему это вы меня должны знать?» — вспоминала Раиса Яковлевна. — А вы в ответ: «Потому что я всех женщин на нашем фронте знаю!» Вот тогда я и поняла, Алексей Иванович, какой вы великий сердцеед! — Вы возвышаете меня в моих глазах! — весело откликнулся Леонов. — Но что поделаешь, красота она и есть красота! — «Почему не знаю?» — повторила опять Раиса Яковлевна. — Вы тогда, Алексей Иванович, знаете, кого мне напомнили? Василия Ивановича Чапаева! — Чапаева? — Леонов удивился. — Разве Чапаев такой же бритоголовый был, как я? — Да не этим! Помните, ему комиссар говорит: «Александр Македонскйй был великий полководец, но зачем же табуретки ломать?» А он в ответ: «Македонский? Почему не знаю?» — Молодец, Раиса Яковлевна! Ловко себя с Александром Македонским сравнила! Остренький язычок, ничего не скажешь! — А как же! — горделиво рассмеялась Раиса Яковлевна. — Вы же сами своих подчинённых учите: лучший вид обороны — наступление!.. Наконец настал момент застолья, когда всем захотелось вспомнить свои любимые песни. Начал Малиновский:
Едва он закончил петь, как Захаров затянул «Славное море, священный Байкал!». А член Военного совета Тевченков, в свою очередь, лихо пропел:
Раиса Яковлевна внезапно насторожилась: что-то репертуар у всех больно дальневосточный! Сразу вспомнилось, что все дни накануне Родион Яковлевич возвращался в гостиницу не с репетиций парада, а из Генштаба. Возвращался погруженный в свои думы, на вопросы жены отвечал неохотно и часто невпопад. И сейчас Раиса Яковлевна поняла: — Значит, для нас с вами война не кончилась? И, взяв себя в руки, она запела песню, которую ещё в тридцать девятом году слышала с экрана кинотеатра:
31
Глядя на то, как Сталин основательно устраивается в своём кресле, Василевский понял, что разговор будет продолжительным. — На повестку дня встаёт вопрос о разгроме империалистической Японии, — начал не спеша Верховный. — Конечно, японские милитаристы сразу же поднимут визг, будто Советский Союз — агрессор, а Сталин — реваншист. Но мы не примем во внимание их явную клевету. Спрашивается, кто же на самом деле является агрессором — Советский Союз или Япония? Разве Советский Союз является членом Тройственного пакта, заключённого Германией, Италией и Японией? Разве неопровержимые факты не свидетельствуют о том, что членом Тройственного пакта является именно Япония? Разве японские правящие круги не планировали использовать этот Тройственный пакт для войны против Советского Союза? Поэтому участие Советского Союза в войне против Японии не может рассматриваться иначе, чем акт справедливого возмездия. Да, Япония не напала на Советский Союз. Но только лишь потому, что победа Советской Армии под Сталинградом отрезвила горячие головы японской военщины. И хотя Япония не предприняла прямого военного вмешательства и не напала на СССР, она была готова в любой выгодный для неё момент перейти границу и развивать наступление вглубь советской территории в Приморье, на амурском направлении и в Забайкалье. Кстати, какими силами располагала Япония, готовясь к своему разбойному нападению на СССР, товарищ Василевский? — По нашим данным, товарищ Сталин, только за июль-август тысяча девятьсот сорок второго года Япония больше чем вдвое, то есть до восьмисот пятидесяти тысяч человек, увеличила свою группировку войск в Маньчжурии и Корее и была готова действовать в любой момент. Этим самым Япония сковала наши войска на Дальнем Востоке, не давая возможности перебрасывать их на советско-германский фронт. Мы вынуждены были держать на востоке почти тридцать процентов своих вооружённых сил — из пяти тысяч наших танков едва ли не половину, примерно из такого же числа самолётов почти три тысячи. А ведь если бы не угроза вооружённого вторжения Японии, мы смогли бы применить всю эту огромную силу на западе — и уберегли бы сотни тысяч, а может, и миллионы человеческих жизней в результате более быстрого окончания войны с немцами. — Вот видите, — продолжил Сталин. — Сейчас мы должны выполнить свой союзнический долг. Вступление СССР в войну с Японией — это не реваншизм Сталина, а закономерное следствие коалиционного характера войны, в которой участвуют СССР, Англия и США. У Японии был шанс избежать войны с Советским Союзом. Вы знаете, что мы давали ей этот шанс Потсдамской декларацией. И если бы японское правительство согласилось принять условия этой декларации, то незачем было бы объявлять войну. Разумеется, японские правители начнут кричать о том, что Советский Союз нарушает пакт о нейтралитете. Пускай себе! У Японии была совершенно конкретная цель — вместе с Германией и Италией сокрушить Советский Союз или, по крайней мере, связать наши вооружённые силы на Дальнем Востоке и тем самым способствовать военным успехам немецко-фашистских войск. Это зафиксировано в официальных документах. — Сталин раскрыл лежавшую перед ним на столе папку. — Вот что доносил германский посол Отт из Токио Риббентропу: «Я имею удовольствие заявить, что Япония готовится ко всякого рода случайностям в отношении СССР для того, чтобы объединить свои силы с Германией...» Риббентроп в телеграмме японскому правительству от пятнадцатого мая тысяча девятьсот сорок второго года заявил, что поддерживает политику Японии в сковывании советских войск на Дальнем Востоке и что Россия должна держать войска в Восточной Сибири в ожидании русско-японского столкновения. — Товарищ Сталин, нам известно, что японские военные манёвры под кодовым названием «Кантокуэн» проходили после массовой мобилизации и, разумеется, не для самообороны, а для того, чтобы в любой удобный момент напасть на Советский Союз. Япония готовилась к прыжку, в этом нет никаких сомнений. — И Японии в своё время ничего бы не стоило разорвать пакт о нейтралитете, как пустую бумажку, — добавил Сталин. — Тем более, этой достойной ученице Гитлера было с кого брать пример. Лишь когда наша армия погнала гитлеровские войска, японцы поняли, что дело Гитлера проиграно и с нами связываться опасно. Таким образом, мы должны форсировать подготовку разгрома милитаристской Японии, — подводя итог, сказал Сталин. — Надо ускорить переброску войск на Дальний Восток и победоносно завершить Вторую мировую войну, поставить в ней последнюю точку. От этого зависит будущее устройство мира. Какое-то время Сталин сидел в задумчивости, как бы снова и снова взвешивая принятое решение, затем спросил: — Вы уже думали, товарищ Василевский, кто будет командовать фронтами в ходе войны с Японией? — Думал, товарищ Сталин. Основная тяжесть боевых действий ляжет на Забайкальский фронт. Ему придётся наносить удары по главной японской военной силе — Квантунской армии. Ещё летом тысяча девятьсот сорок первого года её мощь достигала очень внушительных размеров, недаром в Японии её именуют не иначе как непобедимой. Армия имеет сильное современное вооружение. Что же касается японских солдат, то им не откажешь в хорошей подготовке и храбрости. — Следовательно, на Забайкальский фронт необходимо поставить командующего, имеющего большой опыт боевых действий против немецко-фашистской армии. — Совершенно верно, товарищ Сталин. Поэтому я и хочу предложить на ваше утверждение маршала Родиона Яковлевича Малиновского. — Малиновского? — переспросил Сталин. — Вы в этом абсолютно уверены? Василевский едва сдержался, чтобы не улыбнуться: лукавит Верховный. Ведь уже сам не раз убеждался в полководческих способностях Малиновского! Даже если взвесить на весах поражения и победы, разве победы — да ещё какие! — не перетянут?! — Считаю, товарищ Сталин, что таких полководцев, как Малиновский, у нас раз-два и обчёлся. — Полководцев? — оттягивал своё решение Сталин. — Что-то в последнее время многие наши военачальники из кожи лезут вон, чтобы присвоить себе титул полководца. — Малиновский к их числу не относится, товарищ Сталин. Он действительно, как говорится, милостью Божьей полководец. Я его очень хорошо знаю. Скромнейший из скромных. Вот уж у кого «я» — действительно последняя буква алфавита. Сталин испытующе взглянул на Василевского: — Ну что ж, будем считать, ваше предложение принято. Но что-то вы, товарищ Василевский, в последнее время часто стали ссылаться на Господа Бога. Сказывается происхождение? Василевский не ожидал этого вопроса. — Так это я так, к слову, по русской традиции. А что касается происхождения, я ведь никогда не скрывал, что мой отец священник. — Ну и как поживает ваш отец? Не притесняют ли его местные власти? В порядке ли его здоровье? — Мне об этом ничего не известно, — не понимая, к чему клонит Верховный, признался Василевский. — Я уже давно не переписываюсь с ним и не имею никаких сведений. — А вот это, товарищ Василевский, характеризует вас уже не с хорошей стороны, — в голосе Сталина послышался упрёк. — Как можно забывать о своём престарелом отце? Только потому, что он священник? Или вам мешает война? Война войной, а отец есть отец. Думаю, что вам не следует забывать о своём сыновнем долге. Василевский смутился: Верховный прав! — Идеология идеологией, атеизм атеизмом, война войной, но отец — это человек, который дал тебе жизнь! — Я сознаю свою вину, товарищ Сталин. И постараюсь исправить ошибку. — Это не ошибка, товарищ Василевский. Вы не совсем точно оцениваете своё поведение. Это большой, очень большой грех. И не всегда даже искренним покаянием можно этот грех искупить. — Понимаю, товарищ Сталин. — Хорошо. Перейдём снова к вопросу о долге, но уже не перед родителями, а перед страной. В каком состоянии находится план войны с Японией? — Всё делается в соответствии с данными вами указаниями, товарищ Сталин. Первоначальные расчёты сосредоточения наших войск в Приамурье и Приморье были сделаны ещё осенью тысяча девятьсот сорок четвёртого года. Были сделаны прикидки по размерам необходимых материальных ресурсов. Нынешней весной шёл процесс обновления военной техники в войсках Дальнего Востока. — А конкретно? — Мы направили туда шестьсот семьдесят танков Т-34 и много другой боевой техники. Идёт переброска войск, имеющих большой опыт ведения боевых действий, причём в таких природных условиях, которые схожи с условиями на Дальнем Востоке. В Забайкалье уже переведена 39-я армия генерал-полковника Людникова, 53-я армия генерал-полковника Манагарова, 6-я гвардейская танковая армия генерал-полковника танковых войск Кравченко, а в Приморье — 5-я армия генерал-полковника Крылова. — Хорошо, — одобрил Сталин. — Удалось ли детально выяснить, какие японские силы будут нам противостоять? — Уточнены все разведданные. Квантунская армия генерала Отодзо Ямада по-прежнему представляет собой основу японских вооружённых сил в Маньчжурии и Корее и насчитывает свыше одного миллиона двухсот тысяч человек. Что же касается боевой техники, то она заметно уступает нашей. В состав Квантунской армии входят четыре фронта, — Василевский обратился к карте. — Это Восточно-Маньчжурский, развёрнутый вдоль границ нашего Приморья, Западно-Маньчжурский, предназначенный для действий на монголо-маньчжурском направлении, затем фронт в районе портов Кореи, являющийся резервом командующего Квантунской армией, и, наконец, фронт на Южном Сахалине и Курильских островах. С воздуха Маньчжурию прикрывает 2-я воздушная армия, а Корею — 5-я воздушная армия. Что касается всех вооружённых сил, то в них в настоящее время имеется свыше семи миллионов человек, более десяти тысяч самолётов и около пятисот боевых кораблей. — Внушительная сила, — прокомментировал Сталин. — Совершенно очевидно, что без нас союзники не в состоянии заставить Японию капитулировать. Они и сами признают, что без участия Советского Союза война с Японией продлится не менее полутора лет и потребует перебросить на Японские острова несколько миллионов человек. Не говоря уже о том, что всё это сопряжено с огромными потерями. Сталин отошёл от карты. — Государственный Комитет Обороны решил, что для стратегического руководства военными действиями на Дальневосточном театре, учитывая его большую удалённость от Ставки, огромную территорию, сложные природные условия, а также необходимость эффективного использования Тихоокеанского флота, создать Главное Командование советских войск на Дальнем Востоке. Это Главное Командование предлагается возглавить вам, товарищ Василевский. — Благодарю за доверие, товарищ Сталин. Я готов. — Учтите, что именно на вас в первую очередь возлагается ответственность за осуществление главной военно-стратегической цели дальневосточной кампании — полный разгром основной ударной силы японского милитаризма — Квантунской армии — и освобождение от японских захватчиков северо-восточных провинций Китая и Северной Кореи. — Понимаю, товарищ Сталин. — В таком случае ещё раз назовите расстановку наших сил в дальневосточной кампании. — Слушаюсь. Для выполнения поставленной вами задачи предусматривается развернуть три фронта. На западной границе Маньчжурии — Забайкальский фронт под командованием маршала Малиновского, 1-й Дальневосточный фронт под командованием маршала Мерецкова и 2-й Дальневосточный фронт под командованием генерала армии Пуркаера. К участию в кампании привлекаются также силы Тихоокеанского флота, которым командует адмирал Юмашев. В Монголию перебрасывается конно-механизированная группа генерал-полковника Плиева. — Хорошо. Более детальное обсуждение проблем Дальневосточной кампании мы продолжим на ближайшем заседании Государственного Комитета Обороны.
32
Прибыв в Генеральный штаб, Малиновский ознакомился с тем, как идёт переброска войск с запада на Дальний Восток. Цифры были впечатляющие. Только за май-июль 1945 года на Дальний Восток и в Забайкалье было отправлено сто тридцать шесть тысяч вагонов с личным составом, техникой и различными военными грузами. Получалось, что вместе с войсками, находившимися здесь прежде, общая группировка, нацеленная против Квантунской армии и других японских войск, составила более полутора миллионов человек, свыше двадцати шести тысяч орудий и миномётов, пять с половиной тысяч танков и самоходных артиллерийских установок и почти четыре тысячи самолётов. Подготовка к войне против Японии поражала своей масштабностью и сложностью. Войска пришлось перебрасывать с запада на восток на огромное расстояние в одиннадцать тысяч километров при невысокой пропускной способности железных дорог. При этом переброску таких огромных масс людей и техники требовалось осуществить в самые сжатые сроки, в обстановке строжайшей тайны и маскировки. В подготовку всей операции был вложен колоссальный труд. Вчитываясь в данные сводки, Родион Яковлевич не мог пройти мимо «моральной» стороны дела. За цифрами и выкладками он словно видел тех людей, которые, отвоевав четыре страшных и жестоких года и встретив победу не только как праздник, но, главное, как дарованную им за все их муки и страдания возможность продолжать жить, вдруг получили приказ снова идти в огненное пекло войны. И это в то время, когда уже почти вся страна жила в условиях мира. А как ждали этих людей во всех домах огромной страны! Ждали миллионы родных и близких, чтобы обнять их, расцеловать и только тогда поверить, что чудо свершилось: живы! Эшелоны с победителями прибывали и прибывали на Белорусский вокзал, но оказывалось много и таких эшелонов, которые обходными путями проходили мимо Москвы, вроде бы не заслужив встречи со столицей, и устремлялись дальше на восток. И тем, кто трясся в теплушках этих эшелонов, была уготована иная судьба — преодолеть тысячи и тысячи километров по родной земле, проехать мимо своих городов, деревень и сёл для того, чтобы снова вести в бой танки, стрелять из орудий, громить врага с воздуха, высаживаться на острова, идти в смертельную атаку. Но удивительно: уныния у тех, кому выпало продолжать войну, не было — радость победы так прочно вселилась в сердца, что даже предчувствие новых испытаний и вполне реальная вероятность навеки остаться лежать в чужой земле не могли затмить этой всепоглощающей радости, единственным желанием было поскорее разбить самураев, чтобы уже окончательно вернуться к гражданской жизни. Всем, кто перебазировался на Дальний Восток, запрещалось посылать письма с дороги, не было объявлено о конечном пункте маршрута, на станциях, мимо которых проходили или ненадолго задерживались эшелоны, вывешивались специальные «обманные» таблички «Все билеты проданы». Даже штабные офицеры не посвящались в детали этого «путешествия»: в Новосибирске им говорили, что эшелон идёт до Красноярска, в Красноярске сообщалось, что предстоит путь до Иркутска, и только в Хабаровске объявлялась станция назначения. Генералы были переодеты в штатское, им временно, в целях конспирации, присваивались воинские звания на несколько рангов ниже реального. Что же касается высшего командного состава, то он обзаводился вымышленными фамилиями. Малиновскому сообщили, что на всё время боевых действий он будет генерал-полковником Морозовым, а начальник его штаба генерал армии Захаров — генерал-полковником Золотовым. Не миновало переименование и маршала Василевского, который стал генерал-полковником Васильевым. Под командование Малиновского в Забайкалье перебрасывались: 39-я армия генерал-полковника И.И. Людникова, героя Сталинграда и штурма Кёнигсберга, 53-я армия генерал-полковника И.М. Манагарова, 6-я гвардейская танковая армия генерал-полковника танковых войск А.Г. Кравченко. Кроме того, в состав Забайкальского фронта вошли 17-я армия генерал-лейтенанта А.И. Данилова, 36-я армия генерал-лейтенанта А.А. Лупинского, героя штурма Берлина, конно-механизированная группа генерал-полковника И.А. Плиева и 12-я воздушная армия маршала авиации С.А. Худякова. В первых числах августа всё было готово для начала военных действий.
33
5 июля 1945 года самолёт маршала Василевского приземлился на аэродроме в Чите, где разместился штаб Забайкальского фронта. Его встретил командующий фронтом маршал Малиновский. Боевые друзья крепко обнялись. Родион Яковлевич не скрывал своей радости: военная судьба вновь соединила его со старым однополчанином. Василевский привёз с собой директиву Ставки. Этой директивой планировалось провести три операции. Хингано-Мукденская операция возлагалась на Забайкальский фронт Малиновского, при этом предусматривалась, что она будет проведена совместно с войсками Монгольской Народной Республики. Фронту Малиновского предстояло преодолеть Большой Хинганский хребет и главными силами нанести удар на Мукден. 1-й Дальневосточный фронт должен был провести Харбинско-Гиринскую операцию с нанесением главных ударов на Харбин и Гирин. 2-му Дальневосточному фронту досталась вспомогательная, Сунгарийская операция, в ходе которой предполагалось сковать Квантунскую армию ударом из Приамурья. Оба Дальневосточных фронта должны были тесно взаимодействовать с Тихоокеанским флотом. — От вашего фронта, Родион Яковлевич, — говорил Василевский, — Ставка требует стремительно вторгнуться в Центральную Маньчжурию и во взаимодействии с войсками Приморской группы и Дальневосточного фронта разгромить Квантунскую армию и овладеть районами Чифын, Мукден, Чанчунь, Чжаланьтунь. Разумеется, главный фактор — внезапность и использование подвижных соединений фронта. — Всё ясно, — отозвался Малиновский. — Хотя Хинган, конечно, не подарок. Тут у меня уже появились маловеры, пытаются доказать, что танкам через Хинган не пройти. Но Кравченко заверяет — прорвётся. И я ему верю. Мы с ним всё уже обмозговали и хотим пустить танковую армию в первом эшелоне фронта. — Рискованно, конечно, — заметил Василевский, обдумывая слова Малиновского. — Даже с учётом того, что будем преодолевать Хинган в его более узкой части, это примерно двести-триста километров. Восточные отроги хребта здесь длиннее и выше западных. И всё же на перевалах могут образоваться пробки... Маршалы подошли поближе к оперативной карте. — Зато как только танки вырвутся на Маньчжурскую равнину, до Чанчуня и Мукдена будет уже рукой подать. А падёт Мукден — и вся японская оборона затрещит по швам. — Это верно. — Сейчас танковая армия и две общевойсковые армии сосредоточены на Тамцак-Булакском выступе в Монголии, они поведут наступление на Солунь. Здесь монголо-маньчжурская граница подступает к Большому Хингану. И что особенно привлекает, так это отсутствие крупных рек. Да и перевалы более пологие. — Что и говорить, это кратчайший путь на Маньчжурскую равнину. — Василевский всё более склонялся к предложению Малиновского. — Верховный требует стремительных действий. А что, если мы, Родион Яковлевич, поставим задачу Кравченко преодолеть Большой Хинган не на десятый день операции, как это предусмотрено планом, а на пятый? Да и общевойсковые армии поторопим. Вот, скажем, 36-й прикажем овладеть укрепрайоном Хайлар не на двенадцатый день, а на десятый? — Риск, как говорится, благородное дело, — улыбнулся Малиновский. — Солдаты и офицеры воспримут это на «ура», уж больно хочется всем побыстрее поставить точку в этой войне. А 53-ю армию Манагарова поставим в затылок танковой армии и потребуем, чтобы она неотступно шла следом. Думаю, поразворотливее сможет действовать и правый фланг фронта — 17-я армия и конно-механизированная группа Плиева. Хотя им досталась распрекрасная пустыня Гоби. — Так и сделаем, — решил Василевский. — Вот только надо доложить Верховному. — Можно бы и не докладывать! — весело сказал Малиновский. — Вы же не о продлении сроков будете просить, а о сокращении. — И всё же. Пусть даст добро, а то ещё обидится, что обошли да не согласовали. Но Верховный на этот раз опередил Василевского. Позвонив ему и поинтересовавшись, как идёт подготовка к операции, Сталин спросил, нельзя ли ускорить её дней на десять. Василевский был удивлён: Сталин звонил не из Москвы, а из Потсдама, где проходила конференция трёх держав. Чем объяснить такую поспешность? Опять, видимо, в военные планы вторгаются политические соображения? И всё же мягко, но настойчиво он объяснил Сталину, что в таком случае сосредоточение войск и подвоз всего необходимого для операции может сорваться. Сталин, как ни странно, сразу же согласился со всеми доводами. Маршалы позже продолжили обсуждение предстоящих действий. — Ну что же, Родион Яковлевич, вам придётся повторить подвиг Александра Васильевича Суворова. Конечно, Альпы и Хинган имеют отличия, и не малые, а всё же как не вспомнить его Швейцарский поход... На помощь танкам при форсировании Хингана надо будет бросить группы сапёров, им придётся срезать грунт для уменьшения крена машин при подъёмах, расширять дороги, да мало ли что ещё! — Кравченко справится! — уверенно сказал Малиновский. — Он со своими ребятами хорошо Карпаты освоил! — Теперь проведём рекогносцировку, побываем на основных операционных направлениях вашего фронта. Придётся где вместе, а где и порознь — для ускорения проверки готовности войск. Разговор прервал Захаров. — Только что получено, можно сказать, сенсационное сообщение, — встревоженным голосом сказал он. — Американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Воцарилось тревожное молчание. Василевский и Малиновский срочно отправились в аппаратную связаться с Москвой. Ставка подтвердила сроки начала операции. — Сталин считает, что эти действия американцев не вызваны военной необходимостью и не повлияют на способность Японии к сопротивлению, — сообщил Василевский. — Это же неслыханное злодеяние, — громко вздохнул Малиновский. — Миллионы безвинных жертв. Маршалы ещё не знали, что через два дня вторую атомную бомбу американцы сбросят на Нагасаки. 9 августа в ноль-ноль часов 10 минут по местному времени войска Забайкальского фронта перешли границу. Его передовые отряды вместе с пограничниками атаковали многочисленные опорные пункты противника и его укреплённые районы. Перешли в наступление и два Дальневосточных фронта. 6-я гвардейская танковая армия Кравченко начала форсировать Большой Хинган. Это было незабываемое зрелище! Танкам ещё никогда не приходилось преодолевать столь грозную, почти неприступную преграду: местами хребет достигал высоты 800-1200 метров над уровнем моря, проходимость усложняли многочисленные отроги, склоны были покрыты густыми лесами. Отроги разделялись широкими равнинами, реками с болотистым дном. К тому же с началом наступления на Хинган обрушились ливни. Танкам пришлось тяжело: они с трудом взбирались на крутые подъёмы, преодолевали заболоченные ущелья, сыпучие пески и взбунтовавшиеся от проливных дождей реки. И всё же «орлы» Кравченко за семь часов преодолели 40 километров! Перевалив через хребет, танки пошли вниз — это было не менее опасным, чем подъём. Пришлось довольно часто удерживать танки и самоходные орудия тросами, чтобы они не попадали в ущелья. Но темп наступления не сбавлялся: в отдельные дни он превышал 100 километров! Самое главное: японцы и в страшном сне не могли себе представить, что непреодолимый для танков Большой Хинган (в этом они были твёрдо уверены) оказался для советских войск проходимым. Появление советских танков на Маньчжурской равнине вызвало у японцев настоящий шок. Малиновского же особенно заботила проблема с доставкой танковой армии горючего. В сложившихся условиях это было непросто. Недаром даже в самый разгар боёв Родион Яковлевич скрупулёзно помечал в своей полевой книжке, к примеру, следующее: «Отправлено Кравченко — самолётами — автобензина 35 тонн, дизельного топлива 32 тонны, масла 10 тонн; автотранспортом: автобензина 158 тонн, дизельного топлива 102 тонны, масла 107 тонн». Дальше шли записи о количестве отправленных армии боеприпасов и продовольствия... Что же касается конно-механизированной группы Иссы Александровича Плиева, то на её долю выпали не менее тяжкие испытания. Путь наступления пролегал через пустыню Гоби, или, как её называли китайцы, Шамо. Страшная безводная пустыня, которая при ветреной погоде вздымала в небеса тучи серо-жёлтой пыли. Жара — под пятьдесят градусов, а песок накалялся и до семидесяти! Немилосердно палило солнце, казалось, что стоишь у доменной печи. Каждый глоток воды был на вес золота. Машины по ступицу зарывались в песок, а песок простирался от горизонта до горизонта. Песчаные бури, казалось, выкалывают глаза. «Много лет там не ступала нога человека, так много, что караванный путь исчез под толщей песков. И какой полководец осмелится на погибель себе повести через страшные сыпучие пески армию?» Это писал военный министр Маньчжурии генерал Син Жи-Лян, пугая возможного противника. Но он не знал, что такие военачальники, как Малиновский и Плиев, были не из пугливых. Конно-механизированнаягруппа, преодолевая все трудности, упорно продвигалась вперёд, к Калганскому укреплённому району. Район этот сразу трудно было и разглядеть. Вначале впереди показались едва приметные пологие курганы, поросшие ковылём, груды камней, серые юрты... Курганы же на поверку оказались железобетонными дотами, а юрты — дзотами. К ним вели хитроумные подземные ходы, рядом располагались замаскированные склады, жильё. То, что бойцы Плиева вначале приняли за выжженные солнцем полосы лебеды, оказалось проволочными заграждениями, за которыми были устроены противотанковые заграждения, рвы, минные поля. Ко всему прочему — траншеи полного профиля с ходами сообщений. А для пущей неприступности Калганский укрепрайон своими флангами упирался в Великую Китайскую стену. Плиеву вспомнилось, что как-то раз, ещё до начала боевых действий, Малиновский рассказал ему весьма занятную историю. Николай II пригласил высокого сановника феодального Китая Ли Хун-Чжана, начавшего свою карьеру с подавления Тайпинского восстания, на свою коронацию. Сановник отправился в Москву с огромной пышной свитой и... гробом — на случай смерти в долгом пути. Ехали на верблюдах, основной караван состоял из многочисленных повозок — тырок, запряжённых быками. Оси у тырок были изготовлены из дерева, не смазывались, и потому над всей пустыней на много вёрст окрест стоял оглушающий скрип. Вспомнив этот рассказ, Плиев рассмеялся. Уж слишком забавная история! Да что там министр Син Жи-Лян! Ведь даже собственный начальник штаба, не воевавший на западе, а всё время прослуживший на Дальнем Востоке и постоянно хвастающийся тем, что отлично знает местный театр военных действий, не раз спрашивал: «Неужели вы и впрямь думаете, что по пустыне Гоби можно наступать со скоростью сто километров?» А получив в очередной раз положительный ответ, восклицал: «Пустыня Гоби — это же не Европа!» — Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! — спокойно реагировал Плиев. И ставил очередную задачу: — В основе нашего наступления — борьба за время и пространство. Не давать противнику опомниться, бить его по частям. Темп должен быть предельно высоким, иначе противник подготовится к контрударам, и в результате мы получим затяжные бои. Боевой порядок — ромб. Впереди ударная группировка, уступом вправо и влево — усиленные кавалерийские дивизии второго эшелона, сзади — резерв. Все передвижения — только ночью. Впрочем, последнюю фразу можно было бы и не произносить: днём — раскалённая пыль и раскалённый воздух, видимость — нулевая. Однако приказ приказом, а пустыня Гоби — это пустыня смерти. Именно это как раз и обозначает слово «Шамо»! Спасают монгольские лошадки — низкорослые, терпеливые, с сильными ногами и прочными копытами. Одна незадача: сено и овёс оказались для них в диковинку. Пришлось приучать. И коновязь они увидели впервые в жизни. По первости гневно отворачивались от овса, а как поголодали, начали хрумкать с превеликим удовольствием! Куда хуже складывалось положение с водой: большинство колодцев было отравлено. А требовалось этой самой воды аж несколько сот кубометров в сутки! Но разве есть в мире что-то такое, чего не сумел бы преодолеть и осилить русский солдат? И войска Плиева продолжали наступать. Вместе с монгольскими войсками. Малиновский заранее предупреждал Плиева: — Учтите, Исса Александрович, это будет впервые в истории нашей армии: слияние регулярных войск двух стран под единым командованием. Вашим заместителем по монгольским войскам назначен генерал Лхагвасурэн, а политическое руководство возложено на генерал-лейтенанта Цеденбала. Надо, чтобы все монгольские товарищи почувствовали в советских воинах искренних друзей. От вас лично многое будет зависеть в укреплении этой дружбы. Это придаст вам силу. Что верно, то верно: бои в огненном пекле спаяли советско-монгольскую дружбу... Уже к 14 августа передовые части Забайкальского фронта продвинулись на 400 километров и вышли в центральные районы Маньчжурии, стремительно приближаясь к её столице Чанчунь и к крупному промышленному центру Мукден. Войска 1-го Дальневосточного фронта, ведя наступление в труднодоступной горно-таёжной местности, прорвав сильно укреплённую оборону, напомнившую командующему фронтом генералу К.А. Мерецкову финскую «линию Маннергейма», продвинулись вглубь Маньчжурии до 150 километров и повели бои на подступах к городу Муданьцзяну. Войска 2-го Дальневосточного фронта генерала М.А. Пуркаева завязали бои на подступах к Цицикару и Цзямусам. В результате менее чем за неделю Квантунская армия оказалась расчленена на части. Подводя первые итоги наступления, Василевский особо отметил пограничников. — Пограничники оказали войскам Дальнего Востока поистине неоценимую помощь, — говорил он Малиновскому. — В первые же дни Маньчжурской операции они вместе с полевыми войсками атаковали и ликвидировали пограничные опорные пункты, бок о бок с регулярными частями преследовали противника, охраняли коммуникации, штабы, важные объекты и тыловые районы полевых войск. — Да, мне на днях доложили о действиях Джалинского пограничного отряда, — согласился Малиновский. — Командует отрядом очень толковый офицер Попов. Его отряд уже в первом бою уничтожил пятьдесят японцев, из них тринадцать офицеров, сто пятьдесят взял в плен. А позже джалинцы уничтожили полицейский пограничный отряд, два районных и одиннадцать малых пограничных отрядов, три погранпоста, девять отдельных войсковых групп и два парохода. Отряд полностью изгнал противника с территории в четыреста двадцать семь километров по фронту и до девяноста километров в глубину, занял двадцать четыре населённых пункта. И ко всему прочему, захватил большие трофеи: военную технику, оружие, боеприпасы, продовольственные и вещевые склады, четыре баржи с грузом. Короче говоря, славно потрудились ребята-пограничники. — И другие пограничные отряды тоже славно воюют, — добавил Василевский. — И командиры у пограничников прекрасные, достаточно назвать генералов Зырянова, Никифорова, Шишкарёва... Наступательная операция всех трёх фронтов развивалась чётко по плану. 17 августа главнокомандующий Квантунской армии генерал Ямада, осознав бесполезность сопротивления, отдал приказ начать переговоры с советским Главнокомандованием на Дальнем Востоке. К этому времени уже были высажены советские воздушные десанты в Мукдене, Чанчуне, Порт-Артуре, Дальнем, Харбине и Гирине, вслед за ними в Мукден, Чанчунь, Порт-Артур и Дальний ворвались передовые отряды и соединения 6-й гвардейской танковой армии генерала Кравченко. Маршал Василевский направил генералу Ямада радиограмму: «Штаб японской Квантунской армии обратился по радио к штабу Советских войск на Дальнем Востоке с предложением прекратить военные действия, причём ни слова не сказано о капитуляции японских вооружённых сил в Маньчжурии. В то же время японские войска перешли в контрнаступление на ряде участков советско-японского фронта. Предлагаю командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всём фронте, сложить оружие и сдаться в плен. Указанный выше срок даётся для того, чтобы штаб Квантунской армии мог довести приказ о прекращении сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск. Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия». Одновременно Василевский отдал приказ перейти к действиям специально сформированных, подвижных и хорошо оснащённых отрядов. Эти отряды создавались из танковых частей, стрелковых подразделений, посаженных на автомашины, и подразделений самоходной и истребительно-противотанковой артиллерии. Японские войска были буквально «парализованы» и целыми соединениями сдавались в плен. В советском плену оказалось 148 японских генералов, 594 тысячи офицеров и солдат. Вся кампания длилась 24 дня, а боевые действия — вдвое меньше. Военные действия советских вооружённых сил завершились блистательной победой. Японцев выбили с Южного Сахалина и Курильских островов. — Вот теперь действительно можно спеть «И на Тихом океане свой закончили поход»! — Малиновский был счастлив. Он вспомнил разговор, который произошёл у него с женой перед отправкой на Дальний Восток. Раиса Яковлевна очень переживала и сетовала: «Ну вот, вся страна уже живёт мирной жизнью. А мы опять на фронт. Доколе же эта проклятущая война будет нас преследовать?» Малиновский подумал и хитро прищурился: «А ты помнишь, был в России такой монах — протопоп Аввакум? Много вёрст исходил он по российским дорогам вместе со своей верной женой. Не выдержала та и спросила: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» И ответил Аввакум: «До самой могилы, Марковна». Вздохнула протопопиха и говорит: «Добро, Петрович, ино ещё побредём». Вот так и мы, Раечка. Думаешь, война кончится, нам, военным, легко будет? Только что пули перестанут свистеть да бомбы падать. А так ещё долго брести придётся». Раиса Яковлевна прижалась к мужу и прошептала: «Добро, Яковлевич, ино ещё побредём!» «А я другого и не ожидал от тебя услыхать», — улыбнулся тот.
 Часть II
ТРЕВОЖНЫЙ МИР
Часть II
ТРЕВОЖНЫЙ МИР
Нам, прошедшим дорогами боя По призывному зову трубы, Каждым утром окно голубое Как бесценный подарок судьбы.Владимир Кравченко
1
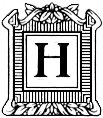 а октябрьском пленуме ЦК КПСС 1957 года Никита Сергеевич Хрущёв предусмотрительно поручил сделать доклад Михаилу Андреевичу Суслову — «долгожителю» высшего эшелона партии.
Это же каким уникальным гибким позвоночником надо обладать думал не раз Хрущёв, чтобы сохранить своё членство в Политбюро при всех вождях, которые столь разительно отличались друг от друга! Суслов прекрасно чувствовал себя и при Сталине, и при Хрущёве, а впоследствии и при Брежневе. Создавалось впечатление, что лучшего главного идеолога партии не было и быть не могло.
Высокий, сухощавый, как-то намеренно горбившийся, чтобы даже этим подчеркнуть свою лояльность и преданность любому вождю, Суслов бодро взошёл на трибуну и, прежде чем приникнуть к страницам заготовленного доклада, устремил свой напряжённый взгляд в зал, как бы желая настроить участников пленума на то, что сейчас из его уст прозвучит нечто исторически судьбоносное.
Зал притих. Собственно, почти все присутствующие знали, что доклад Суслова будет полностью посвящён разгромной критике маршала Жукова. Но всё равно, хотелось узнать, так сказать, из первых уст, в чём состоит главное обвинение, которое официально предъявят полководцу. Это желание проистекало не только, а может быть, и не столько из обычного любопытства, сколько из необходимости как можно точнее уловить суть обвинения, «учуять» направление удара, чтобы, если призовут к трибуне помимо заранее подготовленных ораторов, не обмишуриться и попасть туда, куда велел попасть лично Хрущёв.
Суслов наконец заговорил высоким, надтреснутым, порой визгливым голосом, изредка поднимая от листа с текстом узкое, аскетичное лицо.
— Товарищи! В наших Вооружённых Силах партия вскрыла серьёзные недостатки и извращения в партийно-политической работе. Эти недостатки и извращения, как. теперь установлено, порождены грубым нарушением партийных ленинских принципов в руководстве Министерства обороны и Советской Армии со стороны товарища Жукова.
Зал напрягся: ого, речь идёт не просто о недостатках (у кого их нет!), а об извращениях ленинских принципов! Это уже не шуточки, это приговор, который обжалованию не подлежит. Большинство сразу смекнуло, что песенка великого полководца спета. Война, в которой он одерживал победы, позади, стала уже историей, новая агрессия пока ещё просматривается лишь теоретически, и можно вполне обойтись без всяких там полководцев, которые возомнили себя спасителями Отечества и жаждут, чтобы на них молились. Всё ясно, правда, есть один нюанс: докладчик всё же назвал Жукова товарищем, следовательно, речь не идёт о высшей каре. Интересно узнать, какие же факты приведёт Суслов и насколько основательны они будут для выводов, которые в докладе, как, впрочем, было принято и в других подобных докладах партийных начальников, шли впереди фактов. Но вот и факты:
— Огульное избиение командных и политических кадров... Министр обороны действовал по принципу: снять, списать, уволить, выгнать, содрать лампасы, сорвать погоны... А как он окарикатурил политработников, игнорируя тот непреложный факт, что они — представители партии в армии! «Политработники привыкли за сорок лет болтать, потеряли всякий нюх, как старые коты», — процитировал Суслов Жукова.
Ничего себе, это же ведь и о многих из тех, кто сидит сейчас в этом зале, в том числе и в президиуме!
— О том, что Жуков потерял элементарное чувство скромности, — вдохновенно вещал Суслов, — говорит и такой факт. Министр поручил купить и в целях личной рекламы повесить в музей Советской Армии написанную художником картину, представляющую такой вид: общий фон — горящий Берлин и Бранденбургские ворота, на этом фоне вздыбленный конь топчет знамёна побеждённых государств, а на коне величественно восседает товарищ Жуков. Картина похожа на известную икону «Георгий Победоносец».
Гул возмущения, приправленный откровенными смешками, прокатился по залу. Смеялись и сидевшие в президиуме, словно запамятовав, что тысячи их собственных портретов носят на демонстрациях по всем городам и весям огромной страны, вывешивают в школах, учреждениях, на предприятиях — иными словами, где только можно.
Ну ладно картины, бог с ними, кто не поддастся соблазну быть прославленным, тем более, если это необходимо для повышения авторитета армии! А вот то, о чём далее поведал докладчик, уже ни в какие ворота не лезло, это пахло подготовкой государственного переворота:
— Товарищ Жуков игнорирует Центральный Комитет. Недавно Президиум ЦК узнал, что товарищ Жуков без ведома ЦК партии принял решение организовать школу диверсантов в две с лишним тысячи слушателей. Товарищ Жуков даже не счёл нужным информировать ЦК об этой школе. О её организации должны были знать только три человека: Жуков, Штеменко и генерал Мамсуров, который был назначен начальником этой школы. Но генерал Мамсуров как коммунист счёл своим долгом информировать ЦК об этом незаконном действии министра.
Вот это уже криминал. Дураку понятно, зачем понадобилась товарищу Жукову эта школа! Хрущёв, слушая этот тезис доклада, даже поёжился, хотя весь текст был ему заранее известен едва ли не до последней запятой. Он живо представил себе, как в его кремлёвский кабинет внезапно врываются три вооружённых слушателя этой самой диверсионной школы, лихо вышибают его из столь любимого и хорошо обжитого кресла и сковывают наручниками... А что ему стоит, этому Жукову? У него рука не дрогнет, до сих пор перед глазами тот момент, когда маршал арестовывал наркома Берию!..
Родион Малиновский с напряжённым вниманием слушал докладчика, но это не помогало проникать в глубинный смысл слов. Больше думалось о том, что сказать с трибуны самому: список выступающих, как обычно, определился заранее, всяческие экспромты исключались, в числе выступающих значился и он, Малиновский. Для Хрущёва это было чрезвычайно важно: это не он, Хрущёв, обвиняет Жукова, обвиняют сподвижники, многие из которых — побратимы по войне, а кое-кто и в числе его близких друзей. Недаром в преддверии пленума в разговоре с глазу на глаз Хрущёв откровенно сказал, что на его, Малиновского, выступление он особенно рассчитывает.
— Ты, Родион Яковлевич, становишься министром обороны. Что думаешь, мне не из кого было выбирать? Вон у нас их сколько — гениальных да великих, — только свистни! А остановил я свой выбор на тебе, потому что знаю тебя хорошо, верю в твою порядочность и надеюсь, что в отличие от этого «Георгия Победоносца» ты не придёшь вязать руки товарищу Хрущёву в знак величайшей «благодарности». Министр обороны — это сила! В его руках армия, а армию можно всегда повернуть куда хочешь, было бы желание и смелость.
Возможно, Хрущёв ждал, что Малиновский начнёт благодарить, клясться в преданности, но тот, как старый солдат, знающий себе цену, не привык шаркать ножкой перед власть предержащими, хотя и понимал, что целиком зависит от них. Однако высшим законом для маршала Малиновского всегда были и оставались присяга и честь.
— Слушай меня внимательно, Родион Яковлевич, — доверительно продолжал Хрущёв. — Открою тебе один секрет. Тут наш очень швыдкий товарищ, это ему по роду службы положено, записал Жуковские разговорчики. И в тех разговорчиках тебе, Родион Яковлевич, значительное место отведено. Он о твоей персоне такое сказал!
Хрущёв сделал длительную паузу для большего эффекта, глотнув из стакана минеральной воды.
— Так вот, Жук этот говорил, что он, видите ли, тебя не только как полководца, но и как личность не уважает! «Никто, мол, не заставит меня ему симпатизировать». Видал, какой фрукт! Он твои полководческие заслуги ни в грош не ставит! Ведь перед Ясско-Кишинёвской операцией он какое письмо Сталину отправил? Мол, уберите Малиновского с поста комфронта, а то он всю операцию провалит! И требовал назначить вместо тебя Ерёменко!
...И вот теперь Малиновский, сидя на пленуме, слушал выступления ораторов, которые один за другим выходили на трибуну и состязались между собой, кто покрепче и поядрёнее «припечатает» Жукова.
Вот поднялся маршал Бирюзов. Сергей Семёнович, по всему видно, избегая тяжких обвинений, старается сделать акцент на специфическом характере Жукова:
— С момента прихода товарища Жукова на пост министра обороны в министерстве создались невыносимые условия. У него был свой метод подавлять. Примеры? Пожалуйста. Министр зарубил подготовленный Генштабом проект наставления по проведению крупных операций. Он заявил, что это несерьёзно, что крупному военачальнику — а ими могут быть только единицы — не нужно никакого наставления, так как такой военачальник является гениальным. И всякие наставления ему только мешают, вырабатывая шаблон.
Бирюзова сменил маршал Соколовский, с которым Жуков прошёл вместе разные этапы войны.
— Я присоединяюсь к решению ЦК партии о снятии товарища Жукова с поста министра обороны. Это решение поддерживает вся армия.
«Ну, уж насчёт всей армии Василий Данилович немного перегнул, — подумал Малиновский. — Кто её спрашивал, армию?»
Соколовский между тем продолжал резко и непримиримо, будто отдавая приказ на наступление:
— Поддерживаю я и те предложения, которые вносились здесь, чтобы исключить Жукова из членов Президиума и членов Центрального Комитета. Иначе нельзя: Жуков прибрал армию к рукам, чтобы через неё воздействовать на руководство партии, чтобы оно всё делало по его, Жукова, хотению.
Малиновский время от времени поглядывал на Жукова, хотя видел его только в профиль. Маршал сидел сбоку и чуть поодаль. Лицо Жукова было серым, оно как бы окаменело. Невозможно было определить, волнуется или возмущается маршал, хотя то, что он сейчас выслушивал, могло бы взорвать самого спокойного человека, даже с железной волей. Малиновский лишь заметил, как дрогнул мускул на обрюзгшей щеке Жукова, когда с трибуны заговорил маршал Рокоссовский. Тот самый Константин Константинович Рокоссовский, у которого он, Жуков, в былые годы служил комполка, когда тот командовал дивизией.
— Товарищ Жуков проводил неправильную линию, — говорил с трибуны Рокоссовский. — И это несмотря на то, что ещё в тысяча девятьсот сорок шестом году, когда его сняли с поста главкома сухопутных войск и замминистра вооружённых сил и отправили в Одессу командовать округом, он признался в зазнайстве, тщеславии, честолюбии и дал слово, что исправит эти свои ошибки.
Потом говорили Конев, Ерёменко, Чуйков, Захаров... Ерёменко едва ли не после каждой фразы поворачивался к Хрущёву, пытаясь уловить его реакцию: доволен или нет?
Вслушиваясь в выступления ораторов, Малиновский понимал, что одни выступавшие клеймили Жукова потому, что так было велено, другие же — большинство, — потому, что считали снятие его с поста министра обороны обоснованным. Несмотря на свою похожесть, речи отличались друг от друга — по оттенкам, по подбору фактов, по форме. У одних форма была спокойная и доказательная, у других слишком эмоциональная и даже лозунговая. Всё это вытекало из различия характеров личностей выступавших. Но независимо от этого у каждого из них к Жукову был свой счёт. Был особый счёт к Жукову и у него, Малиновского. Считая, что у бывшего уже министра есть несомненные полководческие заслуги, что несомненна и его выдающаяся роль в минувшей войне, Родион Яковлевич не мог оправдать диктаторские замашки, стремление возвысить себя над другими военачальниками, вклад которых в дело победы тоже был велик и неоспорим. К Жукову-человеку у Малиновского не было дружеских чувств — слишком полярными являлись их характеры, чтобы дружить. Впрочем, должны ли дружить полководцы только потому, что у них одна профессия?
Наконец было объявлено, что слово имеет маршал Малиновский. Родион Яковлевич шёл к трибуне, полный решимости сказать о Жукове всё, что о нём думает, откровенно и резко. Назвать ли его Бонапартом? Малиновскому вспомнилось, как Жуков однажды сказал: «Вот обозвали меня Бонапартом. Какой я Бонапарт? У Бонапарта было Ватерлоо. А Жуков, между прочим, Берлин взял!» Непроизвольно подумалось: «Верно, Георгий. Ты и Берлин взял, и Москву отстоял. Хвала тебе и за это, и за многое другое. Народ это ценит. Но взял ли бы ты, Георгий, Берлин, если бы Рокоссовский не взял Кёнигсберг, Конев — Прагу? Да и про Будапешт забывать не стоит...»
а октябрьском пленуме ЦК КПСС 1957 года Никита Сергеевич Хрущёв предусмотрительно поручил сделать доклад Михаилу Андреевичу Суслову — «долгожителю» высшего эшелона партии.
Это же каким уникальным гибким позвоночником надо обладать думал не раз Хрущёв, чтобы сохранить своё членство в Политбюро при всех вождях, которые столь разительно отличались друг от друга! Суслов прекрасно чувствовал себя и при Сталине, и при Хрущёве, а впоследствии и при Брежневе. Создавалось впечатление, что лучшего главного идеолога партии не было и быть не могло.
Высокий, сухощавый, как-то намеренно горбившийся, чтобы даже этим подчеркнуть свою лояльность и преданность любому вождю, Суслов бодро взошёл на трибуну и, прежде чем приникнуть к страницам заготовленного доклада, устремил свой напряжённый взгляд в зал, как бы желая настроить участников пленума на то, что сейчас из его уст прозвучит нечто исторически судьбоносное.
Зал притих. Собственно, почти все присутствующие знали, что доклад Суслова будет полностью посвящён разгромной критике маршала Жукова. Но всё равно, хотелось узнать, так сказать, из первых уст, в чём состоит главное обвинение, которое официально предъявят полководцу. Это желание проистекало не только, а может быть, и не столько из обычного любопытства, сколько из необходимости как можно точнее уловить суть обвинения, «учуять» направление удара, чтобы, если призовут к трибуне помимо заранее подготовленных ораторов, не обмишуриться и попасть туда, куда велел попасть лично Хрущёв.
Суслов наконец заговорил высоким, надтреснутым, порой визгливым голосом, изредка поднимая от листа с текстом узкое, аскетичное лицо.
— Товарищи! В наших Вооружённых Силах партия вскрыла серьёзные недостатки и извращения в партийно-политической работе. Эти недостатки и извращения, как. теперь установлено, порождены грубым нарушением партийных ленинских принципов в руководстве Министерства обороны и Советской Армии со стороны товарища Жукова.
Зал напрягся: ого, речь идёт не просто о недостатках (у кого их нет!), а об извращениях ленинских принципов! Это уже не шуточки, это приговор, который обжалованию не подлежит. Большинство сразу смекнуло, что песенка великого полководца спета. Война, в которой он одерживал победы, позади, стала уже историей, новая агрессия пока ещё просматривается лишь теоретически, и можно вполне обойтись без всяких там полководцев, которые возомнили себя спасителями Отечества и жаждут, чтобы на них молились. Всё ясно, правда, есть один нюанс: докладчик всё же назвал Жукова товарищем, следовательно, речь не идёт о высшей каре. Интересно узнать, какие же факты приведёт Суслов и насколько основательны они будут для выводов, которые в докладе, как, впрочем, было принято и в других подобных докладах партийных начальников, шли впереди фактов. Но вот и факты:
— Огульное избиение командных и политических кадров... Министр обороны действовал по принципу: снять, списать, уволить, выгнать, содрать лампасы, сорвать погоны... А как он окарикатурил политработников, игнорируя тот непреложный факт, что они — представители партии в армии! «Политработники привыкли за сорок лет болтать, потеряли всякий нюх, как старые коты», — процитировал Суслов Жукова.
Ничего себе, это же ведь и о многих из тех, кто сидит сейчас в этом зале, в том числе и в президиуме!
— О том, что Жуков потерял элементарное чувство скромности, — вдохновенно вещал Суслов, — говорит и такой факт. Министр поручил купить и в целях личной рекламы повесить в музей Советской Армии написанную художником картину, представляющую такой вид: общий фон — горящий Берлин и Бранденбургские ворота, на этом фоне вздыбленный конь топчет знамёна побеждённых государств, а на коне величественно восседает товарищ Жуков. Картина похожа на известную икону «Георгий Победоносец».
Гул возмущения, приправленный откровенными смешками, прокатился по залу. Смеялись и сидевшие в президиуме, словно запамятовав, что тысячи их собственных портретов носят на демонстрациях по всем городам и весям огромной страны, вывешивают в школах, учреждениях, на предприятиях — иными словами, где только можно.
Ну ладно картины, бог с ними, кто не поддастся соблазну быть прославленным, тем более, если это необходимо для повышения авторитета армии! А вот то, о чём далее поведал докладчик, уже ни в какие ворота не лезло, это пахло подготовкой государственного переворота:
— Товарищ Жуков игнорирует Центральный Комитет. Недавно Президиум ЦК узнал, что товарищ Жуков без ведома ЦК партии принял решение организовать школу диверсантов в две с лишним тысячи слушателей. Товарищ Жуков даже не счёл нужным информировать ЦК об этой школе. О её организации должны были знать только три человека: Жуков, Штеменко и генерал Мамсуров, который был назначен начальником этой школы. Но генерал Мамсуров как коммунист счёл своим долгом информировать ЦК об этом незаконном действии министра.
Вот это уже криминал. Дураку понятно, зачем понадобилась товарищу Жукову эта школа! Хрущёв, слушая этот тезис доклада, даже поёжился, хотя весь текст был ему заранее известен едва ли не до последней запятой. Он живо представил себе, как в его кремлёвский кабинет внезапно врываются три вооружённых слушателя этой самой диверсионной школы, лихо вышибают его из столь любимого и хорошо обжитого кресла и сковывают наручниками... А что ему стоит, этому Жукову? У него рука не дрогнет, до сих пор перед глазами тот момент, когда маршал арестовывал наркома Берию!..
Родион Малиновский с напряжённым вниманием слушал докладчика, но это не помогало проникать в глубинный смысл слов. Больше думалось о том, что сказать с трибуны самому: список выступающих, как обычно, определился заранее, всяческие экспромты исключались, в числе выступающих значился и он, Малиновский. Для Хрущёва это было чрезвычайно важно: это не он, Хрущёв, обвиняет Жукова, обвиняют сподвижники, многие из которых — побратимы по войне, а кое-кто и в числе его близких друзей. Недаром в преддверии пленума в разговоре с глазу на глаз Хрущёв откровенно сказал, что на его, Малиновского, выступление он особенно рассчитывает.
— Ты, Родион Яковлевич, становишься министром обороны. Что думаешь, мне не из кого было выбирать? Вон у нас их сколько — гениальных да великих, — только свистни! А остановил я свой выбор на тебе, потому что знаю тебя хорошо, верю в твою порядочность и надеюсь, что в отличие от этого «Георгия Победоносца» ты не придёшь вязать руки товарищу Хрущёву в знак величайшей «благодарности». Министр обороны — это сила! В его руках армия, а армию можно всегда повернуть куда хочешь, было бы желание и смелость.
Возможно, Хрущёв ждал, что Малиновский начнёт благодарить, клясться в преданности, но тот, как старый солдат, знающий себе цену, не привык шаркать ножкой перед власть предержащими, хотя и понимал, что целиком зависит от них. Однако высшим законом для маршала Малиновского всегда были и оставались присяга и честь.
— Слушай меня внимательно, Родион Яковлевич, — доверительно продолжал Хрущёв. — Открою тебе один секрет. Тут наш очень швыдкий товарищ, это ему по роду службы положено, записал Жуковские разговорчики. И в тех разговорчиках тебе, Родион Яковлевич, значительное место отведено. Он о твоей персоне такое сказал!
Хрущёв сделал длительную паузу для большего эффекта, глотнув из стакана минеральной воды.
— Так вот, Жук этот говорил, что он, видите ли, тебя не только как полководца, но и как личность не уважает! «Никто, мол, не заставит меня ему симпатизировать». Видал, какой фрукт! Он твои полководческие заслуги ни в грош не ставит! Ведь перед Ясско-Кишинёвской операцией он какое письмо Сталину отправил? Мол, уберите Малиновского с поста комфронта, а то он всю операцию провалит! И требовал назначить вместо тебя Ерёменко!
...И вот теперь Малиновский, сидя на пленуме, слушал выступления ораторов, которые один за другим выходили на трибуну и состязались между собой, кто покрепче и поядрёнее «припечатает» Жукова.
Вот поднялся маршал Бирюзов. Сергей Семёнович, по всему видно, избегая тяжких обвинений, старается сделать акцент на специфическом характере Жукова:
— С момента прихода товарища Жукова на пост министра обороны в министерстве создались невыносимые условия. У него был свой метод подавлять. Примеры? Пожалуйста. Министр зарубил подготовленный Генштабом проект наставления по проведению крупных операций. Он заявил, что это несерьёзно, что крупному военачальнику — а ими могут быть только единицы — не нужно никакого наставления, так как такой военачальник является гениальным. И всякие наставления ему только мешают, вырабатывая шаблон.
Бирюзова сменил маршал Соколовский, с которым Жуков прошёл вместе разные этапы войны.
— Я присоединяюсь к решению ЦК партии о снятии товарища Жукова с поста министра обороны. Это решение поддерживает вся армия.
«Ну, уж насчёт всей армии Василий Данилович немного перегнул, — подумал Малиновский. — Кто её спрашивал, армию?»
Соколовский между тем продолжал резко и непримиримо, будто отдавая приказ на наступление:
— Поддерживаю я и те предложения, которые вносились здесь, чтобы исключить Жукова из членов Президиума и членов Центрального Комитета. Иначе нельзя: Жуков прибрал армию к рукам, чтобы через неё воздействовать на руководство партии, чтобы оно всё делало по его, Жукова, хотению.
Малиновский время от времени поглядывал на Жукова, хотя видел его только в профиль. Маршал сидел сбоку и чуть поодаль. Лицо Жукова было серым, оно как бы окаменело. Невозможно было определить, волнуется или возмущается маршал, хотя то, что он сейчас выслушивал, могло бы взорвать самого спокойного человека, даже с железной волей. Малиновский лишь заметил, как дрогнул мускул на обрюзгшей щеке Жукова, когда с трибуны заговорил маршал Рокоссовский. Тот самый Константин Константинович Рокоссовский, у которого он, Жуков, в былые годы служил комполка, когда тот командовал дивизией.
— Товарищ Жуков проводил неправильную линию, — говорил с трибуны Рокоссовский. — И это несмотря на то, что ещё в тысяча девятьсот сорок шестом году, когда его сняли с поста главкома сухопутных войск и замминистра вооружённых сил и отправили в Одессу командовать округом, он признался в зазнайстве, тщеславии, честолюбии и дал слово, что исправит эти свои ошибки.
Потом говорили Конев, Ерёменко, Чуйков, Захаров... Ерёменко едва ли не после каждой фразы поворачивался к Хрущёву, пытаясь уловить его реакцию: доволен или нет?
Вслушиваясь в выступления ораторов, Малиновский понимал, что одни выступавшие клеймили Жукова потому, что так было велено, другие же — большинство, — потому, что считали снятие его с поста министра обороны обоснованным. Несмотря на свою похожесть, речи отличались друг от друга — по оттенкам, по подбору фактов, по форме. У одних форма была спокойная и доказательная, у других слишком эмоциональная и даже лозунговая. Всё это вытекало из различия характеров личностей выступавших. Но независимо от этого у каждого из них к Жукову был свой счёт. Был особый счёт к Жукову и у него, Малиновского. Считая, что у бывшего уже министра есть несомненные полководческие заслуги, что несомненна и его выдающаяся роль в минувшей войне, Родион Яковлевич не мог оправдать диктаторские замашки, стремление возвысить себя над другими военачальниками, вклад которых в дело победы тоже был велик и неоспорим. К Жукову-человеку у Малиновского не было дружеских чувств — слишком полярными являлись их характеры, чтобы дружить. Впрочем, должны ли дружить полководцы только потому, что у них одна профессия?
Наконец было объявлено, что слово имеет маршал Малиновский. Родион Яковлевич шёл к трибуне, полный решимости сказать о Жукове всё, что о нём думает, откровенно и резко. Назвать ли его Бонапартом? Малиновскому вспомнилось, как Жуков однажды сказал: «Вот обозвали меня Бонапартом. Какой я Бонапарт? У Бонапарта было Ватерлоо. А Жуков, между прочим, Берлин взял!» Непроизвольно подумалось: «Верно, Георгий. Ты и Берлин взял, и Москву отстоял. Хвала тебе и за это, и за многое другое. Народ это ценит. Но взял ли бы ты, Георгий, Берлин, если бы Рокоссовский не взял Кёнигсберг, Конев — Прагу? Да и про Будапешт забывать не стоит...»
2
В холодный октябрьский день состоялось назначение Родиона Яковлевича Малиновского министром обороны СССР. Казалось бы, для любого человека, обладающего здоровым честолюбием, а тем более для любого военного человека такое назначение было бы желанной высотой, наивысшим счастьем, пределом мечтаний. Для любого, но... только не для Малиновского. Радости не было по многим причинам. Прошедший все ступени военной карьеры, он отлично понимал, какой громадный груз — военную машину страны — взваливают на его плечи и что отныне, так же как и на фронте, не будет ему ни минуты покоя. Беспокоило и другое: стороннему наблюдателю кажется, что министр, да ещё такой, как министр обороны, — это царь, бог и комиссар своих решений и действий. Такой сторонний наблюдатель, никогда в жизни не попадавший в высшие эшелоны власти, даже не мог подозревать, что министр обороны в условиях мирного времени будет всецело зависеть от политиков, стоящих у руля государства, и не сможет сделать сколько-нибудь серьёзного шага без их согласия, без их прямого, часто совершенно некомпетентного, а то и невежественного вмешательства в его работу. Народ же, далёкий от этих скрытых плотной завесой действий высшей политической власти, все промахи и ошибки военного строительства и состояния вооружённых сил будет неизбежно сваливать на министра обороны, выставляя ему негативные оценки. Не радовало новое назначение и ещё по одной, весьма серьёзной причине. Если бы Малиновский стал министром обороны, сменив на этом посту человека, ушедшего из жизни или же достигшего пенсионного возраста, это было бы естественно и понятно. Теперь же Родион Яковлевич занял кресло Георгия Константиновича Жукова, человека, чьё имя в стране воспринималось как имя народного героя, в мирное время ошельмованного и втоптанного в грязь. Получалось, что вроде как бы «съел» Жукова. Кроме того, Малиновский как полководец чувствовал себя на своём месте на фронте, в стихии войны. Там он, хотя и был зависим от Ставки Верховного Главнокомандования и особенно от Верховного, но всё же имел возможность действовать но своему разумению, принимать сложные и ответственные решения вполне самостоятельно. В условиях же мира это было почти невозможно. Поэтому не удивительно, что в день своего назначения маршал Малиновский был на редкость хмур, неразговорчив и сосредоточен. Вечером, приехав на дачу, Родион Яковлевич и в кругу семьи оставался молчаливым, не расположенным к душевным откровениям. Ужинать наотрез отказался. На предложение Раисы Яковлевны пойти прогуляться, как это делалось обычно, молча ответил кивком головы и вновь замкнулся в себе. Стояла сухая поздняя осень. Они ходили по дорожке, которая, несмотря на свет круглых матовых фонарей, лишь угадывалась под ногами. Ноги скользили по палой листве, было зябко и неуютно. Малиновский за всё время прогулки не проронил ни слова. Раиса Яковлевна видела, что произошло нечто необычное, разительно повлиявшее на душевное состояние мужа, и потому не приставала с расспросами. Стало темнеть, они поспешили к дому. В прихожей их встретил брат Раисы Яковлевны: — Родион Яковлевич! Сейчас по радио сказали, что вы теперь — министр обороны! Раиса Яковлевна заметила, как ещё более помрачнел муж, и жестом остановила возбуждённого брата. Она подождала, пока Родион Яковлевич не повесил пальто на вешалку, и тихо спросила: — Что ж ты не отказался? Малиновский посмотрел на жену с укоризной: — Поди откажись! Позже, через несколько дней, Родион Яковлевич скупо поделился с женой, как проходила партийная конференция в министерстве обороны, посвящённая октябрьскому пленуму ЦК. — Ты выступал? — спросила Раиса Яковлевна. — Конечно. Сказал то, что думал. Смещение с поста — это не петля на эшафоте и уж конечно же не повод к улюлюканью. И заслуг у полководца Жукова никто не отбирает...
3
Вступив в должность министра обороны, маршал Малиновский продолжал следовать своему главному жизненному правилу: если берёшься за какое-то дело, то делай его хорошо, с душой, профессионально, а не по-дилетантски. Он с головой ушёл в сложные, запутанные и порой, казалось, неразрешимые проблемы министерства и вооружённых сил страны. Диапазон его ответственности стал необычайно широк: теперь он отвечал не за корпус или армию и даже не за фронт, а за обороноспособность великой державы и её вооружённые силы — великое множество служащих в армии людей, владеющих оружием — от пистолета Макарова и автомата Калашникова до ракет стратегического назначения и атомных бомб. Эти вооружённые силы, разбросанные по всей территории необъятной страны, ежедневно и ежечасно порождали невероятное количество животрепещущих проблем, требующих незамедлительного решения. А это дело было порой не под силу не только министру, но и всему государству. Уже с первых дней работы на новой должности Малиновский окончательно убедился, что сейчас, в мирное время, ему придётся куда сложнее и труднее, чем на фронте. Свою зависимость прежде всего от Центрального Комитета партии, её Президиума, как стали именовать Политбюро, и, главное, от самого Хрущёва он стал ощущать постоянно. Любое действие, любое серьёзное решение надо было обязательно согласовывать наверху, иначе могли, того и гляди, навесить ярлык «волюнтариста», человека неуправляемого, который пытается игнорировать партию — «руководящую и направляющую силу советского общества», присваивает себе авторитарные функции. Сколько раз за свою министерскую жизнь Родион Яковлевич с острой тоской вспоминал о военных годах! Каким динамичным, начиненным взрывчатым стремлением к действию был его фронт! Как мгновенно реагировал фронт на его приказы, на тактические и стратегические решения, хотя и представлял собой громадную и, казалось бы, трудно управляемую махину! А здесь, в министерстве, даже слабая попытка осуществить ту или иную идею или решение превращалась в настоящую пытку, в испытание нервов и воли. Часто, когда Малиновский отправлял очередную записку в ЦК со своими предложениями по укреплению армии и обороны страны, ему приходила на ум одна и та же картина. Причерноморская одесская степь, по которой понуро бредут под палящим зноем упрямые, ленивые быки. Неистово печёт солнце, телега скрипит колёсами, которые, кажется, не смазывались ещё с прошлого века, клубы пыли застилают всё вокруг. Погонщик дремлет и сквозь сон изредка подгоняет быков: «Цоб-цобе!» И совершенно невозможно предсказать, когда же эта скрипучая телега доберётся до конца своего пути. Вот примерно такой же путь проделывали докладные записки: бумага, прежде, чем её положат Первому, обязана была побывать у всех членов Президиума. Чтобы черкнуть на этой бумаге своё «да» или «нет», тот или иной член, будучи нередко профаном в вопросах, изложенных в записке, дабы не опростоволоситься, принуждён был давать её на заключение своим многочисленным экспертам, советникам и помощникам, мнения которых оказывались нередко прямо противоположными или невразумительно туманными, В таких случаях хозяин кабинета ломал голову, чтобы решить, к чьему мнению прислушаться, а главное — попасть «в струю» с мнением Первого секретаря, но это мнение нужно было выведать. Иной раз к означенному сроку мнение так и не «вызревало», а тут наступал день, когда член отправлялся в очередную командировку по краям и весям, чтобы на очередном партактиве произнести очередную «историческую» речь или вручить краю, области, городу очередной орден «за выдающиеся заслуги в строительстве коммунизма». А то ещё проще: член убывал в очередной заслуженный отпуск, который он больше всего любил проводить в «Сочах» , ибо там оказывался поближе к любившему отдыхать в тех же «Сочах» Первому. И дело, которое требовало самого срочного разрешения, окончательно глохло и стопорилось. А сколько было самых замысловатых и изощрённых интриг, которые без устали и перерывов плелись на всех этажах власти. И, наконец, необходимо было как можно чаще выезжать в военные округа, в гарнизоны, и эти поездки были вовсе не туристическими: на министра обороны обрушивалась лавина проблем, просьб, вопросов, предложений, требовавших изучения, анализа и решения! Но самое грозное испытание обрушилось на Малиновского, когда «дорогой Никита Сергеевич» выплеснул на весь мир свою «знаменитую» идею о радикальном сокращении вооружённых сил страны. Хрущёв яростно доказывал, что отныне СССР уже никто не угрожает, никто нападать не собирается и, следовательно, огромной армии пора слезть с шеи государства. И началось! Пресса, захлёбываясь от восторга, то и дело сообщала, как сокращённый и уволенный из армии майор стал таким первоклассным свинопасом, что на его работу сбегаются смотреть все окрестные деревни; а полковник, едва не померший в армии от скуки и безделья, стал превосходным дояром, затмившим самых выдающихся женщин-доярок, которые теперь прямо-таки визжат от зависти. Особенно суетился журнал «Крокодил», из номера в номер публиковавший злые, полные яда карикатуры на военных пенсионеров. На одной из таких карикатур был изображён богатырь, легко и лихо связывающий в узел железнодорожную рельсу. Подпись под карикатурой гласила: «Вот такие дармоеды и сидят на шее у государства». Вскоре Первому секретарю взбрела в голову идея резать автогеном корабли военно-морского флота: по его твёрдому убеждению и разумению, эти корабли были просто-напросто мишенями на просторах морей и океанов. В ЦК всё больше набирали силу предложения ответственных чиновников о том, что пора, мол, прекратить платить военным за звания, так как сэкономленные на этом деле огромные средства можно будет тут же направить в народное хозяйство, чтобы быстрее догнать и перегнать Америку не только по мясу, молоку и маслу, но и по шерсти. Особенно энергично носилась с этим предложением Екатерина Фурцева, ставшая в один прекрасный день, к удивлению всего честного народа, членом Президиума ЦК КПСС. Сопротивляться было абсолютно бесполезно, ибо всякое сопротивление и даже лёгкая критика сразу же расценивались как отступление от генеральной линии партии. Малиновский, как человек, знающий истинное состояние армии, понимал, что содержать многомиллионные вооружённые силы в мирное время действительно неразумно. Надо было стремиться к тому, чтобы эти вооружённые силы пришли к той численности, которая была бы достаточна для обороны страны, став при этом на порядок выше по своему качеству, мобильности и боевой готовности. Но сокращать так бездумно и скоропалительно и в таких немыслимых размерах, как это затеял Хрущёв, означало нанести ущерб обороне страны в условиях «холодной войны» с Западом. И потому Малиновский доказывал, что в деле сокращения нужна не революция, а эволюция. Однако переубедить Хрущёва было абсолютно невозможно: чем более убедительные факты и доводы приводил в защиту своей позиции министр обороны, чем явственнее выглядела его правота, тем упорнее сопротивлялся Хрущёв. Он наливался гневом, кипятился, бросал в лицо собеседнику обидные слова, пытаясь опровергнуть его по принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядька»... Малиновский прекрасно понимал, что ничем не оправданная спешка не только вредит боеспособности вооружённых сил, но и уродует судьбы людей в погонах. Она приводила к оголтелому соревнованию чиновников в стремлении первыми доложить о проведённом радикальном сокращении: главными тут были не здравый смысл, а цифры и проценты. Часто, бывая в войсках, в том числе в отдалённых гарнизонах, Малиновский видел муки и страдания военных, прежде всего тех, кому оставалось совсем немного дослужить до пенсии. Нередко на местах с этим совершенно не считались, приказ о сокращении действовал неумолимо и беспощадно, обрекая людей на нищенскую, неустроенную жизнь: они оставались без пенсии и иных средств к существованию, без жилья и работы. Глухое роптание в армии слышалось всё отчётливее. Малиновский докладывал об этом Хрущёву, но тот тут же упрекал его в излишней мягкотелости и в стремлении популизмом завоевать себе дешёвый авторитет в армии, в попытках облагодетельствовать её за счёт трудового народа. — Никита Сергеевич, но разве ратный труд легче любого другого труда? — доказывал своё Малиновский. — Во многом он куда как тяжелее! Возьмите хотя бы такой пример. Приказали офицеру убыть в другой гарнизон, часто на другом конце страны — козыряй, говори «Есть!» и собирай чемоданы. На гражданке человек в такой ситуации может ко всем чертям послать, а то и подальше. А многие офицеры так всю жизнь и сидят на чемоданах, нет у них ни кола ни двора. — Военный, — он на то и военный, чтобы не хныкать и Не жаловаться на тяготы службы, — возмущался Хрущёв. — Так что поменьше слушай тех, кто там, в дальних гарнизонах, плачется в жилетку. Небось забыл свой Дальний Восток? Там же одной охотой и рыбалкой прожить можно! Да и климат не хуже, чем в Москве! Больно ты жалостливый стал, Родион Яковлевич. Стареешь, что ли? Если бы я на все жалобы да хныканье так реагировал, как ты, меня бы уже вперёд ногами вынесли. Ты вот лучше хорошенько обмозгуй свою речь на предстоящей сессии Верховного Совета. Я жду от тебя безусловного одобрения решений партии о сокращении вооружённых сил. Малиновскому ничего не оставалось, как умолкнуть, надеясь, что, возможно, Первый, обжёгшись на иных своих реформах, будет впредь слушать разумные доводы. Оставалось только давать постоянные указания в округа, чтобы там, перед тем как сокращать людей, пристальнее вникали в их просьбы и нужды, не подходя к делу формально. И если уж сокращать, то, по мере возможности, помочь и с жильём, и с устройством на работу, опираясь на помощь местных Советов и партийных органов. Хотя министр, конечно же, понимал, что на выполнение всех его указаний на местах частенько нет ни средств, ни возможностей. Малиновский часто думал о том, что однозначные волюнтаристские действия, которые приняли такой всеохватывающий размах, буквально опьяняют политиков разных уровней. В результате те совершенно не просчитывают, к каким последствиям такие действия приведут. А потому опасность чрезвычайно велика. В конечном итоге такие идеи и такие действия вызывают у разумных людей не только разочарование, но и порождают горькую мысль о том, что многие годы, которые можно было бы употребить на преобразования, ведущие к прогрессу, потрачены напрасно. Малиновскому иногда вспоминалась мысль Льва Толстого о том, что идеалы бывают высокие, а жизнь скверная, и, наоборот, жизнь высокая, а идеалы подлые; если жизнь дурна, то нельзя мыслить правильно, благодетельно, и учит нравственности только боль — это раскаяние в дурном деле. Порой Родиона Яковлевича так и подмывало пересказать эту мысль Хрущёву, но он тут же спохватывался: снова обзовёт проповедником и язвительно усмехнётся. Разве будет «великий стратег коммунизма» вдумываться в смысл высказываний «буржуазного писателя»? Часто ночью, после очередной нелёгкой беседы с Хрущёвым, Малиновский долго не мог успокоиться и уснуть. На ум приходили слова популярного поэта:
Родион Яковлевич понимал, что не то делается сейчас руководством страны с вооружёнными силами для создания мощной армии, умеющей решать задачи современной войны. Нужны новые, высокоэффективные вооружения, более настойчивое и плановое внедрение электроники, других достижений науки и техники. И особенно кибернетики. Но как ратовать за кибернетику, если она нашими просвещёнными политиками предана анафеме и объявлена лженаукой, обслуживающей разжиревшую буржуазию? Одного перевооружения мало. Как воздух необходима военная интеллигенция! Офицеры должны быть не только высокообразованными, они должны быть людьми, усвоившими культуру ума и сердца, гуманистическое мировоззрение. Ибо как можно доверить современное оружие, обладающее невиданной разрушительной силой, человеку, у которого лишь умелые руки? Прежде всего нужны умная, способная предвидеть последствия голова и способное чувствовать сердце — иными словами, нужен могучий нравственный инстинкт. Вот о чём нужно думать, вот в каком направлении следовало бы двигать военную реформу. Но для этого нужны великие умы и идеи, и великие организаторы. А где они? Впрочем, и на гражданке, и в армии они, конечно есть, надо только находить их и продвигать на решающие участки... Так что же оставалось делать министру обороны Малиновскому? Оставалось напряжённо работать в войсках в сложнейших условиях, делая всё возможное и невозможное, чтобы любимое его детище — родная советская армия — не погибла от действий «реформаторов», а постоянно укреплялась и совершенствовалась, а в случае, если стрелка политического барометра укажет на военную бурю, смогла бы, как и в Великую Отечественную, защитить и отстоять свою страну от иноземных захватчиков.
4
Однажды в кабинете министра обороны раздался телефонный звонок, которого Малиновский не только не ждал, но и представить себе не мог. Звонил небезызвестный Барахвостов! — Дорогой Родион Яковлевич! — елей так и сочился из телефонной трубки. — Поздравляю! От всего сердца, от всей души! Наконец-то восторжествовала справедливость — министром обороны стали вы, можно сказать, полководец из полководцев! Да что там говорить! Вы — не чета этому Бонапартишке Жукову! Барахвостов строчил как из пулемёта, боясь, видимо, что Малиновский, на дух не переносивший лести, прервёт восторженные излияния. С каждым его словом Родион Яковлевич чувствовал, как давняя и стойкая неприязнь к этому человеку, почти забытая, ожила и набирает силу. — Кому же ещё и быть министром обороны, как не вам, Родион Яковлевич, истинному полководцу нашего Отечества! Я безмерно рад, я просто счастлив, дорогой Родион Яковлевич! Клянусь, никто не рад сейчас за вас, как я. Да, это Барахвостов звонит, Барахвостов Леонид Дормидонтович. Может, запамятовали? — Нет, Леонид Дормидонтович, вовсе не запамятовал, — воспользовавшись тем, что Барахвостов замолчал, чтобы перевести дух, стараясь смягчить иронию, ответил Малиновский. — Если бы и хотел, так не смог бы запамятовать. Такие люди, как вы, Леонид Дормидонтович, не забываются. — Благодарю за добрые слова, Родион Яковлевич! Понимаю, разве можно это забыть, сколько мы с вами вместе пропахали на передовой, как мужественно боролись с агентурой немецко-фашистских захватчиков! Но всё это уже в прошлом, а сейчас хотите верьте, хотите нет, Родион Яковлевич, день вашего назначения — теперь мой ежегодный праздник, больше, чем день собственного рождения! Малиновский прервал дифирамбы: — Хочу внести в ваши речи некоторые коррективы. — Слушаю, товарищ маршал! Я весь внимание! — Так вот. Во-первых, не надо меня выделять из ряда военачальников. Каждый внёс свой вклад в победу. Свой, повторяю специально... — Но это же справедливо, соответствует вашим... — Своё мнение я по этому вопросу высказал, — твёрдо сказал Малиновский. — Не будем больше спорить. А во-вторых, я противник того, чтобы упавшего человека пинать ногами... — Это вы о Жукове? Так он же, мерзавец, хотел возвыситься над партией, да что там возвыситься, подмять её под себя! — едва ли не прокричал Барахвостов, опасаясь, что Малиновский не даст ему до конца выпалить эту тираду. — А как же быть с оценкой, которую вы давали Жукову в одной из центральных газет, товарищ Барахвостов? Я надеюсь, вы помните публикацию ко дню десятилетия Победы? В ней вы говорили, что имя Жукова стоит в одном ряду с именами Суворова и Кутузова. Барахвостов озадаченно умолк. Видимо, это напоминание оказалось для него чем-то вроде ушата холодной воды, внезапно вылитой на голову. — Дорогой Родион Яковлевич, — наконец опомнился он. — Я и тогда был искренен, уверяю вас! Но в то время мы же не знали о преступных замыслах несостоявшегося диктатора! Партия нам глаза открыла, лично дорогой Никита Сергеевич открыл! — Ваше разъяснение, товарищ Барахвостов, принимается к сведению, — едва не рассмеялся Малиновский. — Вы лучше скажите, как идёт ваша жизнь, как здоровье, где работаете. — Благодарю, товарищ маршал, за эти вопросы! Я всегда восхищался вашим отношением к людям, всегда ощущал вашу отеческую заботу и внимание. Да разве только я? Все ощущали! Здоровье моё — в соответствии с возрастом, или, как любит говорить один из моих друзей, пока хожу вертикально, на горизонтальное положение ещё, к счастью, не перешёл. А работаю в Комитетегосударственной безопасности, заместитель начальника одного из управлений, по телефону подробнее не могу. Буду счастлив обо всём доложить при личной встрече, если позволите. — Ну что же, рад за вас, — сухо произнёс Малиновский, тоном голоса давая понять, что такая встреча не входит в его намерения. — Желаю и впредь успешно продвигаться по служебной лестнице. — Благодарю за пожелание, — приободрился Барахвостов. — По секрету скажу, товарищ маршал, что тут у нас есть, вернее, как бы наклёвывается одна перспективка, почти в соответствии с вашим пожеланием. Вроде бы должна освободиться одна очень интересная должность. Но не уверен на сто процентов, что мне удастся... Вот если бы кто словечко замолвил... Вы же меня, товарищ маршал, по фронту знаете как облупленного, вместе, как говорится, через огонь, воду и медные трубы прошли... — Я в кадровые вопросы других ведомств стараюсь не вмешиваться. — Понимаю, ох, как понимаю, дорогой Родион Яковлевич, — сник Барахвостов. — Да не принимайте вы всерьёз мои слова! Это так просто вырвалось, наболело... может, когда-нибудь, в перспективе... Очень уж бывает обидно: другие-то растут, сопляки, карьеристы, я уж не говорю о фронтовом опыте... Малиновский, которому изрядно надоел этот разговор, сухо попрощался и положил трубку. А ведь так и подмывало обругать Барахвостова крепкими «русскими» словами! «Огонь, вода и медные трубы...» Родион Яковлевич усмехнулся и мысленно перенёсся в далёкие теперь уже годы. Он со своим фронтовым окружением встречал новый, тысяча девятьсот сорок пятый год, которому суждено было поставить победную точку в опостылевшей войне. Собрались, как обычно, в блиндаже на командном пункте фронта. Все были оживлены, в сердцах уже жила крепкая вера, что война идёт к завершению. Первым, естественно, произнёс тост командующий. — Предлагаю выпить за боевые успехи нашего фронта в наступающем сорок пятом году, — взволнованно произнёс Малиновский. — За наших солдат, офицеров и генералов, творцов будущей победы над немецко-фашистскими захватчиками! За здоровье, за новые победы богатырей земли русской! Затем произносились другие тосты, а когда дали слово Барахвостову, который вновь пожаловал на «полюбившийся» ему 2-й Украинский фронт, тот, ехидно ухмыляясь, сказал: — Я, конечно, прошу меня извинить, что вынужден внести некоторые коррективы в один из произнесённых передо мной тостов. — Голос его окреп, наливаясь уверенностью. — Хороший был тост, можно сказать, прекрасный, если бы не один очень существенный, с моей личной точки зрения, момент. Заключается он в том, что в эти самые минуты наш народ, сидя за праздничными новогодними столами, первые тосты в едином порыве произносит, точнее, провозглашает за творца всех наших побед, за великого вождя и учителя товарища Иосифа Виссарионовича Сталина! — Барахвостов торжествующе оглядел всех присутствующих. — Позвольте и мне, рядовому нашей ленинской партии, провозгласить этот тост за гениальнейшего полководца всех времён и народов, любимого и родного товарища Сталина! — Он сразу же сел, как бы подчёркивая, что больше уже и сказать нечего, и говорить незачем. В блиндаже воцарилась глухая, настороженная тишина. У всех было такое ощущение, будто они допустили непоправимый промах. Но нашёлся среди них один-единственный человек, который смело указал им на этот промах. Человек этот был не простой, он был человеком Берии, и все понимали, что об опаснейшем промахе неизбежно станет известно там, наверху, что может привести бог знает к каким последствиям. Многие поглядывали на командующего, пытаясь угадать его реакцию, но по лицу Родиона Яковлевича, невозмутимо спокойному, нельзя было ни о чём догадаться. Громкие аплодисменты, загремевшие в следующую минуту, сняли возникшее напряжение, и всё, казалось, снова вошло в праздничное русло. Но зарубка в памяти у присутствующих, конечно же, осталась... Очнувшись от этих мыслей, Малиновский сказал самому себе: «Вот нашёл о чём вспоминать, Родион! Лучше бы вспомнил о чём-то хорошем и светлом. Ну, легло ещё одно подмётное письмо в твоё досье там, на Лубянке, ну и что? Всё давно кануло в Лету, стало историей. Впрочем, точно кануло ли?» Внезапно резко зазвонил теперь уже правительственный телефон. С министром обороны захотел переговорить лично Никита Сергеевич Хрущёв... Уже дома, перед тем как уснуть, Малиновский неожиданно снова припомнил Барахвостова, даже физиономия встала перед глазами, будто смотрел сейчас на фотографию. Красавец мужчина, прямо-таки кинозвезда, чем-то смахивающий на артиста Евгения Самойлова, которого Родион Яковлевич очень любил, особенно по фильмам «Сердца четырёх» и «В шесть часов вечера после войны». Посмотришь на такого — ну просто эталон мужской порядочности и человеческой чистоты, хоть картину с него пиши. А заглянешь в душу — испугаешься... В связи с Барахвостовым в памяти всплыла Катя Ставицкая. Где-то она сейчас, жива ли? Малиновский знал, что Раиса Яковлевна пыталась её разыскать, посылала запросы в Нальчик — всё оказалось безрезультатным. А сама Катя не давала о себе знать...
5
Как-то к министру обороны попросился на приём начальник пограничных войск СССР генерал-полковник Зырянов. Пограничные войска не входили в подчинение Малиновского, они были составной частью структур Комитета государственной безопасности. Но общие вопросы всегда возникали, особенно когда это касалось проблем взаимодействия в приграничных районах. Пограничников Родион Яковлевич хорошо знал ещё с войны: он всегда был убеждён, что там, где участок фронта занимают пограничники, можно быть спокойным: костьми лягут, но выполнят приказ. Хорошо знал Малиновский и многих пограничных военачальников. В своё время, когда воевал и служил на Дальнем Востоке, он подружился с генерал-лейтенантом Николаем Павловичем Стахановым, бывшим в то время начальником Главного управления пограничных войск, а также с начальником войск Тихоокеанского пограничного округа генерал-лейтенантом Павлом Ивановичем Зыряновым. Вместе бывали на пограничных заставах Сахалина, Курильских островов, Камчатки и Чукотки. И когда Малиновскому позвонил Зырянов, тот охотно выделил в своём рабочем графике время, чтобы, надолго не откладывая, встретиться с ним. Когда Павел Иванович вошёл в кабинет, невысокий, подвижный, крепко скроенный, сияющий открытой, приветливой улыбкой, Родион Яковлевич весело поспешил ему навстречу. Старые сослуживцы обнялись и уселись друг против друга. — Ну, как поживает наша граница? — Малиновский пытался по выражению лица Зырянова понять его настроение. — Что нового на вашем фронте, Павел Иванович? — Граница на замке, а ключ у дежурного по заставе! — шутливо отрапортовал тот. — Прекрасно! Так и должно быть. Читал я, Павел Иванович, вашу статью в «Правде». Правильно ставите вопрос: на Государственной границе должен быть государственный порядок. — Иначе себе и не мыслю, — подтвердил Зырянов. — Родион Яковлевич, я попросился к вам, чтобы обсудить весьма щекотливую тему. Убеждён, что она накрепко связана с этим самым государственным порядком на границе. — Я весь внимание, Павел Иванович, — живо откликнулся Малиновский. — Граница — это сфера наших общих интересов. — Безусловно. Только происходят какие-то странные вещи, Родион Яковлевич, и я хочу поделиться с вами своими опасениями. Всю свою службу в пограничных войсках я видел необходимость постоянного и всемерного укрепления границы, и особенно её главного звена — погранзаставы. Мы постоянно стремимся укреплять её — кадрами, вооружением, снаряжением. Есть у нас и перспективный план дальнейшего повышения боеспособности застав, комендатур и отрядов. Но вот до меня доходят слухи, что на всей нашей западной границе — от Белого до Чёрного моря — предполагается погранвойска заменить добровольными народными дружинами. Мол, здесь мы сейчас граничим со странами народной демократии, а они наши братья по оружию, следовательно, можно пойти на такую реформу. — Впервые слышу о такой идее, — удивлённо признался Малиновский. — Кому это могло прийти в голову? Это же полная чушь! — Кому-то, видимо, пришла, — уклончиво ответил Зырянов. — Конечно, добровольные народные дружины и даже отряды ЮДП — юных друзей пограничников — нам во многом помогают, но возложить всю ответственность за охрану границы только на дружинников — это, мягко говоря, несерьёзно! — Зырянов разволновался: его полные щёки, и без того всегда красневшие лёгким румянцем, сейчас сделались пунцовыми. — Возможно, это всего лишь слухи? — попытался успокоить Малиновский. — Какие там слухи! — махнул рукой Зырянов. — Моя «разведка» доносит, что проект постановления вот-вот ляжет на стол самому... — Он выразительно ткнул указательным пальцем в потолок. — Ну а как на это смотрят ваши высшие руководители? — заинтересовался Малиновский. — Неужели поддерживают? Зырянов только молча развёл руками. Отвечать на этот вопрос ему не очень хотелось. Кабинеты министров тоже имеют уши, причём в первую очередь именно кабинеты министров! — Всё ясно, — улыбнулся Малиновский. — Я догадываюсь, с какой просьбой вы ко мне пожаловали. Но ведь мне вмешиваться в пограничные дела не с руки. — Прекрасно вас понимаю, Родион Яковлевич! — Зырянов обрадовался тому, что министр догадался о цели его прихода. — Но не с кем больше поделиться. Впрямую, конечно, поднимать вам этот вопрос не резон. Может быть, как-то при удобном случае выскажете своё мнение в защиту пограничников. — Постараюсь, Павел Иванович. Пограничники-то ведь у нас всегда в почёте... — Да чего он стоит, этот почёт? — горько вздохнул Зырянов. — Конечно, гремят литавры, бьют барабаны, прославляют в прессе, на радио, на телевидении, особенно, когда подходит День пограничника, — 28 мая. Что же касается материальной стороны — финансов, льгот, жизненных благ, квартир, то всё это в основном перепадает пиджакам. — Кому? — удивлённо переспросил Малиновский. — Пиджакам, — тихо, но отчётливо повторил Зырянов. — Тем, кто пребывает в управлениях нашего ведомства, — пояснил он. — Да вы и сами не раз бывали на заставах и в погранотрядах, видели, какой во многих местах убогий быт, как оторваны пограничники от культуры, от ценностей цивилизации. В лучшем случае на заставах есть библиотечки политической и художественной литературы, книги в которых меняют от случая к случаю. Что же касается радио и тем более телевидения, то в наш просвещённый век пограничники на многих заставах об этом и мечтать не могут. Порой они начисто оторваны от мира, — когда ещё дойдут газеты! Схимники какие-то. Почему так? Нужны радиорелейные линии, нужна современная техника. А средств на это, оказывается, у государства нет. Зато есть средства на стадион в Джакарте, потому что, видите ли, президент Сукарно теперь наш самый лучший друг, строит социализм. Да только ли это... — Будем надеяться, что в погранвойсках положение постепенно будет меняться к лучшему, — Малиновский тактично перевёл разговор на другую тему, не связанную с большой политикой. — А вы, Павел Иванович, думаете о перспективах дальнейшего строительства войск? Зырянов был благодарен за этот вопрос: реорганизация войск применительно к новым условиям была его коньком. — Систему охраны границы необходимо решительно перестраивать, — живо откликнулся он. — Сами посудите, Родион Яковлевич, насколько уязвимы оказались наши пограничные войска при нападении фашистской Германии. Заставы, в сущности, были безоружны против немцев. — Хорошо помню заставы на Пруте, — согласился Малиновский. — Но держались они стойко! До сих пор низко кланяюсь пограничникам. — А если бы они ещё были и хорошо вооружены, если бы каждая застава представляла собой мощную боевую единицу! Конечно, самостоятельно отразить натиск противника и в этом случае заставы не смогли бы, но было бы выиграно время для развёртывания главных сил армии. Зырянов немного помолчал, собираясь с мыслями. — Вот созревает у меня идея, — начал он, — изменить всю структуру войск, охраняющих границу, таким образом, чтобы сосредоточить основную боевую мощь в погранотряде. Сейчас что у нас получается? Офицеры и их семьи постоянно живут на заставах, как говорится, у чёрта на куличках. В результате офицеры и солдаты лишены возможности в полную меру заниматься боевой подготовкой, участвовать в военных учениях, осваивать новую технику и вооружение. А жёны офицеров? Они не имеют возможности работать, а их дети — учиться в школах. Детей приходится возить в школы за много километров от заставы или же отдавать в интернаты, сеть которых развита чрезвычайно слабо, а главное то, что офицер почти не совершенствуется в боевом отношении, теряет свои профессиональные качества и в случае военной угрозы не способен грамотно, в свете современных требований, вести бой и руководить подразделением в отражении нападения противника. — И какой же выход, на ваш взгляд? — Малиновского заинтересовала тема разговора. — Выход такой: надо создавать комплексы погранотрядов в более или менее крупных населённых пунктах, сосредоточив в этих комплексах личный состав и всё необходимое для его обучения и воспитания. — А как же заставы? — Службу на заставах следует организовать сменным порядком, ограничив пребывание офицеров и солдат непосредственно на границе конкретным календарным временем. Таким образом, часть личного состава отряда будет охранять границу, а часть проходить боевое обучение в отряде, как это происходит в армейских гарнизонах. А затем смена. Здесь же, в отряде, будут жить и семьи офицеров. — Идея, конечно, заманчивая, — кивнул Малиновский. — И преимущества очевидны. Но, мне кажется, есть минусы. Ведь заставы при такой организации окажутся как бы обезличенными. У них не будет постоянного хозяина, а временщики, сами знаете, любят уходить от ответственности. — Согласен. Но если установить за всем этим жёсткий контроль, думаю, что минусы будут сведены на нет. — Кроме того, Павел Иванович, придётся учитывать, что для строительства комплексов погранотрядов потребуются очень большие средства, — продолжал рассуждать Малиновский. — Сейчас, когда пытаются изыскать средства даже на сокращении армии, вряд ли правительство пойдёт на такие финансовые вложения. — Вы правы, Родион Яковлевич. Мои идеи — это, конечно, идеи на перспективу. Но хотелось обсудить их с вами, мысли мне прямо-таки спать не дают. Не осуществим мы такой реорганизации — в будущей войне, а она может разразиться в любое время, пограничники снова станут её первыми жертвами. Я знаю, что мои планы многие встречают в штыки, противников реорганизации немало и внизу, и наверху. Человек по природе своей консервативен, ему не хочется ничего менять, возникает страх нового. Хочется оставить всё так, как есть, это и проще, и легче, и спокойнее. Испокон веков таким порядком, как сейчас, службу на границе несли, чего ещё выдумывать? Но ведь особенности будущих войн таковы, что без коренных изменений нам не обойтись. — Что же, мечтать надо, Павел Иванович, — в словах Малиновского прозвучала доброжелательность. — Человеку нельзя без мечты. А идею вашу, хотя обстоятельства и принудят отложить её до лучших времён, надо продвигать. Но хорошо бы проверить её в начале экспериментально. Я думаю, что реализация вашей идеи значительно приблизит пограничные войска к общеармейской реорганизации. — Безусловно, Родион Яковлевич! При обязательном сохранении пограничной специфики. — А вы, Павел Иванович, пока что-то не затрагиваете одного вопроса — видимо, считаете его слишком щепетильным. — Какого вопроса? — Зырянов насторожился. — Так ведь уже не раз муссировались прожекты о передаче пограничных войск из ведения КГБ в Министерство обороны. — Я в курсе. А каково ваше отношение к этому, Родион Яковлевич? — А ваше? — вопросом на вопрос ответил Малиновский. — Считаю, что это нецелесообразно. — Почему? Вы ведь сами только что намекали, что там, где вы сейчас обитаете, вам не очень уютно. — Да я от своих слов и не отказываюсь. Только все эти переходы из одной епархии в другую, считаю, ни вашему, ни нашему ведомству не сулят ничего хорошего. — Тут вы, Павел Иванович, попали в самую точку. Диапазон функций и ответственности Министерства обороны очень велик — от пистолета до ракет стратегического назначения. Вряд ли нам было бы сподручно взваливать на свои плечи ещё и охрану Государственной границы. Так что не думайте, что Малиновский жаждет подчинить себе ещё и пограничные войска. — Что вы, Родион Яковлевич, я не думаю. Вообще наши горемычные пограничные войска за свою историю в каких только объятиях не побывали! До революции, при Витте[12], были под крышей Министерства финансов, потом, при Советской власти, — в ВЧК—ОГПУ—НКВД, сейчас вот в КГБ. Может, пора оставить их в покое? — Тут я решительно на вашей стороне. По моему разумению, самым правильным было бы сделать погранвойска самостоятельной единицей, напрямую замкнув на высшее руководство страны. — На это сейчас никто не пойдёт, — покачал головой Зырянов. — Сейчас — да, хотя в перспективе такая организация погранвойск вполне вероятна. Но это уже будут решать, наверное, без нас, — подводя черту под обсуждение, сказал Малиновский. — А вообще-то, Павел Иванович, давайте будем взаимодействовать как можно теснее, на всех уровнях — и на уровне министерств, и на уровне застав, отрядов и округов. Ведь так мы будем сильнее, боеспособнее, сможем более эффективно оказывать друг другу помощь. А точек соприкосновения у нас с вами миллион, общее дело делаем. — Я целиком разделяю вашу позицию, Родион Яковлевич. — Зырянов был доволен: он и сам хотел просить министра о более тесном взаимодействии, но тот опередил его. — Неплохо было бы эту нашу общую идею сверстать в перспективный план с конкретными мероприятиями. Взаимодействие в принципе и сейчас имеет место, но порой носит стихийный характер, часто импульсивный и нестабильный. А целенаправленные действия как раз и помогут создать необходимую стабильность. Я отдам необходимые распоряжения Генштабу. — Мы тоже подготовим свои предложения, — загорелся Зырянов. — Вот и отлично. Ну вот, деловые вопросы мы вроде бы обговорили. А вот о личной жизни позабыли, — улыбнулся Малиновский. — Действительно, — Зырянов смутился. — Вот так всегда. Как те лётчики поют: «Первым делом самолёты»... — А знаете, Павел Иванович, мне частенько вспоминается Дальний Восток, Приморье... — мечтательно проговорил министр — Как-никак, а десять лет жизни, считайте, там остались... Волшебный край, дух захватывает! — Я и сам к тем краям, что называется, прикипел, — настроение Малиновского передалось и Зырянову. — Помните, как мы с вами и на Сахалине, и на Курилах, и на Чукотке бывали? — Ещё бы! А на острове Ратманова, на погранзаставе! Они замолчали, переносясь мысленно в теперь уже далёкие времена... По календарю была весна, а остров ещё не спешил расставаться с зимой. Казалось, что едва начавший таять снег пахнет брусникой. Всех, кто впервые попадал на остров, сразу покоряла какая-то почти осязаемая сопричастность этого клочка земли всей Вселенной. Стояла первозданная тишина. Спокойствие нарушали лишь скрип снега под мерным шагом пограничного наряда да всплески птичьего гомона: птицы возвещали скорый приход весны... — Родион Яковлевич, а давайте сговоримся и встретимся где-нибудь на дальневосточной границе, тряхнём стариной. Хоть пару деньков проведём вместе, отведём душу. Я же помню, какой вы заядлый рыбак. — Да я готов хоть сейчас! Да только отпустят ли дела? — Малиновскому вдруг захотелось рассказать о своём «Дневнике рыболова», в котором было скрупулёзно записано, когда, где, в каком водоёме, на какую снасть и на какую наживку выловлена та или иная рыба. Записи эти были абсолютно честны даже в той графе, куда заносился вес пойманной рыбы. — А как вы относитесь к преферансу? — неожиданно спросил Зырянов. — Моё увлечение — шахматы. — Поняв, что собеседник любит картишки, Малиновский уклонился от прямого ответа: карты он считал игрой пустой, хотя, бывало, мог поучаствовать и в преферансе. — Шахматы? Честно говоря, в этой игре я не силён. Да она к тому же и не компанейская. — Я вас попробую научить. А до шумных компаний я не больно охоч. — Общие интересы, я уверен, мы найдём! — всё больше оживлялся Зырянов. — Лишь бы время выкроить. Но это в наших силах. К примеру, вы планируете служебную командировку на Дальний Восток, шепнёте мне, и я туда же спланирую. Всё просто. — Ну разумеется, всё гениальное просто! — в тон ему ответил Малиновский. — А на Дальний Восток выбраться меня очень тянет — всё-таки десять лет, прожитых там, много значат... — Он помолчал. — Да, Павел Иванович, надо бы нам почаще встречаться, насколько это возможно в нынешней бурной жизни. — Согласен, — радостно откликнулся Зырянов, поднимаясь. — Тогда желаю здравствовать, Родион Яковлевич!..
6
Весной 1962 года Никита Сергеевич Хрущёв отдыхал в Крыму. Неожиданно он вызвал к себе Малиновского. Министр обороны сразу понял, что Первый секретарь ЦК вызывает неспроста. Предположение сбылось. Едва Малиновский появился на даче Хрущёва, как тот увлёк его с собой на пляж и, вскинув руку по направлению к морю, спросил: — Как ты думаешь, Родион Яковлевич, что там за горизонтом? — Думаю, Турция. — Малиновский был удивлён столь странным вопросом. — Точно, Турция! — обрадовался Хрущёв. — А берег турецкий видишь? — Разумеется, нет. — Вот так же мне отвечали и иностранные дипломаты, когда отдыхали здесь по моему приглашению. А я им, голубчикам, говорил: вы не видите, потому что слепы, а я прекрасно вижу! И не только берег, но и смену караулов у американских установок! А ракеты-то эти куда нацелены? А нацелены они в сторону СССР! И вот эта самая дача, где мы так беззаботно отдыхаем, наверняка нанесена на американские стратегические карты! Ну, теперь догадываешься, Родион Яковлевич, зачем ты мне понадобился? — Догадываюсь, Никита Сергеевич. — Меня всё время гложет вопрос, — продолжал Хрущёв, — почему это задрипанному дядюшке Сэму дозволено всё, чего только его левая нога захочет? А нам, великой державе мира, нельзя! Или ты уже успел окружить Америку военными базами? — Нет, конечно. Это не моя прерогатива. На это нужна политическая воля высшей власти страны. — Вот-вот, — буркнул Хрущёв. — Все вы на словах храбрецы, а как доходит до дела, так сразу — под юбку высшей власти. Американцы же совсем обнаглели! Дошли уже до того, что разместили свои ракеты средней дальности в Западной Германии, в Италии, да вот ещё и в Турции, прямо у нас под боком. Напомни-ка мне, Родион Яковлевич, сколько у нас ядерных зарядов? — Сейчас триста. — А у американцев? — По последним данным — пять тысяч. — А по соседству с Америкой есть у нас хоть одна военная база? Малиновский подумал: прекрасно же сам знает, что нет, а спрашивает! И вместо ответа отрицательно качнул головой. — Так вот, пора, наконец, поломать эту дурацкую несправедливость! — взорвался Хрущёв. — Такое положение унизительно для нашей великой державы! — В своё время мы старались противодействовать попыткам стратегического противника использовать свои базы, чтобы вести разведку нашей территории с воздуха, — напомнил Малиновский. — Ты что же, хочешь сказать, что Сталин был смелее Хрущёва? И чему именно ты, будучи командующим Дальневосточным военным округом, противодействовал? — Да тут дело не во мне. Главное, что давали им крепко по мордасам. Прилетит их разведчик, а на следующий день в газетах: «Самолёт удалился в сторону моря и скрылся». И даже самому непонятливому было ясно, что разведчик сбит советскими истребителями. — Ладно, закончим с воспоминаниями, — прервал Хрущёв. — Сейчас речь пойдёт о Кубе. Надеюсь, ты помнишь, что в прошлом году кубинские контрреволюционеры высадились на Плайя-Хирон. Подготовили их, естественно, американцы, — кому же ещё вздумалось бы затеять такую авантюру — слопать Кубу и косточки не выплюнуть? Ну, Фидель дал им прикурить, до сих пор не очухались. И теперь Америка спать спокойно не может, норовит взять реванш. Но уже без паршивых наёмников, которые обдристались, а своими силами. В общем, завертелось колесо. Ты же в курсе, они установили полную экономическую блокаду Кубы, и знаешь, что американские ВВС днюют и ночуют в небе над Кубой, ведут разведку. Вблизи её берегов прошла серия военных учений. Задача — «свержение диктатора по имени Ортсак», читаем наоборот — получается Кастро. — Да, я в курсе, Никита Сергеевич. — Но сами американцы всё время твердят, что они не собираются нападать на Кубу. — Гитлер тоже уверял, что не собирается нападать на Советский Союз. — Вот именно. Куба — наш стратегический друг. Это же великое счастье, что под самым брюхом американского крокодила приютился остров Свободы, оплот социализма в Западном полушарии! Мы проводим верный курс на оказание помощи своему другу Фиделю. Но то, что мы пока сделали, — это ничтожно мало. Это не спасёт Кубу от американского вторжения: она будет проглочена с потрохами, если мы её не защитим. — Это уж точно. — Слушай меня внимательно, Родион Яковлевич, — Хрущёв даже понизил голос. — Родилась у меня в одну из бессонных ночек такая вот идейка. Прямо скажу, идейка смелая. Смелее не бывает. Но только она и сможет отрезвить Кеннеди. Может, догадаешься какая? — Попробую, — ответил Малиновский, чувствуя, к чему клонит Хрущёв. Но тот, видимо, боясь, что министр обороны опередит его и впоследствии, чем чёрт не шутит, ещё начнёт хвастаться, мол, именно он и навёл самого Хрущёва на эту мысль, поспешно выпалил: — Идея вот какая! Разместим мы на этом прекрасном островке свои ядерные ракеты! Хрущёв вонзил свои острые беспокойные глазки в Малиновского. Тот молчал. — Что ж ты молчишь, министр обороны? Ведь реализовать эту идею придётся именно тебе! Не отвертишься! — А как отнесётся сам Кастро к этой идее? — внешне спокойно спросил Малиновский, хотя в душе заволновался: ничего себе идейка, просчитал ли Первый, к каким последствиям может привести этот рискованный шаг? — Не будет ли Кастро против? Не отвернутся ли от него другие латиноамериканские страны? Они же могут расценить такую акцию, как оккупацию Кубы иностранной державой. — Ну, поехали! — Хрущёв, ожидавший немедленной и безоговорочной поддержки, возмутился. — Ты ещё, чего доброго, назовёшь мой план авантюрой. — Никита Сергеевич, я тоже сторонник того, что Кубу надо защищать, это наш интернациональный долг. И всё же необходимо основательно взвесить все «за» и «против». — Пока ты будешь, как аптекарь, всё взвешивать и перевешивать, больной отдаст Богу душу. От Кубы останутся только рожки да ножки. И тогда американцы совсем распоясаются. Мне совершенно ясно: для того чтобы спасти Кубу, надо действовать решительно и быстро. Надо нагнать на американцев страху, да такого, чтобы они с перепугу в штаны наложили! Они должны понять, что, нападая на Кубу, будут иметь дело с нами, с нашей военной мощью! Мы не ставим своей целью начинать ядерную войну, мы просто хотим связать руки агрессору и поставить его на место. Они нас своими базами обложили, а мы что? И говори прямо, без завихрений, поддерживаешь меня или нет? На днях мы поставим этот вопрос на Президиуме ЦК. Я должен знать твоё мнение сейчас. «Хрущёв уже всё решил. Президиум будет, конечно, на его стороне. Что же в таком случае будет значить моё мнение?» — подумал Малиновский. — Министр обороны не вправе возражать против политического решения, — сказал он вслух. — Так вот, будешь присутствовать на заседании Президиума и там всё скажешь. Я уже с кем надо переговорил. Один Громыко сомневается, да ведь он и не член Президиума, пусть остаётся со своим мнением в гордом одиночестве. Примем решение — по другому запоёт. Как это у Сергуни Михалкова в его басне: «Мненье — это не именье, потерять его не страшно». — Хрущёв раскатисто хохотнул. — А что касается мнения Фиделя, в этом ты прав. Молодец, что подсказал. Хотя уверен, что он одобрит. Мы решение примем, а тем временем направим к Фиделю делегацию во главе, скажем, с Рашидовым, это дипломат ещё тот, восточного типа. Ну и от тебя нужен представитель, хорошо знающий военную сторону вопроса. Кого предложишь? Сейчас назовёшь или треба пораскинуть мозгами? — Да лучше Бирюзова не найти, — чуть подумав, назвал кандидатуру Родион Яковлевич. — Принимается, — быстро согласился Хрущёв. — Ну и, естественно, включим в делегацию нашего посла на Кубе. — Алексеева? — Его. Человек он головастый. Потом пригласим Кастро в Москву, обговорим всё детально. Ну, Министерству обороны надо немедля приступить к разработке плана переброски ракет на Кубу. Малиновский молча внимательно слушал Хрущёва. — Что, задачка не простая? — нетерпеливо спросил тот. — Задача чрезвычайно сложная, — серьёзно ответил Родион Яковлевич. — Надо всё тщательно спланировать и предусмотреть. Ведь главное — доставить наши ракеты на Кубу в полнейшем секрете, иначе операция не достигнет цели. — А ты почаще вспоминай Иосифа. Как он говаривал: «Нет таких крепостей, которых не смогли бы взять большевики». Вот скажи-ка, сколько времени потребовалось бы нашим вооружённым силам, чтобы захватить остров, который находится, ну, примерно, в полутораста километрах от нашей границы? — Если защитники острова окажут очень сильное сопротивление — три-пять дней. Во всяком случае, не больше недели. — Ну вот! Ещё одно доказательство необходимости наших ракет на Кубе! Сам посуди: если США осуществят вторжение на остров Свободы, мы же отсюда не успеем помочь ей. Так что другого выхода просто в природе не существует. Кроме твоего министерства мы подключим к этой операции Совет министров и Министерство морского флота. Кстати, кого ты предложишь в качестве командующего группой войск на Кубе? — Думаю, что ракетчик здесь не подойдёт, американцы всё быстро раскусят, — задумался Малиновский. — Для более надёжной маскировки целесообразно назначить военачальника, который не имеет никакого отношения к ракетам и ядерному оружию. Круглое рыхлое лицо Хрущёва просияло довольной улыбкой: — Ну, Родион Яковлевич, молодчага, прямо-таки восхитил меня, старика! Надо же так ловко придумать! Верно, куда как верно! И мудро, вот что я тебе скажу! Он выудил из кармана широких брюк огромный носовой платок и вытер им взмокший лоб. — Кого конкретно предлагаешь? — Иссу Александровича Плиева, генерала армии, — уверенно ответил Малиновский. — Человек, надёжный во всех отношениях. — Плиева? — переспросил Хрущёв сперва с некоторым удивлением, но тут же весело расхохотался. — Здорово! Американцы подумают, что мы лошадок на Кубу завезём, раз кавалерийский генерал там появился! Мудрейшее решение! Ещё и этим подчеркнём, что не собираемся мы свои ракеты на Америку нацеливать. — Никита Сергеевич, но, предпринимая эту акцию нельзя не учитывать реакции Кеннеди! Все возможные варианты надобно просчитать. Тем более, что в нынешних условиях американские ракеты, размещённые в Турции, могут достигнуть жизненно важных центров нашей страны всего за десять минут, а нашим ракетам, чтобы достичь Американского континента, потребуется минимум двадцать пять минут. Такое развитие событий тоже нельзя сбрасывать со счетов. — Ты спрашиваешь, какая реакция будет у Кеннеди? Наивный вопрос! Крякнет, наверное, — знаешь, как крякают, когда стопку водки жареным поросёнком заедают? Не возликует же он от радости и не кинется тебе на шею, чтобы облобызать. В том-то и задачка, дорогой мой министр, что мы должны доставить наши ракеты и весь воинский контингент так, чтобы этот проныра Кеннеди и через десять лет их не обнаружил. Чтоб ни с воздуха, ни с моря, ни с суши, ни из-под земли ни одна ракета не засветилась! — Никита Сергеевич, при современных средствах обнаружения это в принципе невозможно. — Запомни, Родион Яковлевич, для советского человека ничего невозможного не существует. Малиновский понял, что дальнейший разговор будет бесполезной тратой времени. — Постараемся сделать всё, что в наших силах, — сухо произнёс он. На том разговор завершился. «Крайне рискованная операция, — эта мысль не выходила из головы министра обороны. — Рано или поздно ракеты обязательно будут обнаружены. И что тогда? Американцы с перепугу, чего доброго, могут нажать на ядерную кнопку. Конечно, с другой стороны, они возомнили себя властителями Вселенной, лезут на все континенты, диктуют всем государствам, как им жить, как себя вести, обнаглели до крайности. Может, и стоит показать этим зарвавшимся янки, что и на них есть управа, включить им холодный душ. Понятно, поднимется мировая истерия, ну да нам не привыкать! Пора России проявить себя как истинно великой державе, иначе об нас скоро начнут ноги вытирать». Вернувшись в Москву, Малиновский, перед тем как вызвать к себе руководящий состав, переключился уже на мысли о том, как в самые сжатые сроки подготовить и провести планируемую операцию. Главное, как обеспечить скрытность — по крайней мере до тех пор, пока советские ракеты не окажутся на Кубе.
7
В мае 1962 года в Генеральном штабе была завершена подготовка документа, начало которого выглядело так: «Председателю Совета обороны, товарищу Хрущёву Н.С. В соответствии с Вашими указаниями Министерство обороны предлагает: I. На о. Куба разместить Группу советских войск, состоящую из всех видов вооружённых сил, под единым руководством штаба группы во главе с Главнокомандующим советскими войсками на о. Куба». Разработкой документа занимались лучшие умы Генерального штаба. Основную тяжесть этой работы, не имевшей прецедента в истории военного искусства, начальник Генштаба Матвей Васильевич Захаров возложил на своего заместителя и секретаря Совета обороны генерал-полковника Семена Павловича Иванова. Иванов был закалённый в огне Великой Отечественной военачальник, наделённый талантом стратега. Что особенно важно, на всех фронтах, где ему довелось побывать, — а побывал он на очень многих: Западном, Брянском, Юго-Западном, Донском Воронежском, 1-м и 4-м Украинских, — он занимал должности начальника оперативных отделов штабов, а также начальника штабов. Поэтому при разработке оперативных планов, в том числе и планов размещения советских ракет на Кубе, Иванов пребывал в «родной стихии». Хотя, конечно же, операции на воине и операция, которую предстояло провести по инициативе Хрущёва в мирное время, были несравнимы — и по своим целям, и по методам исполнения. Правой рукой Иванова в подготовке операции был генерал-лейтенант Анатолий Иванович Грибков, начальник Оперативного управления Генерального штаба. Он тоже прошёл суровую школу войны, начиная с советско-финской, где, будучи ещё молодым лейтенантом, командовал танковым взводом, а в начале Великой Отечественной — танковой ротой. На фронте быстро обнаружилось, что этот боевой командир обладает ещё и необычайно развитым оперативным мышлением, способностью к глубокому анализу войсковых операций. Такого рода таланты в войсковой среде встречаются не так уж часто, и их всегда мечтает заполучить любой штаб крупного соединения. В результате Грибков стал представителем Генерального штаба в соединениях и штабах Калининского, Брянского, Воронежского, Южного и 4-го Украинского фронтов. Маршал Малиновский был одним из тех военачальников, которые высоко ценят труд оперативных работников штабов. И не случайно: труд этот был поистине каторжный, требовал разносторонних военных знаний, блестящей памяти, умения находить сложные решения при подготовке планов войсковых операций. Малиновский хорошо знал — и это было неоднократно проверено им на практике, — что в операции, завершившиеся успехом, вложен колоссальный труд не только войсковых частей, соединений и их командиров, но в первую очередь вроде бы неприметных оперативных работников, днями и ночами корпевших над оперативными картами, непрерывно получавших информацию с полей боевых действий и намечавших, исходя из замысла командующего, планы предстоящих сражений. Малиновскому был присущ особый, разработанный им лично метод взаимодействия с оперативными работниками штаба и во фронтовых условиях, и на учениях в мирное время. Никогда не прибегая к мелочной опеке операторов, он давал им полную самостоятельность. Выслушивая решения командующих соединениями и оценивая их правильность и целесообразность, он определял перспективы боевых действий на несколько суток вперёд. И, уже исходя из этого, операторы разрабатывали детальный план. Как-то во время приёма в Доме офицеров в городе Бюнсдорфе, где размещался штаб Группы советских войск в Германии (это было в 1963 году), после того как были произнесены тосты за генеральных секретарей коммунистических и рабочих партий, министров обороны, начальников Генеральных штабов, командующих фронтами, флотами, армиями, Родион Яковлевич произнёс тост, которого никто из военачальников ранее никогда не произносил: — Товарищи! Мы тут поднимали тосты за всех партийных и военных руководителей. Но посмотрите, какое большое и полезное учение мы с вами провели, а ведь его надо было подготовить, проделать всю черновую работу, изготовить массу методического материала. Я как бывший оператор знаю, что это такое. Мы с вами только руководили, а ведь всё делали наши труженики — офицеры и генералы-операторы. Я предлагаю выпить за операторов в лице сидящего здесь начальника Оперативного управления генерал-лейтенанта Грибкова и его плеяду. Малиновский так и выразился: «За Грибкова и его плеяду». Тост был встречен громкими аплодисментами. ...Между тем работа над планом размещения ракет на Кубе продолжалась ускоренными темпами. Отдельной «проблемой» стоял вопрос, как назвать предстоящую операцию. Назвать надо было так, чтобы само это название не только не выдавало истинного замысла операции, но, более того, способствовало как можно в большей степени дезинформации противной стороны. Вскоре название родилось: операция «Анадырь». Любому человеку, мало-мальски знакомому с географией, было известно, что, с одной стороны, Анадырь — это рабочий посёлок, центр Чукотского национального округа, расположенный на берегу Анадырского залива Берингова пролива, с другой стороны — река, в устье которой и расположен этот посёлок. Люди, более сведущие в географии, знали о том, что в 1648 году русский казак-землепроходец Семён Дежнёв достиг устья этой самой реки и год спустя заложил здесь Анадырский острог. Таким образом, никакому, даже самому изощрённому цэрэушнику не могло прийти в голову, что операция с названием «Анадырь» имеет хотя бы малейшее отношение к Кубе... В конце мая Хрущёв собрал заседание Президиума ЦК КПСС. — Сейчас нам товарищ Малиновский доложит план операции «Анадырь», имеющий целью оказание военной помощи Кубе, — почти торжественно, со значением произнёс Никита Сергеевич. Присутствующие напряглись, вслушиваясь в каждое слово министра обороны. — Для осуществления операции, — начал Родион Яковлевич, — создаётся Группа советских войск на Кубе. Задача состоит в том, чтобы во взаимодействии с кубинскими военными силами не допустить высадки противника на территорию острова ни с моря, ни с воздуха, превратив его в неприступную крепость. — Именно — в неприступную! — с жаром воскликнул Хрущёв, со значением воздев руку с указательным пальцем. — Именно в неприступную! — План предусматривает, — продолжил Малиновский, — максимальную готовность ракетных войск Группы в составе ракетной дивизии, в случае попытки США вторгнуться на Кубу, по сигналу из Москвы нанести удары по важнейшим объектам на территории агрессора. — Какие ракеты планируется установить? — Хрущёв сгорал от нетерпения: спокойный и последовательный доклад министра был слишком медленным для его ушей. — Планом намечается разместить три полка ракет средней дальности Р-12, что составляет 24 пусковые установки, и два полка ракет Р-14, что составляет 16 пусковых установок. В общей сложности, это 40 ракетных установок с дальностью действия ракет от двух до четырёх с половиной тысяч километров. — Не маловато ли? — всё более и более возбуждаясь, снова прервал Хрущёв. — Считаю, что этого количества вполне достаточно для выполнения поставленной задачи, — уверенно ответил Малиновский. — Ведь мощность каждой из этих боеголовок равнозначна мощности обеих атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки! К тому же ни одну из ракет на расстоянии в сто сорок километров, что отделяют Кубу от Америки, перехватить практически невозможно. Хрущёв, выслушав разъяснение, довольно потёр ладони. — Сухопутные войска Группы будут составлять четыре отдельных мотострелковых полка, — продолжал докладывать Малиновский. — Их главная задача — прикрыть ракетные и другие технические войска, а также управление Группы и, в случае необходимости, оказать помощь кубинской армии в уничтожении морских и воздушных десантов противника и контрреволюционных групп, если их высадят на территорию Кубы. Эти полки будут оборонять районы стартовых позиций ракет и районов их размещения и наносить удары по противнику на дальних подступах к этим районам. На наиболее вероятных направлениях высадки морских десантов противника будут расположены позиции дивизионов тактических ракет «Луна». Военно-воздушные силы Группы войск будут составлять два полка фронтовых крылатых ракет, эскадрилья самолётов ИЛ-28 и вертолётный полк. Они будут взаимодействовать с сухопутными войсками. Предусматривается также нанесение ударов по военно-морской базе США в Гуантанамо. — Ежели янки с этой базы сунут свой поганый нос на Кубу, надо дать им так прикурить, чтоб глотку перехлестнуло, знаете, как, бывало, махорочкой на фронте! — вставил слово Леонид Ильич Брежнев. — Важные задачи предстоит выполнить и частям военно-морского флота, которые будут состоять из эскадры надводных кораблей, эскадры подводных лодок, бригады РК и полка «Сопка». Эти силы вместе с военно-воздушными силами и сухопутными войсками во взаимодействии с кубинскими войсками должны будут уничтожать боевые корабли противника, его десантные средства и морские десанты. Флоту такжеставится задача охранять наши транспортные суда на коммуникациях, ведущих на Кубу, и блокировать минами военно-морскую базу Гуантанамо. Войска противовоздушной обороны — а это две дивизии — должны будут охранять воздушное пространство Республики Куба, не допуская в него иностранных самолётов-нарушителей. Более плотная группировка зенитно-ракетных войск планируется нами в западной и центральной частях острова, именно там, где будут дислоцироваться полки ракет средней дальности и основная масса других войск Группы. Малиновский продолжал неторопливо излагать содержание плана и комментировать его. Далее определялись задачи радиолокационного обеспечения боевых действий истребительной авиации и зенитно-ракетных войск, задачи тыловых частей, которые должны были иметь как минимум трёхмесячные запасы продовольствия и горючего. — Какова же будет общая численность войск? — поинтересовался Алексей Николаевич Косыгин, первый заместитель Председателя Совета министров СССР. — Общая численность войск составит пятьдесят одну тысячу человек. — Целая армада, — заметил Косыгин. — А вы прикинули, сколько судов потребуется для их переброски? — Для перевозки личного состава, вооружения и техники потребуется не менее семидесяти-восьмидесяти судов морского флота, причём им придётся сделать по два-три рейса. — Ну что же, я думаю, что план основательный, — с удовлетворением заявил Хрущёв, когда министр обороны завершил свой доклад. — Надо отдать должное товарищу Малиновскому и его министерству, поработали они хорошо. — Голосование на подобного рода заседаниях Никита Сергеевич всегда любил предварять высказыванием своего мнения. — Главное теперь — умело реализовать план, а то знаете, как это бывает — гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И разумеется, главное и в том, чтобы убедить товарища Кастро согласиться с нашим замыслом. Для этого направим туда, на Кубу, для переговоров товарищей Рашидова, Бирюзова и Иванова. Какие будут мнения? Выступили все члены Президиума. Выступили осторожно, каждый счёл нужным высказать какой-то свой совет, в которых практически не было необходимости, так как всё, о чём говорили, было уже предусмотрено в плане. В итоге все согласились с планом операции и одобрили решение. — Группе во главе с Рашидовым вылететь на Кубу в понедельник, самое позднее во вторник, — дал установку Хрущёв. — Какие это там у нас числа? — Двадцать восьмое — двадцать девятое мая, — подсказал кто-то. — А двадцать восьмого как раз День пограничника. — Вот и ознаменуем этот праздник началом операции большого, я бы сказал, огромного международного значения. — Никита Сергеевич оживился. — Да что там, берите выше — исторического значения! Уверен, что эта операция войдёт в историю, а значит, дорогие товарищи, и мы с вами в неё войдём!
8
Едва только операция «Анадырь», сойдя с помеченных грифом «Совершенно секретно» страниц, стала воплощаться в жизнь, как Малиновскому вновь вспомнились дни войны. Министр и его Генеральный штаб, как во времена уже давно отгремевших сражений, перешли на круглосуточный режим работы. Неожиданно произошёл как бы возврат к военной страде. И не только потому, что приходилось работать сутками на износ, главное было состояние души. Малиновский прекрасно сознавал, какое чудовищное бремя ответственности легло на него. В случае провала операции политики, конечно же, все ошибки и просчёты «спишут» на военных, легко доказав даже недоказуемое. Мол, военные исполнители не так поняли их гениальные замыслы, сделали не тот шаг, который обязательно надо было сделать, да и не в том направлении, которое определил их указующий перст. Кроме того, операция такого масштаба, конечно же, зависела не только от министра и Генерального штаба. Она напрямую зависела от действий командиров, вовлечённых в реализацию сложнейшего плана, требовавшего не только предельного напряжения сил, но и доведённой до высшего предела организации во всех его звеньях. Зависела она и от любого из десятков тысяч участников этой ещё невиданной в истории операции, не только военных, но и гражданских. Но более всего беспокоило то, что политические власти США, и в первую очередь президент Кеннеди, внезапно почуяв у своего виска дуло ядерного пистолета, испытают, несомненно, величайший шок. Их нервы могут не выдержать, и они, поддавшись панике, нажмут на ядерную кнопку. А шок произойдёт неизбежно, ибо преуспевающая, кичливая, заносчивая страна, две сотни лет не знавшая войн, впервые за всю историю ощутит вблизи своей территории грозную опасность, исходящую от стратегического противника. Именно этот непредсказуемый, но возможный результат затеянной политиками операции более всего угнетал Малиновского. На карту ставилась судьба не только СССР и США, но и других государств планеты, если не всех континентов. И конечно же, в историю этого безумного и губительного для обеих сторон обмена ядерными «подарками», если, не приведи Господь, такой произойдёт, будут вписаны не только имена авантюрных политиков, организаторов «конца света», но и тех, кто исполнял их замыслы. Эта мысль не раз приходила в голову министру обороны, но не она была самой болезненной: занозой сидела мысль о том, что могут погибнуть десятки, а то и сотни миллионов людей, а огромнейшие территории превратятся в горы радиоактивного пепла. Пройдут многие тысячелетия, пока произойдёт распад радиоактивных веществ, заразивших и погубивших Землю и всё живое на ней, прежде чем жизнь на планете начнёт возрождаться с нулевой отметки. Но что было делать? Конечно, можно было бы решительно отказаться выполнять авантюрный замысел и подать в отставку. А что от этого изменилось бы? На решение Хрущёва это не повлияет: план осуществит другой человек... Лето стояло жаркое, природа звала и манила к себе. Иной раз мелькала в голове шальная мысль: эх, искупаться бы сейчас в реке, порыбачить на водохранилище. Куда там! Родион Яковлевич отгонял от себя несерьёзные мыслишки. До этого ли сейчас?! За плотно зашторенными окнами буднично шумела Москва, даже не подозревавшая, какая грозная опасность уже подстерегает и столицу, и всю страну. Малиновский ежедневно заслушивал многочисленные доклады о ходе операции, держал постоянную связь с Кремлём и лично с Хрущёвым. Чаще всего докладывал маршалу генерал Анатолий Иванович Грибков, который непостижимым образом держал все нити и детали начавшейся операции в памяти. В этот день Малиновский поинтересовался, как идёт погрузка ракет и другого вооружения. — Товарищ Маршал Советского Союза, — Грибков был прирождённым военным и строго соблюдал требования военной этики, — погрузка осуществляется точно по плану. Министр морского флота товарищ Бакаев назначил нам в помощь своего крупного специалиста — заместителя начальника одного из Главных управлений Морфлота товарища Карамзина. — Знатная фамилия, — позволил себе улыбнуться министр. — Да и специалист он знатный, — заметил Грибков. — Помощь поистине неоценима. — Какова последовательность погрузки? — По графику первой намечено отправить ракетную дивизию, так как для приведения её в боевую готовность потребуется значительное время. — Правильно ли это? — после непродолжительного раздумья спросил Малиновский. — Ведь в таком случае в портах выгрузки и в районах стартовых позиций эта ракетная дивизия может стать мишенью как для авиации противника, так и для его диверсионных отрядов. Мы не можем рисковать ракетчиками. Более целесообразно перебросить на Кубу вначале зенитно-ракетные и мотострелковые части, а уж затем ракетные. — Но в таком случае мы теряем фактор времени, — возразил Грибков. — Это верно. Но тут из двух бед нам надо выбрать наименьшую. Иначе наши ракетные части окажутся совершенно беззащитными. — Понимаю, товарищ маршал. Незамедлительно внесём коррективы в план погрузки. — Я сегодня доложу товарищу Хрущёву и о его решении вам тотчас сообщу. Продолжайте доклад, Анатолий Иванович. — Карамзин ознакомил меня с планами судов тех классов, которые будут поданы нам для погрузки людей и техники с указанием габаритов. Морфлот будет подбирать соответствующие суда, — докладывал Грибков. — Собственно, эта работа уже идёт. Мы начали размещать на судах зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции. Все данные своевременно направляются в порты погрузки начальникам оперативных групп Генштаба, находящихся в этих портах. — Это хорошо. Только не забывайте строжайше следить, чтобы с оперативными группами в местах погрузки были совершенно исключены телефонные переговоры. — Слушаюсь, товарищ маршал. За этим следим неукоснительно. Если возникают какие-либо срочные вопросы по согласованию, на места выезжают наши офицеры и генералы. — Какие порты уже задействованы? — Это порты трёх морей — Балтийского, Чёрного и Баренцева. Конкретно: Кронштадт, Лиепая, Балтийск, Севастополь, Феодосия, Николаев, Поти, Мурманск. — Сколько времени уходит на погрузку одного морского транспорта? — Малиновского интересовали даже мельчайшие детали. — Для погрузки мы используем портальные и судовые краны. Один транспорт грузится двое-трое суток. Тяжёлую технику — танки, самоходные артиллерийские установки, спецмашины — грузят в нижние трюмы, а более лёгкую технику и автомашины — в твиндеки и на палубы. Твиндек — это междупалубное пространство... — Я знаю, Анатолий Иванович, — усмехнулся Малиновский. — Простите, — смутился Грибков: надо ли было давать такое пояснение министру, который ещё в молодости совершил почти кругосветное плавание из Владивостока в Марсель в составе Русского экспедиционного корпуса! — Я прошу вашего разрешения, товарищ маршал, выехать в один из портов, чтобы лично проверить, как идёт погрузка. — Какой порт вы наметили? — Хотел бы побывать в Феодосии, там идёт погрузка дивизии ПВО. Возможно, там будет полезна моя помощь. — Хорошо, Анатолий Иванович. Считайте, что разрешение вы получили. Особое внимание обратите на соблюдение военной и государственной тайны. Проследите, чтобы весь личный состав — естественно, кроме моряков — был переодет в гражданскую одежду. Военную форму можно будет носить только после особого распоряжения. Какой транспорт стоит сейчас в Феодосии? — Сухогруз «Ленинский комсомол». На него грузится ракетный полк. Я хочу особо проследить, как выполняются наши указания о том, чтобы ракетные установки были самым тщательным образом замаскированы под корабельные надстройки и чтобы на каждом судне было достаточно вооружения для отражения возможного нападения с моря и воздуха. — Все ваши действия правильны, — подытожил разговор Малиновский. — Желаю успеха. ...Когда генерал Грибков вернулся из поездки, министр снова принял его. К этому времени погрузка судов завершилась, и они были уже в пути. Путь предстоял очень и очень дальний. Выслушав доклад, Малиновский прочитал принесённые документы и, отвлёкшись от бумаг, раздумчиво сказал: — Ну что же, вроде бы всё идёт гладко. Из вашей справки следует, сколько судов убыло, сколько приближается к берегам Кубы. Но это, Анатолий Иванович, сухие цифры. А как мне узнать в деталях, что происходит с кораблями, с людьми в пути следования? Вот они проходят Босфор, Дарданеллы, Гибралтар, Скагеррак и Каттегат, Норвежское море. А в этих местах без конца шныряют корабли и подводные лодки НАТО. Да и воздушные стервятники не оставляют наши суда в покое. Всё ли у наших людей нормально? Как министр я обязан знать об этом. — Немедленно исправим недоработку, — заверил министра Грибков. — Запросим у Морфлота ежедневные сводки о прохождении судов, о том, как чувствуют себя экипажи, не случилось ли что-либо непредвиденное по курсу следования. И главные сведения будем своевременно докладывать вам, товарищ маршал. — Принимается, — коротко ответил тот. Вскоре генерал Грибков побывал в новой командировке, теперь уже в Севастополе. Там полным ходом шла погрузка на суда ракетной дивизии, которой командовал генерал-майор Стаценко. Анатолий Иванович встретился с адмиралом Николаем Михайловичем Харламовым, опытным моряком, для которого Севастополь был почти родным городом — настолько хорошо он его знал. В Севастополе всё обстояло хорошо, погрузка шла организованно, однако Анатолий Иванович обратил внимание на один весьма существенный недостаток. Трюмы корабля заполнялись людьми настолько, что человек едва мог повернуться. Но недостаток этот был «объективного характера»: как ни старался Грибков вместе с Харламовым рациональней разместить грузы, чтобы высвободить больше места для людей, цели достигнуть не удалось. — Это особенно меня мучает, — признался он. — Ведь солдатам, сержантам и офицерам придётся плыть в адскую жару, — представляете, как раскалятся стальные борта корабля! — К сожалению, ничегошеньки тут не поделаешь, — откликнулся Харламов. — Прибавьте к этому, Анатолий Иванович, такую мерзкую штуку, как морская болезнь. Уверен, что не меньше половины личного состава испытает на себе эту «прелесть». Если уж легендарный адмирал Нельсон не переносил морской болезни, то куда уж нашим солдатикам! Вернувшись из Севастополя, генерал Грибков получил донесение начальника политотдела мотострелкового полка полковника Шорохова и при очередном докладе министру обороны рассказал ему о содержании документа. — Вот что докладывает Шорохов, товарищ маршал. Двадцатого августа их корабль уже приближался к Азорским островам. Начался сильный шторм. Почти у всех людей — морская болезнь. Чтобы облегчить последствия сильной качки, ночью догадались вскрыть две бочки с солёными огурцами. Корабль идёт по намеченному маршруту уже десятые сутки. Невыносимая жара. Её трудно выдерживать, даже раздевшись до трусов. Ночью весь личный состав стремится выйти на палубу, но это мало помогает. Малиновский, внимательно слушая рассказ Грибкова, вдруг словно окунулся в похожую обстановку далёких-далёких лет. ...Наконец-то эшелон, прогромыхав через всю Россию с запада на восток, дотащился до Дайрена. Эшелон подали прямо на причал, чтобы сразу же грузиться на пароход. На палубе, в парадной форме, появился командир 1-го Особого полка полковник Нечволодов. Его окружала группа японских офицеров и генералов. Глаза слепило от золота эполет и орденов. Нечволодов горделиво оглядел выстроившееся на палубе русское воинство. Загремел гимн Японии, вслед за ним — «Боже, царя храни». Нечволодов выступил немного вперёд и громко произнёс: — Братцы! Русские солдаты, богатыри земли русской! Вы должны знать, что город Дальний, то бишь Дайрен, построен русскими людьми. Они принесли сюда, на азиатские берега, русский дух, русский нрав, гуманность и культуру, чего, кстати, не скажешь о новоявленных «аборигенах» этой земли. Японцы сделали вид, что не поняли, о чём идёт речь, и оскалили жёлтые зубы. — Мы сейчас покидаем эти берега, — невозмутимо продолжал Нечволодов. — Перед нами дальний путь, но мы никогда не забудем, что здесь каждый камень положен руками русских людей. И рано или поздно захватчики уберутся отсюда. Да здравствует наша победа! Ура, братцы! Старенький пароход «Гималаи» отчалил от пирса и к утру вышел в Жёлтое море. И сразу разразился страшный шторм. Корабль начало швырять с борта на борт. На солдат и офицеров набросилась морская болезнь. Казалось, выворачивает всё нутро, солдаты и офицеры молили святого угодника Николая, который считался спасителем и заступником на море, помочь им, но всё было тщетно. Восемь показавшихся вечностью суток пароход с трудом добирался до Гонконга. Здесь начала одолевать жара. А уж когда попали в тропические воды, то от поистине адского пекла не было никакого спасения. Солдаты поливали друг друга водой, но это не приносило облегчения. Только ночью наступала относительная прохлада. Ну а когда подошли к южной оконечности Малаккского полуострова, к английской крепости Сингапур, солдаты и офицеры и вовсе приуныли. Здесь уже был экватор, который показал свой «характер». Раскалённый воздух был абсолютно неподвижен. Пот лил ручьём, исподнее бельё — хоть бери и выжимай... «Вот так же сейчас, наверное, чувствуют себя и наши воины, плывущие в Карибском море к берегам Кубы», — подумал Малиновский, отвлекаясь от воспоминаний, промелькнувших у него в голове. А Грибков между тем продолжал пересказывать донесение Шорохова: — Американские самолёты, товарищ маршал, совершают наглые облёты наших кораблей. Их корабли пытаются преграждать нашим судам путь, требуют остановиться для досмотра. Наши делают вид, что не слышат и в эфир не выходят. Шорохов докладывает, что вчера утром американский истребитель пронёсся над теплоходом на бреющем полёте, едва мачты не зацепил. — Ну, этого следовало ожидать, — откликнулся Малиновский. — Тут надо действовать по принципу: «Не обращать внимания». В чём ещё трудности? Каков моральный настрой людей? — Что касается морального духа, то он выше всех похвал. Воины хорошо осознают свой интернациональный долг. Мучения стараются заглушить шутками. Русский характер! Шорохов приводит такое высказывание одного из солдат: «Так твою... чтобы я ещё когда-нибудь сел на эту шаланду! Я ж не моряк Костя, который шаланды, полные кефали, привозил в Одессу! Пока до России не построят мост, ни за что не поеду через океан». А дружок ему в ответ: «И куда ты денешься? Помни одно: и в воде мы не утонем, и в огне не сгорим!» Что же касается трудностей, то мы, товарищ маршал, ряд вопросов продумали не до конца. Взять хотя бы продовольствие. Загрузили на корабли двухмесячный запас. До погрузки он долго «катался» по железным дорогам, и получилось, что в горячей атмосфере Карибского моря такой продукт, как сливочное масло, просто-напросто растаял, превратившись в масляные лужи. Но в целом всё идёт нормально. — А как обстоит дело со скрытностью? Похоже, натовцы уже начинают догадываться о переброске войск и техники на Кубу. Вот передо мной одно из разведданных. Западногерманские союзники США, оказывается, уже сообщили в ЦРУ, что за последнее время число советских судов, идущих на Кубу, увеличилось в десять раз. Наши сообщения о том, что туда перебрасывают сельскохозяйственные орудия, их не убеждают. Они резонно задаются вопросом: неужто кубинцам нужно такое огромное количество тракторов, комбайнов, сеялок? Мне пока неизвестна реакция американцев, но думаю, они насторожатся. Впереди самая ответственная и трудоёмкая задача — установка ракет на острове. И тут главное — максимальная скрытность. — Безусловно, товарищ маршал, хотя достичь полной скрытности будет крайне сложно, — Грибков несколько смягчил фразу, хотя ему хотелось сказать слово «невозможно». — На острове нет лесных массивов, небольшие пальмовые рощи не в счёт. Заросли кустарника тоже не помогут. К тому же и в рощах, и в кустарниках такой зной и такая повышенная влажность, что нечем дышать, горло перехватывает. Да и техника здорово страдает. Кроме того, по рассказам очевидцев известно, что на острове много ядовитых деревьев гуао: прикоснись к ним — и тут же на теле почти неизлечимая язва. Поэтому располагать людей в лесах нельзя. — Как идёт размещение уже прибывших войск? — этот вопрос для министра был сейчас особенно важным. Грибков раскрыл свою папку. — Как я уже вам докладывал, товарищ маршал, первый наш транспорт прибыл в порт Гавана ещё двадцать шестого июля. Это теплоход «Мария Ульянова». В период же с двадцать седьмого по тридцать первое июля прибыло ещё девять судов с личным составом и техникой. А двадцать девятого июля теплоход «Латвия» доставил основной состав управления Группы войск. Прибывшие войска и техника развёртываются во всех шести провинциях Республики Куба. Все эти провинции основательно отличаются друг от друга по своим физико-географическим условиям, что создаёт для нас дополнительные трудности. Несмотря на это, строительство стартовых и технических позиций для ракетных войск, войск противовоздушной обороны, фронтовых крылатых ракет, береговых ракет «Сопка» идёт по плану. К делу подключены инженерные силы и средства. Строятся ускоренным темпом полевые военные городки. — Сколько времени уходит на оборудование стартовых площадок? — Как правило, от восьми до пятнадцати суток. При инженерном оборудовании позиционных районов ракетных частей особое внимание уделяется устройству заграждений, призванных блокировать засылку диверсионно-разведывательных групп с моря. Все работы ведутся энергично и с должным размахом. Даже в условиях высокой температуры и влажности, частых ливневых дождей работа идёт не менее десяти-двенадцати часов в сутки. — Хорошо, Анатолий Иванович, — вставая из-за стола, удовлетворённо произнёс Малиновский. — Я вынужден на этом пока прервать наш разговор. В двадцать один ноль-ноль я должен быть у Никиты Сергеевича.
9
Операция «Анадырь» шла по намеченному плану, когда в первых числах октября министр обороны вызвал к себе генерал-полковника Иванова, генерал-полковника авиации Селезнёва и генерал-лейтенанта Грибкова. Когда все приглашённые уселись в кресла, Малиновский, многозначительно оглядев присутствующих, сказал, что он только что вернулся от Фрола Романовича. Естественно, генералы знали, что речь идёт о члене Президиума ЦК КПСС Козлове. Он был секретарём ЦК, и именно ему Хрущёв поручил курировать часть проблем, связанных с Кубой. — Товарищ Козлов сказал мне, что принято решение послать на остров группу ответственных работников Министерства обороны для оказания помощи нашим войскам и контроля за выполнением принятых правительством решений. Кого, Семён Павлович, — обратился министр к Иванову, — вы предложите назначить старшим этой группы? Кстати, там он будет в статусе моего личного полномочного представителя. Иванов ответил, что генерал Селезнёв основательно приболел и потому он рекомендует для выполнения поставленной задачи генерала Грибкова. Анатолий Иванович хорошо знает ход происходящих событий и прекрасно понимает, что и как следует делать. — Согласен, — кивнул Малиновский. — Я прошу самым серьёзным образом подойти к составу группы. Надо включить в неё лучших, опытнейших офицеров, причём из всех видов вооружённых сил. Вас, Анатолий Иванович, попрошу доложить о готовности группы, после чего мы с вами проведём особый разговор. Генерал Грибков незамедлительно приступил к делу. Группа была сформирована из восьми человек, проинструктирована самым тщательным образом и приготовилась к вылету на Кубу. Малиновский дотошно изучил список людей и остался доволен. — Теперь, Анатолий Иванович, слушайте меня внимательно, — начал Малиновский. — Я буду ждать от вас доклада о полной боевой готовности всех ракетных частей. Докладывать будете лично мне, и больше никому. Особо проконтролируйте готовность ракет к боевому применению. Это ваша задача номер один. Передайте товарищу Плиеву, что те указания, которые он получил лично от Никиты Сергеевича об использовании ракет Р-12 и Р-14, подлежат неукоснительному и строжайшему исполнению. Никакой самодеятельности! Запомните главное: мы завезли на Кубу ракеты не для того, чтобы обрушить их мощь на Соединённые Штаты, а чтобы сдержать агрессию против острова Свободы. Примите все меры, вплоть до самых крайних, чтобы ни в коем случае не допустить несанкционированного запуска ракет. Все должны понимать: пуск даже одной ракеты может спровоцировать атомную войну. Министр устало помолчал и сказал: — О готовности ракетных войск донесёте мне условной фразой. Запомните каждое слово: «Директору, уборка сахарного тростника идёт успешно». Прошу вас повторите... ...Шифровкой «Директору, уборка сахарного тростника идёт успешно» воспользоваться не пришлось. Предполагалось, что такая шифровка будет направлена в Москву 25—27 октября, когда ракетные полки будут поставлены на боевое дежурство. Но тут — как гром среди ясного неба, хотя гром этот, в сущности, был давно ожидаем, — 14 октября разведывательный самолёт ВВС США У-2 произвёл фотосъёмку стартовых площадок советских ракет на Кубе. Снимки тотчас же оказались в Белом доме, на столе у президента Джона Кеннеди. Тот долго не мог прийти в себя: рядом с Америкой размещены ракеты с ядерными зарядами! Очнувшись от потрясения, Кеннеди срочно создал «кризисную группу». Начались непрерывные заседания в кабинете президента. Генералы из Пентагона упорно доказывали, что необходимо немедленно обрушить на Кубу ядерный удар. Более уравновешенные политики, сознававшие, что такой удар неизбежно приведёт к всемирной атомной войне, убеждали Кеннеди решить возникшую проблему с помощью дипломатии, переговоров и компромиссов. — Но с кем вести переговоры? — Кеннеди был возмущён. — Я говорил с советским послом Добрыниным. Он утверждает, что ему абсолютно ничего не известно о переброске советских ракет на Кубу. В конце концов, после долгих и жарких дискуссий, решено было пока остановиться на морской блокаде Кубы. 22 октября Кеннеди выступил по радио и телевидению с обращением к американскому народу. В своём выступлении он, в частности, заявил: — Мы будем рассматривать любой пуск ракеты с ядерной боеголовкой с территории Кубы в направлении территории какого-либо государства Западного полушария как удар Советского Союза по Соединённым Штатам, требующий ответного удара по территории Советского Союза в полном объёме всеми имеющимися средствами. В этот же день генерал Плиев получил срочную шифротелеграмму маршала Малиновского: «В связи с возможным десантированием на о. Куба американцев, проводящих учение в Карибском море, примите немедленные меры к повышению боевой готовности и к отражению атаки противника совместными силами кубинской армии и советских войск, включая средства Стаценко и всех грузов Белобородова. Директор. 22 октября 1962 г. 23.30». Между тем маховик подготовки американской военной машины завертелся. В полную боевую готовность были приведены вооружённые силы США на континенте и в Европе. Протрубили тревогу на кораблях американского военно-морского флота в Средиземном море и в районе Тайваня. Замерли в ожидании приказа подводные лодки с ракетами «Поларис». На Кубу нацелились парашютно-десантные, пехотные и бронетанковые дивизии общей численностью около 100 тысяч солдат и офицеров. К острову двинулось более ста кораблей американских военно-морских сил. В небо взмыли сотни боевых самолётов. Всё это на языке американцев называлось «карантином». Малиновскому доложили, что силы вторжения имеют в своём составе 7 дивизий, 600 танков, свыше 2000 орудий и миномётов, до 12 НУРС «Онест Джон», 140 кораблей военно-морского флота, 430 истребителей-бомбардировщиков и палубных штурмовиков. Мир замер в ожидании... И тут новое событие: в субботу, 27 октября, в десять часов двадцать одну минуту в небе над Кубой советской ракетой был сбит американский разведывательный самолёт У-2 на высоте девятнадцати тысяч километров. Пилот самолёта майор Андерсон погиб. Америка взорвалась яростным негодованием. Казалось, что все пути к мирному разрешению конфликта теперь наглухо закрыты и ядерная война неизбежна. Американцы уже окрестили день 27 октября «чёрной субботой». Много позже советский посол в США Анатолий Добрынин рассказывал: «Поздно вечером меня пригласил к себе Роберт Кеннеди, брат американского президента. В его кабинете был большой беспорядок. На диване валялся скомканный плед — видимо, хозяин кабинета здесь же урывками спал. Важный разговор состоялся наедине. «Кубинский кризис, — начал он, — продолжает быстро углубляться. Только что получено сообщение, что сбит американский самолёт, осуществлявший наблюдательный полёт над Кубой. Военные требуют от президента отдать приказ отвечать на огонь огнём... Но если начать ответный огонь, пойдёт цепная реакция, которую будет очень трудно остановить. Что касается ракетных баз, то правительство США полно решимости избавиться от них — вплоть до их бомбардировки. Но тогда погибнут советские люди и СССР ответит нам тем же. Начнётся самая настоящая война, в которой погибнут миллионы американцев и русских. Мы хотим избежать этого во что бы то ни стало». Разговор был долгим и напряжённым. — Советские ракеты установлены на Кубе с единственной целью — противостоять американскому вторжению, — Добрынин неоднократно повторил эту фразу. — Правительство США готово снять блокаду Кубы, — наконец вымолвил Роберт Кеннеди, хотя ему непросто было дать такое обещание: оно противоречило престижу величайшей державы мира! — И правительство США готово повторить это в форме письменного заявления? — не отступал Добрынин, хорошо зная цену устных заявлений. — Да, — подтвердил Кеннеди, — готово. — Изменит ли свою позицию правительство США по вопросу о пребывании американской военной базы в Турции? — Мы не видим непреодолимых трудностей в решении и этого вопроса, — без особого энтузиазма отозвался Кеннеди. — Однако хотелось бы, чтобы это происходило без особого шума. — Иными словами, вы не хотели бы предавать вывод своей базы гласности? — Да, вы правильно меня поняли. — Кеннеди протянул Добрынину свою визитную карточку. — Здесь мой телефон в Белом доме, — пояснил он. — Это на случай срочной оперативной связи. К этому времени и Кеннеди, и Добрынин уже достаточно ясно поняли: пора прекратить бодаться ядерными боеголовками, надо найти компромисс, но такой, чтобы не потерять лица. Судьбу войны и мира решали уже не дни и даже не часы, а минуты. И потому ответ Хрущёва президенту Кеннеди было решено передать по Всесоюзному радио открытым текстом. Подобного в мировой практике ещё не бывало. Аргументируя необходимость такого действия, Хрущёв сказал своим сподвижникам: — Помните, Ильич говорил накануне революции: «Промедление смерти подобно»? Вот и сейчас похожий случай. 28 октября обращение Хрущёва к президенту Кеннеди было передано по радио и опубликовано в газете «Правда». Оно было довольно объёмистым, но главное содержалось в таких словах: «...Думаю, что можно было бы быстро завершить конфликт и нормализовать положение, и тогда люди вздохнули бы полной грудью, считая, что государственные деятели, которые облечены ответственностью, обладают трезвым умом и сознанием своей ответственности, умением решать сложные вопросы и не доводить дело до военной катастрофы. Поэтому я вношу предложение: мы согласны вывести те средства с Кубы, которые вы считаете наступательными средствами. Согласны это осуществить и заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши представители сделают заявление о том, что США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность со стороны Советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции...» Кеннеди ответил мгновенно: «Уважаемый господин председатель! Я сразу же отвечаю на Ваше послание от 28 октября, переданное по радио, хотя я ещё не получил официального текста, так как придаю огромное значение тому, чтобы действовать быстро в целях разрешения кубинского кризиса. Я думаю, что Вы и я при той огромной ответственности, которую мы несём за поддержание мира, осознали, что события приближались к такому положению, когда они могли выйти из-под контроля. Поэтому я приветствую Ваше послание и считаю его важным вкладом в дело обеспечения мира». Спустя три дня командующий Группой советских войск на Кубе генерал армии Плиев получил шифротелеграмму от министра обороны: «Тростник — Плиеву. В первую очередь на имеющиеся у вас транспорты погрузить на палубы все 42 ракеты Р-12 и в возможно кратчайший срок — до 7 ноября и не позднее 10 ноября — транспорты с ракетами отправить в Советский Союз. Ракеты погрузить с грунтовыми тележками на палубы, прочно закрепив тележки, и покрыть всё брезентом. Малиновский. 1 ноября 1962 г.». И вновь начался тяжелейший труд, но теперь по демонтажу ракетных установок, их погрузке на транспорты. ...Вернувшись в Москву, генерал Грибков сделал обстоятельный доклад — длился он более двух часов — министру обороны. Малиновский задал множество вопросов, интересовался мельчайшими деталями. Когда присутствовавший при докладе генерал-полковник Иванов попытался остановить Грибкова, видимо, полагая, что время доклада истекло, Родион Яковлевич велел: — Продолжайте, Анатолий Иванович, продолжайте... — Ну что же, — наконец начал подводить итоги Малиновский, — проведённая нами операция «Анадырь» совершенно уникальна. Это товарищи, акция, не имеющая аналогов в мировой истории. Совершена межконтинентальная переброска через океан более чем сорокатысячной армии с ракетами и техникой. И справились вы с этой задачей, прямо скажем, колоссального масштаба вполне успешно. Создать группу войск, обладающую такой военной мощью, да ещё прямо под носом у дядюшки Сэма — это дорогого стоит! И хвалёные цэрэушники спохватились лишь тогда, когда наши ракеты уже встали на боевое дежурство! Ну что тут скажешь — молодцы. Молодцы все, кто участвовал в этой операции. Лучших представим к государственным наградам. Малиновский встал и возбуждённо заходил по кабинету. — Политики ещё оценят плюсы и минусы этой уникальной операции, — продолжал он. — Конечно, риск был необычайно велик, мир оказался на грани ядерной войны, мы ходили по острию бритвы. Но американцы, которые слепо уверовали в свою неуязвимость и непобедимость, теперь зарубят себе на носу: с Советским Союзом шутки плохи! И мы добились немалого: заставили Америку снять военную блокаду Кубы, убрать ядерное оружие из Турции. Нас заверили, что не позднее апреля следующего года все пятьдесят американских ракет типа «Юпитер» будут оттуда выведены. К тому же Карибский кризис показал, куда может завести мир пагубная политика «холодной войны». Министр обороны ещё продолжительное время развивал эту тему. В конце беседы генерал Грибков спросил: — Товарищ маршал, я привёз с Кубы много фотографий, солдатских писем и даже стихотворений. Может быть, вы пожелаете ознакомиться с ними? — Обязательно, — откликнулся Малиновский. — Оставьте у меня все материалы. Ведь за ними — человеческие судьбы, люди, побывавшие в эпицентре грозных, я бы сказал, эпохальных событий! А может, прямо сейчас и познакомите нас хотя бы с чем-нибудь наиболее примечательным? — Охотно, товарищ маршал. Вот, к примеру, такое письмо. На конверте адрес: «Москва, дедушке Родиону Яковлевичу». Малиновский от неожиданности прямо-таки взорвался смехом. Такое присутствующие в кабинете генералы видели впервые. — Выходит, письмо от чеховского Ваньки Жукова? — хохотал министр. — Ну-ка, ну-ка! — Письмо длинное, прочитаю только самое начало, — сказал Грибков. — «Дорогой дедушка Родион Яковлевич, когда же ты заберёшь нас домой, в нашу дорогую и далёкую Россию?» Родион Яковлевич снова рассмеялся. Казалось, этим смехом он снимает гигантскую усталость, которая накопилась в его душе за все дни Карибского кризиса. — А знаете, друзья мои, — вспомнил маршал, — такого рода письмо было у меня на уме, когда в 1916 году нас, русских солдат, отправили воевать во Францию. Только нацелился я писать письмо не военному министру, а самому царю-батюшке. Теперь уже все присутствующие дружно расхохотались... Вскоре был принят закрытый Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении наиболее отличившихся участников операции «Анадырь». Генерал Грибков Анатолий Иванович был удостоен ордена Ленина.
10
Так уж совпало — этим Катя Ставицкая несказанно гордилась, — что приезд в Москву совпал с полётом в космос первой женщины Валентины Терешковой. Правда, когда Катя «приземлилась» во Внуково, Терешкова уже благополучно вернулась на родную планету, но Москва да и, по сути, вся страна в очередной раз, может быть, чуть сдержанней, чем после полёта Юрия Гагарина, выплёскивала свою радость на улицы и площади. Первая женщина в космосе — советская женщина! Ну что, зазнавшаяся, обнаглевшая Америка? Выкусила?! Знай: нас на кривой кобыле не обскачешь! Катя прилетела из Нальчика рейсовым самолётом, но этот самый обыкновенный полёт, как ей казалось, делал её причастной к тому полёту, который совершила отважная Терешкова, в один миг ставшая мировой знаменитостью. И потому настроение Кати было радостно приподнятым. Она никогда раньше не была в Москве и заранее предвкушала, сколько всего интересного и необычного ждёт её в столице. В зале прилёта аэропорта Катя получила свой нехитрый багаж — большую сумку — и направилась к выходу, намереваясь сесть в автобус, чтобы побыстрее добраться до столицы. Проходя мимо стоянки автомашин, она внезапно остановила свой взгляд на спешащей к припаркованному там лимузину женщине, показавшейся ей чем-то знакомой, — зрительная память у Кати всегда была хорошей. Пристально вглядевшись, она едва не вскрикнула от изумления: господи, да это же Рая Кучеренко! Катя неуверенно приблизилась к женщине. Теперь уже сомнений не осталось: точно она! То же лицо, те же светлые волосы, та же стремительная, лёгкая походка! — Раиса Яковлевна, — тихо позвала Катя, всё же побаиваясь немного, что обозналась. Женщина оглянулась: — Катя? Боже мой! Неужели ты?! — Да я же, я, Рая! Женщины кинулись друг дружке в объятия, встреча была желанной. И что удивительно, ведь тогда, на фронте, среди весенней распутицы, среди степных белых туманов, они были вместе совсем недолго: фронт упрямым безостановочным катком шёл вперёд, тесня врага. Но в этом великая сила дружбы, рождавшейся на фронте: совсем малого времени общения хватило для того, чтобы подружиться навсегда. Много было у них общего: и чистота душ, и редкое по своей глубине и силе умение сострадать людям и приходить им на помощь, и прямота и открытость характеров. Всё это, вместе взятое, и влекло их друг к дружке. Теперь, встретившись через двадцать лет, обе жалели, что не нашли друг друга раньше, и корили себя за это... — Вот что, Катюша, — решительно сказала Раиса Яковлевна, — пожалуйста, запомни: для тебя я только Рая. Никаких там «вы», отчеств и прочее. Поняла? А сейчас садись в машину, едем к нам на дачу! — Ой, Рая, удобно ли... — растерялась Катя. — Я вот тебя отправлю на гауптвахту! — шутливо погрозила пальцем Раиса Яковлевна. — Только к нам и никаких разговорчиков! Если бы ты знала, как я рада, что мы наконец встретились. И увидишь, Родион Яковлевич тоже обрадуется. «Родион Яковлевич? — мысленно переспросила Катя. — Неужели...» Раиса Яковлевна, заметив её удивление, сразу решила внести ясность: — Да-да, Родион Яковлевич... Надеюсь, ты его помнишь? — Ещё бы! Он же мой спаситель! Как ты можешь думать, что я забыла? — Так вот, Родион Яковлевич — мой муж. — Неужели?! — ахнула Катя. — Это же чудесно! Поздравляю! — Да мы уже много лет муж и жена. Ну, садись скорее. Обе уселись в машину, которая тотчас же помчалась по Киевскому шоссе. — Катя, как тебе не совестно? — сердито заговорила Раиса Яковлевна. — Столько лет не давала о себе знать! Бесстыдница, вот ты кто. — Но ведь и ты, Раечка, тоже не давала о себе знать, — виновато оправдывалась Катя. — А как, интересно, я могла бы это сделать? Мы же тогда рванули аж до самой Вены, а ты осталась. Говорила, что хочешь вернуться в Нальчик. Ну да ладно, чего уж теперь спорить, кто виноват. — Рая, а ты почти не изменилась, всё такая же молодая и красивая. — Ой, не сочиняй, — улыбнулась Раиса Яковлевна. — У меня уже дочка невеста, в ноябре семнадцать будет. — Ой, как здорово, что у тебя дочка! — обрадовалась Катя. — Я ведь тоже всегда мечтала о дочке... — А у тебя кто? — Да никого... Катя враз погрустнела, и Раиса Яковлевна поспешила сменить тему. — Вот ты действительно молодо выглядишь. Только что-то серебро в чёрных волосах появилось. — Так это ещё с тех пор, с войны. Меня же тогда чуть немец не прикончил. — Да ты что? Как это? — А он у мамы красивую кофточку хотел отобрать, так я за эту кофточку уцепилась, вырвала у него, убежала и в подвале схоронилась. Так он, гад, с пистолетом — за мной. Бежит и орёт как резаный: «Шниссер, шварце Катья!» Еле спаслась. Вот война, проклятущая, свою метку оставила. Да что седина! Слава богу, Рая, что мы ещё живы остались. — И то правда. Вот ты говоришь, молодо я выгляжу. А ведь я постарше тебя. — Всё равно молодо. — Ну ладно, подружка! Что это мы с тобой про возраст раскудахтались?.. Июнь был в самом разгаре, день стоял чудесный, солнечный, тёплый. Где-то далеко, приближаясь к городу, погромыхивал гром. Машина проехала по дороге через лес и остановилась у красивой дачи. — Вот и приехали, — кивнула Раиса Яковлевна. — Здесь мы обитаем в летнюю пору. Заходи, будь как дома. — Как здесь хорошо! — восхитилась Катя. Когда женщины приблизились к дому, навстречу им вышла стройная девушка. — А вот и моя Наташа. — Ну надо же, — удивлялась Катя, поздоровавшись, — вылитый Родион Яковлевич! — Это верно, — подтвердила Раиса Яковлевна. — И характер такой же. В уютной гостиной уже был накрыт стол. Взглянув на него, Катя поняла, как сильно она проголодалась. — А это за встречу, — Раиса Яковлевна вынула из буфета бутылку вина. Женщины выпили и принялись с аппетитом закусывать. — Ну что, Катюша, — начала разговор Раиса Яковлевна, — расскажи о себе. Как ты живёшь? Замужем? — Замужем. И представь себе, уже второй раз. — Сказав, Катя смутилась, будто второе замужество означало нечто постыдное. — Первый муж погиб на фронте. Мы с ним всего-то ничего прожили. Хороший парень был, ничего не скажу, любил меня. Погиб где-то на реке Прут, когда наши наступали. — Это, выходит, в той самой Ясско-Кишинёвской операции, где наш фронт наступал. — Да, в той самой. — Катя смахнула слезу. — Сочувствую тебе. Только слезами разве с того света вернёшь? А кто второй? По тому, как сразу смуглое лицо Кати засветилось улыбкой, Раиса Яковлевна поняла, что со вторым мужем всё хорошо. — Знаешь, это как в сказке, — быстро заговорила Катя. — Мы с ним, с Лешей, в одной школе учились и в одном классе. Такой скромный мальчишка, застенчивый, из семьи учителей, в нашем городском Дворце пионеров рисованием занимался. И представляешь, влюбился он в меня, а я, дурёха, тогда ни черта в любви не смыслила. Потом, в октябре сорокового, взяли его в армию. Вот так и расстались,да на целых пятнадцать лет. Оказывается, он всё это время пытался меня разыскать, в Нальчик приезжал, приходил в Школьный переулок, где мы до войны жили, соседей расспрашивал. Те направили его к моей тётке, она на городском рынке работала. Отправился он туда, нашёл её, а она возьми да и скажи: «Чего тебе её искать, она замужем давно». Ну, Алексей и уехал. И тут ему случай помог. Переписывался он с нашей классной руководительницей, Антониной Васильевной. Оказалось, что она знает мой адрес. Вот так и нашёл он меня. — И вы поженились? — Да. Вот шесть лет как вместе. Даже не думала, что выпадет мне такое счастье. Любим друг друга. А ты же знаешь, Раечка, любовь — это когда невозможно друг без друга жить. Теперь он известный художник, сейчас в поездке по Италии, а то бы я его с собой прихватила! — А дети? Раиса Яковлевна сразу поняла, что этот вопрос для Кати чрезвычайно болезненный. — Бог не даёт, — снова всхлипнула Катя. — Ну, не переживай, может, ещё и даст. — Если бы ты знала, как я хочу ребёночка! Очень хочу! Вот только боюсь, что поздно уже, через год сорок стукнет... — Ничуть не поздно! — убеждённо воскликнула Раиса Яковлевна. — Я хочу спросить тебя вот о чём. Не цеплялись к тебе, что ты в оккупации была? Ведь ты этого опасалась. — Не цеплялись, но проверяли дотошно. Особенно когда утверждали меня начальником отдела технического контроля рудника. Потом уже мне кадровичка наша по секрету сообщила, что во все места, где я была во время оккупации, запросы посылали, и в Апостолово тоже. И отовсюду пришли ответы, что я ничем себя не замарала. Утвердили меня. Кадровичка была рада, будто это её реабилитировали, а не меня. — Поздравляю! Да я и без всяких запросов ещё тогда, в Апостолово, поняла, что ты верный человек. В это время послышался шум подъехавшей машины. — Это Родион Яковлевич. — Раиса Яковлевна встала из-за стола и вышла на крыльцо. — Ты только посмотри, кто у нас в гостях. — И кто же? — услышала Катя знакомый голос. — Катя? — Родион Яковлевич был искренне удивлён. — Катя Ставицкая! Какими судьбами? Просто не верится. — Здравствуйте, Родион Яковлевич! — А хотите, я музыку включу? — предложила Наташа, до сих пор не вмешивавшаяся в разговор. — Да мы лучше потом сами споем! — воскликнула Раиса Яковлевна. — Катя, хочешь я тебе расскажу, как Родион Яковлевич приехал ко мне в госпиталь, когда я Наташу рожала? — Сейчас начнёшь фантазировать. — Малиновский немного смутился. — Да когда же я фантазировала? Только правду, всё как было. А было это в Хабаровске, мы там после войны остались. Родион Яковлевич парад принимал, когда я рожать затеяла. Седьмого ноября. — Это, кстати, был первый парад, который я принимал, — уточнил Малиновский. — Вот-вот! Теперь-то на твоём счету уже десятка три таких парадов. Так вот, возвращается он домой, а меня нет. Где жена? А ему отвечают в госпитале. Ну, он в машину — и туда. В госпитале все переполошились, а у него один вопрос: «Как мне пройти к жене?» Ему втолковывают: «Товарищ маршал, к ней пройти никак невозможно!» — «Это ещё почему?» — «Она на столе, товарищ маршал». Он удивился: «У вас что, кроватей нет?» — «Положено, товарищ маршал. Все роженицы так...» Тут влетает докторша: «Товарищ маршал! Поздравляю вас с дочкой!» Вот как дело было! — Папа и мама как раз и хотели девочку, — рассмеялась Наташа. А знаете, из чего мне мама платьица шила? — Из чего? — Из парашютного шёлка. — Да неужели? — удивилась Катя. — Всё верно, — подтвердила Раиса Яковлевна. — Это подарок семьи Красовских. — Катя не знает, кто такой Красовский, — вмешался Малиновский. — Он в Дальневосточном округе командовал военно-воздушными силами. А до этого всю войну прошёл, вплоть до Берлина. — Хорошее имя у вашей дочки, — вздохнула Катя. — Это в честь тёти Родиона Яковлевича, Натальи Николаевны. Ему было одиннадцать лет, когда он ушёл из дому. Наталья Николаевна приютила его как родного сына, от многих бед спасла. Жаль, давно её нет с нами. — Умерла? — В оккупации, в Киеве. И её саму, и сына её Женю немцы расстреляли... Все помолчали и, не сговариваясь, выпили не чокаясь. Раиса Яковлевна встряхнула головой: — Разгоним-ка грусть-тоску! Давайте споем! — И начала первой:
Засиделись далеко за полночь. Малиновский покинул дачу рано, торопясь в министерство. Перед тем как уйти, сказал Кате: — Не пропадайте больше. Знайте: наш дом — это и ваш дом. Раиса Яковлевна поинтересовалась планами Кати. Та сказала: сначала — министерство, потом — магазины. — В магазины вместе поедем, — решила Раиса Яковлевна. — Ещё купишь какую-нибудь дрянь. А вечером — со мной в театр. Ты там, у себя на руднике, небось совсем одичала. Знаешь, куда пойдём? В театр Маяковского, там сейчас премьера. «Иркутская история» Арбузова. Слыхала? — Слыхать-то слыхала, но, конечно, не смотрела. Пойду с превеликим удовольствием! ...Прошло полгода, и Раиса Яковлевна получила от Кати очередное письмо. Подробно рассказав о своей жизни, та в конце сообщала о главном: «Раечка, дорогая моя, скажу тебе по секрету: я беременна! Боюсь даже поверить в это! Господи, как я хочу, чтобы моё родное существо появилось на свет! Тогда только буду считать, что жила на этой земле не напрасно. И знаешь, мы с Лешей загадали: если родится дочь, назовём её Раей, а если сын — Родионом. Ты не против?» Прочитав эти строки, Раиса Яковлевна даже всплакнула. Такое бывало с ней редко, но сейчас она не смогла сдержать радостных слёз.
11
Когда Алексей Алексеевич Епишев, начальник Главного политического управления Советской Армии, доложил министру обороны о том, что возникла идея провести совещание с писателями, в чьём творчестве видное место занимает военно-патриотическая тема, Родион Яковлевич призадумался и ответил не сразу. — Что, не одобряете, Родион Яковлевич? — насторожился Епишев. — Одобрить или не одобрить — не это главное, Алексей Алексеевич. Надо подумать о том, какова цель такого совещания и каков будет результат. Сами знаете, совещания часто отличаются тем, что наговорят с три короба, а конкретное дело — ни с места. Вот скажите, какими словами обычно открываются всевозможные совещания? — По-разному бывает. Тут твёрдых правил не существует. — А всё-таки? — Обычно так: товарищи, начинаем работу нашего совещания... — Вот-вот! — кивнул Малиновский. Работу! То есть, если следовать формальной логике, совещание — это и есть работа. Разве не так? — Выходит, что так. Но не совсем. Это ведь просто трафарет такой, некая условность, — возразил Епишев. — Думаю, что никто не считает, что совещание и есть та самая работа, о которой на нём говорят. Это как бы старт для работы, аккумулятор для подзарядки. — Завидую вашему умению находить спасительные термины, — министр усмехнулся. — Ну, бог с ними, не будем придираться. Но как-то не очень вяжется писательский труд с этими самыми совещаниями. Писателям надо писать, а не участвовать в прениях, время терять. — Родион Яковлевич, вы сами знаете, что чем дальше уходит в прошлое война, тем заметнее наши «инженеры человеческих душ» охладевают к военной теме. Кое-кто уже стонет! Надоело, перекормили войной, подвигами. И кое-кто принялся не героизм воспевать, а нечто иное, повёл курс на дегероизацию. Но это же крайне опасно! Читаешь иную книгу о войне и диву даёшься: сплошной перекос! За версту пацифизмом несёт! Модной становится «окопная правда». Оправдывается дезертирство и даже предательство! Да так, стервецы, намалюют, что дезертира жалко становится! Убеждён, что пора поговорить с писателями начистоту, открыть им глаза, нацелить... Епишев говорил долго, увлечённо, подбирая всё более убедительные факты. Малиновский терпеливо слушал его. Ему и самому попадались книги такого рода, о которых говорил Епишев. В самом деле, что-то непонятное происходило в литературе. Во времена Сталина все были приучены к единомыслию, и всякое отклонение от официальной линии вправо или влево квалифицировалось порой как антисоветизм. Вызывал одобрение властей и критики лишь абсолютно идеальный, положительный герой, без сучка и задоринки. Человеческие пороки объявлялись нетипичными, порождением прошлого и именовались пережитками капитализма в сознании людей. Малиновский считал, что в условиях той системы иного и быть не могло. Конечно, для литературы создавать героическое — задача благородная и приоритетная. Но если глубже вникнуть в проблему, то что получается? Жизнь многообразна, сложна, противоречива, наполнена конфликтами, борьбой. Взять ту же армию. Есть в ней герои, есть дезертиры и даже предатели. Что же, сделать вид, что предателей не существует? Другая крайность. И выходит, что книга, в которой даже во имя высоких целей замалчивается правда жизни, подобна чем-то тому же дезертиру или предателю. Другое дело, с каких позиций показывать и положительное, и отрицательное. — Пожалуй, Алексей Алексеевич, с писателями поговорить действительно надо, — наконец сказал Малиновский. — Другое дело, что этот разговор ни в коем случае не должен носить директивного характера. В корректной форме, а не как истину в последней инстанции, высказать своё мнение, послушать, что думают сами мастера слова, каковы их творческие планы. Они ведь и без наших совещаний прекрасно понимают — я имею в виду настоящих писателей, а не халтурщиков и графоманов, — какие задачи ставит перед ними партия. Газеты ведь читают, телевизор смотрят. — Так-то оно так, Родион Яковлевич. Почему же тогда они иной раз клепают такое, что в корне противоречит нашей идеологии и партийным установкам? Среди них полным-полно аполитичных людей, у которых обывательский взгляд на армию! А кое-кто и с чужого голоса поёт. — Всё это так, — согласился Малиновский. — Вот только... скажите, Алексей Алексеевич, кто проводил подобные совещания, скажем, в девятнадцатом веке с Лушкиным, Толстым, Куприным, Достоевским? А какую могучую литературу они создали, какое великое наследство нам оставили! И это несмотря на жесточайшую цензуру! Вот что. Представим себе, что завтра железнодорожники соберут писателей и станут их призывать писать книги о железнодорожниках, послезавтра рыбаки — о рыбаках, да к тому же учить, как надо писать. Что из этого получится? Я, конечно, утрирую, но уверен, что истинный писатель получает социальный заказ как бы от самой жизни и на каждом её этапе, в зависимости от своих творческих устремлений, находит интересующие его проблемы, героев своего времени. Вот была война, какой ещё в истории человечества не было. И конечно же, писатели не могли обойти её стороной. Потому и создано так много книг, среди них и очень хороших, именно о войне. А вот будни армии в мирное время, размеренные, лишённые острых потрясений, мало привлекают писателей. Это можно понять. Им нужны конфликты, живые, а не выхолощенные образы, а мы своей системой запретов препятствуем их показу. Получается голая схема, может, и милая сердцу какого-нибудь чиновника, но читатель-то такую книгу и перелистать не захочет. — И что же, выходит, совсем отказаться от создания книг о современной армии? — Епишев не понимал, к чему клонит министр. — Нет, я вовсе не против таких книг. Но книга, прежде всего, должна стать явлением в литературе, а не пополнить ряды заказных поделок. Пусть будет одна, но крепкая книга. — Согласен. — Вот видите. Я думал об этом термине — «социальный заказ», его сейчас часто пускают в оборот. На первый взгляд, привлекательный термин. А по сути? Вот Куприн написал свой знаменитый «Поединок». Кто ему давал социальный заказ? Да сама армейская жизнь того времени. А как нападали на него, с пеной у рта нападали — и власти, и близкая к ним критика, — опозорил, дескать, русскую армию, с грязью смешал офицеров. Но если по большому счёту — он же правду сказал! А по заказу часто получается халтура, скороспелая однодневка. Это же не мебель столяру заказывать или одежду портному. — Если я правильно вас понял, Родион Яковлевич, вопрос о совещании закрыт? — нахмурился Епишев. — Ну почему? Вреда от этого не будет. Хочется надеяться, что будет хоть какая-то польза. Только, может, лучше не совещание — очень уж казённо и официально. — А как тогда? — Ну, пусть это будет встреча с писателями, дружеская, непринуждённая, без указующего перста. Пусть они сами поговорят о своих проблемах, поспорят, авось что-то полезное и откроется. А мы, со своей стороны, расскажем им о своих проблемах. Главное при этом — найти точки соприкосновения. Не надо влезать в их творческую лабораторию, это святая святых. Просто расскажем, что собой представляет современная армия, почему общество заинтересовано в военно-патриотической литературе. Согласны со мной? — Согласен, Родион Яковлевич! Считаю, что это мудрый подход. — Ну вот, ещё возведёте меня в ранг мудреца, — усмехнулся Малиновский. — Но я это по всей справедливости. Кстати, вы же знаете, как, скажем, Никита Сергеевич, собирая писателей, не боится им и мозги прочистить, а то и порку публичную учинить. — Так то Никита Сергеевич. Он — руководитель партии, это его право. А нам на встрече не стоит громить те книги, в которых, как вы выразились, есть всяческие перекосы. Их и так уже ваша армейская печать разнесла в клочья. Полезнее тактично указать писателям на это, поговорить о проблемах, о планах на будущее. Епишев мысленно ухмыльнулся: ну, дипломат. — Хотелось бы, Родион Яковлевич, чтобы на этой встрече выступили и вы. — Хорошо, я не отказываюсь. А как со сроками? — Мы делали прикидку на февраль, точнее, на начало февраля. Потом ведь пойдёт подготовка ко дню Советской Армии. — Ну что ж, будем считать, что все мы с этим решили, — подвёл итог разговору министр. Встреча прошла 7 февраля 1964 года. Епишев постарался придать ей широкий размах и высокое представительство. В президиуме сидели министр культуры Фурцева, председатель Государственного комитета по кинематографии Романов, председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Харламов, заместитель заведующего отделом ЦК КПСС Савинкин и другие высокие лица. Открыл встречу Епишев. Он начал с того, что призвал писателей, художников, кинорежиссёров, композиторов — всю творческую интеллигенцию — подумать о том, как лучше объединить усилия, чтобы ещё более повысить роль литературы и искусства в военно-патриотическом воспитании народа, как преодолеть негативные явления, выявившиеся в отдельных произведениях о войне и армии. На смену помпезно-батальной скорописи, оставлявшей в тени внутренний мир человека, пришла другая крайность — пристальное, порой излишнее внимание к натуралистическим подробностям войны, а иной раз и прямо-таки патологическая страсть к нагнетанию страданий и страха, ужасов и трагедий. «Вроде бы всё правильно говорит, — слушая Епищева, думал Малиновский. — Но если вникнуть поглубже, то это всё тот же, слегка замаскированный призыв к лакировке действительности. Как это у Толстого его Андрей Болконский? Если прежде он воспринимал войну как некий парад с развевающимися знамёнами и фейерверками, то, побывав в настоящем сражений, увидел истинную войну — кровь, страдания, смерть. Вот это точно и правдиво! Сидят наши литераторы, слушают, а про себя небось думают: только героикой войну не покажешь, это будет лишь одна её сторона...» Епишев тем временем заговорил о современной армии. — Не могу понять, — сокрушался он, — где в литературе и кино такой образ современного воина, который имел бы столь же зажигательную силу примера, как, скажем, фронтовик Василий Тёркин? «Эка куда хватил, — невольно усмехнулся Малиновский. — Тёркин! Шедевры каждый день не рождаются! И по указке всяческих совещаний!» Епишев продолжал говорить, возмущаясь тем, что художники слова забыли армию, не понимают её великого значения, особенно в условиях «холодной войны». — Тут я как-то побывал на одной выставке в Москве, — оторвался он от подготовленного текста. — Обратил внимание на одну картину. Демобилизованный солдат едет в вагоне поезда. И знаете, как называется эта картина? «Возвращение к труду»! Представляете? Выходит, когда солдат служил в армии, он не трудился! Как можно так обесценивать ратный труд? Как можно так извращать правду жизни? «Да, не можем мы без лозунгов, без приевшихся штампов, без назиданий, схожих с директивами. И не только Епишев этим грешит. Все мы грешим! Хочется человеку живое слово сказать, а его тут же на все пуговицы застёгивают — отходишь от генеральной линии, от того, как положено, как принято. Так и вообще можно думать разучиться!» Епишев закончил. Первым попросил слова Аркадий Первенцев, высокий, стройный, молодцеватый, из кубанских казаков, автор нашумевшего романа «Кочубей». Малиновский знал его как прямого, порой резкого, но честного и твёрдого в своих убеждениях писателя, который за словом в карман не полезет и может легко отбрить оппонента. — Был я недавно в авиаполку, — начал Первенцев, — и спрашиваю у старых лётчиков, они сейчас уже почти все генералы: «Скажите, есть ли у вас сейчас достойная смена?» Они отвечают: «Есть». — «А в чём смысл работы пилота, летающего на реактивном самолёте с необыкновенной скоростью?» Отвечают: «Это большой каждодневный труд, пилот испытывает небывалые нагрузки и даже стрессы. И если он не закалён, духовно беден и в смысле силы воли слабак, то и пилот из него никудышный». Он должен быть целеустремлённым, способным перестраивать свою психику: на старой технике он в полёте видел землю, мог ориентироваться визуально, а сейчас, на громадной высоте, он может ориентироваться только по приборам, по ним он взлетает и садится. А природа человека ведь остаётся неизменной: то же артериальное давление, те же насморки и ангины, плохо перевариваемая пища... Природа организма, как у солдат Александра Македонского или Суворова, а воздействие на этот организм во сто крат сильнее. И на что человек будет способен, если он слаб духом? А дух он должен черпать из патриотической литературы. Но книг-то о современной армии почти нет, да и откуда они возьмутся, если мы, писатели, эту армию не знаем? И если что-то о ней и написали, то пока что плохо. О современной армии так же трудно писать, как трудно взлететь в противоперегрузочном костюме на колоссальную высоту в современном истребителе... Первенцева сменил Александр Чаковский, главный редактор «Литературной газеты». Малиновский хорошо знал, что Александр Борисович — великий мастер обходить острые углы, любой дипломат ему позавидует. Чаковский сразу предупредил, что будет говорить о проблемах изображения армии в литературе не как главный редактор, а как писатель, иначе это привело бы, по его словам, к ведомственному подходу. «Лукавишь, Александр Борисович, — отметил Малиновский, — скажи уж лучше, что не хочешь нести ответственности как главный редактор: вдруг в ЦК прочитают стенограмму и сделают тебе втык». Чаковский словно бы угадал эту мысль. — Для меня, — подчеркнул он, — проблема, которую мы обсуждаем, слишком кровное дело, чтобы я мог говорить только с позиций редактора. — Я утверждаю, — говорил Чаковский, — что нет более острой, более отражающей социальную психологию общества темы, чем военная. Идёт процесс преодоления культа личности. Сняты определённые ограничения, табу на творческие поиски. И вот литераторы — некоторые литераторы, разумеется, те, у которых дефицит исторического опыта, — принялись раздувать мнимые конфликты, вплоть до конфликта между поколениями. А это опасно, крайне опасно! Это ведёт к дегероизации, к низвержению основ! Эти литераторы в прошлом отливали героям памятники, а теперь сбрасывают их с пьедесталов. После этой тирады Чаковского в зале возникло оживление, послышались возгласы. Малиновскому было ясно, в чём дело: в зале сидели не только писатели, но и маршалы, генералы и офицеры, которые эту войну вынесли на своих плечах. Они не желали, чтобы то, во что они так свято верили, подвергалось сейчас сомнению и ревизии. — Что, товарищи, не согласны со мной? — встревожился Чаковский. — Насколько я знаю, у нас нет книг или кинофильмов на военные темы, в которых наиболее полно выразились бы те недостатки, о которых я говорю. Речь идёт лишь о тенденциях, их можно проследить во многих произведениях. Стараясь поскорее уйти от острых вопросов, Чаковский предпочёл порассуждать о литературе в буржуазных странах. Он заметил, что там каждая война вызывает поток литературы, разоблачающей официальную пропаганду. Это в основном прогрессивная, хотя во многих случаях и пацифистская литература. Писатель этого направления рисует подвиг не как высшее проявление нравственных качеств, не как сознательное свершение человека, а как ситуацию, в которую псевдогерой попадает или случайно, или же против своей воли. — Наши же писатели, — продолжал Чаковский, — при изображении жизни армии в какой-то мере растеряли великолепные традиции тридцатых годов. «Это верно, — согласился Малиновский. — Неплохие были тогда книги, пусть и не шедевры. Но они помогали готовить поколение к войне, вызывали интерес к армии. А какова была любовь народа к своим защитникам! Бывало, завидев на улице военного, особенно лётчика или пограничника, девушки оборачивались и улыбались им вслед. А почему? Романтическое было время, хотя и жестокое. Каждому значительному подвигу — слава. О нём знали все, это был триумф. Спасение челюскинцев, перелёт Чкалова и Громова через Северный полюс, знаменитые полёты женщин-лётчиц Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко, Марины Расковой — всё это было грандиозно, вселяло в души гордость. А разве сейчас нет героев, нет подвигов? Есть! Но как мы любим всё засекречивать, накладывать, как выразился Чаковский, табу». — Посмотрите, товарищи, американские фильмы, в которых изображается война, — говорил Чаковский. — Там уж если пропагандируют американскую армию, так солдат и офицеров показывают такими непобедимыми красавцами, магами и волшебниками, которым сам чёрт не брат! Не знаю, видели ли вы фильм «На последнем берегу»... — А как его увидишь? На эти фильмы у нас тоже табу! — раздалась громкая реплика из зала. — Так вот, этот фильм рассказывает о гибели мира в результате атомной войны. Там показан офицер-американец, который на своей подводной лодке ушёл от радиации в австралийский порт, а когда радиация стала приближаться к Австралии и он узнал, что должен умереть в иностранном порту, то вместе со своим экипажем пошёл в территориальные воды Америки по заражённым радиацией водам океана, чтобы погрузиться в глубины в родных американских водах. Вот как у них воспитывают патриотизм, а у нас есть литераторы, которые начинают ехидно подсмеиваться над этим святым понятием... После перерыва к трибуне, высоко неся седовласую голову, направился Алексей Сурков. Малиновский хорошо знал его и не раз вместе с бойцами и офицерами пел на фронте знаменитую «Землянку». И потому сейчас зааплодировал. Сурков вначале пожаловался на то, что на этой встрече у него лично сложное положение. Он не только поэт, но и член Всемирного совета мира, и по всему выходит, что обязан выступать против войны и ратовать за разоружение, а сейчас приходится говорить об укреплении военной мощи страны и о военной литературе. — Впрочем, я не одинок в этой ситуации, — развёл руками Сурков. — В этом всемирном совете были представлены Фадеев, Тихонов, Эренбург, Полевой, а ведь они всей своей жизнью и творчеством связаны с армией. И я думаю, что наша совесть перед миром чиста. Разве кто-нибудь, кроме законченных идиотов и провокаторов, может утверждать, что высокий и всегда чисто звучавший патриотизм нашей литературы хоть когда-нибудь был проникнут милитаризмом или человеконенавистничеством? Наша литература глубоко патриотическая и гуманистическая. Я не могу понять людей, которые стенают: надоела военная тема, оскомину набила. Не новое это хныканье! Помню, в тридцатые годы примерно так же ныли. А потом по экранам страны могучим валом прокатился фильм «Чапаев», и как он оказался нужен именно в предгрозовую пору! Так что пусть себе хнычут, кому охота, а нам надо делать своё дело. Мне о ракетчиках, правда, трудно писать, особенно если принять во внимание, что моим любимым родом войск всегда была кавалерия... — Да ты не Алексей Сурков, а Семён Будённый! — с места выкрикнул под смех зала Первенцев. — А что такого? Будённый — наш национальный герой! Но я к чему о кавалерии заговорил? Чтобы сказать: прощаюсь с кавалерией, отныне мои самые любимые войска — ракетные. И особенно стратегического назначения! Но главное не в этом. Патриотическая песня — это, други мои, не обязательно ракеты или, там, подводные лодки, которые прошли под полюсом, это прежде всего чувство любви к Родине, ощущение слитности человека с её судьбой. Вот скажите, «Нас утро встречает прохладой» на музыку Шостаковича — патриотическая песня? Ещё какая патриотическая, очень даже патриотическая! А насчёт перекосов в военной литературе, так вот что я думаю, — сменил тему Сурков. — Вы не заметили, что наши знаменитые писатели — не стану называть имён, а то если кого-нибудь пропущу, так смертная обида будет, — так вот, эти знаменитые писатели в сорок втором писали про войну совсем не так, как пишут теперь? Теперь начали мудрствовать от лукавого. Тогда на щит поднимали героев, а теперь приходят в умиление от антигероев. Но, думаю, переболеют они этой болезнью и перестанут шарахаться из одной крайности в другую... Когда пришла очередь выступать Малиновскому, он решил не говорить конкретно о литературных проблемах. Деятели литературы должны узнать, что представляют собой современные вооружённые силы Советского государства, как они совершенствуются, чтобы отвечать требованиям международной обстановки. Министр говорил подробно, по возможности, открыто, насколько это дозволялось грифом «совершенно секретно». И особенно подробно — о новом и горячо любимом министром обороны виде вооружённых сил — ракетных войсках стратегического назначения. Потом перешёл к проблемам особой войны — войны психологической. — Психологическая война — это война идей, — подчеркнул Малиновский. — Вот как определил её английский военный теоретик генерал Фуллер: «Россию следует атаковать изнутри. Этот тип конфликта ведётся на внутреннем фронте противника, то есть путём нападения на него изнутри, а не с внешней стороны». Цель абсолютно понятна: взорвать социализм изнутри, на манер троянского коня. Вам знакомы средства этой войны: шантаж, клевета, провокация. Как метко сказал один американский специалист по пропаганде, психологическое воздействие — это поток, вливающийся в реку международной обстановки, текущей к следующей войне. Так что, дорогие товарищи, проблемы войны и мира есть коренные вопросы современности, — и это коренные проблемы творчества писателей, которых волнует военно-патриотическая тема. Малиновский отпил глоток воды из стакана, стоявшего на трибуне, и внимательно оглядел зал. Его порадовало, что слушали с интересом. Конечно, многое из того, что он сейчас говорил, было в какой-то мере известно. Но в устах министра обороны эти, казалось бы, известные положения переходили из области предположений, версий, догадок и даже слухов в реальные факты современной жизни. А то, что министр как бы приглашал писателей не только фиксировать факты и явления жизни, но и переплавлять их в образы и коллизии новых книг, словно приобщало литераторов к тому великому и важному, чем жила страна и её народ. Затронул Малиновский и собственно военную тему в литературе. — Начну с того, что соглашусь с Алексеем Александровичем: время кавалерии далеко позади! В век технического прогресса у нас в армии есть много людей, обладающих особой профессией, которая прежде нам и не снилась. Это, по сути, военные инженеры, находящиеся у пультов ракетных установок. Сидит себе у пульта скромный молодой офицер, а между тем от его действий зависит, пожалуй, гораздо больше, чем от решений Ганнибала или Наполеона на поле боя. Без преувеличения: зависит судьба государств, а то и континентов. Правильно ли, точно ли он исполнил приказ, идущий от Верховного Главнокомандующего, или же допустил непростительную ошибку? Вот тут и становится понятным контраст между армией прошлого и армией сегодняшнего дня. Каким же ответственным должен быть такой человек! Какую силу духа иметь, какие знания, как должен быть предан своей Родине! Вот бы и показать во весь рост такого героя, — не картонного, не мумию, а живого, во всей его психологической глубине. И ещё мне думается, что маловато у нас романтики, будни нас заедают. А зря. Молодёжи нужна мечта, чтоб вырастали крылья для высокого полёта!.. После официальной встречи Епишев пригласил всех в зал, где уже были накрыты столы. — Страна идёт к празднику Советской Армии, — сказал он. — Думаю, не будет большого греха, если мы его заранее, так сказать, отметим. Собравшиеся встретили это сообщение с восторгом. Малиновский, когда все расселись, произнёс первый тост и вскоре, когда застолье, как это обычно бывает, приняло хаотический, шумный характер, незаметно, «по-английски» покинул зал. Его ждали дела, которые, казалось, невозможно было переделать, хоть трудись круглые сутки. Была и ещё одна причина, по которой он торопился уйти: очень он не любил, когда оказывался на подобных мероприятиях без своей Раечки, Раисы Яковлевны. Когда она сидела рядом, всё, что происходило во время застолья, воспринималось совершенно по-другому. Рядом с ней он ощущал радость жизни, был весел, шутил, каждый эпизод происходящего воспринимал как проявление чего-то праздничного, отличающегося от привычных будней, а без неё проникался чувством одиночества, будто расстался со своей Раечкой навсегда. И потому, когда уже почти у самых дверей его «перехватил» драматург Александр Штейн, Малиновский обречённо вздохнул: «Ну вот, не удалось исчезнуть». Однако то, о чём заговорил Штейн, заинтересовало. — Родион Яковлевич, в первые месяцы войны я служил на линкоре «Октябрьская революция», — заговорил драматург. — Линкор стоял на Кронштадтском рейде. Положение у Ленинграда, если помните, было самое отчаянное. Главный калибр бил уже не только по южному берегу, но и обоими бортами по северному, где наступали финны. Бывало, зенитки линкора отбивали по пятнадцать воздушных налётов немцев в сутки. И представляете, даже в такой обстановке офицеры, политработники, краснофлотцы находили время, чтобы почитать книгу. — Поразительно! — даже не поверил маршал. — Интересно, что же они читали? — Представьте, до начала войны, до двадцать второго июня, самым большим спросом пользовалась «Анна Каренина». А как началась война, всех потянуло к «Войне и миру». Я это сам выяснил по абонементу корабельной библиотеки. — Любопытно. Понадобился, так сказать, первоисточник, из которого можно было черпать силу, мужество, веру. — Да-да, вы совершенно правы, — закивал Штейн. — И ещё одна деталь. Я заметил по обтрёпанным переплётам, что были особенно зачитаны третий и четвёртый тома романа, в которых речь идёт об отступлении, об оставлении Москвы. А самым любимым фильмом, который балтийцы просили показывать десятки раз, был фильм «Мы из Кронштадта». — Прекрасное подтверждение всему тому, о чём мы говорили на сегодняшней встрече, — заметил Малиновский. — Но это всё в прошлом. Я ведь вот о чём хотел вам сказать, Родион Яковлевич, вы уж извините, что задержу вас на несколько минут. Трудно, очень трудно стало работать над произведениями об армии. Ну, во-первых, жесточайшая цензура. Во-вторых, и ваше ведомство не даёт развернуться. Если в произведении герой гибнет, значит, уже дегероизация. А если изобразить ЧП в армии — так это уже поклёп на все вооружённые силы. Закрутит писатель сложный конфликт — сразу вопль: какие могут быть конфликты в нашей армии, если она едина? Мы-то понимаем, что, конечно же, всякие ЧП армии ни к чему, но в жизни они происходят! А в драматургии так без конфликтов и вовсе чёрт его знает что получается! Вы же сами не будете смотреть спектакль, который вроде пустой агитки. — Абсолютно разделяю ваше мнение. — Вот видите! — обрадованно воскликнул Штейн. — Но попробуйте растолковать это военным чиновникам! Они требует, чтобы всё было точно по уставу. Но если идти таким путём, ничего хорошего для литературы не будет. — Будем делать всё возможное, чтобы устранять эти проблемы. Хотя, сами понимаете, задачка не из арифметики, а из алгебры. — Спасибо хоть за обещание, Родион Яковлевич. А главное — за понимание. — Хочу вам сказать, что смотрел многие спектакли по вашим пьесам. Особенно на душу лёг «Флаг адмирала». Адмирал Ушаков — великая личность! Умеете вы живописать моряков. — Ещё раз спасибо на добром слове. Но по мне, — горячо, будто ему кто-то возражал, заговорил Штейн, — лучшее, что есть в нашей драматургии, так это «Оптимистическая трагедия». — Вишневский тут самого себя превзошёл. — Малиновский как бы мысленно увидел неугомонного Всеволода, с которым ему довелось встречаться в Испании. — Да и сам он человек, каких мало на свете. И талант, и воля, и ум, да и фанатизм — всё в одном человеке! А какое мужество! — А ведь сколько травили его за эту самую «Оптимистическую трагедию»! Мол, воспел случайных анархо-бандитских персонажей, проникающих в наш флот. А он просто-напросто боролся с благополучненькой прилизанностью театральных пасторалей за смелость и остроту в изображении военной темы. И до сих пор эта борьба не потеряла своей актуальности. Сколько у нас развелось критиков-формалистов, своим ядом отравляющих истинное творчество! Тут и заушательская критика, и разгромные статьи с ярлыками, и того хуже — прямое замалчивание. — Но тем смелее должна быть борьба со всем этим. — Пока эта борьба не в нашу пользу, — вздохнул Штейн. — Чиновник слушает и ухмыляется: «Уж теперь кого-кого, а тебя, мерзавец, когда ты свои опусы в издательство понесёшь, я так прищучу — век будешь помнить!» Малиновский засмеялся и сказал: — Волков бояться — в лес не ходить! Пусть литературная общественность не молчит. Однако позвольте откланяться, я уже и так задержался. — Простите, ради бога. Но когда ещё удастся вот так поговорить? Трибуна, она и есть трибуна, личного общения она, увы, не заменит. — А вы заходите ко мне как-нибудь, — пригласил Малиновский. — Созвонитесь и заходите. Выйдя на улицу к машине, он с наслаждением вдохнул ядрёный морозный воздух. Все его мысли уже были дома. На следующий день Епишев пришёл к министру обороны и осторожно поинтересовался: — Ну что, Родион Яковлевич, удалась встреча? Как, на ваш взгляд? — Кажется, всё прошло нормально. Остаётся только, чтобы теперь писатели ещё и книги писали. — Куда они денутся! — бодро заверил Епишев. Малиновский неожиданно громко рассмеялся. Епишев с удивлением уставился на министра. — Тут мне одна маленькая историйка вспомнилась, — подавив смех, сказал тот. — А может, байка. Приезжает как-то корреспондент одного нашего журнала из командировки в воинскую часть, докладывает главному редактору о своих впечатлениях. Говорит, в части нет элементарного порядка, дисциплина ни к чёрту. А редактор смотрит на него непонимающе. «Как так? Мы же в прошлом номере журнала передовую статью о воинской дисциплине печатали, а в позапрошлом номере — о чести и достоинстве советского воина. Что они там, журнал наш не читают?» Хорошо, что ещё корреспондент не брякнул, что в одном из подразделений зашёл по нужде в солдатский туалет и увидел одну из тех передовиц висящей на гвоздике. Вот так, Алексей Алексеевич, порой бывает, а мы так уповаем на статьи! — Намекаете, Родион Яковлевич, на пустопорожность наших вчерашних разговоров? — Ну что вы, ни в коей мере. Слово — великая сила. Недаром же в Библии: «Вначале было слово». Разумеется, не каждое. Бывает, слово вдохновит, а бывает — и убьёт. Малиновский умолк и, уже пожимая руку Епишеву, произнёс не то серьёзно, не то в шутку: — Теперь нам с вами остаётся от писателей шедевров ждать. Наберёмся терпения. ...В середине дня зазвонил «главный» кремлёвский телефон. — Привет, Родион Яковлевич! Хрущёв говорит. — Добрый день, Никита Сергеевич! — Скажи-ка, ты у нас кто? — Пока что министр обороны, — сухо ответил Малиновский, предчувствуя какую-нибудь пакость. — Вот-вот — обороны! — подхватил Хрущёв. — А я уж, грешным делом, подумал, что ты у нас министр культуры. Или того хуже — секретарь Союза писателей. — Что-то я не очень понимаю... — А чего тут понимать? Тебе что, делать больше нечего, как с этими щелкопёрами возиться? Мало того что я их то и дело уму-разуму учу, так ещё и ты впрягся. С меня пример берёшь? — В голосе Хрущёва проступала ревность: вот какой конкурент нашёлся! — Так мы, Никита Сергеевич, вместе с Главпуром посчитали, что такая встреча будет полезной. Епишев и в ЦК это согласовывал. Да и писатели были довольны. Сурков — так тот прямо сказал, что впервые за тридцать лет такое совещание, точнее, встреча проходит. Войну вспоминал, как тогда писатели с военачальниками часто встречались. — А ты его побольше слушай, этого песенника, он тебе ещё не то напоёт! Его мёдом не корми, только дай поговорить. По известному принципу: прокукарекал, а там хоть не рассветай! Ну да ладно, речь о тебе. Ты у нас, можно сказать, самый главный министр — обороны! На тебе все наши вооружённые силы. Вот и занимайся ими. Ты ещё с трибуны этой встречи не сошёл, а вражеские зарубежные голоса уже затявкали: в Советском Союзе идёт полная милитаризация умов, сам министр обороны призывает писателей вооружаться. Ты небось вчерашнее радио «Свобода» не слушал, коньячок с письменниками попивал, а я вражеские голоса не пропускаю. Зачем же на их мельницу воду лить? — Учту, Никита Сергеевич, — коротко сказал Малиновский. — Учти, учти, — уже миролюбиво произнёс Хрущёв и повесил трубку.
12
Для Родиона Яковлевича Малиновского рыбалка была не просто страстью — она была, пожалуй, единственной возможностью отрешиться хотя бы на время от всего, что наполняло жизнь тяжестью проблем. На рыбалке забывалось всё, причём настолько основательно, что вроде бы это всё и не существовало вовсе: и Министерство обороны, и, прямо-таки страшно подумать! — ЦК партии, и даже семья. В центре мира оказывался лишь поплавок удочки летом и сторожок удильника зимой, а главным вопросом жизни становился вроде бы самый что ни на есть пустяковейший вопрос: клюнет или не клюнет? И потому рыбалка из обычного досуга превращалась в некое всемогущее целительное средство, которое хотя бы на несколько часов снимало нервный стресс, успокаивало душу и побуждало думать об этой самой жизни как о величайшем счастье, дарованном высшими силами. Иногда хаживал он и на зимнюю рыбалку. Казалось бы, чего хорошего: мороз, вьюга, хмурое небо, бредёшь к водоёму, ощущая на себе непомерную тяжесть полушубка, валенок, меховых штанов да ещё и увесистого рыбацкого ящика. Но что по сравнению с этим значил почти священный ритуал зимней рыбалки: снятие чехла с ледобура, нетерпеливое сверление лунки, когда во все стороны, брызгая острыми осколками, летит зеркальный лёд, сверло вот-вот дойдёт до воды, с шумом вытолкнет на поверхность ледяное мокрое крошево, и после того, как лунка будет тщательно очищена специальной ложкой, можно будет размотать леску и опустить в холодную таинственную глубину мормышку с насаженным на крючок мотылём! А потом, поудобнее усевшись на мягкое, обитое войлоком сиденье рыбацкого ящика, ждать, как высшего проявления счастья, того священного мига, когда вдруг оживёт, дрогнет сторожок и обозначится первая, такая желанная поклёвка! Малиновский любил рыбачить в одиночестве, даже адъютанта просил сверлить лунки подальше от того места, где располагался сам. Не хотелось, чтобы от священнодействия отвлекали разговорами, которые как бы снова окунали его в водоворот служебных дел и перечёркивали всё, ради чего он оказался здесь, на водоёме. Однако в этот раз ему не удалось побыть в одиночестве: на рыбалку увязался давний друг, отказать которому он не мог. Друг этот был человеком надёжным, преданным и порядочным. Он подружились ещё на фронте, где Дмитрий Тимофеевич Штоляков был членом Военного совета армии, какое-то время входившей в состав 2-го Украинского фронта. Что-то прочное соединило их — скорее всего, похожее восприятие жизни. Главное, у истоков этой дружбы не маячило никакой корысти, никаких взаимных обязательств друг перед другом. Никто никого не выручал в бою, не помогал продвинуться по служебной лестнице. После войны Штоляков и дальше пошёл по партийной линии, был взят на работу в ЦК партии, трудился в сфере идеологии и обладал завидным даром быть осведомлённым если не обо всём, то, во всяком случае, о многом. Обладая такой информацией, умный человек мог выстраивать свои отношения с людьми, стоявшими у власти, соотносить свои действия со складывавшейся обстановкой и предотвращать опасности, которые частенько проистекают как раз от незнания истинного положения дел. ...Погода в этот день явно не удалась. Снежные обвалы то и дело вырывались из низких тяжёлых туч, снегом замело прибрежные леса, забило лунки, он покрывал толстым слоем шапки и воротники полушубков. Клёва не было совершенно. — Настоящая свистопляска, — наконец не выдержал Малиновский. — Один выходной, и тот собаке под хвост. И это называется рыбалка по последнему льду. Верно говорят: марток оставит без порток! — Не переживай, Родион, — бодрился Штоляков, возвышаясь над лункой массивной фигурой. — Более того, радуйся, что погодка решила испытать нас на прочность. Мы же с тобой мужики привычные, — неужто забыл, как мело зимой сорок четвёртого? — Так то война. — А и сейчас война, — возразил Штоляков. — Вся наша жизнь — война, и ничего более. Давай-ка плюнем пока на эти треклятые лунки, да перекусим. Окунь, он что, дурак? Он тоже не любит, когда погода плохая. Есть предложение! Нет возражений! Эта фраза была у Штолякова самой любимой в подобных ситуациях. Произнеся первую половину, он тотчас же, без малейшей паузы, задорно и непререкаемо произносил вторую. В этой фразе как бы вырывался наружу дух времени: все голосования, будь то на партийных съездах и конференциях или обычных собраниях, не обходились без «Есть предложение! Нет возражений!», подчёркивая не только единогласие, но и единомыслие каксовершенно обязательную и неизменную позицию масс. — Да в этой круговерти и перекусывать-то непросто, — засомневался Малиновский. — Не узнаю тебя, Родион! — Штоляков был большой любитель подтрунивать над друзьями, беззлобно и весело. — Как же тебя мирные годы избаловали и изнежили! Не бойся, рюмашку мимо рта не пронесёшь! К тому же я прихватил с собой палатку. Сейчас мы её установим. И при мне бутылочка «Посольской» из кремлёвского буфета, чиста, как слезинка! И на утро — никакой тебе головной боли. С превеликим трудом они установили палатку. Штоляков быстренько выудил из рыбацкого ящика бутерброды с ветчиной, варёные яйца, осетрину, нарезанную аппетитными ломтиками, солёные грибки, термос с чаем. И принялся открывать бутылку с водкой. — Надо бы адъютанта позвать, а то его, пожалуй, уже снегом замело, — забеспокоился Малиновский. — Успеется, — возразил Штоляков. — Ты же его на два часа дня пригласил, а мы накрыли стол пораньше. Ничего, молодой, потерпит. Понимаешь, Родион, у меня к тебе есть очень важный разговор без свидетелей. — А ежели тебе в бутылочку с «Посольской» «жучка» вмонтировали? — поддел министр. — А что? Не удивлюсь, такое не исключено! Или в бутерброд. Мы же все живём на прослушке! Думаешь, Никиту не прослушивают? Ещё как. — Ладно, давай лучше выпьем. — Всегда готов! — радостно согласился Штоляков. — Единственное спасение от этой холодрыги. — И он первым осушил гранёный стаканчик. Малиновский тоже выпил и принялся за бутерброд. — Фронт напоминает, — задумчиво произнёс он. — Вот только ты, Дима, традицию нарушаешь. Водочку надобно не в бутылке возить, а во фляжке. Вот погляди. И, отвернув край полушубка, показал на тёмно-зелёную солдатскую флягу, притороченную к поясному ремню. — Вот это я приветствую! — закивал Штоляков. — Приму меры! А эту твою флягу зачисляю в НЗ! На таком морозе одной моей бутылки всё одно не хватит. Адъютанты, они тоже выпить не дураки. Слушая праздную болтовню друга, Малиновский легко разгадал его замысел: не хочет Дмитрий вот так, с ходу, начинать главную тему, ведёт «артподготовку», настраивается. Выпили по второй и почти сразу же — по третьей, на морозе водка почти не «брала». Наконец Штоляков заговорил: — Знаешь, Родион, хочу с тобой пооткровенничать. Тема разговора не телефонная. Да и на кухне не безопасно, сам знаешь. Теперь смекаешь, зачем я увязался с тобой на природу? «Вот тебе и рыбалка, вот тебе и отдых, — подумал Малиновский. — Куда сбежать от всего этого? В космос, что ли? Да и там достанут». Однако загадочное вступление старого друга разожгло любопытство. Что он там собирается поведать? — Хочу сказать тебе, Родион, со всей прямотой: не завидую я тебе, ей-ей, не завидую, — серьёзно, без ёрничества заговорил тот. — Спросишь, чему не завидую? А тому, что ты не просто министр, а министр обороны. Спросишь, отчего? Отвечаю: оттого что ты министр обороны у великого баламута и авантюриста Хрущёва. Это ведь только видимость, что Никита прочно сидит в своём кресле, — он скоро неминуемо С него слетит. — Это слухи или факты? — спокойно поинтересовался Малиновский. — Погоди, будут тебе и факты. А пока пораскинь мозгами: ты что, не видишь, что над этим клоуном вся планета потешается? Как он только не куролесил: совнархозы выдумал, партию на две части разделил — на сельскохозяйственную и промышленную, военно-морской флот загубил — корабли автогеном порезал, офицеров и генералов в свинопасы определил. Военные базы, гордость и силу нашу, — и Петсамо, и Порт-Артур чужеземцам подарил, Крым Украине под стаканчик перцовки отдал... А внешняя политика! В ООН перед всем честным народом башмаком стучит. Стыдоба! Страну своим рылом позорит! Культ личности, видите ли, развенчал... Ему за это наша интеллигенция осанну поёт! А как он раздул свой собственный культ! «И лично, дорогой Никита Сергеевич, и лично, и лично...» Тьфу! Безграмотный мужик распутинского толка, пройдоха и интриган, клеймо негде ставить! Хвалу ему воздают: репрессии осудил, Сталина заклеймил, людей из лагерей вызволил. А он что, в сторонке стоял, когда их в лагеря эшелонами гнали? На одной только Украине, где он тогда партийным божком был, сколько было арестовано с его личной резолюцией? Десятки тысяч! А теперь напялил на себя овечью шкуру! Расчёт нехитрый: всё на Сталина свалить, а самому чистеньким остаться. — Интеллигенция благодарна ему за «оттепель», за то, что хоть глоток свободы ей дали, — задумчиво произнёс Малиновский. — И ведь вызволил же он невиновных из ГУЛАГа. — Интеллигенция! — презрительно хмыкнул Штоляков. — Да ей, этой твоей интеллигенции, лишь бы разрешили из подворотни свободно полаять! Ты, поди, знаешь, как в прошлом истинная русская интеллигенция себя вела. Всегда была в оппозиции к власти. При живом царе. А наша? Сталину фимиам курила, а теперь с грязью смешала. А помнишь, какие дифирамбы создавались? И он вполголоса пропел:
Вот что сочиняла твоя интеллигенция. И готова была Сталину сапоги лизать. А ныне? Мёртвого льва и осёл может лягать. Да что там интеллигенция! В этом хоре главным солистом кто был? Хрущёв! Слышал, наверное, как он говаривал, когда ему безбожно льстили: «Вот вздумали: Сталин — Хрущёв... Да Хрущёв говна Сталина не стоит!» И верно ведь! Где он только не повторял этот свой афоризмик! А в топтании Сталина его никто не обскакал. Правду с ложью, реальность с мифом смешивал и этой адской смесью поливал усопшего! А твоя творческая интеллигенция этим восхищалась, визжала от радости да гимны слагала, теперь уже в честь мудрейшего и «народнейшего» Никиты Сергеевича. Штоляков передохнул и глотнул из стаканчика. — А как он шельмовал всё, что было сделано до него! Забыл начисто, что победили мы Гитлера при Сталине. И восстановили страну, которая в руинах почти вся лежала, тоже при Сталине. А что он сам-то сделал, Никита, что? Болтовнёй своей уже всех достал. Доклады по восемь часов читает, да не читает, а по слогам бредёт, спотыкается на каждом слове. А оторвётся от текста — и поехало: «Мы вам покажем кузькину мать», «Мы не лаптем щи хлебаем», «Они там, в Америке, ноздрями мух давят», «Эйзеньхауэру нужно было быть не президентом, а заведующим детским садом», именно так — Эйзеньхауэру, через мягкий знак. А после этого бреда возьмёт да и сказанёт: «Ну, я тут оторвался чуток от текста. Вот вижу, иностранные корреспонденты, как мыши, забегали, к телефонам рвутся, чтобы скорее в свои газетёнки сообщить: Хрущёв сказал так, Хрущёв сказал этак. Им сенсаций подавай, побольше жареного, продажным шкурам! Пора вам, господа борзописцы, перестать брехать да выть на луну, как волки воют. Если мы уж самого Господа Бога за бороду взяли, то вас тем более, только не за бороду — у вас её нет в наличности, — а за жабры возьмём, так что и не пикните супротив нас!» — Штоляков, почти дословно повторив Хрущёва, негодующе плюнул: — Вот кто нами правит, Родион, — он вызывающе посмотрел на Малиновского. — А ты у него министр! — Да и ты ведь не рядовой сотрудник, — усмехнулся тот. — Правителей в нашей системе, как и родителей, не выбирают. К тому же, учти, министр я не у него, а у народа. — Наивно рассуждаешь! — Ты больше не пей, Дима, — почти ласково предостерёг Малиновский. — А то самим собой не сможешь управлять. Тем не менее Штоляков упрямо опрокинул ещё одну стопку и усмехнулся: — Надеюсь, до дому меня доставишь в целости и сохранности? — Это не проблема. — Анекдот армянского радио слыхал? — вновь завёлся Штоляков. — Армянское радио спрашивают, можно ли завернуть в газету слона. Ответ: конечно, можно, если в газете напечатан доклад Хрущёва. Малиновский прежде слыхал этот анекдот, но всё же не удержался сейчас, чтобы не рассмеяться. — Так ты, Дима, и есть, насколько я знаю, один из тех, кто ему эти доклады готовит. — Каюсь, Родион, каюсь. Самого себя за это ненавижу. — Вот видишь, все мы не ангелы. Сами творим себе кумира для того, чтобы потом топтать его. — Вот ты военный человек, Родион, военный, можно сказать, по призванию, от рождения и до конца жизни. Неужели тебя не оскорбляет, как Хрущёв издевается над военными? Он же вас всех, полководцев, причём истинных полководцев, в свадебных генералов превратил. И Рокоссовского, и Конева, и Василевского, да и тебя тоже, хоть ты и министр. Я уж о Жукове не говорю — это ж надо, такого полководца, можно сказать, современного Суворова, опалой своей раздавил! — Тут закон самосохранения сработал. Не раздави он Жукова, Жуков бы его, пожалуй, сам раздавил. Жуков, не спорю, полководец, хотя и не единственный спаситель Отечества. — Пусть не единственный, но ведь большой? А Хрущёв и поныне ему мстит, подлянки устраивает. Жуков начал писать мемуары, так посмотрел бы ты, как там, на нашем партийном Олимпе, всполошились. Сам Хрущ в кресле заёрзал, икру заметал: а что он там, мерзавец опальный, накатал, как он там нас, великих и мудрых, изобразил? И вот нажимает на все педали, чтобы издание этих мемуаров всячески тормозить. — Штоляков уставился на Малиновского. — Ты-то, Родион, в этом деле какую позицию занимаешь? Небось тоже рогатки ставишь? — Плохо ты, видать, меня знаешь, Дмитрий, хоть и числишься другом, — голос министра посуровел, но в его тоне не было обиды. — Моя позиция такая: мемуары Жукова надо издавать. Что бы он там в них ни написал — это его, личная, точка зрения, его право. И если даже погрешит в чём-то против истины — так это на его же совести и останется. Был у меня разговор с Первым на эту тему. И ему я сказал то же, что и тебе сейчас. — И как он? — А как, по-твоему? Ясно, в восторг не пришёл. Снова начал меня провоцировать: Жуков-де тебя не уважает как личность, называет хитрым приспособленцем. Ну и что из этого? История всё расставит по своим местам. — Даже не верится, что у тебя нет обиды. — Штоляков удивился. — Тут как-то пришли ко мне товарищи, причём вовсе не из рядовых, спрашивают: как быть с женой Жукова? — сменил тему Малиновский. — С Галиной Александровной? — Да. Она же врачом в госпитале работает. Пришли, мнутся, с ноги на ногу переступают, мол, сами понимаете, почему спрашиваем. Задаю вопрос: как она работает? Отвечают: претензий нет. Так в чём проблема? — говорю. — Пусть продолжает спокойно работать. Штоляков от удивления покачал головой. — Ну, ты даёшь, Родион. Ты как будто человек не нашей эпохи. — Вот ты, Дмитрий, одно словечко тут произнёс: месть. Поганое это словечко. — Так-то оно так. А только не зря ведь сказано: «Мне отмщение и аз воздам». Малиновский промолчал: непростая тема, долгий разговор может получиться, да и друга вряд ли переубедишь. А тот вновь оседлал своего конька: — Кто он был у Сталина, этот Никита? Шут, самый настоящий шут! А сейчас пытается строить из себя такого умника, только держись! А сам, пожалуй, ни одной книжки до конца за свою жизнь не прочитал, кроме букваря. Зато писателям, учёным, да ещё и художникам какие ценные указания даёт! Помнишь, как он летом, в Семёновском, в районе бывшей дачи Сталина, писателей собрал? Так сказать, променад на природе. Довелось и мне там побывать. Стол закатил — труженики пера обалдели. Сам за воротник заложил, писателям рта не давал открыть. Старушка Шагинян вякнула что-то о недостатках в стране, так он ей с ходу: «А хлеб и сало чьё едите?» Мариэтта, хоть и глухая, расслышала, вскочила, как молодайка: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба!» И выскользнула, как мышка, из-за стола. А Маргариту Алигер обозвал идеологической диверсанткой. Та в ответ: «Никита Сергеевич, что вы говорите? Я же коммунистка, член партии!» А он: «Лжёте! Не верю таким коммунистам! Вот беспартийному Соболеву верю!» И представляешь, тут с небес такой гром грянул, такой ливень обрушился! Хрущ радостно: «Вот и небеса против таких, как вы! Прикидываетесь друзьями! Пакостите за спиной! О буржуазной демократии мечтаете? Дудки, господа, не выйдет!» А гром прямо как у Тютчева, помнишь: «Гремят раскаты громовые!» Смотрю, Маршак, весь мокрый от дождя, дрожит и лепечет то ли с восторгом, то ли в ужасе: «Что там Шекспир! Шекспиру такое и не снилось!» Штоляков на минуту умолк. — Лучше всех нашего Хруща Черчилль оценил. Это, говорит, человек, который всегда стремился перепрыгнуть пропасть в два приёма. В самую точку! И ты знаешь, Родион, по мне, не так страшно, что человек глуп, но когда глупец ещё и с амбициями — вот что страшно! Он такие флюиды вокруг себя распространяет! Сам по природе лжец, плодит лжецов, сам льстец, тут их целая армада, сам прохвост и карьерист — и вот уже таких «последователей» видимо-невидимо... — Слушай, Дима, — не выдержал Малиновский, — тебе не надоело? Что ты мне Америку открываешь? — Ещё одно, последнее, сказанье, и летопись окончена моя! Ты не удосужился небось подсчитать, сколько раз в многотомнике «История Великой Отечественной войны» Хрущ упоминается, да ещё с величальными эпитетами? Не читал? А жаль, главное упустил! Так вот, Никита упоминается сто двадцать девять раз! А Сталин? Всего девяносто девять, да и то, как правило, со знаком минус. Что касается Жукова, то его аж двадцать четыре раза упомянули. Есть у них совесть, скажи? Не Жуков, выходит, воевал, а Хрущёв! Как это тебе нравится? Нет, ты только подумай: Никиту называли едва ли не в полтора раза чаще, чем Сталина, и в пять раз чаще, чем Жукова! — Эх, Дима, испортил ты рыбалку своими разговорами, — вздохнул Малиновский. — Это ещё не всё, Родион. Один совет тебе последует. Уйди со своего поста под любым предлогом. Ну, скажем, на болезнь сошлись, на возраст. Малиновский сидел нахмурившись. — Что ж ты молчишь? — Совет этот мне не подходит, — наконец заговорил он. — И знаешь, почему? По одной простой причине: военная служба — это моя жизнь. И никогда я не был дезертиром. Штоляков беспомощно развёл руками: — Твоя воля, Родион. Но помни, что я тебя предостерегал. Ну ладно, хватит об этом. Вот ты говоришь — я рыбалку испортил. Какую рыбалку? За весь день — ни единой поклёвки!.. ...Вернувшись домой, Малиновский долго размышлял над тем, что ему наговорил Штоляков. «Неладно в Датском королевстве, — думал он. — Что это Дмитрий с таким остервенением взъелся на Никиту? Тот усиленно продвигает его с одной ступеньки на другую, недавно очередной орден вручил. Выходит, достал всех наш высший руководитель, совсем достал... Похоже, не усидеть ему в своём кресле. И соответственно министрам, которые под его началом работают. Хотя тебе чего опасаться, Родион? Как это любят говорить молодые лейтенанты: «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют». Ему неожиданно вспомнилась Кушка. Побывал он там, в самой южной точке СССР, первым и последним из министров обороны — жара, как на раскалённой сковородке. Дотошно осмотрел казармы — те, что были построены недавно. А по соседству увидел старые, дореволюционные казармы, с крышами в виде шатра и со стенами едва ли не в метровую толщину. Вначале было удивился, но потом смекнул: крыши шатром и толстые стены, это с учётом климата. Летом — прохлада, зимой — тепло. А в казармах, где обычные плоские крыши, нечем дышать в жару, в мороз кровь стынет. Основательно пожурил за несообразительность строителей. А вернувшись в Москву, получил срочное донесение от командующего Туркестанским военным округом Федюнинского. Тот сообщил — на Кушку неожиданно обрушился ливень, вызвавший наводнение. В результате казармы с плоскими крышами были так сильно повреждены, что хоть строй заново. А те, что царской постройки, целёхоньки! Он тогда взял ручку и вынес резолюцию: «И.И. Федюнинскому. А царь-то не дурак был. Р. Малиновский». «Если пошлют в Кушку, — с усмешкой подумал Родион Яковлевич, — мы поселимся с Раечкой не там, где плоская крыша, а там, где шатёр. И нормально заживём всем чертям назло!»
13
Однажды, накануне выходного дня, Малиновскому позвонил Василевский: — Родион Яковлевич, приветствую сердечно. Давненько мы с вами не перезванивались. Как думаете провести предстоящее воскресенье? — Рад вас слышать, Александр Михайлович! Да у меня этих самых воскресений почти не бывает. А сейчас выкроил было окошко, хотел на рыбалку махнуть, да видите, какая отвратная погодка на дворе. — Выходит, эта самая погодка как раз на моей стороне, — засмеялся Василевский. — Очень хотелось бы повстречаться, Родион Яковлевич. Может, приедете ко мне на дачу, хоть ненадолго? Я бы и сам к вам приехал, если бы пригласили, да что-то ноги меня подводить стали. — А что? С удовольствием приеду. — Вот и замечательно. Может, в шахматы сыграем. Я ведь о вас наслышан как о сильном шахматисте. Заодно и о делах поговорим. Меня последнее время часто бессонница одолевает. Какой-нибудь «ТУ-104» над крышей пролетит, а я с постели вскакиваю, будто это «юнкерс» над головой. — Понимаю вас, Александр Михайлович. Тут наши ощущения схожи. Это уж, видно, навсегда... — А тут ещё иные военачальники войну забыть не дают, — пожаловался Василевский. — Хорошее это дело — мемуары писать, для истории полезно. Да только не переношу я, когда кое-кто из наших мемуаристов правду искажает, то ли по забывчивости, то ли с какой-то подспудной целью. — Имеете в виду кого-либо конкретно? — поинтересовался Малиновский. — Угадали. Вы, надеюсь, уже читали книгу Ерёменко «Сталинград»? — Как же, читал. — А обратили внимание на страницы, где он пишет об оперативной обстановке на Сталинградском фронте во второй половине декабря тысяча девятьсот сорок второго года? — Обратил, разумеется. Что-то он здесь напутал. — Вот-вот. Мне и хотелось затронуть эту тему. Годы идут, иных уж нет, а те далече. Не хотелось бы, чтобы история нашей войны была искажена. Кстати, Родион Яковлевич, жду вас непременно с милейшей Раисой Яковлевной. — Спасибо, Александр Михайлович. К сожалению, Раиса Яковлевна моя сейчас в Ленинграде. А сам я непременно буду. К какому времени лучше? — Если вас устроит, то к обеду, часикам к четырнадцати. — Прекрасно. Буду к этому времени. Как и обещали синоптики, воскресенье выдалось таким же дождливым, как и суббота. Казалось, на всё Подмосковье обрушился водопад. В окрестных лесах низкие тучи едва не задевали верхушки деревьев. До дачи Василевского Малиновский добрался на удивление быстро. Дом, в котором жил Александр Михайлович, спрятался в лесу. По крышам без устали барабанил дождь, в водосточных трубах звенела вода. Хотелось поскорее попасть в дом, очутиться поближе к камину, в котором весело трещат поленья. Василевский встретил старого знакомого на пороге. Они крепко, как фронтовые побратимы, обнялись и немного постояли обнявшись, будто все эти годы искали друг друга и вот наконец нашли. В гостиной был уже накрыт стол. — Ну как, вспомнили Сталинград? — после того, как обсудили другие темы, спросил Василевский. — Перечитали страницы, о которых я упоминал? — Перечитал. Правда, отвлекали меня этой ночью. В Приволжском округе у нас ЧП, вот и пришлось разбираться. — Что-нибудь серьёзное? — Вертолёт разбился, пять человек погибло. — Грустно. Техника или человеческий фактор, как теперь принято говорить? — Пожалуй, и то и другое. Разбираемся. Василевский помолчал. Хоть и привык он на войне ко всяким ЧП, но и тогда, и теперь гибель людей воспринимал болезненно. — Так вот, о «Сталинграде». Ерёменко пишет, что в декабре сорок второго года немцы нацелили свой удар из района Котельниково с целью вызволить из «котла» окружённую армию Паулюса. Прорвать блокаду Гитлер приказал к двадцать пятому декабря, то есть к Рождеству. Вначале немцы планировали осуществить прорыв двенадцатого-двадцатого декабря, но этот замысел провалился. В результате было выиграно время для сосредоточения вашей, Родион Яковлевич, 2-й гвардейской армии. Всё это верно. А вот дальше он утверждает, что двадцать второго декабря от представителя Ставки Верховного Главнокомандования Василевского ему, Ерёменко, был доставлен план операции 2-й гвардейской армии, графически изображённый на карте. И якобы он, Ерёменко, изучая план, пришёл к заключению, что тот, к сожалению, не соответствовал оперативной обстановке момента и ни в какой степени не увязывался со временем, которое предоставлялось нашим войскам этой обстановкой. — Да, я тоже обратил внимание на этот непонятный пассаж, — согласился Малиновский. — Он пишет, что моя армия должна была нанести главный удар в направлении Абганерово — Аксай — Дарганов и далее на Котельниково и что такое направление удара вело к сложной перегруппировке войск, которую мы должны были произвести перед фронтом противника. К тому же в соответствии с таким планом механизированные части при своём передвижении должны были описать дугу, чтобы выйти к слабому флангу противника. — Вот видите! И пытается доказать, что при этом оставлялось выгодное направление для удара тоже по уязвимому и притом близкому левому флангу противника и что в значительной степени нарушалось сосредоточение группировки, нацеленной для удара с рубежа Черноморов — Громославка в общем направлении на Котельниково. — Интересные, даже забавные мысли он высказывает, — Малиновский усмехнулся. — А чем дальше, тем забавнее! Мол, в этих условиях для перегруппировки войск вашей, Родион Яковлевич, армии потребовалось бы дополнительно двое-трое суток, и мы бы не смогли нанести своевременный удар по Манштейну. Кроме того, мол, рокировка армии влево привела бы к перемешиванию её войск с 61-й армией, что стеснило бы действия. — Василевский помолчал, поправил очки. — Далее Ерёменко пишет, что все эти соображения он изложил Василевскому по прибытии в район сосредоточения 2-й гвардейской армии. И якобы Василевский воспринял его критику, как подобает коммунисту, отказался от своего ошибочного предложения и одобрил его, Ерёменко, план. А после этого Василевский пригласил Малиновского, командиров корпусов и других руководящих лиц армии и поставил задачу в соответствии с принятым им решением, назначив наступление на двадцать четвёртое декабря, вопреки предложению командования 2-й гвардейской армии начать его двадцать пятого декабря. Как вам это нравится, Родион Яковлевич? Удивительные, мягко говоря, утверждения, не так ли? — Можно выразиться и покрепче, Александр Михайлович. Не подозревал у Ерёменко задатки писателя-фантаста. А хотите знать, какую пометку я сделал на этой его странице, на полях? — Ну-ка, ну-ка. — «И горазд же ты врать, братец!» — В самую точку попали, Родион Яковлевич! — закивал Василевский. — Я просто теряюсь в догадках, чем руководствовался Ерёменко, приписывая мне некий мифический план операции, противопоставляя ему столь же мифический свой. Вы же знаете, что никаких документов со своими соображениями об использовании вашей армии против Манштейна я командующему Сталинградским фронтом не посылал. Помните, план действий вашей армии мы разрабатывали с вами совместно, после чего я восемнадцатого декабря доложил его Верховному, который и утвердил этот план. — Помню очень хорошо, — подтвердил Малиновский. — И знаю, что план операции, который вы представили в Ставку, ничего общего не имеет с тем, что приписывается вам в этих мемуарах. Ерёменко явно передёргивает! То ли память ему изменила, то ли ещё что... — Вот такие происходят метаморфозы. — Василевский вздохнул. — Кстати, Родион Яковлевич, я и поныне уверен, что ваши и мои предложения об использовании в этой операции мощных 2-й гвардейской армии и 6-го механизированного корпуса были правильны. Мы предлагали их направить к началу операции в район Аксай — Перегрузный для удара против слабых румынских войск в юго-западном направлении и в тыл танковой группировке противника. Это могло бы поставить в тяжёлое положение 57-й танковый корпус немцев. — Безусловно, — подтвердил Родион Яковлевич. — Более того, сомневаюсь, чтобы этот корпус мог бы при отступлении проскочить через Котельниково... Так, вспоминая пережитое, просидели старые полководцы за столом до самого вечера. Потом вышли на террасу. Дождь утих, пахло липовым цветом, дышалось легко и привольно. Заговорили о жизни, о прочитанных книгах. — Недавно наткнулся на интересную мысль Честертона[13], — сказал Малиновский. — Я знаю, Александр Михайлович, вы большой его поклонник. Помните, наверное: «Истории нет. Есть историки. Рассказать о событиях просто и прямо много труднее, чем исказить их». — Как раз к теме нашего разговора, — оживился Василевский. — Честертон, как всегда, прав. По дороге домой Родион Яковлевич размышлял о былом и всё время ловил себя на мысли о том, что ему, Малиновскому, повезло. Повезло в том смысле, что представителем Ставки на его фронте был именно Василевский. Ведь представители эти бывали самые разные — по своей компетентности и военным знаниям, характеру и амбициям. Были и такие, кто старался подменить командующих фронтами, лезть в те дела, которые составляли прерогативу командующего. Иные страсть как любили «качать» права, где надо и не надо напоминая во всеуслышание, что они не просто представители, а представители самого товарища Сталина. Они путались под ногами, мешали командующим фронтами и соединениями, требовали «вперёд, на Запад!», не считаясь ни с реальными возможностями наступающих армий, ни с оперативными замыслами военачальников. Малиновский — да и не только он — был хорошо наслышан, к примеру, о Льве Захаровиче Мехлисе: о его «чудачестве» и вечном стремлении нагонять страх знали на всех фронтах. Что же касается Василевского, то он был человек высокого интеллекта и культуры. Одинаково ровно, с пониманием относился он к тем, кто находился в его подчинении, и к тем, кто стоял выше на служебной лестнице. Он никогда не опускался до унижения подчинённых, даже если те совершали какие-то ошибки или промахи. Александр Михайлович обладал редким даром выслушивать мнения других и брать на вооружение те, которые он считал полезными для общего дела победы. Да, не случайно он, Малиновский, сдружился с Василевским, пройдя с тем рука об руку по многим полям сражений Великой Отечественной. Вспомнились знакомые строки поэта Михаила Светлова: Я не знаю, где граница между севером и югом, Я не знаю, где граница меж товарищем и другом...
14
Обычно Родион Яковлевич Малиновский ложился спать далеко за полночь, но часто и в эти поздние часы долго не мог уснуть. Одолевали мысли о прожитой жизни. Они были подобны молниям. Возникая внезапно, как и огненные небесные стрелы, вызывали потрясение, словно озаряя прошлое, побуждая по-иному воспринимать настоящее и высвечивая контуры будущего, и неизменно вызывали самые дорогие воспоминания. Часто в голову приходила простая мысль о том, что человечество, наверное, могло бы обойтись и без профессиональных писателей, если бы каждый человек смог хотя бы кратко изложить на бумаге наиболее примечательные события своей жизни. В отличие от многих литераторов, сюжеты книг у которых высосаны из пальца, такого рода описания были бы совершенно реальными и достоверными, а их воздействие на людей оказалось бы благотворнее, нежели воздействие, проистекающее от искусственных, надуманных построений литературных фантазёров. Размышляя в таком духе, Малиновский решился поведать о своей собственной жизни, не прибегая к вымыслу и стараясь выжать из памяти всё то, что действительно происходило с ним, — с детства до нынешних дней. Эта книга замышлялась им как простая, лишённая литературных «фейерверков», история его жизни. Всех людей на склоне лет тянет к воспоминаниям о детстве и юности. Так и Родион Яковлевич медленно и благоговейно восстанавливал в своей памяти самые яркие картины прошлого. Пока шла война, ему было не до воспоминаний. Какие уж там воспоминания, когда каждый фронтовой день и ночь были спрессованы так плотно, что приходилось лишь удивляться, как всё это может выдержать даже очень здоровый и очень крепкий духом человек. Непрерывное «крещение огнём», бесконечные мучительные, часто противоречивые думы о стратегии и тактике предстоящих сражений, о том, какому из десятков возможных вариантов наступления или обороны отдать предпочтение, чтобы потом не казнить себя раскаянием за неверный, а потому губительный шаг, а главное — не истязать себя мыслями о том, что это именно ты и виновен в огромных жертвах, навеки оставшихся на полях сражений. Да, в ту пору было не до мемуаров. Но теперь, когда через много лет после войны Малиновский вдруг ощутил настоятельную потребность рассказать обо всём, пережитом на фронте, он пожалел, что не вёл хотя бы кратких дневниковых записей. И всё же Родион Яковлевич взялся за этот труд. Он рассудил, что нелегко будет осмыслить всю сложность его фронтовой жизни, понять, как из простого одесского парнишки вдруг вырос полководец. Начинать надо с детства, а не со зрелого возраста. Нужно воссоздать корни, тогда будет понятно, откуда взялась крона.
15
Каждая встреча с военачальниками, с которыми он, Малиновский, волею фронтовой судьбы пересекался на войне, была для него не формальной, вытекающей из служебных обязанностей. Каждая такая встреча была радостью, она возвращала в молодость, пусть суровую, порой трагическую, но всё равно счастливую. И потому Родион Яковлевич Малиновский несказанно был рад встрече с Василием Ивановичем Чуйковым. Он сразу же отметил, что Чуйков, основательно изменившись внешне — седина, на когда-то крепком, будто резцом скульптора высеченном на камне, лице глубокие морщины, — ничуть не изменился внутри — такой же весёлый, напористый, неугомонный. Встретились дружески и после коротких взаимных расспросов о нынешней жизни незаметно перешли в своей беседе к теме войны. — Помню, Василий Иванович, как «Красная звезда» вас в сорок втором на щит подняла, — улыбнулся Малиновский. — Кажется, в аккурат за месяц до Нового года. Высшая похвала была: «Слава 62-й армии переживёт века». Радовался я тогда за вас, как за самого себя, честное слово. — Верю, Родион Яковлевич, верю. Горжусь тем, что воевал под вашими знамёнами. Сумели вы «опровергнуть» приказ № 227! А «Красную звезду» я бережно храню. Как не хранить — ценнейшая реликвия! Бывает, настроение паршивое, кто-нибудь ненароком, а то и специально в душу нагадит, так я про себя те памятные строки вспоминаю — и сразу легче. Наизусть помню: «Пройдут годы, зелёной травой зарастут развороченные снарядами поля сражений, новые светлые здания вырастут в свободном Сталинграде, и ветеран-воин скажет: «Да, я сражался под знамёнами доблестной 62-й!» — Понимаю, Василий Иванович. Ваша 62-я, а потом она же 8-я гвардейская, заслужила эту славу. Что касается приказа, того самого, знаменитого, то как-то я вычитал в одной статейке рассуждение, будто приказ этот был и антигуманный, и бесчеловечный, иными словами — порождение тоталитарного строя. Легко сейчас так рассуждать! Эти «аналитики» или не понимают, или делают вид, что не понимают законов войны, обстановки того времени, всё пытаясь оценивать с сегодняшних позиций. Разве не ясно, что вопрос стоял однозначно: быть или не быть. Или отстоим родину, или отдадим её на поругание врагу. — Читал и я такое! — вздохнул Чуйков. — Конечно, жестокий был приказ, можно сказать, беспощадный. А как было иначе? На что уж я пулям не привык кланяться, а не будь этого приказа, не знаю, как бы всё обернулось. Вот признаюсь вам, в чём ещё никому не признавался. Когда нас в Сталинграде фрицы к самому урезу Волги прижали, дрогнул я, Родион Яковлевич, право слово, дрогнул. Приказал штабу переправляться на другой берег. И что вы думаете? Попрыгали мы уже в лодки, за вёсла взялись. И тут как глянул я в глаза солдатушек своих! Как током меня шибануло! Какие это были глаза! Каким укором горели! И стало мне так стыдно, передать не могу. Заорал я тогда во всю мочь: «Суши вёсла, братцы! Назад! За Волгой для нас земли нет!» Возвернулись мы, и как гора с плеч свалилась... В общем, бес едва не попутал. А Сталин своим приказом этого беса и отогнал. — Тогда, Василий Иванович, не только приказ беса отогнал. Совесть «сработала», совесть и долг русского человека, патриота. Они посидели. Малиновский предусмотрительно все телефоны в своём кабинете переключил на помощника, оставил только кремлёвский, — иначе не дадут поговорить как надо. — Ещё одну историю давно собирался вам рассказать. Вот вам вопрос. Надо ли было вам со своей 2-й гвардейской давать отпор Манштейну? А может, лучше было бы пропустить его к Паулюсу да и захлопнуть мышеловку? — Честно говоря, такое мне даже в голову не приходило, — признался Малиновский. — Захлопнули бы мы Манштейна вместе с Паулюсом или нет — это ещё бабка надвое сказала. А если бы они, объединившись, мышеловку сломали? И кто только такой вопрос выдумал? — Кто? — хитровато заулыбался Чуйков. — Товарищ Сталин — вот кто! — Сталин? — Ей-ей, не брешу! Летом, в пятьдесят втором, считайте, через десять лет после Сталинграда, отдыхал я в Сочи. И вдруг к аппарату Поскрёбышев вызывает. Говорит, что соединяет меня с товарищем Сталиным. Не скрою, струхнул я: войны давно нет, а вдруг вождю понадобился. Видно, думаю, какие-то мои старые грехи разворошил. Слышу в трубке его голос. Спросил, как мне здесь отдыхается, и сразу: можете приехать ко мне? Оказывается, и он был в это время в Сочи. Ещё бы я ответил: «Нет, не могу, товарищ Сталин!» Да хоть сию минуту! Тогда, говорит, сейчас за вами машина придёт. Хорошо, что я ещё не успел перед обедом махнуть чарку. Быстренько облачился в мундир, еду. Он у подъезда встречает. Начинаю рапортовать, мол, по приказу прибыл, а он мою ладонь своей рукой от козырька фуражки отводит. Давайте, говорит, не так официально, мы же на отдыхе. Пришли мы с ним в бильярдную, к беседе располагает. Он грузинского вина предложил. Отличнейшее вино, доложу я вам, Родион Яковлевич! Ну, сперва расспросил он меня о положении в ГДР, — я тогда, помните, был там главнокомандующим Группой советских войск. Потом пригласил на ужин, на открытую веранду. За столом и спрашивает: «Скажите, товарищ Чуйков...» Короче, задаёт тот самый вопрос, который я вам тут сформулировал. Подумал я, подумал и ответил вот таким манером. «У нас, — говорю, — у сталинградцев, полной уверенности в том, что танковые армады Гота не протаранят фронт внешнего обвода окружения Паулюса, не было. А позже сюда могла ринуться и вся группа немецких армий «Дон». И вряд ли можно было с уверенностью предсказать, что, деблокировав армию Паулюса, немцы позволят нам захлопнуть их в общем «котле». Высказался в таком духе, жду реакции Сталина. А вдруг у него совсем другое на уме? И тут слышу: «Вы правы, товарищ Чуйков. Пропустить Манштейна к Паулюсу было рискованно. А мы рисковать не имели права! Наш народ отчаялся от непрерывных отступлений. Победа нужна была любой ценой». Вот такой состоялся разговор. И вы, Родион Яковлевич, правильно действовали, как бы некоторые наши нынешние «стратеги» ни пытались фантазировать по этому поводу. — Главное, что последующие события подтвердили правоту решений Ставки, да и наших с вами тоже, — заметил Малиновский. — Однако не случайно же Сталин задал вам этот вопрос. Насколько мне удалось узнать его за годы войны, он просто так, из чистого любопытства, вопросы никогда не задавал, за ними обычно стоял некий скрытый, лишь одному ему известный смысл. — Это верно, — согласился Чуйков. — Но наш разговор-то не закончился. Вдруг он спрашивает меня, будто экзаменует: «Скажите, товарищ Чуйков, что такое окружённый противник?» Ну, думаю, за кого ты меня принимаешь? Всё-таки я человек, окончивший военную академию. Но он и не стал ждать моего ответа, а сам начал рассуждать. «Если, — говорит, — окружён трус и паникёр, он тут же сбежит с поля боя, даже не подумав о том, что можно найти выход даже из такого, вроде бы совершенно безвыходного положения. Но если окружён сильный, стойкий, ожесточившийся человек, то он будет сражаться до последнего. Окружение противника, — говорит, — очень заманчивая и эффектная штука. Это, можно сказать, мечта любого полководца. Но история войн свидетельствует, что не всем полководцам, даже очень талантливым, удавалось полностью окружить противника. Как вы думаете, товарищ Чуйков, почему не удавалось?» Снова вопрос ко мне, и снова сам же на него и отвечает. «Это, — говорит, — видно на примере того, что Кутузову не удалось окружить армии Наполеона. Между тем царь Александр требовал от Кутузова, чтобы он окружил французские войска. Но известно, что французы бежали, спасаясь от Кутузова, куда быстрее, чем их преследовал великий русский полководец. Мне, — говорит, — после блестящего окружения немцев в Сталинграде многие и в Генштабе, и среди военачальников предлагали провести новые операции по полному окружению гитлеровских войск. Но они не учитывали, что немецкое командование сильно обожглось под Сталинградом и от испуга дуло даже на холодную воду. Оно уже не ждало, когда мы нанесём им удары во фланги и начнём сжимать кольцо, и спасалось поспешным отступлением. Да и моральный дух немецкого солдата после Сталинграда стал другим: немец боялся окружения, как чёрт ладана, и предпочитал заблаговременно выбраться из наших «объятий». А так как поспешное бегство немцев при попытках советских войск захлопнуть кольцо окружения было в наших и стратегических и тактических интересах, то мы и не препятствовали им в этом. Главное было в том, чтобы очистить нашу страну от непрошеных гостей». Вот в таком духе Сталин и говорил. Я, конечно, кивал. Далеко за полночь меня отпустил. — Любопытно. — Малиновский с интересом слушал. — Слышал я, Василий Иванович, что вы работаете над мемуарами. Включите это в книгу. — Обязательно. Я много места отвожу операциям, которые мы вместе с вами проводили на Южном фронте. И Донбасс, и Запорожье, и Одесса... — Только не слишком выпячивайте мою персону, если будете писать. — Хорошо, буду помнить об этом. А знаете, Родион Яковлевич, что мне особенно врезалось в память? Шестнадцатое апреля сорок третьего года. В этот день Ставка преобразовала мою армию в 8-ю гвардейскую. И знаете, кто первым сообщил мне эту радостную новость? — Интересно, кто же? — Малиновский хитровато улыбнулся. — Неужто не помните? — Чуйков удивился. — Не поверю ни за что. Вы же сами и сообщили. Приехали на мой командный пункт и сообщили! — А ведь и верно! — рассмеялся Малиновский. — А я уж подумал, что кто-нибудь меня опередил. — Шутник вы, Родион Яковлевич! Сколько помню, шутили даже в самые отчаянные моменты. А шутка на фронте что боевой патрон. Помню, тогда же, спустя два дня, получили мы директиву Ставки: все гвардейские соединения необходимо вывести в резерв, так как они состоят из наиболее опытных и устойчивых войск, и что использовать гвардейские соединения следует, как правило, для прорыва на направлениях главного удара и в оборонительных операциях для нанесения контрудара. И помню, как уже в мае вы вручали моей армии Гвардейское знамя и награды отличившимся в боях. — Для командующего нет более приятной обязанности. — А вы были в те дни генерал-полковником, — продолжал воспоминания Чуйков. — А вскоре стали генералом армии. А теперь вот маршал. — Так мы оба с вами маршалы, Василий Иванович. — Оба-то оба, но с той существенной разницей, Родион Яковлевич, что вы министр обороны, а я — пенсионер, рядовой необученный! — Не завидуйте, Василий Иванович. Хоть я и не Борис Годунов, а повторю: «Тяжела ты, шапка Мономаха!» Да, пока не забыл. Вот тут у меня папка с интересными материалами по Сталинграду. Может, вам пригодятся. Тут такой, к примеру, факт: гитлеровская Германия овладела Францией за сорок суток, Польшей — за девятнадцать дней. От Бреста до Смоленска прошла за два месяца. А в Сталинграде, чтобы продвинуться всего на шестьсот метров, ей понадобилось аж двенадцать дней! — Спасибо, обязательно посмотрю. Каковы ваши планы в этом месяце? — Планы? На днях еду в командировку. В Волгоград.
16
Известно, что суеверия (вера в то, что многие явления и события возникают в результате воздействия сверхъестественных сил и служат предзнаменованием будущего) свойственны многим людям. И порой даже тот человек, который презрительно отвергает суеверия и даже открыто насмехается над ними, в определённый момент своей, вдруг круто изменившейся жизни с удивлением, а то и со страхом обнаруживает, что какое-то событие, проявившее себя в загадочном и непостижимом совпадении, и определяет его дальнейшую судьбу — счастливую или трагическую. Многочисленные примеры из истории — наглядное тому подтверждение. У Наполеона, к примеру, фатальным месяцем был июнь. Именно в июне он одерживал свои блистательные победы: в Италии, под Маренго, в Тильзите. И в этом же месяце настигли его трагические поражения: в июне 1812 года он начал свой роковой поход в Россию, а в июне 1815 года потерпел сокрушительное поражение под Ватерлоо. Поражают воображение суеверных людей и несчастья, сваливающиеся на их голову тринадцатого числа, которое народ обозвал пугающим «чёртова дюжина». Хотя некоторым эта «чёртова дюжина» приносит счастье и удачу. Как бы то ни было, все таят в своей душе убеждение: «Судьба играет человеком». Что же касается Никиты Сергеевича Хрущёва и Георгия Константиновича Жукова, то месяцем, который стал для них своего рода «снежной лавиной», оказался октябрь. Именно в октябре 1957 года Хрущёв нанёс внезапный и коварный удар Жукову, превратив его из министра обороны в пенсионера, и именно в октябре, ровно через семь лет после этого события, был смещён со своего поста и сам Хрущёв, так же отправленный на пенсию. Да, оказывается, бумеранг работает безотказно во все времена и эпохи. Прошёл Пленум ЦК. Всесильный властитель был похож на нём на загнанного волка, которого со всех сторон обложили азартные жестокие охотники и который со смертельной тоской осознает, что теперь ему уже не уйти от погони, от нацеленных на него стволов ружей. Ещё вчера гордый, заносчивый, могущественный, Хрущёв враз обмяк, слинял, растерялся и будто потерял дар речи. Каждый из тех, кто сейчас судил его, старался кольнуть побольнее, чтобы непременно кровоточили раны. Суть же главных обвинений состояла в том, что, как выяснилось, все эти десять лет он вёл страну не туда, куда надо было вести, и не так, как надлежало это делать. Тот, кого нынешние судьи ещё вчера возносилидо небес, величали выдающимся деятелем коммунистического и рабочего движения, ведущим советский народ к вершинам коммунизма, в одночасье оказался, по их же словам, волюнтаристом, великим путаником в вопросах теории и таким же великим путаником в делах практических — как внутренних, так и международных. Оказалось, что именно он, Хрущёв, и был человеком, тормозившим движение к этим самым вершинам. И вот Никита Сергеевич косноязычно и жалко оправдывался, прежде всего, тем, что он не получил в своё время не только высшего, но даже и среднего образования: его «университетами» была церковно-приходская школа да несколько месяцев учёбы в Промышленной академии аж в 1929 году. Но раньше-то это как раз и вменялось ему в заслугу: официального-де образования у него нет, но к чему оно, коль он от самого рождения — уникальный самородок! Место Хрущёва занял Леонид Ильич Брежнев, незамедлительно «освоивший» его кресло в Кремле. Будничное, серенькое наименование «Первый секретарь» услужливые вассалы заменили на торжественное, звучное и куда более значительное «Генеральный секретарь», как это было при Сталине. Смещение Хрущёва было разработано и осуществлено в «лучших» традициях большевизма: тайно, исподволь, путём предварительного сговора тех, кто рвался к власти и кого «достал» до самых печёнок непредсказуемый, вздорный, фонтанирующий сомнительными идеями реформатор. Народ, узнав об очередном перевороте, подумал о предстоявших переменах к лучшему и поначалу даже воодушевился. Что же касается высоких партийных и государственных деятелей, то они жили, естественно, ожиданием перемен не только в жизни страны, но и в своём собственном положении. Сегодняшние министры прекрасно понимали, что уже завтра их сменят другие люди, на их место, как это и происходило при всех режимах, новая власть поставит тех людей, которые уже проверены и испытаны не только в сфере служебной деятельности, но и в личных, дружеских отношениях. Только на таких людей можно будет положиться, только таким людям можно будет полностью доверять. Не мог не думать обо всём этом и Родион Яковлевич Малиновский. Различие между ним и многими другими ответственными руководителями состояло лишь в том, что если те, другие, возможное своё смещение переживали как личную трагедию, едва ли не конец света, то Родион Яковлевич исповедовал бесшабашный постулат молодых лейтенантов, который ему всегда помогал в трудных жизненных ситуациях: «...Дальше Кушки не пошлют». Малиновский прекрасно понимал, что новые власти поспешат прежде всего выдворить из своих коридоров таких министров, как министр обороны, министр внутренних дел, председатель Комитета государственной безопасности. Хотя что касается последнего, то на этом посту, конечно же, останется Владимир Ефимович Семичастный, успешно проведший операцию по «изъятию» «курортника» Хрущёва из Сочи, где тот наслаждался отдыхом на берегу благословенного Чёрного моря. В Министерство внутренних дел же давно прочили личного друга Брежнева, Николая Анисимовича Щёлокова, они сошлись ещё в Днепропетровске и Молдавии, где были на высоких партийных постах. «Ты тоже непременно будешь заменён, — говорил себе Малиновский. — И самый вероятный кандидат на твоё место — Гречко. На Южном фронте он командовал 18-й армией. А начальником политотдела кто у него был? Леонид Ильич Брежнев, полковник. Выходит, фронтовым цементом скреплены. Только вот какой из Гречко министр обороны...» В один «прекрасный день» позвонил Штоляков. Он предложил проехать к нему на дачу, чтобы прогуляться по лесу, благо денёк выдался на славу. Малиновский согласился, тем более что по времени был как раз обеденный перерыв, и старые друзья отправились за город. Вскоре они были уже на лесной просеке, освещённой нежарким осенним солнцем. — Ну, теперь-то ты убедился, Родион, какой я провидец? — начал Штоляков, прямо-таки сгорая от нетерпения. — Вспомни-ка нашу зимнюю рыбалку! Что я тебе говорил? Где ныне пребывает великий и мудрейший Никита? Где-нибудь на захудаленькой дачке. Дворец-то у него отобрали, это у нас мигом, не заржавеет! Пыльным мешком накрылся Никита! Кому первая чарка, тому и первая палка! Родион Яковлевич устало поглядывал на друга: эту ночь он, как и предшествующую, спал плохо и беспокойно, всё думал, пока не приказал самому себе прекратить эти треклятые раздумья. Хотелось скинуть с себя всё, что навалилось в эти тревожные дни, и не касаться неприятных до тошноты тем. Но Штоляков-то примчался, видно, вовсе не для того, чтобы говорить о погоде, декламировать лирические стихи и восхищаться красотой русского леса. — Молчишь, делаешь вид, что всё тебе до лампады? А я вот не хочу молчать и не буду, потерпи меня, подлеца. Я торжествую, да и как можно не торжествовать, когда такой пенёк с дороги сковырнули! Это, брат, победа, да ещё какая! Почище, чем ты одерживал на своих фронтах! — Дмитрий Тимофеевич и впрямь был доволен. — И я, не скрывая, горжусь, что я тоже участник этого переворота. — А тебе не кажется, Дмитрий, что такие исторические встряски не столь уж безобидны и вряд ли способствуют прогрессу? Может, наоборот? — Во всяком случае, хуже не будет! — заверил Штоляков. — Куда уж хуже, дальше некуда. Самое страшное в нашем государственном устройстве — это если уж самый последний дурак взгромоздится на вершину власти всерьёз и надолго. Страшно подумать, куда бы нас завёл этот Иван Сусанин! В болота непроходимые, вот куда! Да ещё и мировую войну накликал бы на наши головы. Стыдоба одна, а не лидер. Он же великую державу представлял! А как на его рожу глянешь, сразу понимаешь, что рожа эта на оплеуху напрашивается. — Штоляков немного помолчал, довольный сравнением. — Ладно, хватит. Ну его к чертям собачьим, ни говорить, ни думать о нём не хочется. Давай-ка лучше о себе подумаем. — Тебе-то что о себе думать, — улыбнулся Малиновский. — Ты-то теперь высоко взлетишь. Заслужил. — А вот и не угадал! Только ты смотри не падай: ухожу я из ЦК, по доброй воле ухожу. Не могу я больше в этом зверинце, право слово, не могу. Дышать там нечем. Хоть глоток бы воздуха — свежего, ядрёного, вот как в этом лесу! — И куда ты теперь? — На вольные хлеба. Не получился из меня политик, спину не умею изгибать, позвоночник подвёл. Я вот за тебя беспокоюсь, сам знаешь почему. — Не надо за меня беспокоиться. Сколько лет я уже лямку тяну? Пора кому-нибудь помоложе впрягаться. Штоляков хитровато прищурился: — Э нет, солдат, не ту диспозицию занимаешь! Новый-то наш, думаешь, будет действовать, как старый? Сперва начнут изображать коллективность руководства в противовес былому волюнтаризму. А уж потом, когда позиции нового укрепятся... тогда уж он начнёт новой тактикой и стратегией мир удивлять, доказывать, что он совершенно не такой, как прежний. Если тот дров наломал и вёл себя как слон в посудной лавке, то новый будет делать всё с точностью до наоборот. Ювелирно будет работать, по крайней мере попервах, — с толком, с чувством, с расстановкой. Голову даю, потом сам убедишься. Так что сразу снимать он тебя не станет, хотя и очень захочет. Но он выдержит, терпения наберётся, как кот перед мышиной норкой. Хочешь, угадаю его нынешние мысли? Ну, во-первых, он прекрасно понимает, что вооружённые силы, да ещё ядерные, — это не игрушка, с ними не забалуешь. Во-вторых, только дурак не знает, что ты — человек на своём месте, авторитетом не дутым держишься и, следовательно, замену тебе найти непросто. И если хочешь, в-третьих — международный аспект: маршала Малиновского прекрасно знают и уважают руководители и министры обороны стран Варшавского договора, а это фактор, я тебе скажу, немаловажный. Малиновский, размышляя над услышанным, возразил: — Я, Дмитрий, и не думал, что ты такой наивный. Будто не знаешь: политики ни с чем не считаются, если им нужно поставить своего человека. Про Жукова забыл? Уж как он был популярен в народе! И что? Сталин и Хрущёв посчитались с этим? Найдут и мне замену. Сам знаешь кого. — Гречко? Тут ты прав: это человек Брежнева. Но — твой уровень и уровень Гречко! Ты фронтами, считай, всю войну ворочал, а он выше армии так и не прыгнул. — Был он и заместителем командующего фронтом. Воронежского. — Ха-ха! Два месяца. — Киев освобождал. — Освобождал-то он его не в гордом одиночестве. К тому же прекрасно проявил себя ещё в одном «наступлении». Донаступался аж до Эльбруса, влез на него и там оборону занял. — Ну, положим, все мы тогда «наступались». Кроме того, Гречко помоложе меня. — Ещё раз ха-ха! Кажется, лет на пять. — Всё равно помоложе. В моём возрасте пять лет — это много значит. Я уже на седьмой десяток перевалил, а он ещё только подступает. Шестьдесят — это ещё не старость. — Как один политбюровец часто любит говорить: семьдесят лет — ещё только средний возраст. А вообще-то новый лидер на возраст смотреть не будет, он и сам уже далеко не молод — пятьдесят восемь стукнуло. Всё будет решено по принципу личной преданности, — остальное чепуха! Тут ты прав: именно Гречко и может сесть в твоё кресло. Но, убеждён, не сразу, помяни моё слово. — Кто его знает. Я лично готов к любому повороту событий. Снимут — так это нам с тобой только на руку. Ты — вольный казак, и я — вольный казак. Порыбачим с тобой, подышим речным ветром. — Тут мы не споёмся. Я ведь рыбалку не люблю. Я — охотник: чтобы залпы гремели из двух стволов, чтобы кони скакали, чтобы гончие по снегу мчались! — Да, тут мы с тобой не споёмся. Ты рыбалку, говоришь, не любишь, а я охоту не то что не люблю — ненавижу. — Ну ладно, найдём компромисс. Я буду охотиться в тех местах, где ты будешь рыбачить. Идёт? — Идёт! — А в завершение нашего сегодняшнего разговора — мой тебе совет. Пока они там, упиваясь своей победой, на ковёр тебя не зовут, ты туда не стремись. И не нарушай мудрой традиции. — Какой ещё традиции? — Действуй, как опытный солдат: не попадайся на глаза начальству...
17
Спустя два года по совету врачей Родион Яковлевич очередной отпуск решил провести «на водах» в Пятигорске. Так совпало, что в те дни, когда чета Малиновских отправилась на Кавказ, туда же, получив очередной отпуск, выехал полковник Семён Михайлович Борзунов — главный редактор отдела художественной литературы Воениздата. Как и всякий человек, предвкушающий желанный отдых, он ехал в санаторий в прекрасном расположении духа. Да и какое могло быть иное расположение духа, если ты не достиг ещё и пятидесяти лет, если у тебя любимая работа и эта работа спорится? Действительно: с выпуском художественной литературы на военно-патриотическую тему всё обстояло хорошо. Дело шло так, как и было предусмотрено тематическим планом издательства, и читатель, прежде всего читатель в погонах, исправно получал книги, авторами которых были известные писатели и молодые талантливые авторы, в том числе и из армейской среды. Эти книги, хотя и выходили громадными тиражами — до двухсот, а то и трёхсот тысяч экземпляров, мгновенно сметались с полок книжных магазинов. Разумеется, чёткое выполнение плана стоило немалых трудов, нервного напряжения и организаторских усилий. Семён Михайлович, как закалённый фронтовик, труда не боялся, но пора уже было отдохнуть и подлечиться. В аэропорту Минеральных Вод Борзунов не задержался, сразу же отправился на железнодорожный вокзал и сел на электричку. Ехал он налегке: в небольшом чемодане, кроме необходимых любому курортнику вещей, лежала лишь толстая пачка писчей бумаги, припасённой на случай, если в санатории, в промежутках между всяческими лечебными процедурами, можно будет заняться творчеством. Семён Михайлович писал повесть по материалам своих фронтовых воспоминаний, а прошёл он всю войну от звонка до звонка с фронтом, которым командовал маршал Иван Степанович Конев, от Перемышля в сорок первом до самого Берлина в сорок пятом. Зимой Пятигорск, конечно, был не тот, каким он представал перед курортниками в летнюю пору, но и теперь город привёл Семена Михайловича в полный восторг. Пятигорск как бы прилёг у подножия знаменитой горы Машук, густо поросшей лесом и кустарниками, а дальше, за Машуком, словно впечатанный в горизонт, чётко вырисовывался Главный Кавказский хребет, в центре которого гордо высились два снежных великана — Казбек и Эльбрус. Воздух был настолько чист и свеж, что казалось, им невозможно надышаться. Борзунов сразу же вспомнил знаменитое лермонтовское сравнение этого воздуха с поцелуем ребёнка. Вновь прибывших в санаторий курортников принимал главный врач. Полистав медицинскую книжку Борзунова и с интересом оглядев его, он вдруг спросил: — Семён Михайлович, скажите, вам приходилось встречаться с министром обороны? «К чему бы такой неожиданный вопрос? — Борзунов удивился. — Вроде бы это к лечению в санатории не относится». — Приходилось, — тем не менее ответил он. — Не часто, правда. Так сказать, по долгу службы. — Очень хорошо. Семён Михайлович почувствовал, что главврач был доволен именно таким ответом. — Пожалуйста, подождите немного в приёмной, пока я освобожусь. «Что-то странное есть во всём этом, — думал Борзунов, выходя в приёмную. — Встречался ли я с министром? Может, главврач хочет через меня решить какую-то свою проблему? Так мог бы сразу сказать об этом». Вскоре главврач вышел в приёмную. Он снял белый халат и был в форме полковника. Опытным взглядом Семён Михайлович приметил, что третья звёздочка на погонах отличается от двух других своей «свежестью». Главврач проследил взгляд Борзунова и тоном, в котором были одновременно и гордость, и смущение, сказал: — Маршал Малиновский полковника мне присвоил. Перед своим приездом в Пятигорск приказ подписал. И новую «Волгу» прислал санаторию. Они вышли из дверей корпуса. Зимнее солнце кидало на землю свои лучи, от которых снег ослепительно искрился — и на крышах, и на земле, и на лапчатых ветках голубых елей. У подъезда стояла новенькая бежевая «Волга». Главврач пригласил Семена Михайловича в машину и коротко бросил водителю: — В первый корпус. Ещё издали увидев корпус, Семён Михайлович понял, что он и архитектурой, и местом, где располагался, выигрышно отличался от других корпусов санатория. «Вот бы в нём поселиться», — мелькнула шальная мысль. Машина остановилась у подъезда. Они прошли через просторный вестибюль и по широкой лестнице, застеленной красивой ковровой дорожкой, поднялись на второй этаж. Когда приблизились к двери с номером 14, главврач, понизив голос, произнёс: — Здесь размещается маршал войск связи Алексей Иванович Леонов. — И, показывая рукой в потолок, доверительно и немного таинственно добавил: — А на третьем этаже — апартаменты министра обороны. Там будут и ваши комнаты. Сообщение главврача привело Семёна Михайловича в полное замешательство: он будет жить рядом с министром! Придётся держать себя в определённых рамках этикета, быть всё время настороже, чтобы, не дай бог, не скомпрометировать себя в глазах самого маршала! Шутка ли — полковник рядом с министром! Прощай, желанная свобода, о которой он так мечтал и в атмосфере которой хотел полностью расслабиться и раскрепоститься. Оказывается, его ждёт такое же психологическое состояние, какое бывало и на службе, даже ещё более напряжённое: там, в Москве, от издательства до министерства, а тем более до министра далеко, а здесь он — сосед. Только выйди из своей палаты, и ты уже «на мушке» у маршала! Сразу на строевой шаг переходи! Прощай повесть! Как была ты неоконченной, так неоконченной и останешься... Главврач, заметив растерянность Борзунова, лукаво улыбнулся: — Да вы не переживайте. Всё будет хорошо. Сейчас я вас представлю помощнику министра, генералу Петрову. Зовут его Михаил Иванович, он у министра по особым поручениям. Главврач постучал в одну из комнат. Дверь отворилась, и на пороге появился невысокий, стриженный бобриком человек. Борзунов, хоть и был в штатской одежде, привычно вытянулся и представился по всей форме. Полноватое лицо Петрова просияло доброжелательной улыбкой. — Рады вашему прибытию, Семён Михайлович, — приветливо произнёс он, — заходите, прошу вас. Когда главврач откланялся и удалился по своим делам, Петров, усадив Борзунова в глубокое мягкое кресло, сел рядом. — Вас, конечно же, интересует, чем вызвано ваше размещение рядом с Родионом Яковлевичем? — Признаюсь честно, очень. — Дело вот в чём. Когда мы приехали в санаторий, Родион Яковлевич осмотрел отведённые ему апартаменты и посчитал, что они слишком велики. Он оставил для себя и жены, Раисы Яковлевны, рабочий кабинет, аппаратную с узлом связи и спальную комнату, а две других комнаты решил не занимать и посоветовал разместить в них кого-либо из отдыхающих. Мы предложили ему несколько кандидатур, и он, представьте, остановился на вашей. Говорит, что наслышан о вас, как об интересном человеке, писателе, фронтовике. Так что, — улыбнулся Петров, — вы ему подходите по всем, так сказать, параметрам. — Благодарю за доверие! — Борзунов был и смущён, и рад. — Постараюсь вести себя так, чтобы ничем не нарушать отдых министра обороны. — В этом у нас нет сомнений. Но вы не стесняйте себя особо. Отдых есть отдых. К тому же Родион Яковлевич — простой, общительный человек, в нём нет ни грана высокомерия, не то что у некоторых наших военачальников. Он никогда не опустится до того, чтобы хоть как-то унизить младших по чину. Да вы и сами в этом убедитесь. Чувствуйте себя как дома. Кстати, здесь, в холле, есть бильярд, да ещё Родион Яковлевич попросил поставить столик с шахматами. Он без шахмат не может, если даже напарника нет — этюды шахматные решает. Так что можете посостязаться с ним. А Раиса Яковлевна обожает бильярд. — Шахматист из меня, честно говоря, слабоватый, — вздохнул Борзунов. — Бильярд — более доступная мне игра, хотя я, конечно, не Дымба — король санкт-петербургского бильярда. Помните фильм «Выборгская сторона»? Там в роли Максима Чирков, а Дымбу играет Михаил Жаров. — Ещё бы не помнить! Какие фильмы были! Какие артисты! Они поговорили о кино, и Семён Михайлович слегка успокоился. Но оставалось самое главное — предстать перед министром, и это продолжало его волновать. — Родион Яковлевич сейчас работает, у него эти часы святые, — сообщил Петров. — А перед обедом выходите в холл, я вас ему представлю. Борзунов отправился в свои комнаты — обустроиться. До обеда было ещё далеко, и он решил выйти из корпуса, подышать свежим воздухом. Едва он распахнул входную дверь, как перед ним снова возникло чудо: совсем рядом — казалось, можно дотянуться рукой — высился двуглавый Эльбрус. Снежная шапка его розовела в лучах полуденного солнца. Подумалось: «Хоть всю жизнь смотри на этот волшебный подарок природы, не насмотришься». Семён Михайлович заворожённо смотрел на горы, радуясь, что наконец-то открывает для себя Кавказ. Очарованный окрестным видом, он даже не услышал, как открылась входная дверь и послышались чьи-то шаги. Очнулся он лишь тогда, когда совсем рядом прозвучал мягкий баритон: — Семён Михайлович! Добрый день! Борзунов поспешно оглянулся: перед ним стоял Малиновский! Семён Михайлович, волнуясь, попытался представиться министру, но тот, дружески протянув руку, прервал: — Не трудитесь, Семён Михайлович! Во-первых, с прибытием вас в эти благословенные края. Во-вторых, мы же здесь на отдыхе. Неужто Василия Ивановича Чапаева забыли? Помните, как он говорил? «Это в строю я тебе командир. А на отдыхе, если я чай пью, приходи ко мне чай пить!» — Очень хорошо помню, товарищ маршал. — Вот и действуйте в соответствии с рекомендациями Чапаева, — улыбнулся Родион Яковлевич. — Ещё добавлю, что, в-третьих, я, кажется, о вас всё знаю. Ну, если не всё — всё о человеке знать вообще невозможно, — то почти всё. Вы всю войну прошли фронтовым корреспондентом. Хотите, даже скажу, как ваша газета называлась? — И, не ожидая ответа, продолжил: — «За честь Родины»? Верно? — Абсолютно верно, товарищ маршал! — воскликнул поражённый Борзунов. — Сердечно признателен вам за такое внимание к моей скромной персоне! — И с некоторыми книгами вашими я знаком — «Берег левый, берег правый», например. Это же о форсировании Днепра. Вы участник этих событий? — Так точно, товарищ маршал! Семёну Михайловичу очень хотелось добавить, что хотя он и был корреспондентом газеты, но во время переправы через Днепр возглавил одну из групп разведчиков и, несмотря на ураганный обстрел противника, переправился на другой берег Днепра, за что и был представлен к званию Героя Советского Союза. Правда, затерялось это представление где-то в папках или сейфах кадровиков. Но он тут же одёрнул себя: в высшей степени нескромно будет сейчас говорить об этом! — Да, фронтовые корреспонденты — это особый народ, — улыбнулся Родион Яковлевич. — Особое племя. Верно писал Симонов, что они с «лейкой» и блокнотом, а то и с автоматом первыми врывались в города! Ладно, о «друзьях-товарищах, о боях-пожарищах» мы ещё с вами повспоминаем. А пока что полюбуемся горами Кавказа! Министр отошёл немного в сторону и устремил задумчивый взгляд на Эльбрус. И вдруг до Борзунова донеслись тихие слова:
— Семён Михайлович, вам что-нибудь говорит это название — Шат-гора? — Насколько я помню Лермонтова, товарищ маршал, Шат-гора — это и есть Эльбрус. — Верно. Удивительное это стихотворение — «Спор»! Михаил Юрьевич в аллегорической форме выразил политическую сущность кавказской войны. И как прозорливо! Не зря Чехов диву давался, читая его! Не мог себе представить, как этот юноша, совсем ещё мальчик, поднимался до таких высот поэзии. Вот смотрим мы, обычные люди, на эти горы и говорим: красота какая, чудо какое! А Лермонтов силой своего гения увидел всё это будто с высоты орлиного полёта и предугадал будущую судьбу Кавказа. Ведь Шат-гора — это у него Кавказ, идущий с Россией, а Казбек — Кавказ, возлагающий свои надежды на мусульманский Восток. А что в итоге этого спора, этой борьбы? Сам же Лермонтов и ответил:
Это о Казбеке. Сто с лишним лет тому назад написано! — Малиновский на минуту умолк, а потом добавил: — Однако будем реалистами: спор этот не закончен. Ещё, может быть, придёт время и навеки затихший Казбек вновь даст о себе знать. Так состоялось знакомство. Постепенно все опасения Борзунова окончательно развеялись. Отныне они часто всей компанией — Родион Яковлевич, Раиса Яковлевна, Алексей Иванович, Михаил Иванович и «примкнувший» к ним Семён Михайлович ходили по заснеженным дорожкам или к месту дуэли, или в дом-музей поэта, или в другие лермонтовские места. — «...Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!» — как-то раз, глядя на барельеф Лермонтова, произнёс Малиновский так искренне и возмущённо, будто он сам и написал эти строки. — Какое роковое повторение событий, какой круговорот трагических обстоятельств! Лермонтов писал о Дантесе, а Мартынов как раз и оказался сколком с Дантеса. Ведь по условиям дуэли первый выстрел принадлежал Лермонтову, и он выстрелил в воздух! А Мартынов? Опять же как Дантес: «Пустое сердце бьётся ровно, в руке не дрогнул пистолет». Он же убил его почти в упор! Секунданты — князь Васильчиков и конногвардейский офицер Глебов — подтверждали, что было отмерено для барьера пять шагов, потом от барьера по пяти шагов в сторону. Выходит, стрелялись на пятнадцати шагах! — Мартынова на Лермонтова Николай Первый науськал, — вступила в разговор Раиса Яковлевна. — Об этом мне доводилось читать ещё в Ленинграде. Науськал через шефа жандармов Бенкендорфа, а тот через своего полковника Кушинникова. Этот Кушинников сразу же помчался вслед за Лермонтовым в Пятигорск и плёл там интриги. — Хорошо бы здесь в июле побывать, — задумчиво сказал Малиновский. — И именно в тот день, в день дуэли. Гроза тогда разразилась, молнии сверкали. И ливень — как плач по гению. Как правило, душой компании был Алексей Иванович Леонов. Весельчак и острослов, он знал множество забавных анекдотов и баек и никому не позволял грустить. Правда, на месте дуэли он обычно сдерживал себя. Но сейчас, видя, что все стоят с печальными лицами, вдруг пропел:
Стихи эти, казалось, не предназначались для того, чтобы развеивать грусть, но Алексей Иванович пропел их так лихо, что все засмеялись. А Леонов продолжил:
Беззаботные дни отдыха шли быстро. Семён Михайлович так естественно вписался в команду маршала, что теперь уже с грустью считал оставшиеся до конца отпуска дни. «Буду собирать материалы о Малиновском: вдруг когда-нибудь напишу о нём книгу», — решил Борзунов и стал делать записи. В часы, свободные от лечебных процедур, частенько садились за шахматный столик. Родион Яковлевич неизменно выигрывал. Семён Михайлович стойко переносил свои поражения, а Раиса Яковлевна иногда «переманивала» его в бильярдную. Здесь Борзунов чувствовал себя поувереннее, и всё же Раиса Яковлевна частенько обыгрывала его. — Да вы прямо-таки бильярдный снайпер, Раиса Яковлевна, — говаривал Семён Михайлович после очередного проигрыша. — Небось поддаётесь? — подозрительно спрашивала она. — Ну, скажите честно, поддаётесь? — Ни в коем случае! — уверял Борзунов. — Слово фронтовика! — А хотите, я про вас новость расскажу? — как-то раз спросила Раиса Яковлевна. — Конечно! — Так вот. Вы теперь у нас не главный редактор и не полковник. — Как это? — насторожился Семён Михайлович. — А вот так. Отныне вы у нас маршал и министр обороны. — Однако, вы, Раиса Яковлевна, шутница. — Нисколько. Вчера Родион Яковлевич воду пить не ходил. А вы с нами были. Так мне потом рассказали, что кто-то из отдыхающих на вас показывал и говорил: «Смотрите, смотрите, вон министр обороны!» — Неужели? — искренне изумился Борзунов. — Прямо не верится. Кто же не знает маршала Малиновского? — Ну, вот нашёлся такой. Так это же незнание в вашу пользу, Семён Михайлович, — пошутила она. — А знаете, почему Родион Яковлевич иногда не ходит пить минералку? Только никому об этом не говорите, он не любит. Книгу пишет. — Но это же замечательно! У Родиона Яковлевича такая потрясающая биография! — Это так. Но когда же он, в конце концов, будет отдыхать? Борзунов частенько заходил к Петрову: кто, как не он, близко знает маршала? Поделился своей задумкой с Михаилом Ивановичем. — Отличная идея, — одобрил Петров. — Я даже могу помочь вам материалами. Вот, хотите, покажу вам одно любопытное письмо и расскажу о том, как среагировал на него Родион Яковлевич. Это о многом вам скажет. Он достал кожаную папку, вынул из неё конверт и протянул Борзунову. Семён Михайлович прочёл: «Министру обороны СССР товарищу Малиновскому Родиону Яковлевичу. Прошу Вас обратить внимание на моё положение и помочь мне. У меня на фронтах Отечественной войны, погибло пять сыновей и шестой — внук, воспитанник. Щербань Яков Иванович, 1903 года рождения, погиб под Мелитополем в 1943 году. Женат, трое детей. Щербань Николай Иванович, 1905 года рождения, погиб под Полтавой в 1941 году. Женат, четверо детей. Щербань Фёдор Иванович, 1912 года рождения, погиб под Брянском в 1941 году. Женат, четверо детей. Щербань Григорий Иванович, 1914 года рождения, погиб на море в 1943 году. Женат, один ребёнок. Щербань Иван Иванович, 1916 года рождения, погиб под Каховкой в 1941 году. Женат, один ребёнок. Щербань Иван Фёдорович, воспитанник с 6-месячного возраста. Служил в г. Слуцке, с 1941 по 1945 год был на фронте. Демобилизовался после войны. Получила телеграмму: «Встречайте», а погиб при крушении поезда. Есть у меня ещё три дочери. Старшей 70 лет, колхозница, муж погиб на фронте, пятеро детей. Другой, Анне, 65 лет, муж умер, трое детей, колхозница, И третья дочь — Клавдия, с которой я живу, 47 лет, имеет троих детей... Я рождения 1876 года, 89 лет мне, получаю пенсию лишь за сына Григория, у которого была на иждивении. Прошу не отказать в моей просьбе. Прилагаю справку из военкомата». — Поразительное письмо, — взволнованно сказал Борзунов, закончив читать. — Вот он, страшный лик войны, перепахавшей людские судьбы. — Вот и Родиона Яковлевича это письмо поразило. Эхо, говорит, страшное эхо войны. Он тут же приказал подготовить ходатайство о назначении персональной пенсии, что мы и сделали в самом срочном порядке. Отослали ответ министра Марии Корнеевне Щербань. А через полтора месяца пришёл ответ от заместителя управляющего делами Совета министров Украины Яремчука, в котором сообщалось, что Марии Корнеевне Щербань назначена персональная пенсия. Могу вас заверить, Семён Михайлович, это лишь один из многочисленных эпизодов заботы Родиона Яковлевича о фронтовиках и членах их семей. — Что тут скажешь? Нелёгкая у него служба, обо всех и обо всём думать приходится, — вздохнул Борзунов. ...Когда Малиновский после напряжённого труда за письменным столом делал перерыв, он любил стоять у широкого окна своего санаторного кабинета и смотреть на снежные вершины гор. Горы словно притягивали, манили его к себе, они разговаривали с ним, уверяя: всё, что происходит в этой жизни, преходяще, всё исчезает, уходя в прошлое; вечны только мы, горы, и это высокое небо; не поддавайся суете, не увлекайся мишурой и ложными ценностями, цени только то, что бессмертно, что согревает твою душу теплом и любовью. Самым важным было то, что сейчас здесь, в Пятигорске, благодаря этим горам он как бы заново прочувствовал смысл своей жизни. Уезжая из Пятигорска, Родион Яковлевич и Раиса Яковлевна тепло попрощались с Борзуновым. — В Москве обязательно встретимся, — пообещал Малиновский. Сидя в машине, мчавшейся в аэропорт, Родион Яковлевич долго провожал взглядом и главные горы Кавказа — Эльбрус и Казбек, и их братьев меньших — Машук и Бештау. Он долго молчал, а потом вдруг повеселел и лукаво спросил жену: — Хочешь, я тебе один стишок прочту? — Можешь и не один. А то сидишь молча. — Вот, слушай:
Малиновский почти пропел эти шутливые строки и спросил: — Ну, кто автор? — Что-то не припоминаю, — честно призналась Раиса Яковлевна. — Стихи эти мне на глаза раньше не попадались. Да и к чему это ты? — А к тому, Раечка, что курорт, каким бы он хорошим ни был, — это и есть печь с лежанкой. Не умею я долго на лежанке валяться. Тянет к работе, к делу. — Тебя бы ещё и в сражение потянуло! — засмеялась Раиса Яковлевна. — А стихи-то чьи? — Дениса Давыдова! Вот кто действительно был молодец.
18
Однажды Родиону Яковлевичу Малиновскому удалось достать книгу «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, давно его интересовавшую. В небольшом повествовании таилось нечто загадочно-пронзительное, выходящее за рамки сюжета. А сюжет состоял в том, что некий командарм Николай Иванович Гаврилов по приказу свыше, срочно прервав лечение на Кавказе, прибывает в Москву, где ему предписывается столь же срочно лечь на операцию по поводу язвы желудка. Причём сам Гаврилов, почувствовав улучшение здоровья на курорте, от операции отказывается. Результат: командарм гибнет под скальпелем хирурга. Каждый, кто более или менее был посвящён в события прошлых лет, сразу же распознавал в Гаврилове председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам Михаила Васильевича Фрунзе. Книга была написана через два с небольшим месяца после смерти Фрунзе на операционном столе. Ходили слухи, что Михаила Васильевича принудил лечь на операцию не кто-нибудь, а сам Сталин. В повести он скрывался под личиной «негорбящегося человека», что придавало повествованию особое, почти мистическое звучание. Эту повесть Родион Яковлевич дал Наташе, присовокупив: «Даю при условии, что обязательно прочтёшь». Он не пояснил, почему надо обязательно прочесть, но по серьёзному выражению его лица дочь поняла, что это действительно важно и нужно. «Непогашенная луна» поразила Наташу своей необычностью, умением автора передать на малом количестве страниц трагическую судьбу человека и особенно описанием города, в котором, казалось, господствовала тьма, изредка прорезаемая тусклым светом уличных фонарей. Она спросила: — Это правда? Отец, поняв, что повесть не оставила её равнодушной, коротко ответил: — Неправду так далеко не прячут. ...Родион Яковлевич не раз перечитывал отдельные страницы повести. Особенно часто вот эту: «Это был человек, имя которого сказывало о героике всей. Гражданской войны, о тысячах, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедиц и зноя походов, о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, о кострах в ночи, о походах, о победах и бегствах, вновь о смерти. Это был человек, который командовал армиями, тысячами людей, который командовал победами, смертью: порохом, дымом, ломаными костями, рваным мясом, теми победами, которые сотнями красных знамён и многотысячными толпами шумели в тылах, радио о которых облетало весь мир, теми победами, после которых — на российских песчаных полях — рылись глубокие ямы, в которые сваливались кое-как тысячи человеческих тел. Это был человек, имя которого обросло легендами войны, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости. Это был человек, который имел право и волю посылать людей убивать себе подобных и умирать...» — А кто этот «негорбящийся человек», ты понял? — опасаясь, что отец не ответит, осторожно спросила Наташа. — Думаю, что ты и сама поняла. — Да. Но зачем же этот «негорбящийся человек» послал Гаврилова на верную смерть? Ведь он столько фронтов прошёл, много раз был ранен, под пулями выжил. А тут... — Выходит, так надо было «негорбящемуся человеку». Действительно, очень странная эта настойчивость: ложись на операционный стол, и всё тут. А ты обратила внимание, как писали газеты? «Приезд командарма Гаврилова. Сегодня приезжает командарм Гаврилов, временно покинувший свои армии для того, чтобы оперировать язву в желудке». И следом за этим: «Здоровье товарища Гаврилова вызывает опасение», но «профессора ручаются за благоприятный исход операции». Невольно приходишь к мысли, что вся эта затея с операцией заранее продумана и тщательно срежиссирована! — Но это же ужасно! — воскликнула Наташа в смятении. — Ведь этот «негорбящийся человек» прошёл войну вместе с Гавриловым и вроде бы стал его другом. И настойчиво убеждает командарма лечь на операционный стол! И ещё старается доказать, что операция нужна, чтобы сберечь геройского военачальника для республики. И убеждает Гаврилова, что через месяц после операции тот будет на ногах. Как всё это цинично и подло! Командарм ещё не лёг на операцию, а ему уже вынесен приговор! «Верно мыслит...» — Родион Яковлевич посмотрел на дочь тем тёплым взглядом, каким смотрят отцы на детей, которые оправдывают их надежды. — А какой в повести город! Страх берёт! «Жёлтый, в туманной мути день», «город заплакал мутными слезами фонарей...» Это слёзы людей, ведь правда? Или вот: «С холма над городом виден был на несколько моментов весь город, — там, внизу, в тумане, в мутных огнях и отсветах огней, в далёком рокоте и шуме, город показался ему несчастным». Как Пильняк повторяет слово «мутный»! Город и тот жалеет командарма. А в день его смерти выпал снег. Родион Яковлевич глянул в окно: он любил смотреть на звёздное небо в бинокль, который постоянно лежал на подоконнике, — Взгляни, Наташа, звёзды мерцают, будто плачут. — Но, не желая, чтобы дочь перед сном была охвачена грустью, поспешил перейти на обыденное. — Впрочем, дочура, давно пора спать, за полночь перевалило. А завтра, между прочим, и у тебя, и у меня — рабочий день. Наташа тоже выглянула в окно. — Папа! — вдруг взволнованно воскликнула она. — Там же не только звёзды! Там и луна! Та самая! Непогашенная! Полная ярко-жёлтая луна и впрямь сияла на небе, упиваясь своей властью над миром, как сказочная королева. Непогашенная луна! А кто может её погасить?
19
Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1966 года, который принимал министр обороны Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, стал последним в его жизни парадом, и он предчувствовал это. Утро в день парада было промозглым и холодным. По брусчатке лисьими хвостами стелилась позёмка. Небо всей своей мрачной толщей плотно нависло над площадью, казалось, что оно, это небо, навсегда похитило у людей солнце. Едва часы на Спасской башне бесстрастно пробили десять, как прозвучали фанфары, и линейные, чётко печатая шаг, синхронно застыли на своих местах. В тот же момент из Кремля выехала машина с удлинённым кузовом и открытым верхом, в которой недвижно и строго стоял министр обороны. Навстречу ему двинулась такая же машина с командующим парадом. Машины сблизились в центре площади, в репродукторах прозвучал рапорт. Затем обе машины — одна впереди, вторая чуть в стороне — направились вдоль длинного воинского строя, протянувшегося к Историческому музею, время от времени останавливаясь то перед одной, то перед другой колонной. Министр обороны здоровался с участниками парада и поздравлял их с праздником. В ответ раздавалось звучное ответное приветствие и мощное «ура!», раскатами гремевшее над площадью. Закончив приветствия, Малиновский подъехал к Мавзолею и, выйдя из машины, стал подниматься по ступенькам на трибуну. Всё было как всегда, но внимательный взгляд мог бы заметить, что в этот раз министр обороны несколько медленнее, чем обычно, словно превозмогая боль, поднимается со ступеньки на ступеньку. Впрочем, даже тех, кто это заметил, такая «мелочь» не насторожила и не удивила: как-никак, ему скоро семьдесят, возраст берёт своё. Раиса Яковлевна и Наташа были дома и сидели у телевизора, напряжённо вглядываясь в экран. Только они понимали истинную причину того, отчего Родион Яковлевич поднимался на трибуну Мавзолея уже не так, как раньше. Только они знали, каких невероятных усилий воли стоил ему сейчас каждый шаг со ступеньки на ступеньку, с каким напряжением он сейчас сохраняет образцовую военную выправку. Только они представляли, как тяжело ему будет произносить праздничную речь. Полные тревоги и сочувствия, жена и дочь вглядывались в мужа и отца, мысленно стремясь перенести на себя хотя бы частицу той боли, которую он сейчас испытывал... ...Беда, как обычно бывает, пришла к Родиону Яковлевичу внезапно, враз ослабив могучий организм, который не смогла побороть даже война. Ещё совсем недавно энергичный и полный сил, он всё чаще стал чувствовать, что энергия и силы тают. Сколько мог, он старался не показывать свои слабости жене и дочери, но Раиса Яковлевна и Наташа скоро почувствовали неладное. Ночью, накануне парада, Родион Яковлевич спал беспокойно, несколько раз просыпался, метался, изредка стонал во сне. Раиса Яковлевна давала ему лекарства, призванные утихомирить боль, а утром осторожно спросила: — Может, не поедешь? — Это исключено, — последовал тихий, но непреклонный ответ. — Не беспокойся, всё будет в порядке... ...Над Красной площадью прозвучали фанфары: «Слушайте все!», и маршал Малиновский начал свою речь. Он произнёс её, как произносил всегда: спокойно, внушительно и уверенно. Когда он закончил говорить, раздалась властная команда: — Парад, смирно! К торжественному маршу, побатальонно, первый батальон прямо, остальные направо, шагом ма-а-а-рш!» Грянул сводный оркестр, и вся огромная масса воинов, будто сцементированная воедино, величественным строем двинулась вперёд, соблюдая «ювелирное» равнение. Этот военный, ни с чем не сравнимый по красоте, парад предстал перед всей страной и перед всем миром как символ военной мощи державы, надёжной защиты её независимости, доблести и славы. Родион Яковлевич Малиновский стоял на трибуне, на правом её крыле, первый в шеренге военачальников, и, приложив к папахе вытянутую ладонь с плотно стиснутыми пальцами, любовался красотой и мощью проходивших мимо трибуны шеренг, любовался с таким пристальным и трогательным вниманием, будто принимал парад первый раз в своей жизни. Мимо трибуны проходили пышущие здоровьем и молодостью люди в военной форме, которые были ему по-своему родными и без которых он не мыслил своей жизни. Это маршировала живая биография вооружённых сил страны и, значит, и его, Малиновского, биография. Можно было закрыть глаза и мысленно представить себе ноябрь 1941 года, военный парад в заснеженной, осаждённой Москве, с него бойцы и офицеры уходили на фронт, точнее, не на фронт, а в историю: для многих из них тот парад был последним парадом в жизни. И можно было вспомнить другой парад — парад июня 1945 года — апофеоз Победы и торжества победителей. Малиновский подумал, что за годы, прошедшие с октября 1917 года, здесь, на этой легендарной площади, прошло много военных парадов. Их принимали разные министры обороны, в разное время и именовавшиеся по-разному — председателями Реввоенсовета, наркомами, министрами: Фрунзе и Ворошилов, Тимошенко и Булганин, Василевский и Жуков... Одни выезжали из ворот Спасской башни Кремля на красавцах конях, другие — на красавцах автомобилях. Главное не менялось — каждый парад пробуждал в сердцах людей гордость за свою Родину и за её непобедимую армию. Почти десять лет подряд военные парады принимал он, Малиновский. И вот сейчас ещё один — тридцать восьмой по счёту... Гремели оркестры, гулко печатали шаг колонны, светились гордостью и достоинством лица солдат и офицеров, развевались на ветру боевые знамёна. Казалось, что вся Красная площадь — это одно монолитное целое, главная суть которого — сила,счастье, радость и торжество. И только Раиса Яковлевна и Наташа воспринимали этот праздник со слезами, мучимые дурными предчувствиями. Они пытались отогнать их от себя, но невесёлые мысли возвращались к ним вновь и вновь. ...Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, стоя на трибуне, ощутил в себе радостное волнение от честно выполненного долга. Парад, прошедший, как всегда, блестяще, завершался. Провожая глазами последнюю шеренгу сводного оркестра, министр обороны с горечью и неизбывной тоской подумал, что этот парад, наверное, последний парад в его жизни.
20
В ноябре 1966 года Малиновский был помещён в госпиталь: Родион Яковлевич полагал, что ему, как человеку военному, следует лечиться именно там. Однако здоровье его резко ухудшилось, и в феврале следующего года, по настоятельной просьбе Раисы Яковлевны, он согласился перейти в Центральную Клиническую больницу, сокращённо — ЦКБ, в просторечии «кремлёвку». Эта больница за многие годы видела в своих стенах, а точнее, в своих палатах многих людей, широко известных не только в СССР, но и во всём мире. Теперь она встретила и Малиновского. Раиса Яковлевна сопровождала мужа при переезде и получила разрешение находиться при нём столько, сколько сочтёт необходимым. — Ты, Родичка, считай, что я опять с тобой рядом на командном пункте, как бывало на фронте. — Помню, родная. Только какой же это командный пункт? Здесь врачи командуют, а я как подопытный кролик... Давай сразу договоримся. Здесь меня многие будут пытаться навещать, утешать и воодушевлять. Не хочу ничего такого. Хочу, чтобы рядом была ты да ещё Наташенька, — когда будет свободна от университета, пусть приходит. Больше никого. Долгими вечерами, когда Малиновский был свободен от процедур, приёма лекарств, инъекций и капельниц, самым отрадным были для него разговоры с женой. Боль в поджелудочной области, агрессивно нападавшая на него по утрам, к вечеру немного отступала, будто устав от борьбы с несдающимся человеком, и Родион Яковлевич отдавался во власть воспоминаний. Правда, Раиса Яковлевна, памятуя о настойчивых требованиях врачей не переутомлять больного, больше говорила сама, а он благодарно слушал её певучий голос, который был для него самым желанным, то открывая утомлённые глаза, то прикрывая их тяжёлыми, вздрагивающими от напряжения веками. — Врачи у тебя хорошие, Родичка, — говорила Раиса Яковлевна. — Уж поверь мне: я сразу могу распознать, кто коновал, а кто настоящий доктор. Опытные, дело своё хорошо знают. И главное, верят, что ты победишь болезнь. — Труднейшая у них профессия, доложу я тебе! О враче как надо судить? Умеет поставить диагноз даже без всяких приборов — значит, врач. А не умеет — другим делом ему следует заниматься. — Малиновский помолчал. — Вот, возьми, Чехов. Толковый был врач, я уж не говорю, какой писатель. В его время ведь ни тебе рентгенов, ни всяких ЭКГ. Пришёл к больному земский врач, раздел, пальцами постучал, прощупал, грудь стетоскопом прослушал, язык высунутый осмотрел — вот диагноз и готов. И часто — точный диагноз. А теперь бывает, что и с приборами диагноз не могут распознать. — А помнишь, Родичка, как ты хотел в Военно-медицинскую академию поступать? — Было такое. В двадцатые годы. Да плохо ли быть врачом? Сейчас сам бы себя и лечил, — невесело пошутил он... День рождения Родиона Яковлевича Малиновского был 23 ноября. После занятий в университете Наташа приехала к отцу в больницу. Тихо, неслышно вошла в палату. Окно было закрыто шторой. Несмотря на то что осенний день уже набирал силу и сквозь тучи даже проглянуло, хотя и несмело, солнце, в палате было полутемно. И всё же Наташа сразу увидела, что отец лежит в кровати с закрытыми глазами. «Спит», — подумала она и осторожно опустилась в кресло. Матери в палате не было, она, как сказала сестра, в это время была на беседе у врача. Наташа терпеливо ждала, пока отец проснётся. Родион Яковлевич же, словно почувствовав её присутствие в палате, внезапно очнулся от дремоты, открыл глаза и приподнялся на локте. — Наташенька! — Он был радостно взволнован появлением дочери. — Здравствуй! А я тут немного вздремнул. — Папа, здравствуй, с днём рождения тебя! — Наташа слегка прильнула к его груди, сразу почувствовав, как он исхудал и ослабел, и поцеловала в щёку. — Одного желаю тебе, если бы только знал, как я этого желаю — победить болезнь, поскорее встать на ноги и вернуться домой! Ну как ты? — Спасибо, доченька. Да как? Всё нормально, терпимо. Вот рад, что ты пришла. Будто солнышко в окне. А что это у тебя в руке? Наташа, заставив себя улыбнуться, раскрыла ладонь — там лежал маленький плюшевый львёнок. — Ну-ка, ну-ка, дай поддержать, — Родион Яковлевич потянулся к игрушке. — Какой забавный. Малыш, а уже лев! — Пусть он будет твоим талисманом. — Наташа обрадовалась, что отцу понравился её подарок. — Ты же знаешь, львы — сильные. — Да, львы сильные, — эти слова эхом прозвучали в его устах. Он затих, собираясь с силами и неотрывно глядя на дочь, любуясь ею. — Ну, расскажи, как твои дела в университете? — Хорошо. Вот принесла тебе первую свою статью. Опубликовали. — Статью? — заинтересовался отец. — Это о Лорке? Оставишь? — Конечно, для того и принесла. А врачи разрешают тебе читать? — Да кто они такие, чтобы мною командовать? — шутливо произнёс Родион Яковлевич. — А хочешь, я тебе вслух прочитаю? — Слушаю внимательно. Наташа начала негромко читать. Он слушал, буквально впитывая каждое слово. Ведь это написала его дочь! Родиону Яковлевичу пришлось по душе то, что она написала о Лорке, понравились глубина и оригинальность суждений, как бы бросавших вызов штампам и ходульным истинам. Едва Наташа умолкла, он взял «Неделю», ручку и подставку и что-то написал в верхнем углу публикации. Наташа увидела несколько слов, написанных по-испански: «Смотри, Пассионария, о ком пишет моя дочка». Ниже стояла подпись: «Коронель Малино». — Отправим Долорес[14]. — Родион Яковлевич откинулся на подушку. Наташа почувствовала, что отец устал. — Ты отдохни, папа, — сказала она. — А я посижу тут тихонько, рядышком с тобой. Помнишь, как ты сидел у моей постели год назад? Родион Яковлевич улыбкой дал понять, что помнит. Он закрыл глаза, и в памяти всплыла больница, и та палата, в которой лежала тяжело заболевшая Наташа, и та страшная ночь, которую он провёл в страхе и волнении. И как было не испытывать этой непереносимой тревоги, если врачи на все вопросы о возможном исходе болезни его дочери отводили глаза и отвечали уклончиво: «Если сердце выдержит...» Он решил сидеть около неё всю ночь. Он свято уверовал в то, что если будет здесь, рядом с дочерью, будет видеть её, слышать её дыхание и стук сердца, то именно это, а вовсе не усилия врачей и не какие-то мудрёные лекарства, спасёт её. Только его сострадание и мольбы будут способны свершить это чудо. Иначе зачем же он жил на свете, зачем воевал, зачем встретил на фронте свою Раечку, зачем делал всё то, что делал, повинуясь судьбе? Он так ушёл в воспоминания, что не заметил, как в палату вошла Раиса Яковлевна. Наташа сразу уловила её настроение: глаза матери были печальны. Но едва Родион Яковлевич открыл глаза, на лице её засветилась улыбка: — Как хорошо, Родичка, что сегодня мы все опять вместе! Знаешь, врач мне сказал, что есть признаки улучшения. — Не надо, Раечка, говорить глупости.
21
В короткие минуты забытья Родиону Яковлевичу снился не фронт и не кровавые битвы, — ему неизменно представлялись бескрайние русские леса. Они гнулись под ветром или стояли неподвижно, как бы олицетворяя собой вечную жизнь. И это были счастливые сны, хотя он с трагической ясностью понимал, что теперь уже никогда не сможет очутиться в этих до слёз родных лесах, понимал, что наступает последний час его жизненного пути, ведущий в неразгаданную и бездонную космическую высь... И вот однажды приснился ему странный и пугающий сон. Будто перед ним расстилается бескрайний русский лес. Он идёт по этому лесу в простой одежде — рубаха, картуз на голове, штаны заправлены в яловые сапоги. Идёт довольный, счастливый, упиваясь чувством свободы. Вдруг видит — посреди поляны стоит огромный дуб. И кто-то невидимый тихо шепчет: «Товарищ маршал! Вас к аппарату ВЧ!» Он подходит к дубу, на котором висит телефон, берёт трубку и слышит голос Сталина: «Здравствуйте, товарищ Малиновский! Тут мне товарищ Берия доложил, что вы, оказывается, мечтаете об отставке и к тому же решили избрать профессию лесника. Вы можете подтвердить или опровергнуть сообщение товарища Берии?» «Могу подтвердить, товарищ Сталин. Я уже в отставке и работаю лесником». «Мы не можем одобрить вашего поведения, товарищ Малиновский, — голос Сталина зазвучал жёстко и даже угрожающе. — Политбюро не принимало решения о вашей отставке. О какой отставке может идти речь? Пока в мире существуют две противоположные, более того, враждебные друг другу системы — система социализма и система капитализма, — существует и угроза войн, от локальных до мировых. В таких условиях полководцы не имеют права уходить в отставку. Нас не может не удивлять и тот противоречащий здравому смыслу факт, что полководец, я бы сказал, крупный полководец нашего времени, каким является товарищ Малиновский, избирает себе странную профессию лесника». «Товарищ Сталин, профессия лесника имеет то преимущество перед профессией полководца, что лесник созидает, а полководец разрушает». «Нельзя с вами согласиться, товарищ Малиновский. Деятельность полководца в конечном счёте также направлена в русло созидания. Борясь со злом, побеждая врага, полководец приносит людям желанный мир, необходимый для созидания. Посоветовавшись на Политбюро, мы приняли решение возвратить вас на военную службу. Все мысли о возможной отставке, товарищ Малиновский, должны быть решительно исключены, ибо такого рода мысли не имеют ничего общего с задачами защиты социалистического Отечества». Сталин на мгновение умолк. И вдруг раздались громко и отчётливо следующие слова: «Товарищ Малиновский, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает вашему фронту немедленно перейти в генеральное наступление...» Страшный грохот заглушил голос Сталина: загремели открывшие огонь орудия; с чудовищным рёвом понеслись над лесом истребители, штурмовики, бомбардировщики; валя деревья, поползли танки; на ходу застрочили автоматы и пулемёты. Вздыбилась и запылала земля. Ярким пламенем вспыхнул лес. И тут Малиновский почувствовал, что на нём уже нет одежды лесника, а напрягшееся тело плотно облегает знакомый маршальский мундир. В тот же миг будто из десятков репродукторов, громыхнул беспощадный голос: «Отставки тебе не будет! Не будет! Никогда!..» Родион Яковлевич усилием воли стряхнул с себя страшный сон, но окончательного пробуждения не было. Внезапно в его голове откуда-то исподволь, из неведомой глубины сознания появились строки из «Войны и мира», не раз читанной и перечитанной. Андрей Болконский думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, значения которой никто не мог понять, и о ещё большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих... И, поняв, что совсем скоро придёт его последний час, Родион Яковлевич Малиновский мысленно заговорил, прощаясь со всеми: с ветеранами, выполнявшими команды своего полководца на полях сражений, с молодыми воинами, только что вставшими в воинский строй, с родными, близкими и знакомыми, со всеми теми, с кем сводила его долгая жизнь: «Дорогие, родные мои люди! Я ухожу от вас, но не прощаюсь с вами. Всмотритесь в звёздное небо, высокое небо, что простирается над вашими головами. Там, среди мириадов звёзд, горит и моя маленькая звёздочка. Под ней я родился, вырос и возмужал, стал солдатом Отчизны, жил вместе с вами в суровое и яростное время, защищал, как и вы, Родину-Мать. И пока моя звезда горит, я продолжаю жить. Я остаюсь вместе с вами, а вы будете вместе со мной. Всегда... Помните, один великий пророк сказал: «Бытие только тогда и есть... только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие»?
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОКУМЕНТЫ И ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ[15]
Из автобиографии Р.Я. Малиновского: Родился в Одессе 23 ноября нового стиля в 1898 г. Моя мать, Варвара Николаевна Малиновская, родила меня в девушках; в метрической записи помечено «незаконнорождённый». Отца своего не знаю. С весны 1911 г. началась моя самостоятельная трудовая жизнь. Я стал работать батраком на фольварке Шендерово у помещика Ярошинского. В 1914 г. со станции Одесса-Товарная на войну отправлялись воинские эшелоны. Я залез в вагон, спрятался, и солдаты обнаружили меня только на пути на фронт. Так я стал рядовым пулемётной команды 256 пехотного Елизаветрадского полка. Воевал в Восточной Пруссии и Польше. Был награждён Георгиевским крестом IV степени и стал ефрейтором. В октябре 1915 г. был ранен под Сморгонью. После излечения попал во 2 Особый пехотный полк, вошедший в состав Русского Экспедиционного корпуса во Франции, куда был отправлен в феврале 1916 г. В апреле 1917 г. был ранен. До ноября 1918 г. я дрался с немцами на французском фронте и был трижды награждён французским военным крестом — Круа де Гер с мечами. В августе 1919 г. мне удалось с небольшой группой солдат выехать в Россию. В октябре нас высадили во Владивостоке, где хозяйничали японцы. В ноябре мне и троим товарищам удалось перейти линию фронта между Омском и Петропавловском, и 10 ноября мы вступили в пулемётную команду Тверского полка 27 дивизии. Так началась моя служба в Красной Армии.
Из автобиографической книги Р. Малиновского «Солдаты России»: Наступила ночь. Снова стали считать потери. Пулемётный взвод отделался сравнительно легко: двое убито, трое ранено; из четырнадцати человек осталось в строю девять. Совсем недавно были все вместе, читали друг другу письма жён, залитые слезами. И вот уже нет на земле этих людей, и сердце сжимает тоска. Может, завтра и меня не досчитаются во взводе? Взошла поздняя луна, большая и скорбная, и, горюя, повисла над горизонтом. И кажется, оттого она так печальна, что увидала изрытое воронками и окопами, обильно политое кровью поле, где убивали друг друга обезумевшие люди. Тихий, тоже печальный ветерок уносил с поля брани устоявшийся в ложбинках пороховой дымок, запах гари и крови. Молча обступили солдаты подъехавшую кухню, молча поужинали. Стрельба стихла, лишь кое-где рвались снаряды. Санитары с носилками сновали по окопам, выносили тяжелораненых; полковые музыканты подбирали убитых. На повозках подвозили патроны, и на тех же повозках отправляли в тыл убитых — хоронить. Коротки весенние ночи. И едва рассеется туман, артиллерийская канонада разбудит измученных, съёжившихся от утреннего холода солдат, земля снова задрожит от разрывов, а небо затянется дымом и пылью.
Из аттестации на начальника пулемётной команды стрелкового полка Р. Малиновского, 1922 г.: Дисциплинированный, энергичный, настойчивый, по службе требовательный. Среди подчинённых пользуется уважением. Имеет большой практический опыт по пулемётному делу. Будучи беспартийным, является вполне благонадёжным по отношению к Советской власти. Занимаемой должности вполне соответствует.
Из аттестации на командира батальона 243-го полка 81-й стрелковой дивизии Р. Малиновского, 1926 г.: Обладает твёрдой и резко выраженной волей и энергией. Дисциплинирован и решителен. С твёрдостью и строгостью к подчинённым умело сочетает товарищеский подход. Близок к массе, иногда даже в ущерб своему служебному положению. Политически развит хорошо, службой не тяготится. Является военным талантом-самородком. Благодаря упорству и настойчивости приобрёл необходимые познания в военном деле путём самоподготовки. В моральном отношении безупречен. Должности командира батальона соответствует. Заслуживает командирования в военную академию.
Из аттестации на слушателя Академии им. М. В. Фрунзе Р. Малиновского, 1930 г.: Слушатель Военной Академии имени Фрунзе. Общеакадемический курс усвоил хорошо. На стажировке в кавалерийской дивизии проявил особую активность. Аккуратный, добросовестный, старательный. Дисциплинирован, скромен, выдержан. В общественной и политической работе активность средняя. Хорошо изучил французский язык. Годен к строевой и штабной службе. Может быть назначен начальником оперативной части штаба дивизии, стрелковой и кавалерийской. Единоначальником быть может.
Из статьи Р. Я. Малиновского для сборника, посвящённого юбилею академии им. Фрунзе: В тот период, когда я учился (1927—1930), Военная академия им. Фрунзе была в Советской Армии единственным общевойсковым высшим учебным заведением, которое давало широкую военную подготовку тактического и оперативного масштаба и довольно значительную ориентировку в области стратегии. И, надо сказать, что, несмотря на такой обширный объём знаний, учебный курс был настолько хорошо построен, что вполне успешно усваивался. Слушатели академии считали для себя большим счастьем учиться в ней. У всех нас остался в памяти тот трудный конкурс, который надо было преодолеть, чтобы попасть в академию. В те годы, помимо отбора в округах, на место в академии претендовали три-четыре кандидата. И, поступив, мы дорожили возможностью учиться. Основательно поставленные в академии групповые занятия по тактике на картах и на местности были главной формой изучения прикладной стороны курса тактики. Он охватывал все формы боевых действий в масштабе от батальона до корпуса и все стороны их организации и обеспечения. Большое значение имели также летние подвижные лагеря, где отрабатывались сквозные тактические задачи и проводились военные игры. Преподаватели и слушатели во время этих занятий передвигались в конном строю. Командно-штабные учения и оперативные игры проводились очень поучительно, приближённо к условиям боевой обстановки. Причём, руководитель занятий не был связан жёстким регламентом методической разработки, что способствовало творческому подходу к делу. Некоторым группам повезло: руководителями у них были Заместитель Наркома обороны М.Н. Тухачевский и командующий войсками МВО И.П. Уборевич. Это возбуждало большой интерес к занятиям, а главное — способствовало выработке волевых качеств, необходимых командиру. Хочется отметить ещё одну хорошую традицию. В те времена в академии часто выступали с лекциями и сообщениями крупные военные деятели и руководящие работники центрального военного аппарата — неплохо бы возродить эту практику. Ценность багажа, которым снабдила меня за три года обучения академия, я почувствовал сразу же по её окончании. Полученные знания и навыки дали мне возможность уверенно и без особых трудностей перейти от батальонного масштаба к полковому, дивизионному и более высоким объединениям.
Из воспоминаний В.И. Буренина: С ноября 1931 г. по август 1936 г. отец мой Иван Николаевич Буренин и Родион Яковлевич Малиновский служили в оперативном отделе штаба БВО. Наши семьи жили в одном доме. К этому времени мои родители приобрели патефон и купили к нему подержанные пластинки. Бывая у нас, Родион Яковлевич неизменно просил поставить романс «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Собинова. О том, какая песня у Родиона Яковлевича любимая, знали, кажется, все — и потому в новогодней стенгазете оперативного отдела появился шарж — глядя на звёздное небо, Родион Яковлевич говорил «Гори, гори, моя звезда» (слова, заключённые в контур наподобие облака, вились рядом с рисованным изображением фигуры, к которому была приклеена голова, вырезанная из фотокарточки). Ещё мне запомнился такой случай. Родион Яковлевич носил наручные часы-хронограф с секундомером швейцарской фирмы «Мозер», которые он получил после окончания академии им. Фрунзе, как и другие выпускники этого года. Когда часы сломались, ни один смоленский часовщик не взялся за ремонт — механизм оказался очень сложным. Тогда Родион Яковлевич сам разобрал часы, зарисовал схему расположения деталей, устранил неисправность и собрал механизм. Часы ко всеобщему удивлению пошли.
Из воспоминаний генерал-майора медицинской службы Н.М. Невского: В конце 1931 г. меня перевели в Смоленск в Военно-санитарное управление Белорусского военного округа. Мы с Родионом Яковлевичем оказались соседями, жили в одном доме. Вечерами встречались, беседовали на исторические темы — мы оба интересовались историей. Знаю, что И. Уборевич высоко ценил Родиона Яковлевича, о чём не раз упоминал на совещаниях, где мне довелось быть.
Из аттестации на помощника начальника 1 отдела штаба Северо-Кавказского военного округа Р. Малиновского, 1931 г.: Военно-теоретическая подготовка хорошая. В обстановке разбирается быстро и умело. Обладает данными для выработки хорошего штабного командира крупного масштаба. Имеет вполне достаточные для командира волевые качества. Более склонен к работе в роли строевого командира. Здоров, вынослив, хорошо подготовлен в стрелковом деле. Отлично обладает личным оружием. Может быть выдвинут на должность Нач. сектора или командира стрелкового и кавполка. Занимаемой должности вполне соответствовал.
Из аттестации на начальника 2-го сектора 1-го отдела штаба Белорусского военного округа Р. Малиновского, 1934 г.: Обладает волевыми качествами командира, на занятиях с начсоставом принимает грамотные решения и твёрдо проводит решение в жизнь. Политически развит хорошо. Оперативная и тактическая подготовка хорошая. Подлежал выдвижению вне очереди на должность Начальника штаба дивизии, командира стрелкового или кавалерийского полка, единоначальника. Достоин продвижения на начальника сектора 1 отдела штаба округа К-10.
Из письма[16] Франсиско Сиутата (во время гражданской войны в Испании начальника штаба Северного фронта) дочери Р.Я. Малиновского Наталье. За всю мою жизнь я не встречал человека, которого бы уважал больше, чем твоего отца, а ведь судьба сводила меня без всякого преувеличения с историческими личностями. Мне выпала честь быть рядом с твоим отцом, которого тогда скромно называли коронель[17] Малино, в 1937—1938 годах. Нас связала такая сердечная дружба, что он стал называть меня «сынком» (у меня сохранилась его фотография, подаренная на память, с надписью «Сынку моему Пакито»). Я же, хотя между нами всего десять лет разницы, называл его «отец» — падре. Коронель Малино всегда оставался для меня недосягаемым примером. Я обязан ему не только обретением профессиональных навыков, но и тем, что тогда ещё понял, как необходимо в военном деле прочное, глубокое, доскональное знание предмета, но не только. Не менее нужны командиру взыскательный ум и доброе сердце. Твой отец дал мне не только военный урок, но и урок доблести, стойкости, достоинства. И — не удивляйся! — урок деликатности. Исполняя обязанности советника, трудно удержаться от соблазна публичного поучения, и все предшественники коронеля Малино давали советы Листеру в присутствии подчинённых, попросту говоря, командовали через его голову, что не всякий потерпит. И пусть советник трижды прав, но, задевая самолюбие командира, он колеблет веру солдат в него, и в итоге страдает общее дело. Я доподлинно знаю, что коронель Малино обсуждал положение с Листером в самом узком кругу (несколько раз я при этом присутствовал). Коронель Малино давал точную характеристику обстановки, подводил к выводу, но последнее слово всегда оставлял за командиром, а при оглашении приказа чаще всего даже не присутствовал. Твой отец встал плечом к плечу с нами в час тяжелейших испытаний, а позже, уже в Москве, когда мы были оторваны от родины, скольким из нас он помог! Мы знали, что у испанцев есть свой депутат в советском правительстве — коронель Малино.
Из воспоминаний Энрике Листера, командира 5-го полка Испанской республиканской армии: За то время, что нам довелось воевать вместе, мы крепко подружились. Малино отличали не только необыкновенная боевая закалка, но и умение быстро, чётко и проницательно решать сложные боевые вопросы на каждой стадии боя. Позже эти качества проявились ещё более объёмно и блестяще. Больше всего мне нравились в нём смелость и твёрдость, с какой он отстаивал свои взгляды, уважение к мнению других, прямота и честность в отношениях с людьми.
Из аттестации на помощника армейского кавалерийского инспектора по оперативному отделу штаба Белорусского военного округа Р. Малиновского, подписанной 8 марта 1939 г. заместителем командующего войсками по кавалерии БОВО комдивом Г. Жуковым: Товарищ Малиновский свою преданность партии Ленина—Сталина и социалистической родине доказал образцовым выполнением правительственного задания[18], за что награждён орденом Ленина и орденом Красного Знамени. Политически и морально устойчив. Общее развитие хорошее. Марксистско-ленинская подготовка хорошая. Авторитетом как командир и товарищ пользуется. Волевые качества развиты вполне. Энергичный и решительный, принятие решения обеспечивает и настойчиво проводит в жизнь. Инициативен, дисциплинирован, требователен к себе и своим подчинённым. Оперативно-тактическая подготовка хорошая. Имеет большую практику в организации и ведении боя; непосредственный участник боёв на русском фронте против немцев и французском против немцев и участник выполнения особых правительственных заданий. Имеет хорошие знания и навыки организации учёбы и работы вплоть до крупных соединений включительно. Хорошо знает технические средства борьбы и другие рода войск (танки, авиацию, артиллерию). Состояние здоровья удовлетворительное. Из Франции, из экспедиционного корпуса, возвратился в 1919 г. Высадился во Владивостоке и под Омском перешёл в ряды РККА, поступив в пулемётную команду 240 стрелкового полка 27 стрелковой дивизии. Вывод: 1. Во всех отношениях хороший командир, в совершенстве владеющий практикой. 2. Занимаемой должности вполне соответствует. 3. Может быть хорошим начальником штаба армейской группы или начальником округа (не особого).
Из воспоминаний генерал-майора медицинской службы Н.М. Невского: В середине 1939 г. Р.Я. Малиновский на короткое время приехал в Минск, где я был начальником военного госпиталя. Зашёл ко мне. Скупо рассказывал о пережитом в Испании. Я, в свою очередь, поделился с ним тем, что произошло во время его отсутствия на родине. Родион Яковлевич помрачнел и сказал: «Сегодня еду в Москву. Куда пошлют, что будет — не знаю. И свидимся ли — не знаю».
Из воспоминаний генерал-полковника М.И. Повалия: С Родионом Яковлевичем Малиновским — в ту пору преподавателем Военной академии им. Фрунзе, — я впервые встретился в её стенах, будучи слушателем. В то время среди профессорско-преподавательского состава академии было немало талантливых учёных, специалистов. Тем не менее Р.Я. Малиновский, впервые взявшийся за преподавательскую работу, не потерялся среди них. Нам, слушателям, пожалуй, больше всего импонировал тот факт, что этот спокойный, подтянутый комбриг с ясными серыми глазами, с поблескивающими орденами сдержанно, без какой-либо внешней аффектации излагающий с кафедры курс тактики и службы штабов, словно бы внёс с собой в аудиторию ветер испанских бурь.
Из аттестации на старшего преподавателя кафедры службы штабов генерал-майора Малиновского, подписанной 11 ноября 1940 г. начальником той же кафедры генерал-майором Цветковым: Политически и морально устойчив. Прочно связан с массами и ставит перед ними конкретные задачи по овладению знаниями, обеспечивающими подготовку командира высокой квалификации. Систематически работает над изучением опыта последних войн и заканчивает диссертацию на соискание учёной степени кандидата военных наук. Обладая широким военным кругозором и большим опытом строевой и штабной работы, а также боевым опытом последних войн, т. Малиновский, руководя учебной группой слушателей, имеющих боевой опыт, добился чётких знаний по теории вопроса и, в целом, хороших результатов. Предъявляет высокие требования на занятиях, поддерживает высокую дисциплину в учебной группе, проводит большую воспитательную работу. Вполне владеет методикой ведения занятий, своевременно сдаёт поручаемые задания по разработке учебных материалов. Задачи разрабатывает хорошего качества. Лекции в особой группе прочитал содержательно. За проведённую работу удостоен звания «Отличник Академии». Лично дисциплинирован, пригоден к походной жизни. Занимаемой должности вполне соответствует. По своим деловым качествам может выполнять ответственные обязанности как в строю, так и в штабах. В войсках может быть использован на должностях командира дивизии, начальника штаба корпуса или начальника оперативного отдела штаба армейской группы.
Из автобиографии Р. Малиновского, написанной для личного дела, 1948 г.: Войну начал командиром 48 стрелкового корпуса на реке Прут, от которой корпус с тяжёлыми боями отходил на Бельцы, Рыбницу, Котовск, Колосовку, Николаев, Херсон, Каховку. В Николаеве корпус был окружён, но пробился и вышел.
Из воспоминаний командующего 9-ой армией генерал-полковника Я.Т. Черевиченко: Численность советских войск на границе с Румынией летом 1941 г. была незначительна. В полосе протяжённостью 480 км у нас находилось всего 4 стрелковые и одна кавалерийская дивизии. Граница не имела значительных инженерных укреплений — их не успели возвести, хотя работы и велись. На восточном берегу реки Прут имелись две линии окопов и траншей и то лишь на основных оперативных направлениях. Единственной преградой для противника была река Прут. Она-то и сыграла свою роль при развёртывании пограничных частей Одесского военного округа в боевые порядки в первые тяжёлые часы войны. Поняв серьёзность обстановки, я отдал приказ вывести на линию границы 48 стрелковый корпус, которым тогда командовал генерал-майор Р.Я. Малиновский и 150 стрелковую дивизию под командованием генерал-майора И.И. Хоруна.
Из воспоминаний комиссара 74-ой Таманской стрелковой дивизии полковника Е.Е. Мальцева: На Бельцском направлении вражеские войска утром 22 июня после сильной артиллерийской подготовки при поддержке и под прикрытием авиации приступили к форсированию реки Прут. Советские пограничники открыли огонь. Вскоре к ним подоспели войска первого эшелона 48 стрелкового корпуса, которые, быстро окопавшись и замаскировав позиции, заняли оборону. Враг подтягивал новые силы и бросал их в повторные атаки. Напряжение боя нарастало. Наша 74 Таманская дивизия была во втором эшелоне корпуса и пока что только подвергалась мощным бомбовым ударам противника. Вечером на КП дивизии прибыл командир корпуса. Суровым было лицо генерала Малиновского. Но в его действиях — ни тени суеты или растерянности. — Первый день выстояли, — спокойно сказал Родион Яковлевич. — Завтра придёт и ваш черёд. Будьте готовы. Затем генерал отдал распоряжение о выдвижении в ночное время нашей дивизионной артиллерии на наиболее угрожаемые участки.
Боевая характеристика на командира корпуса генерал-майора Р. Малиновского от 25 июля 1941 г., подписанная командармом Я.Т. Черевиченко: Твёрд, решителен. С первых дней войны принял совершенно новые для него дивизии, в короткий срок изучив особенности каждой. В сложных условиях боя руководит войсками умело, а на участках, где создавалась тяжёлая обстановка, появлялся сам и личным примером бесстрашия и уверенности в победе воодушевлял войска. В течение месяца войны корпус Малиновского бессменно вёл упорные бои с превосходящими силами противника и вполне справился с поставленными задачами. Сам Малиновский за умелое руководство представлен к награде. Должности вполне соответствует.
Из воспоминаний генерал-полковника М.И. Повалия: Уже в первые, безмерно тяжёлые месяцы войны генерал Малиновский сумел проявить себя как мужественный и искусный военачальник. В драматические дни августовских боёв под Днепропетровском, когда через Днепр на его восточный берег прорвались гитлеровцы, Р.Я. Малиновский был назначен начальником штаба, а вскоре и командующим 6 армией. Три недели руководимая им армия отбивала атаки противника, удерживая левобережные посёлки. Так и не прорвав нашу оборону — а ведь здесь использовалась основная ударная мощь танковой группы Клейста! — враг перенёс удары на другие участки. За проявленную в боях доблесть Р.Я. Малиновскому было присвоено звание генерал-лейтенанта, он был награждён орденом Ленина.
Из воспоминаний генерала армии Н.Г. Лященко: В те трудные месяцы 1941 года 6 армия под командованием Р. Малиновского сдерживала натиск танковых дивизий Клейста под Днепропетровском. Силы были неравными — с тяжёлыми боями мы отступали. Под Изюмом заняли оборону, отражая яростные атаки врага. Я тогда командовал полком. В разгар боя меня позвали к телефону и я услышал в трубке спокойный голос Малиновского: — Николай, прошу тебя как старого боевого друга: удержи рубеж до наступления темноты. Если оставишь позиции, потеряем технику: все наши машины застряли в пяти километрах восточнее города. Прошу, поговори с людьми, доложи, что решил... Я был поражён — командующий просит! Мне даже показалось, что у него сдали нервы, но это было не так, в чём я позже убедился. Я сделал, как он просил, — поговорил с командирами, передал просьбу командующего всему личному составу. И, почувствовав, что командующий обращается лично к каждому — не как к подчинённому, а как к человеку, — люди сделали невозможное. Полк устоял — мы спасли машины.
Из воспоминаний генерал-полковника М. Повалия: В июле 1942 г., когда я работал в штабе Южного фронта старшим офицером оперативного отдела, произошла запомнившаяся встреча с Родионом Яковлевичем. Трудное время, тяжелейшая обстановка на фронте. Лавина дел свалилась на командующего, и всё же Родион Яковлевич счёл необходимым лично проинструктировать меня перед отправкой в 12 армию, уже оборонявшую Ворошиловград. Взяв цветные карандаши, он спокойно, основательно и быстро, но без тени спешки, нанёс на моей карте обстановку, разграничительные линии, все рубежи и сроки отхода. Меня поразила его выдержка. И впоследствии я не раз убеждался: выдержка не покидала его никогда, а свойственные ему точность и скорость принятия решений, в особенности неотложных, меня просто поражали. Я видел это и в тяжёлые дни отступления, и в его победных операциях.
Из автобиографии Р. Малиновского, написанной для личного дела, 1948 г.: В июле 1942 г. Южный фронт, будучи глубоко охвачен с фланга и тыла войсками противника, не сумел удержать Новочеркасск и Ростов и оставил их без разрешения Ставки.
Из статьи Р. Малиновского для фронтовой газеты: Мучительно больно оставлять свою землю врагу. Тяжело и стыдно, отступая, глядеть в глаза людям. И, когда пришлось оставить врагу наш чудный южный заповедник Асканию-Нову, я ощутил то же жгучее чувство стыда. Было нестерпимо горько оттого, что война пришла и сюда. Животные смотрели на нас с той же укоризной, что и люди. Хотелось опустить глаза.
Из книги маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского «Солдатский долг»: Прибыв на командный пункт 66 армии, я не застал там командарма. «Убыл в войска», — доложил начштаба армии генерал Корженевич и хотел было вызвать командарма на КП, но я сказал, что сам найду его. Я побывал на командных пунктах дивизий, полков. Добрался до КП батальона, но и здесь не удалось встретиться с командармом. Сказали, что он находится в одной из рот. Я решил отправиться туда. Нужно сказать, что в тот день здесь шла довольно оживлённая артиллерийско-миномётная перестрелка, и было похоже, что противник подготавливает вылазку. Где в рост по ходу сообщения, а где и согнувшись в три погибели, по полузасыпанным окопам добрел я до самой передовой. Здесь и увидел среднего роста коренастого генерала. После церемонии официального представления друг другу и краткой беседы я намекнул командарму, что вряд ли есть смысл ему самому лазать по ротной позиции, и порекомендовал выбрать более подходящее место, откуда будет удобнее управлять войсками. Родион Яковлевич замечание выслушал со вниманием. Лицо его потеплело: — Я сам понимаю, — улыбнулся он, — но уж очень начальство донимает, вот и ухожу подальше от начальства. И людям, когда я здесь, всё же спокойнее. Расстались мы друзьями, достигнув полного взаимопонимания. Конечно, на армию возлагалась непосильная задача, командарм понимал это, но обещал сделать всё от него зависящее, чтобы усилить удары по противнику.
Из воспоминаний Р.Я. Малиновского: Это было поистине суровое время. 2-я Гвардейская армия получила задачу сосредоточиться севернее окружённой группировки гитлеровцев, состоящей из 22 дивизий. Наши войска располагались в заснеженной степи, прямо под открытым небом. И нужна была огромная организаторская работа, чтобы в этих условиях сохранить чёткость управления, подготовиться к боевым действиям. Будучи командующим армией, я постоянно чувствовал помощь, инициативу и энергию начальника штаба армии. Противник намеревался прорваться к своим окружённым войскам. Для этого готовился удар группы генерал-фельдмаршала Манштейна с юга из района Тормосина и Котельниково. Один из наиболее опытных генералов вермахта, Манштейн, самоуверенно радировал окружённому Паулюсу: «Будьте уверены в нашей помощи». Силы этой группы были действительно большие. Отразить их удар, разгромить Манштейна и не допустить его продвижения к окружённой группировке — эта почётная и ответственная задача была поручена нескольким армиям, и среди них главную роль выполняла 2-я Гвардейская армия как наиболее сильная и боеспособная. Вместе с С.С. Бирюзовым мы проводили бессонные ночи, готовясь к решающему сражению, разрабатывались планы трудной переброски войск: надо было на сотню с лишним километров двинуться навстречу Манштейну; штабам готовились различные данные для постановки боевых задач, организовывалось взаимодействие с соседними армиями. Тогда я увидел Сергея Семёновича непосредственно в боевой работе и не мог не оценить в нём больших способностей военного руководителя, организатора боевой деятельности войск. Что касается Манштейна, в которого очень верил Гитлер, то он оказался наголову разбит.
Из письма Р.Я. Малиновского сталинградским школьникам: Громославка была самым горячим участком нашего фронта. Противник рвался на северный берег реки Мышкова. Воздушная разведка донесла, что противник разворачивает для атаки танки. Возникла серьёзная опасность прорыва. Что противопоставить противнику? У нас было, пожалуй, даже больше танков, но без горючего — в баках оставалось по четверти заправки. Начала вражеской атаки нельзя было допустить. И у меня вдруг созрело решение. Я отдал приказ снять с танков маскировку, а если они укрыты в оврагах, вывести их на бугры — пусть враг видит, с чем ему придётся иметь дело. И цель оказалась достигнута. В ставку Гитлера полетела срочная депеша: «Вся степь усеяна русскими танками. Нуждаемся в подкреплении». Фашисты не решились атаковать. Так время, необходимое для подвоза горючего, было выиграно, а положение — спасено.
Из воспоминаний немецкого генерала Меллетина: Поражение на этой ничем не примечательной реке Мышкова положило конец надеждам Гитлера на создание империи.
Из книги Александра Верта «Россия в войне 1941—1945»: Передо мной был командующий 2 гвардейской армией — энергичный молодой генерал-лейтенант, великолепный образчик профессионального военного, одетый в элегантный мундир, высокий, красивый, с длинными тёмными волосами, зачёсанными назад, и с круглым загорелым лицом, на котором после нескольких недель непрерывных походов не было заметно ни малейших признаков утомления. Он казался гораздо моложе своих 44 лет. Его армия сыграла главную роль в отражении наступления котельниковской группы Манштейна. А вскоре Малиновскому предстояло стать командующим Южным фронтом и в феврале 1943 г. отбить у немцев Ростов. Малиновский принял нас в своём штабе, расположившемся в просторном школьном здании в большом селе на Дону. Рассказав нам о том, как он был солдатом русских экспедиционных войск во Франции во время Первой мировой войны, Малиновский обрисовал первый этап Сталинградской наступательной операции, завершившейся окружением немецких войск и продвижением Красной Армии на запад. Второй этап должен был начаться 16 декабря, но Манштейн опередил русских, предприняв 12 декабря наступление в направлении на Сталинград. Малиновский сказал, что эта ударная группа состояла из трёх пехотных и трёх танковых дивизий, одна из которых была переброшена с Кавказа и одна из Франции. У них было около 600 танков и мощная поддержка с воздуха. (...) Угощая нас обедом, Малиновский с большой теплотой и доброжелательностью провозгласил тост, заключив его следующими словами: «Мы хотим свободы — так не будем же препираться по поводу некоторых различий, имеющихся в нашем понимании свободы. Мы хотим победы для того, чтобы война не могла больше повториться».
Из неопубликованных ответов Р.Я. Малиновского на анкету журнала «Огонёк», 1946 г.: — Какой день войны вам наиболее памятен? Много дней врезалось в память — и горьких, и радостных. Конечно, хочется сразу сказать — День Победы. И ещё день освобождения Одессы, моего родного города. Но всё же всего памятнее мой самый горький день войны — когда пришлось оставить Ростов. Там, под Ростовом, когда не удалось задержать гитлеровскую военную машину, я пережил глубочайшее горе. Летом 1942-го мы отошли, оставив врагу многострадальный Ростов, уже побывавший в руках врага, уже испивший эту горькую чашу. Мы уходили из пылающего города, понурив голову, и сердца наши обливались кровью. И ещё было горько осознавать, что потерян важнейший стратегический пункт — «ворота Кавказа». С тех пор, где бы мне ни приходилось сражаться, меня ни на день не оставляла мысль о Ростове. С этой мыслью я дрался и под Сталинградом, когда 2 гвардейская преградила путь танковой группе Манштейна,стремившейся разорвать сталинградское кольцо. И, наконец, пришёл долгожданный час: в ночь на 14 февраля 1943 г. начался штурм Ростова. Непосредственно на город со стороны Батайска наступали части генерала Герасименко, от Азова на железную дорогу Таганрог — Ростов, прямо на станцию Синявская шли части генерала Хоменко, Аксайскую атаковали части генерала Захарова, от Новочеркасска на запад двинулись гвардейцы под командой генерала Крейзера. В районе Ростова над немцами нависла угроза окружения. Первыми в город ворвались курсантские бригады и гвардейцы 34 воздушно-десантной гвардейской дивизии. В шесть утра город был освобождён. А через три часа мы вместе с Н.С. Хрущёвым уже были на улицах Ростова и видели на глазах ростовчан слёзы радости. Это был мой первый радостный день в ту войну.
Из воспоминаний генерала Белова: Ещё в начале войны Родион Яковлевич сумел оценить преимущество ночных действий, особенно в условиях подавляющего превосходства противника в танках, авиации и артиллерии. Используя ночное время для контратак, выхода из боя, отхода и закрепления на новых рубежах, он сумел организованно отвести 48 стрелковый корпус к Днестру и организовать прочную оборону. Этот опыт ведения ночных действий сослужил ему неоценимую службу при подготовке беспрецедентного по количеству участвующих сил — три армии и два корпуса — ночного штурма Запорожья. Решиться на такое мог только полководец, хорошо знающий противника, уверенный в своих подчинённых командирах и войсках. Результаты превзошли все ожидания. Начатый войсками фронта в 22.00 13 октября штурм города Запорожье завершился к исходу следующего дня полным его освобождением. Неожиданный ночной штурм и стремительные действия войск спасли от полного уничтожения Днепрогэс.
Из воспоминаний маршала Советского Союза В.И. Чуйкова: Рано утром 13 октября мне позвонил Р.Я. Малиновский, а к десяти часам он уже был на высотке 137,6, южнее посёлка Никифоровский. — Василий Иванович! А если наступать ночью? С темнотой! Что думаешь? — Как наступать? — уточнил я. — Всеми силами фронта! Я ответил: — Лучше нельзя и придумать! Тут же, в землянке, начали составлять план ночного штурма Запорожья. На его разработку были полностью переключены и штабы всех соединений. Артиллерийский налёт утвердили коротким, не более десяти минут. Огонь артиллерии ночью не мог быть прицельным и особенно эффективным. Удар по определившимся целям — и достаточно. Снаряды надо беречь для огня прямой наводкой по укреплениям противника для боя наутро. Что нас привлекало в плане ночного наступления, кроме обычных преимуществ, которые давал ночной бой? Прежде всего, безусловная внезапность. Ночное наступление такими большими силами — явление необычное. Крупные ночные сражения в ходе войны велись довольно часто, но не силами трёх армий, танкового и механизированного корпусов. Стало быть, немецкое командование не сразу догадается, что весь фронт перешёл в наступление, не сможет должным образом сориентироваться, пропустит момент для маневрирования резервами, и мы сможем осуществить решительный прорыв к городу. И действительно, к середине ночи второй оборонительный обвод был прорван, в прорыв был введён танковый корпус, за ним — мехкорпус Руссиянова. Рассвет застал наши войска у черты города. Местами танки и пехота ворвались на улицы и вели там бои. К 13 часам 14 октября — на сутки ранее срока, установленного Ставкой, — наши войска полностью овладели городом.
Из стенограммы выступления Р.Я. Малиновского в Академии им. Фрунзе, 60-е годы: Момент принятия решения командующим — трудный момент. Надо решиться на великое дело, надо отдать себя без остатка только одному, часто рискованному, но необходимому решению. В этих случаях мысль работает напряжённо, она полна противоречий: одно — желаемое — решение встречает расчётные возражения, другое при проведении в жизнь наталкивается на громадные трудности, третье — заманчивое, простое и не рискованное, избавляет от всех тревог и юридической ответственности, но имеет свои слабые стороны. Решение, в котором должен быть до конца уверен, принимаешь, взвесив все «за» и «против», проанализировав все сомнения и трудности. Это требует большой отваги и огромной силы воли.
Из неопубликованных ответов Р.Я. Малиновского на анкету журнала «Огонёк», 1946 г.: 4 часа утра 20 августа 1944 года. Тысячи орудий, миномётов и «катюш» заговорили разом — воздух и земля сотрясались, клубы дыма и пламени застилали рассветное небо, Зрелище начала наступления врезалось в память, поразив слиянием смерти и красоты. 5 часов 35 минут. Атака. Предельно напряжённый момент нетерпения и тревоги — всё зависит от того, удастся ли прорыв. Но вот пошли донесения: «Овладели второй линией траншей, атака развивается успешно», «Прорвал все линии обороны, атакую второй рубеж», «Танки прорвались в глубину, артиллерия противника раздавлена танками. Контратака отбита». У всех, кто был тогда вместе со мной на высоте 195, где располагался наблюдательный пункт командующего фронтом, вырвался вздох облегчения. На крутом вираже самолёт связи сбрасывает вымпел. В нём коротко: «Пехота преодолела реку Бахлуй. Сапёры строят мосты». Отдаю приказ: «Танковой армии войти в прорыв».
Из воспоминаний маршала Советского Союза М.В. Захарова: Уже первые шаги, предпринятые Родионом Яковлевичем на посту командующего, первые отданные им приказы и распоряжения показали его человеком широких взглядов, обладающим глубокими военными познаниями, большим боевым опытом и замечательными организаторскими способностями. Это впечатление очень скоро переросло в искреннее убеждение. Мне особенно ясно было видно тогда, с какой принципиальностью и истинным талантом учитывал и разрабатывал каждую деталь операции командующий фронтом. Из поля его зрения не выпадал ни один вопрос. Его интересовало всё, и он знал всё: боеспособность соединений и частей, их укомплектованность и техническое оснащение.
Из воспоминаний генерала И.Н. Буренина: Во время Ясско-Кишинёвской операции, прежде чем принять окончательное решение по рекогносцировке, Родион Яковлевич вместе со мной выехал на один из участков фронта. Мы дошли до первых траншей нашей обороны, обстреливаемых оружейно-пулемётным огнём. Внимательно и спокойно Родион Яковлевич оценил обстановку и принял решение. Меня поразили его сосредоточенность и самообладание.
Из воспоминаний фронтового адъютанта Р.Я. Малиновского А.И. Феденева: 28 августа 1944 г., выясняя, где эффективнее ввести в наступление 4 гвардейскую армию, Р.Я. Малиновский вместе с зам. нач. Генерального штаба генерал-лейтенантом В.Д. Ивановым на двух самолётах По-2 осматривали местность в районе Хуши. Под низко летящими самолётами шёл яростный бой. Самолёты были обстреляны, и лётчики набрали высоту. По возвращении на аэродром В.Д. Иванов сказал Родиону Яковлевичу: «У меня в самолёте 12 пробоин!» «Сколько в самолёте, не знаю, — ответил Родион Яковлевич, — а в спине — одна». О ранении командующего лётчик впервые услышал на земле и был поражён тем, что Родион Яковлевич в полете не сказал ему ни слова — не отвлёк от дела, не стал волновать.
ТЕЛЕГРАММА
Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза Тов. СталинуСегодняшний день является днём разгрома немецко-румынских войск в Бессарабии и на территории Румынии, западнее реки Прут. Первая, основная задача, поставленная Вами 2-му и 3-му Украинским фронтам, выполнена ими. Немецко-румынские войска разбиты, их остатки в беспорядке бегут за реку Серет. Главная немецкая кишинёвская группировка окружена и уничтожается. Наблюдая искусное руководство войсками в широком масштабе со стороны МАЛИНОВСКОГО и ТОЛБУХИНА, их непреклонную волю в проведении в жизнь Вашего приказа, считаю своим долгом просить Вашего ходатайства перед Президиумом Верховного Совета СССР о присвоении военного звания МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА генералу армии МАЛИНОВСКОМУ. Думаю, что это мероприятие Правительства придаст войскам такую силу, которую не удержат никакие Фокшанские ворота. Маршал Советского Союза Тимошенко 24 августа 1944 г.
Из стенограммы телефонного разговора Р.Я. Малиновского со Сталиным: Сталин. Необходимо, чтобы вы в самое ближайшее время, буквально на днях, овладели столицей Венгрии Будапештом. Это нужно сделать во что бы то ни стало. Сможете вы это сделать? Малиновский. Эту задачу можно было бы выполнить через пять дней после того, как к 46-й армии подойдёт 4-й гвардейский механизированный корпус. Его подход ожидается к 1 ноября. Тогда 46-я, усиленная двумя гвардейскими механизированными корпусами — 2-м и 4-м, — смогла бы нанести мощный, совершенно внезапный удар и через 2—3 дня овладеть Будапештом. Сталин. Ставка не может предоставить вам пять дней. Поймите, по политическим соображениям нам надо возможно скорее взять Будапешт. Малиновский. Я отчётливо понимаю, что нам очень важно взять Будапешт по политическим соображениям. Однако следовало бы подождать прибытия 4-го гвардейского механизированного корпуса. Лишь при этом условии можно рассчитывать на успех. Сталин. Мы не можем пойти на отсрочку отступления на пять дней. Надо немедленно переходить в наступление на Будапешт. Малиновский. Если вы дадите мне пять дней сейчас, то в последующие дни, максимум пять дней, Будапешт будет взят. Если же немедленно перейти в наступление, то 46-я армия ввиду недостатка сил не сможет развить удар: она неминуемо ввяжется в затяжные бои на самых подступах к венгерской столице. Короче говоря, не сумеет овладеть Будапештом с ходу. Сталин. Напрасно вы упорствуете. Вы не понимаете политической необходимости нанесения немедленного удара по Будапешту. Малиновский. Я понимаю всю политическую важность овладения Будапештом и для этого прошу пять дней. Сталин. Я вам категорически приказываю завтра же перейти в наступление на Будапешт.
Из воспоминаний генерал-полковника Н.С. Фомина: Обычно говорят, что храбрость в применении к полководцу — это способность принимать смелые решения. Это, конечно, так, но этого, думаю, мало. Полководцу нужна и обычная солдатская храбрость — умение смотреть смерти в глаза. Я не раз имел случай убедиться в такой храбрости Родиона Яковлевича. К примеру, в январе 1945 г. при осаде западной части Будапешта я находился на КП командарма Манагарова в узком коридоре между оборонявшимися осаждёнными гитлеровцами и рвущимися прорвать кольцо окружения частями врага. В самый опасный момент, когда мы уже выставили пулемёты для самообороны, у нас на КП появился Родион Яковлевич и дал нам рискованное (но, как оказалось, оправдавшее себя) указание перевести сюда же НП артиллерийских бригад. Я видел, что собственная безопасность его не заботила, — настолько он был поглощён делом. Я мог бы привести, по меньшей мере, ещё десяток подобных примеров.
Из воспоминаний генерал-лейтенанта Мальчевского: Когда я прибыл в распоряжение Командующего 2 Украинским фронтом, напутствуя меня при новом назначении, Родион Яковлевич сказал: «Вы принимаете дивизию, понёсшую большие потери, — там не берегли людей, а это непростительно. Перед вами стоит двойная задача — выполнить задание и сберечь людей. Это вообще первый долг командира — беречь солдат, умело прикрывать их огнём. Помните об этом, готовя наступательные операции. Я строго спрошу за потери. Если же можно обойтись огнём артиллерии и миномётов, не посылайте туда людей». Кстати, именно так сам Родион Яковлевич и сделал при освобождении Аустерлица (ныне г. Словаков). Был нанесён мощный огневой удар по центру городского парка, в котором располагался штаб и резервы противника. Таким образом удалось избежать жертв среди мирного населения и свести к минимуму людские потери.
Из воспоминаний фронтового адъютанта Р.Я. Малиновского А.И. Феденева: Когда поют песню на стихи Исаковского «Враги сожгли родную хату» и слёзы выступают на глазах, когда звучат эти строки:
все мы, однополчане, вспоминаем, что это стихи о солдате нашего фронта:
Родион Яковлевич говорил, что это лучшая из военных песен — самая печальная и самая правдивая.
Из воспоминаний фронтового адъютанта Р.Я. Малиновского А.И. Феденева: Мне приходилось сталкиваться с мнением, что Малиновский был человек слишком мягкий, даже слабый — одним словом, «штатский». Это глубоко неверно. Такое впечатление, видимо, возникало от того, что Родион Яковлевичу никогда не изменяла выдержка — никогда, даже в самые напряжённые моменты боя я не слышал от него мата, никогда он не ругался как сапожник и не грозил всеми карами. Однако был требователен и строг, но при этом чувствовалось, что в подчинённом он видит человека и по возможности щадит его чувства.
Из воспоминаний генерала-лейтенанта Мальчевского: Р.Я. Малиновский запомнился мне всегда ровным, спокойным, доверяющим (хотя и строго проверяющим) командиром. Он никогда не повышал голоса на подчинённых. Меня поразило, как бережно, уважительно и тактично, в полном смысле слова гуманно он относился к людям, которые зависели от него — от солдата до генерала. Его редкостная выдержка была следствием крайне ответственного отношения к делу. Он никогда не терял присутствия духа и никогда не выходил из себя. Казалось, он осторожен. И при этом он часто принимал исключительно смелые, даже дерзкие, рискованные на первый взгляд решения, хотя, как потом оказывалось, они всегда были выверены и чётко просчитаны. Тому примером многие эпизоды Ясско-Кишинёвской операции и операции Забайкальского фронта.
Из воспоминаний генерала армии Н.Г. Лященко: Когда маршала вызвали в Москву и ознакомили с замыслом операции, которую ему предстояло разработать, даже его, полководца, прошедшего бури жесточайших сражений, потрясли масштабы того, что предстояло совершить Забайкальскому фронту. Полоса наступления — 2300, глубина прорыва — 600—800 км! На этой огромной территории предстояло разгромить основные силы Квантунской армии, гордости Японии, причём, сделать это за две недели.
Из историко-мемуарной книги «Финал» под редакцией Р.Я. Малиновского: Изумление и страх охватили командование и штаб Квантунской армии. Ведь они считали немыслимым, чтобы в отрыве на тысячу километров от железной дороги, через бескрайние степи монгольской пустыни и дикий Большой Хинган можно было провести такую ударную группировку войск и бесперебойно питать её всем необходимым для продолжения решительного наступления вглубь Манчжурии. Смелые воздушные десанты, сразу же подкреплённые нашими наземными танковыми соединениями, захватили такие города, как Чанчунь, Мукден, Порт-Артур. И неудивительно, что неделю спустя главнокомандующий Квантунской армии генерал Ямада оказался в плену и вынужден был давать показания командованию советских войск на Дальнем Востоке в своём собственном рабочем кабинете, в штабе Квантунской армии в Чанчуне.
Из воспоминаний маршала Советского Союза М.В. Захарова: Он обладал истинным даром полководца, умел всесторонне оценить обстановку, предугадать возможные манёвры вражеских войск.
Из воспоминаний маршала Советского Союза А.М. Василевского: Его полководческий почерк зримо проступал в операциях по освобождению Ростова-на-Дону, Донбасса, юга Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии, а также в разгроме японской Квантунской армии в Манчжурии. Все эти операции, безусловно, несли на себе отпечаток подлинного творческого вдохновения, необычайной находчивости в их осуществлении и составили яркие страницы истории военного искусства.
ДОНЕСЕНИЕ
Маршалу Советского Союза тов. Малиновскому Генерал-лейтенанту товарищу ТевченковуДокладываю: установил личную связь с командующим 3-м Японским фронтом. Всё выполняется согласно полученным от вас указаниям. Железнодорожные станции взяты под охрану. Движение по железной дороге прекратил, запретил работу мукденской радиостанции и телеграфа. Закрыл местные газеты. Произвёл арест императора Манчжоу-го Пу-И вместе с его приближёнными в количестве 13 человек. Сопровождает императора капитан оперативного управления штаба фронта капитан Цыганков. Командир корабля С-47 №3 ст. лейтенант Лялькин. Прошу дать указания продолжать увеличивать гарнизон частями нашего фронта. Прошу дать специальный приказ частям о недопущении мародёрства частям, вступающим в населённые пункты занимаемой территории Манчжоу-го, т.к. имелись случаи грабежей со стороны отдельных офицеров и солдат. Мною принимаются решительные меры для подавления подобных нарушений. Следующее донесение будет передано истребителем.
P.S. В городе царит порядок. Прошу выслать срочно коменданта города Мукден со штатом. 19/VIII-45 г. 17 ч. 15 мин. Генерал-майор Притула
ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина Войска Забайкальского, 1-го Дальневосточного и 2-го Дальневосточного фронтов, корабли и части Тихоокеанского флота 9 августа начали боевые действия против японских войск на Дальнем Востоке. При поддержке мощного артиллерийского огня и ударов авиации наши войска прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону противника на границах Манчжурии, форсировали горный хребет Большой Хинган, реки Амур, Уссури и, развивая стремительное наступление вглубь Манчжурии, продвинулись вперёд от 500 до 950 километров, заняли всю Манчжурию, южный Сахалин и острова Сюмусю и Парамушир из группы Курильских островов. Квантунская армия японцев, после безуспешных контратак, прекратила сопротивление, сложила оружие и сдалась нашим войскам в плен. Войска Забайкальского фронта под командованием Маршала Советского Союза Малиновского, во взаимодействии с Монгольской армией Маршала Чойбалсана, прорвали Манчжуро-Чжалайнурский и Халун-Аршанский укреплённые районы японцев, форсировали горный хребет Большой Хинган, преодолели безводные степи Монголии и, продвинувшись вперёд на 950 километров, овладели главным городом Манчжурии Чанчунь и городами Мукден, Цицикар, Жехе, Дайрен, Порт-Артур.Из воспоминаний генерала армии С.М. Штеменко: Маршала Малиновского при назначении его после войны Главнокомандующим войсками Дальнего Востока И.В. Сталин охарактеризовал как человека «хладнокровного, уравновешенного, расчётливого, который ошибается реже других».
Из воспоминаний генерал-майора А.С. Рогова: Родион Яковлевич никогда не изматывал подчинённых ночными бдениями. Он считал необходимым дать человеку отдых даже в тяжёлых условиях. Если же встречал человека, работавшего на износ и гордившегося этим, замечал: «Напрасно вы так. Наше дело требует свежей головы». Наш командующий был требовательным, но очень справедливым человеком. А в простом человеческом общении был очень обаятелен. Многие помнят его улыбку. Она появлялась не часто, никогда не была дежурной и сильно меняла его лицо, в котором появлялось что-то детское, мальчишеское, простодушное. Родион Яковлевич обладал замечательным чувством юмора — в нём чувствовался настоящий одессит. Он хорошо понимал, что в трудной обстановке необходима разрядка, и умел шуткой снять напряжение, не затронув при этом ничьего самолюбия.
Из воспоминаний генерала армии Н.Г. Лащенко: Родион Яковлевич не раз говорил, что гнев — плохой советчик. Тому, кто в пылу раздражения спешил наказать виновных, он неизменно советовал «поостыть» и по здравом размышлении, взвесив проступок, определить меру взыскания, соответствующую степени вины: «Тогда наказание будет справедливым и не оставит в душе человека обиды». Сам он никогда никого не наказывал поспешно. А когда всё же приходилось наказывать, внимательно следил за тем, как работает провинившийся, и немедленно снимал взыскание, если видел результаты.
Из воспоминаний генерал-лейтенанта Мальчевского: Я крепко запомнил совет Р.Я. Малиновского: «Всегда ставьте себя на место провинившегося, тогда лучше поймёте, в чём дело, и вам легче будет соблюсти такт. Никогда не назначайте наказания в пылу гнева — только на другой день. У опрометчивого решения почти нет шансов оказаться справедливым».
Из выступления Константина Симонова на вечере памяти Р.Я. Малиновского в Доме Литераторов: Дай Бог каждому из нас оставить по себе хоть где-нибудь, хоть в одной деревне, такую память, какую Родион Яковлевич оставил по себе на Дальнем Востоке.
Из воспоминаний фронтового адъютанта Р.Я. Малиновского А.И. Феденева: Родиону Яковлевичу, как и всем военачальникам, во время войны писали письма дети со всех концов страны — и целыми классами, и детдомами, и просто мальчики и девочки. Всем он отвечал сам, хотя бы несколько строк. И обязательно давал нам указание послать детям подарок. Чаще всего это были карандаши, тетради, краски. После войны он взял шефство над хабаровским детским домом. К детям, лишившимся родителей, он относился с особой теплотой, — видимо, помня своё тяжёлое детство. В хабаровский детдом он приходил перед всеми праздниками вместе с женой и маленькой дочкой. Обязательно бывал и на днях рождения, которые устраивал попечительский совет, активным членом которого была его жена Раиса Яковлевна.
Из воспоминаний фронтового адъютанта Р.Я. Малиновского А.И. Феденева: Однажды я докладывал Родиону Яковлевичу документ неприятного содержания — такой, что попросту можно назвать доносом. Когда он писал резолюцию, тень брезгливости скользнула по его лицу. Я принял документ и прочёл в правом верхнем углу: «Оставить без внимания», а Родион Яковлевич посмотрел на меня и процитировал Маяковского: «Дрянь пока что мало поредела», — и добавил, — «к автору относится». Вообще Родион Яковлевич писал очень необычные, интересные, а иногда и смешные резолюции, часто использовал пословицы и поговорки, которые очень любил, или цитаты из классиков, особенно из Грибоедова.
Из воспоминаний фронтового адъютанта Р.Я. Малиновского А.И. Феденева: Родион Яковлевич был очень внимательным человеком, всегда замечал, если с человеком что-то происходит. Как-то я пришёл на службу в хмуром расположении духа. Родион Яковлевич спросил, что случилось, и я рассказал, в чём дело: дочка провинилась, и я её наказал — запер на час в тёмный шкаф. Родион Яковлевич просто переменился в лице, зло посмотрел на меня и сказал: «Ты что? Нельзя так наказывать». А через несколько дней рассказал мне, как однажды (наверно, году в 29-м) наказал своего старшего сына Гену, ещё маленького, а мальчик в тот же день заболел менингитом и через неделю умер. Когда мы отступали из города Кропоткина, что на Северном Кавказе, Родион Яковлевич отдал все распоряжения и последнее, что он сделал в этом городе, — поехал на кладбище навестить могилку сына. Он никогда не мог себе простить, что наказал его. Насколько я знаю, он никогда не наказывал Наташу (а Раиса Яковлевна держала дочь в большой строгости). Когда Наташа в девятнадцать лет тяжело заболела и врачи не могли разобраться в диагнозе и предполагали то тиф, то менингит, все десять дней, пока держалась высокая температура, на Родиона Яковлевича было страшно смотреть. Оказалось, это была корь, только очень тяжёлая во взрослом возрасте.
Из воспоминаний генерал-лейтенанта Мальчевского: Уже после войны мне не раз приходилось присутствовать на разборах учений, проводимых Р.Я. Малиновским. Эти занятия для многих и многих стали своего рода академией, где помимо практических задач рассматривались сложнейшие вопросы теории оперативного искусства и тактики ведения боя в совершенно новых, современных условиях.
Из воспоминаний Н.С. Хрущёва[19]: Взамен Жукова на пост министра обороны я предложил Малиновского. Я полагал, что Малиновский как военный организатор не уступает Жукову, а даже превосходит его. Конечно, он не пользовался такой известностью и авторитетом, не был так напорист и самоуверен. Напротив, он обладал выдержкой, способностью спокойно и глубоко обдумать решение. В этом было его преимущество. Я был уверен, что, назначая Малиновского, действую в интересах страны. Я и сейчас так считаю — мне не пришлось сожалеть о принятом решении.
Из воспоминаний офицера для особых поручений Р. Малиновского полковника А.И. Мишина: Бывая в отдалённых гарнизонах, Родион Яковлевич обязательно заходил в казармы и в дома, где жили офицеры, интересовался, как налажено снабжение, беседовал с семьями военных. С его пребывания в гарнизоне Кушка вообще началась новая эпоха. Малиновский — единственный из министров обороны, который посетил и Кушку, и Курилы, и Северный флот. А на Дальнем Востоке вообще не осталось ни одного, даже самого отдалённого пункта, до которого он бы не добрался. К письмам, приходившим на его имя, он относился чрезвычайно внимательно. Требовал, чтобы, проверяя факты, мы укладывались в короткие сроки, и говорил: «Нельзя отвечать людям: «Письмо направлено для рассмотрения туда-то». Это издевательство, а не ответ. Отвечать следует делом».
Из воспоминаний генерала армии Н.Г. Лященко: Министр обороны придавал первостепенное значение систематической подготовке командиров всех степеней, штабов. Вспоминаю приезд Родиона Яковлевича в Ташкент в 1962 г. Он собрал оперативную группу штаба округа во главе с командующим в зале заседаний военного совета и вручил каждому из нас «вводную», которую предложил решить за определённое время, надо было подготовить и соответствующие документы. Офицеры перешёптывались: — Сел министр на своего конька. А мне-то было хорошо известно, что Малиновский учил нас тому, что он сам осваивал не в тепличных условиях, а под огнём врага, когда «вводные» задавала война, оставляя на обдумывание решения считанные минуты. И от того, верным или не верным было решение, зависело — победить или погибнуть.
Из воспоминаний генерал-полковника М.И. Повалия: Р.Я. Малиновский не терпел пустословия. Он требовал, чтобы мысль или решение было сформулировано логично и чётко: «Документ должен быть написан коротко, чётко и внятно — так, чтобы понял даже тот, кто понимать не хочет».
Из воспоминаний генерал-майора М.И. Петрова: Маршал не терпел угодничества, не любил грубости, многословия и суетливости. Иногда замечал: «Много шуму из ничего», или «Мелкую речку издалека слышно», или «Корявое колесо громко скрипит». Ценил взвешенность суждений, вдумчивость. А как-то, не помню, к сожалению, по какому поводу, он сказал: «Нужно быть требовательным, обязательно нужно, но тот, от кого вы требуете, должен чувствовать, что его уважают, — без этого невозможно общение. Приказ не может быть выполнен только под страхом наказания — в таком случае он будет плохо выполнен. Приказ должен быть понят и осознан как долг, как необходимость. Нужно, чтоб возник внутренний импульс к исполнению приказа».
Из воспоминаний Валентины Разумовой-Бирюзовой: Мне особенно помнится день 1 мая 1960 г. Мой отец, Сергей Семёнович Бирюзов, был тогда Главкомом ПВО — отвечал за небо нашей страны. Я видела, что последнее время папа очень нервничал, хотя и пытался скрывать своё настроение. Оказывается, как мы узнали позже, были случаи нарушения наших воздушных границ американскими самолётами-разведчиками на высоте 19 000 метров, а у наших перехватчиков потолок был 16 000 метров. И вот Первое мая — праздник. Я проснулась в шесть утра, папа уже собирался и быстро уехал, сказав, чтоб я не волновалась и ничего не говорила маме, — она тогда лежала в больнице. Но тревога не отпускала. Пытаясь успокоиться, я готовила папин парадный мундир — ведь он должен присутствовать на параде. Но время шло, часы пробили девять, потом десять — и никаких звонков. Я включила телевизор — парад начался, а папы нет на Мавзолее. Через какое-то время снова показали трибуну, и я увидела, что министра обороны Родиона Яковлевича Малиновского тоже нет на трибуне. Это означало, что случилось нечто очень серьёзное. Я металась по квартире, почему-то нещадно ругая американцев. Только в одиннадцать приехал офицер за парадным мундиром и сказал: «Всё хорошо». Потом, из сообщения по радио, я узнала о сбитом нашей ракетой самолёте-разведчике с Пауэрсом. А спустя годы, когда мы с Раисой Яковлевной Малиновской, вспоминая наших родных, заговорили об этом дне, я узнала, что и она с тревогой следила по телевизору за тем, как муж вдруг исчез с трибуны, долго отсутствовал (ведя телефонные переговоры с папой, как он потом сказал ей), затем появился, что-то сказал Хрущёву, лицо которого просияло.
Из воспоминаний генерала армии А.И. Грибкова: Обстановка вокруг Кубы по вине США шла к тому, что, независимо от нашего присутствия, кубинский кризис состоялся бы. Ведь военная операция США «Мангуст» против Кубы готовилась и тогда, когда у советского руководства ещё даже не было замысла операции «Анадырь». Хочу ещё раз сказать, что, начиная с замысла создания группы советских войск на Кубе, советское руководство даже в мыслях не допускало развязывания войны с США. Напутствуя меня перед командировкой, Р.Я. Малиновский сказал: «Как только все ракетные части будут приведены в полную готовность к боевому применению, вы доложите об этом мне лично. И более никому. Запомните: ракетную дивизию пускать в дело только — повторяю — только с личного разрешения Верховного Главнокомандующего Никиты Сергеевича Хрущёва. Мы завозим ракеты на Кубу с целью сдержать возможную агрессию со стороны США и не собираемся развязывать атомную войну. У Плиева должна быть хорошо и устойчиво организована прямая проводная и радиосвязь с каждой ракетной частью. Ни в коем случае нельзя допустить несанкционированных пусков ракет. Даже один пуск может привести к атомной войне». Министр встал из-за стола, походил по кабинету и, остановившись передо мной, добавил: — О готовности ракетных войск донесёте мне условной фразой: «Директору. Уборка сахарного тростника идёт успешно». И впредь вся переписка между нами и Группой войск должна идти в адрес Директора.
Из записной книжки Р.Я. Малиновского. 60-е годы: Как воздух необходима нам сейчас военная интеллигенция. Не просто высокообразованные офицеры, но люди, усвоившие высокую культуру ума и сердца, гуманистическое мировоззрение. Современное оружие огромной истребительной силы нельзя доверить человеку, у которого всего лишь умелые, твёрдые руки. Нужна трезвая, способная предвидеть последствия голова и способное чувствовать сердце — то есть могучий нравственный инстинкт. Вот необходимые и, хотелось бы думать, достаточные условия.
Из воспоминаний генерал-майора М.И. Петрова: Родион Яковлевич считал пунктуальность «естественной нормой поведения цивилизованного человека», безусловно обязательной для военного человека. Думается, именно поэтому он счёл необходимым заняться организацией производства часов «Командирские». Вскоре после того как я, по поручению маршала, связался с руководством Чистопольского часового завода, произошла встреча Родиона Яковлевича с главным конструктором и начальником производственного отдела этого предприятия. Обсуждался вопрос о требованиях к часам. Маршал сформулировал их так: — Часы точного хода и высокой надёжности — они должны выдерживать любые каверзы погоды: дождь, пыль, перепады температуры. И обязательно противоударные. — Постараемся выполнить эти условия и сделать для армии хорошие часы. — Надеюсь. Смотрите, чтоб не хуже «Омеги»! Желаю успеха! Можно сказать, что надежды Родиона Яковлевича оправдались. Уже много лет на руках многих офицеров и генералов красуются командирские часы, ценящиеся за надёжность. Популярна эта марка и у гражданского населения, и даже за рубежом.
Из воспоминаний генерал-майора мёд. службы Н.М. Невского: Однажды мне пришлось обратиться к Родиону Яковлевичу за помощью — речь шла о постройке нового госпиталя в Красногорске. Министр дал указание форсировать строительство. Мало того, дважды сам без предупреждения приехал на стройку, что подействовало эффективнее всяких указаний. О внимании Родиона Яковлевича к госпиталю, а значит, и к здоровью людей, напоминают и каштаны, привезённые и посаженные у главного корпуса женой Родиона Яковлевича Раисой Яковлевной. В ноябре 1966 года Родион Яковлевич тяжело заболел. Он исключительно стойко и терпеливо переносил мучительную болезнь, перед которой мы, врачи, были бессильны. К консилиумам относился безучастно. Меня же попросил об одном: ограничить посещения узким кругом лиц. Согласно нашей договорённости, ежедневно у него бывали офицеры секретариата и генерал М. Петров с деловыми бумагами. Каждый день приходила дочь, а жена Родиона Яковлевича всё время болезни мужа (полгода) жила в госпитале, в той же палате, и крайне редко, на час-два, отлучалась домой.
Из Послания Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского участникам международного чемпионата по шахматам дружественных армий. 8 мая 1964 г.: Шахматная борьба позволяет осуществлять «стратегические» замыслы, неожиданные «тактические удары», победа достигается высоким уровнем своеобразного «оперативного» шахматного искусства. Шахматы развивают точность мышления, способность ориентироваться и принимать ответственные решения в быстро меняющейся обстановке, воспитывают выдержку, закаляют волю. Мы, военные, высоко ценим шахматы за то, что они дисциплинируют человека, способствуют воспитанию воли, выдержки, развивают память, сообразительность, приучают логично мыслить, словом, являются хорошей гимнастикой ума. В наше время, когда армии оснащены современным могучим оружием, в котором воплощены все достижения науки и техники, особо возрастает роль шахмат как средства умственной тренировки. Полагаю, что состязания сильнейших воинов-шахматистов — представителей дружественных армий — станут хорошей традицией, ещё одним вкладом в развитие! боевой дружбы и сотрудничества армий социалистических стран.
Из воспоминаний С.М. Борзунова: Осенью 1966 г. я приехал на лечение в Пятигорский военный санаторий, и волею судьбы моя отведённая мне комната оказалась... рядом с апартаментами, в которых размещался Р.Я. Малиновский с женой. Начальник санатория, конечно же, и не собирался никого селить рядом с министром, но Родион Яковлевич счёл две из пяти отведённых ему комнат лишними и оставил в своём распоряжении кабинет, спальню и аппаратную. Вторую свободную комнату занял генерал Петров. В общем холле стоял бильярдный стол и столик с шахматами. Признаюсь, узнав о таком соседстве, я растерялся, но Родион Яковлевич развеял все мои опасения в первые же минуты общения. Там, на отдыхе, маршал открылся мне как человек — многое оказалось неожиданным. Помню, как он подошёл к окну, из которого открывался поразительной красоты вид на Эльбрус, и негромко, но очень выразительно стал читать лермонтовские стихи:
Почти месяц прошёл в ежедневном общении с интереснейшим человеком, оказавшимся знатоком и тонким ценителем литературы. Словно профессиональный литератор и даже литературовед, Родион Яковлевич судил о стиле и языке писателей, чьи произведения мы обсуждали. А сколько стихов он знал наизусть! Мне, закончившему редакторский факультет Военно-политической академии, прямо скажу, нелегко было вести с ним диалог. Дело осложнялось тем, что мне были знакомы далеко не все произведения, о которых говорил маршал. Скажу только, что, вернувшись в Москву, я не только перечёл Ларошфуко, но и засел за Паскаля, Вовенарга, Монтеня, Шамфора, которых не раз цитировал в наших беседах Родион Яковлевич. А каким знатоком пословиц и поговорок он был! Причём, не только русских — я слышал от него и китайские изречения, и курдские пословицы, и чеканную латынь. Однажды я заметил на столике в холле книжечку — сборник шахматных этюдов, но привлекла моё внимание не сама книжечка, а закладка, на которой чётким, поразительно красивым почерком Родиона Яковлевича были написаны две фразы — Omnia vincit amor и Sic trancit gloria mundi. Что свело их вместе — «Всё побеждает любовь» и «Так проходит земная слава»? Я, конечно же, не спросил, о чём до сих пор жалею.
Из воспоминаний капитана 2 ранга Л.М. Жильцова, в 1962 г. командира атомной подводной лодки: Очень хорошо помню своё ощущение от этого человека. От Малиновского исходило ощущение спокойствия и колоссальной внутренней силы.
ПАМЯТЬ-СНЕГ[20]
И память-снег летит и пасть не может.Давид Самойлов
Никогда не знаешь, что запомнится даже из того дня, что, считается, врезан в память целиком. Помнишь другое — рядом, после. Пустой дом наутро после похорон, очки на краю стола. Машинально: «Надо сдвинуть, разобьются. — Разобьются — и что? На что они теперь? — Нет, нельзя, чтоб разбились: папины! И полдня ищешь футляр, цепляешься за очки, как за соломинку, протянутую из прошлого в жизнь, которой ты не хочешь знать, но которая началась — вчера. Первый её день — похоронный — так и останется зиянием. Ни тогда, ни тридцать лет спустя не вспомнить ни лиц, ни слов — только тиски, сдавившие душу, холод и мелодию, столько раз слышанную прежде, но мимо сердца, а с тех пор уже навсегда слитую с мокрой метелью и осклизлым льдом брусчатки на площади. 3 апреля 1967 года в Москве шёл снег, последний в ту долгую зиму. А за полгода до того, 7 ноября, был мой двадцатый день рождения. Папа уже болел, но ни мы с мамой, ни врачи и не подозревали о диагнозе. Сильно болела нога на месте старого ранения, полученного ещё в Первую мировую, (а если папа говорит «сильно», значит — «непереносимо»). После бездумно прописанного грязевого лечения в Цхалтубо стало только хуже, но папа работал и седьмого пошёл принимать парад. Только мы с мамой знали, чего ему стоит каждая ступенька на мавзолей, каждое слово речи. Вернувшись, он лёг и больше уже не вставал (а жить ему оставалось полгода). Через неделю его увезли в госпиталь — в пятницу, и это пренебрежение суеверием испугало. Ещё в Первую мировую, в Польше, гадалка, предсказывая папе головокружительную судьбу, маршальский жезл и высший военный пост, предупредила: «Не начинай нового дела, не отправляйся в путь в пятницу! Дурной для тебя день». Поначалу он не обратил внимания на предостережение и не принял всерьёз пророчеств, но после второго ранения (оба — в пятницу, как и третье, тридцать лет спустя) взял за правило смотреть в календарь, назначая начало операций или планируя командировки. Но пятницы из недели не выкинешь — всё худшее в нашей семье неизбежно случалось в пятницу. Пятницей был и последний день папиной жизни — 31 марта 1967 года. Спустя тридцать лет в пятницу умерла мама. Я в мелких подробностях помню те последние полгода и теперь понимаю, что папа был фаталистом и стоиком. Врачи и сёстры так и не услышали от него ни стона, ни жалобы и говорили потом, что у него патологическое терпение. Ни одного вопроса о диагнозе, никаких распоряжений маме «на потом». Он терпел боль, выносил болезнь молча, мужественно и достойно. Вечером 30 марта, когда я уходила из больницы, вместо обычного «до свиданья» папа едва слышно сказал: «Будь счастлива!» И я не поняла, что он со мной прощается...
Сейчас, когда с дистанции уже почти в сорок лет я думаю о папиной жизни, поражает её сходство с головокружительным романом. Таинственное рождение, мучительно тяжёлое детство, раннее взросление, кругосветные путешествия, чужие страны, ставшие ему дорогими, — Франция, где он мог остаться, как многие из его товарищей по экспедиционному корпусу, Испания, которую он полюбил ещё до того, как ступил на её землю, и покидал с горечью невольной вины — «не сумел помочь...» И войны, войны, войны... Сколько их было в его судьбе! Четыре года Первой мировой, год гражданской, почти два года испанской и четыре Великой отечественной. Больше десяти лет. Какой мерой считать их? Год за два? За три? За пять? А были, наверное, дни — или часы, или час, — которые зачтутся за десятилетие. Июльский день перед сдачей Ростова. Декабрьское утро на реке Мышкове, от которого война повела другой счёт. Или ночь Карибского решения. Я не знаю, какие дни назвал бы он сам — эти или совсем другие, о которых теперь уже никто не узнает. Я не спрашивала — он не рассказывал. Папа вообще был молчалив, а я слишком уж молода и не до той давней (а на самом деле слишком ещё близкой) войны мне было тогда, в двадцать лет, — до памяти надо ещё дорасти... Это сейчас, спустя столько лет, я перебираю свои догадки, просеиваю то, что помню, ища золотые крупицы — мелочи, почти что пустяки. Но ведь именно из мелочей складывается жизнь, и в ином пустяке куда больше характера и даже пресловутой исторической правды, чем во всех парадных портретах вкупе с декларациями для печати. Хорошо помню мамин рассказ о параде Победы в 45-м. Разгрузились эшелоны, Военный Совет фронта и сотрудников секретариата разместили в гостинице «Москва». Полным ходом шла подготовка к параду, но — по всему чувствовалось — и к чему-то ещё. Слишком озабочен был папа, слишком поздно возвращался и не с репетиций парада, а из Генштаба, слишком уж был молчалив и погружен во что-то своё. Но вот прошёл парад, все вымокли до нитки под проливным дождём, который не омрачил торжества, — то был плач по всем убиенным, замученным, пропавшим без вести... После парада — приём в Кремле, вечером — салют, а после, уже в гостиничном номере, была сделана фотография, которая сейчас висит у меня на стене, рядом с той, что снята 9 мая в 45-м году в Вене. Когда Вайль сложил аппараты и ушёл, ещё долго сидели все вместе — папа, его офицеры для особых поручений, мама — вспоминали, шутили, молчали. И вдруг мама услыхала, как Тевченков мурлыкает себе под нос:
А, заметив, что она прислушивается, подмигнул и запел громче:
И мама поняла, что война для них не кончилась, что им снова ехать на фронт, который вскоре получил название — Забайкальский.
Я родилась далеко от Москвы — в Хабаровске, 7 ноября 1946 года спустя час после первого папиного парада. (Всего их было у него тридцать восемь, по два в год, и ещё один — до меня — парад Победы). Вернувшись домой, папа не обнаружил мамы, спросил, куда она подевалась, и поехал в госпиталь, оставив Алексея Ивановича Леонова, фронтового друга, встречать гостей. В госпитале состоялся диалог, потом тысячу раз пересказанный мне самыми разными людьми: — Как мне пройти к жене? — Пройти к ней никак невозможно, товарищ маршал! Она на столе! — У вас что, кроватей нет? Уяснив, что рожают не на кроватях, папа, раз уж собрался ждать, отправился инспектировать госпиталь и наткнулся на безобразие: санитарки чистили картошку над ванной — по неведомой причине она служила помойкой. Но негодующая речь не успела прозвучать: — Товарищ маршал! Поздравляю вас с дочкой! Родившись девочкой, я не обманула родительских ожиданий и подтвердила давнее цыганкино предсказание, в котором и не сомневались. Уже была голубая «Наташина комната» с оттиснутой малярным трафаретом по верхнему краю стены — вереницей белых зайцев — у каждого в лапе глянцевая оранжевая морковка размером с заячье ухо! Была «Наташина коляска» — самодельное сооружение, сконструированное (если судить по фотографии, открывающей альбом моих детских обликов) из деталей списанной самоходки. Были Наташины пелёнки, распашонки, платьица, собственноручно сшитые мамой из парашютного шёлка (подарок семьи Красовских). Даже Наташина кукла с харбинского рынка — в локонах, кружевах и оборках. Но, главное, у меня было имя. Папа назвал меня в честь своей тёти — Натальи Николаевны Малиновской, которая приютила его, когда он в одиннадцать лет ушёл из дому. Она погибла вместе с сыном Женей в оккупированном Киеве — об этом папа узнал на второй день после освобождения города, когда летал туда, чтоб её отыскать. Однажды Лидия Либединская в гостях у Давида Самойлова, где и мне случилось быть, сказала, что детям в семье нужнее всего любовь между родителями, — «это главный компонент воспитания». Плохо, когда главенствует любовь к детям (так ребёнка можно испортить), любовь к детям должна быть следствием той, другой любви. И если рассуждения Либединской верны, а на то похоже, значит, меня замечательно воспитывали. Никогда за все двадцать лет, прожитых рядом с папой, я не видела семейных ссор или сцен, не слышала даже, чтобы кто-нибудь из родителей повысил голос на другого. По сдержанности папиного характера? Отчасти. По кротости маминого? Да нисколько — она человек взрывчатый, но с кем угодно, только не с папой. И тоже не потому, что сдерживалась, — просто друг в друге их ничто не раздражало. К примеру: зима, на даче, день восхитительный, маме хочется пойти к Сетуни, где, должно быть, особенно красиво (мы часто ходили к Сетуни, где «сквозной, трепещущий ольшаник», только с другой стороны, не от Переделкино). Папа тем временем уже раскрыл тетрадку, расстелил карту — и никаких надежд на прогулку. «Ну вот — не хочет!» — резюмирует мама и — улыбается. (Попробуй я не захоти — «нечего капризничать!») С тех пор, как в 1956 году папу перевели в Москву, я ни разу не была в Хабаровске, но знаю, что от мира моего детства не осталось и следа. Наверно, никто кроме меня уже не помнит заросший сад с беседкой, увитой диким виноградом, белые сирени у лестницы на террасу и клеверную лужайку, где играли сеттер с медвежонком. Улица Истомина, губернаторский дом, в котором по традиции всегда жил командующий округом. А на даче, на Красной речке, лиловый от багульника обрыв к Уссури с ветхой лестницей, где на проваленных ступеньках сидели — и не боялись — бурундуки. Лиственничная аллея вокруг дома, фанза на окраине парка, куда осенью сваливали садовый инвентарь, и накалённый летним полуднем балкон на крыше, именуемый «асотеей», — не папа ли назвал его этим испанским словом? Сколько себя помню, у нас всегда жили домашние звери, причём в изрядном количестве. Когда я родилась, в доме было полно младенцев: пятеро котят и шестеро щенят. А ещё две большие собаки, кот и кошка. Во дворе, в конюшне, жил папин парадный конь Орлик — звезда во лбу, белые носочки, огромный карий глаз. И это ещё не полный список нашего зверья. В разное время у нас жили: дрофа с перебитым крылом, хроменькая дикая козочка, медвежонок, оставшийся без матери, ручная белка. Не боясь ни собак, ни кошек, она скакала по шкафам и занавескам и только спать забиралась в клетку. Всегда свой кот был у папы (с законным местом на письменном столе), свой — у мамы, а потом и у меня. Собаки считались общими, но за хозяина признавали папу. Одна обязательно охотничья, длинноухая, другая обычно приблудная, неведомой породы. Когда папы не стало, все они — обе собаки и два кота — не вынесли тоски, поселившейся в доме. Лишившись хозяина, все они умерли к сороковинам, выпавшим на девятое мая. В пятидесятилетие Победы я спросила маму: «А что было тогда 9 мая — в сорок пятом?» И услышала: «Праздник. Мы с папой поехали в Вену, гуляли в венском лесу, в зоопарке. Там всех зверей сохранили». Так я узнала, что любимая моя родительская фотография — та, где они, кажется, безоглядно счастливы, снята в венском зоопарке. А в прошлом году, разбирая архив, я нашла листок из блокнота с папиной статьёй для фронтовой газеты. Он писал о том, как мучительно отступать, как стыдно, уходя, глядеть в глаза людям, которые остаются, — и не только людям: «Как-то особенно больно было оставлять Асканию-Нову, чудный южный заповедник. Нестерпимо горько оттого, что война пришла и сюда. Животные смотрели на нас с той же укоризной, что и люди. Хотелось опустить глаза». Папа не охотился. Мы и близкие его друзья знали, почему. Не боясь показаться сентиментальным, он сказал как-то, что, убив на первой охоте лань (или козочку? Что там водится в монгольских степях?), подошёл и увидел её глаза. Больше никогда не стрелял. Но на охоту ездил, уважая право собаки на любимую работу. Первому на моей памяти дратхарту Милорду на охоте не было равных. Всякую утку он приносил папе, выслушивал одобрение: «Молодец, Милорд!» и повеление: «А теперь отнеси тому, кто убил». Пёс нехотя, но безошибочно относил. В Москве папа уже не ездил на охоту (свободного времени в сравнении с Хабаровском совсем не оставалось), хотя бывал, когда звали, в Завидове, где не только охотились, но, главным образом, решали дела. И там он старался не изменять своему обыкновению — стрелял крайне редко, хотя над ним и подшучивали. А вот для рыбалки, истинной своей любви, папа всегда старался отыскать время — по воскресеньям и обязательно в отпуске. Сколько часов, нет, дней я просидела на берегах самых разных рек и озёр в поле зрения родителей, и в холод, и в дождь с упоением кидающих удочку! Только сейчас, вспоминая об этом мучении своего детства и отрочества, я понимаю, что для папы эти тихие часы были душевной необходимостью. Человек самоуглублённый и молчаливый (полслова за вечер и две фразы за воскресенье), он нуждался в общении с природным миром и, по крайней мере, так — рыбалкой, домашними зверьми — восстанавливал равновесие. Но не часто выдавались свободные дни. И по вечерам он чаще всего решал шахматные задачи или читал Флобера по-французски, чтобы не забывался язык. В последний год я спросила его: «Кем ты хотел быть?» Что не военным, уже знала, потому что слышала раньше: «Хотеть быть военным противоестественно. Нельзя хотеть войны. Понятно, когда человеку хочется стать учёным, художником, врачом, — они создают». На вопрос, кем, папа тогда ответил: «Лесником». Думаю, это правда, но не всей жизни, а именно того, последнего года. Молодым он ответил бы иначе, тем более что честолюбие в нём усугублялось горькой памятью об испытанных в детстве унижениях. Лесник — его поздняя утопия, глубинно созвучная натуре. Стань его работой лес, с тем же тщанием и азартом, с каким изучал древних стратегов, он занялся бы изучением жизни тайги. Во всяком деле папа был на редкость обстоятелен. Ни тени дилетантства — теоретическая оснащённость и техника ремесла заботили его в равной мере, о чём бы ни шла речь — о военном деле, о шахматах или о той же рыбалке. Он собрал великолепную библиотеку по военной теории и истории (потом отданную мамой в Академию бронетанковых войск, больше тридцати лет — до прошлого года — носившую имя отца). Среди этих книг было немало драгоценных раритетов, а вот сохранились ли они до сих пор в Академии, — не знаю... Целую полку в папиной библиотеке занимала шахматная литература (переданная мамой через год после папиной смерти Одесскому шахматному клубу), другую — ихтиологические книги на разных языках (теперь они в библиотеке московского Зоологического музея). А рядом лежала тетрадка с надписью на обложке «Дневник рыболова» — подробные, по дням, отчёты о том, что, когда, при какой погоде и ветре было выловлено (естественно, на удочку, сетью папа не ловил) в такой-то уссурийской протоке, на что лучше ловится таймень, или сом, или не помню кто. Сколько удилищ и удочек, крючков и грузил, спиннингов и каких-то экзотических наживок, искусных имитаций мушек и стрекоз и всякой другой рыбарской снасти на все случаи лова на всех широтах хранила нижняя полка шкафа! К вещам, исключая вышеупомянутые, папа был патологически равнодушен и удовольствовался бы, будь его воля, синей байковой ковбойкой (она и теперь у меня), многолетними штанами фасона «раскинулось море широко» и беретом, носить который приучился в Испании. Перебирая потом его пристрастия, я поняла: к тому, что не нужно в жилище лесника, он был безразличен. Но во всяком месте земного шара, куда попадал, папа покупал рыболовную снасть и какие-то отвёрточки, винтики, молоточки. Было, правда, и ещё одно пристрастие — письменные принадлежности: паркеровские ручки с тонким пером. Необходимым предметом роскоши признавались часы — «Омега», швейцарские. (Я слышала, как однажды по телефону папа говорил, наверное, директору часового завода об армейском заказе: «Командирские» надо сделать не хуже «Омеги». Без точных и прочных часов военному человеку нельзя!») Но, конечно же, главным его пристрастием были книги. Не будучи библиофилом в полном смысле слова, папа постепенно собрал библиотеку, отразившую все его пристрастия: русский девятнадцатый век, военная история, шахматы, звери и путешествия, словари (двуязычные и толковые), пословицы всех времён и народов. Библиотека мамиными стараниями (она окончила ленинградский библиотечный институт и до самой эвакуации в апреле 1942 года заведовала районной библиотекой) была в полном порядке. Но на особой полке над столом книги размещались не по библиотечным правилам, а по любви: Шевченко и Леся Украинка по-украински, Есенин и «Горе от ума», Вольтер, Ларошфуко и Паскаль по-французски и в переводе. И, конечно же, Марк Аврелий, книга, купленная у букиниста, судя по отметке на обложке, осенью 1936-го, накануне отъезда в Испанию. Её он искал давно и называл «самой нужной». Не раз любимая папина фраза из Марка Аврелия расставляла все точки над i в наших разговорах: «Каждый стоит ровно столько, сколько стоит то, о чём он хлопочет» (А для меня расставляет и до сих пор). А фраза Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили», введённая в домашний обиход мной, имела кроме очевидного — переносного — и буквальный смысл, касающийся всех зверят, живущих в доме. В отличие от всех остальных папа никогда не забывал, уходя, дать им кусочек — чтоб не скучали... Ещё несколько книг лежали в ящике стола. Не из осторожности — просто перепечатанные на машинке, какие переплетённые, какие нет, они не помещались на полке: «Белая гвардия», «Один день Ивана Денисовича» (в 62-м году на полку встало аккуратно обёрнутое отдельное издание), «Тёркин на том свете», «По ком звонит колокол» (из серии «Рассылается по специальному списку») и фотокопия «Повести о непогашенной луне», снятая по его просьбе в Национальной библиотеке Софии. Все эти книги папа давал мне: «Прочти обязательно», но, к сожалению, без комментариев. И только раз я задала вопрос про «Непогашенную луну»: — Это правда? — Неправду так далеко не прячут. Тогда же, зная, что папа начал писать книгу о детстве, я спросила: — А почему не о войне? Он ответил неожиданно резко: — Пускай врут без меня. Много лет спустя, наткнувшись на мемуарный том о Сталинградской битве, испещрённый восклицательными и вопросительными знаками вперемежку с едкими замечаниями, я поняла смысл этой фразы. Тогда же только удивилась непривычному, как теперь понимаю, обусловленному несогласием с автором, тону и запомнила продолжение: — Правды об этой войне ещё долго никто не скажет и не напишет. — Потому что не напечатают? — Не только. Он оказался прав и прав до сих пор, а, может, и насовсем, хотя у нашего разговора был другой конец. — Когда-нибудь попробую написать. Но начинать надо с начала. И до этой войны была война, война и война. Он успел написать только о детстве и юности — рукопись обрывается возвращением из Франции, а это, в сущности, самое начало судьбы. Его книга — одиннадцать толстых тетрадей — написана набело изящным старинного склада почерком, совершенно без помарок, настолько продуманным и выношенным было каждое слово. На первом листе дата — 4 декабря 1960 года, варианты предварительного названия — «Байстрюк», «Бастард» и вверху пометка «Примерный план (набросок)». Последняя тетрадь была дописана осенью 1966 года. Работу оборвала болезнь, и можно только гадать, как папа предполагал работать над текстом дальше, но ясно одно: сделанное он считал первым черновиком. В этом проявилась и естественная для него требовательность к себе, и в высшей степени ответственное отношение ко всякому, а на сей раз непривычному — литературному — труду. Он считал, что только начинает осваивать ремесло. Захваченность работой, которой приходилось заниматься урывками, говорила о призвании, а сам первый черновик — о несомненных литературных способностях. Всякий раз, просматривая рукопись, ещё не тронутую редакторской правкой, я поражаюсь своеобычному складу авторской речи. Приведу хотя бы один пример. (И напомню, что это Франция, Первая мировая, пейзаж после битвы). «Взошла поздняя луна, большая и скорбная, и, горюя, повисла над горизонтом. И, кажется, оттого она печальна, что увидала изрытое воронками и окопами, обильно политое кровью поле, где убивали друг друга обезумевшие люди. Тихий печальный ветерок уносил с поля брани устоявшийся в ложбинках пороховой дымок, запах гари и крови. Молча обступили солдаты подъехавшую кухню, молча поужинали. Стрельба стихла, лишь вдалеке, кое-где, рвались снаряды. Санитары сновали по окопам, выносили на носилках тяжело раненных; полковые музыканты подбирали убитых. На повозках подвозили патроны, и на тех же повозках отправляли в тыл убитых — хоронить. Коротки весенние ночи. И едва рассеялся туман, артиллерийская канонада разбудила измученных, съёжившихся от утреннего холода солдат, а земля снова задрожала от разрывов, снова затянулась дымом и пылью». Литературное призвание дало о себе знать ещё в юности. Во Франции, в 1918 году, отвоевавший всю Первую мировую двадцатилетний георгиевский кавалер впервые, наверное, берётся за перо и пишет пьесу. Возможно, русский самодеятельный солдатский театр в Плере-на-Марне и репетировал её, но до премьеры дело не дошло, да и не в постановке дело. Важнее другое — то, что папа сохранил эту рукопись, не питая на её счёт никаких литературных иллюзий. Она была дорога ему не просто как память о юности, а как знак так и не сбывшегося призвания. От тех времён у отца не осталось почти ничего, и это не удивительно, но через три войны — гражданскую, испанскую и Вторую мировую — он пронёс эту рукопись, солдатскую книжку пулемётчика 256-го Елисаветградского полка, парадную фотографию с Георгиевским крестом и карманный французский письмовник с золотым обрезом в тиснёной малиновой коже (по которому во французском госпитале составлял для товарищей по несчастью — солдат, залечивающих раны, — письма француженкам с благодарностями за присланные к Рождеству гостинцы). Большая, in folio, разграфлённая амбарная книга — сшитые толстой ниткой жёлто-зелёные страницы; выцветшие от времени, теперь едва различимые лиловатые строки, слегка забирающие ввысь; тот же изящный почерк, но ещё не строгий, а с каким-то лихим, щегольским разбегом. Эта неумелая, драматургически неуклюжая пьеса о русском солдате во Франции, пронизанная тоской по родине, горечью «чужой» войны и жаждой будущего, и сейчас притягательна как человеческий документ — свидетельство сильной и одарённой натуры, инстинктивно раздвигающей рамки судьбы. На роду ему было написано батрачить, сносить унижения в чужой семье, притерпеться к шепотку за спиной: «Байстрюк!», смириться с высокомерием приехавших на каникулы вчерашних приятелей — графчуков. (Графиня Гейден, у которой служила моя бабушка, до поры до времени — пока дети были маленькими — позволяла им играть «с кухаркиным сыном»). Но он, привыкший сжимать кулаки при намёках на «отца — проезжего молодца» и запомнивший разъяснение горничной: «Ты графчукам неровня!», ушёл из дому навсегда — в одиннадцать лет, в день материнской свадьбы. Первый бунт оказался поступком. Уже не одни только обстоятельства диктовали судьбе — вмешалась своя воля, хотя разорвать замкнутый круг — скитания по чужим углам, нищенское, полуголодное существование — было пока не под силу. Но в то же время, ещё не осознавая цели, он строил себя. И потому упорно тянулся к знаниям, которые не могли и не должны были ему пригодиться. Зачем ему, сыну полка, премудрости «офицерской» игры — шахмат? Зачем батраку с фольварка арифметика и чистописание, а мальчику на побегушках — французский язык (ведь отец, служа у купца, брал уроки французского, а было ему двенадцать лет)? Наверно, есть в том и доля честолюбия, обострённого унизительным положением незаконнорождённого, и память о рано испытанном пренебрежении, но даже если ими и был рождён первый импульс, не в них одних дело: живой ум искал применения и требовал пищи, а упрямство и азарт помогали одолевать препятствия. Наверное, купцу, владельцу лавки, не хотелось расставаться с работящим и сообразительным парнишкой. Но всё же не только случай, не только долгая болезнь определили новый и, как оказалось, главный поворот в отцовской судьбе. Безотчётное отвращение к торгашеской жизни, увиденной вблизи, помешало ему снова, после больницы, поступить в лавку. Бегство на фронт разом разрешило все жизненные затруднения, но обязывало пройти весь воинский путь — возвращаться с полдороги отец не умел, а уходить уже научился. («Бесповоротному человеку и самому не сладко, и с ним нелегко, но положиться на него можно», — эти папины слова, сказанные по случайному поводу и безотносительно к себе, я запомнила, угадав в них автобиографию.) Так — бесповоротно — он стал военным человеком, а отвага, честолюбие, ум, привычка доводить всякое дело до блеска и, наконец, удача, не уберёгшая от пули, но спасшая от плена, алжирского лагеря и смерти, определили дальнейшее развитие событий. И всё же первые шаги, наверное, дались труднее всего. Не потому ли, остро чувствуя значительность тех лет для становления личности, он и начал книгу с рассказа о детстве? А к человеку, который помог на первых порах, — к тете Наташе — сохранил на всю жизнь глубокую, преданную и благодарную любовь. О том, что судьба повернула так, а не иначе, папа не жалел (бесповоротным людям это не свойственно), но чувствовал, что справился бы, и неплохо, с другим делом. Иногда даже казалось, что он примеривает к себе другие профессии — так внимательно, пристрастно и заинтересованно он приглядывался к ним. Кроме литературы, его притягивала медицина. Почему — понятно. До службы у графини бабушка несколько лет работала кухаркой при земской больнице, и для отца (которому тогда было лет пять) труд врачей и сестёр рано стал привычным зрелищем — делом, которому он сам мог бы выучиться. Не зря же доктор чуть позже предложил молодой кухарке устроить сына в военно-фельдшерскую школу, но она не решилась — слишком уж мал ещё сын, а контракт на целых пятнадцать лет! (Если б знала, что уже скоро всё равно расстанется с ним, отдала бы? И судьба была бы другая?) Замечательный хирург Виталий Петрович Пичуев, вспоминая долгие разговоры с папой (они познакомились в 60-м, когда мама лежала в хирургии), рассказывает о живой заинтересованности, которая удивляла его в папе всякий раз, когда речь заходила о работе врача, о новых диагностических методах, новой аппаратуре. И всякий раз с особой теплотой папа говорил ему о докторе из земской больницы — первом человеке, пробудившем в нём безоговорочное уважение. Более того: отец рассказывал Виталию Петровичу, что, когда уже после гражданской войны речь зашла о дальнейшей учёбе, он попросил командира дать ему рекомендацию в Военно-медицинскую академию, но получил безоговорочный отказ: «Нечего тебе там делать! Ты прирождённый командир!» Так что, если бы папа стал врачом, это было бы и объяснимо, и естественно, и даже достижимо, а вот литература — terra incognita — всегда оставалась для него неисполнимой мечтой, журавлём в небе. И всё же сколько мужества и дерзости было в юношеской попытке написать драму — самому научиться сочинительству, пока другие солдаты, радуясь короткой передышке, гоняют в футбол, поют в любительском хоре, репетируют водевиль... Пожалуй, не меньше, чем в решении, принятом сорок два года спустя, — писать роман, а не мемуары. Думаю, не случайно, кроме одиннадцати тетрадей «примерного плана-наброска», есть блокнот, озаглавленный «Действующие лица», с перечнем персонажей. Их, описанных по всем драматургическим канонам, — с указанием возраста, портретной характеристикой и прочими подробностями — в книге сто сорок шесть. После пьесы, юношеской пробы пера, жизнь отца складывалась так, что ни о какой литературе и думать не приходилось. Французский госпиталь уберёг от алжирских концлагерей (таков был горестный конец восставшего русского экспедиционного корпуса), но пришлось ещё год воевать за Францию в иностранном легионе. В конце концов отцу с тремя товарищами удалось вернуться на родину почти кругосветным путешествием — высадились они во Владивостоке, откуда в 1919 году добраться до Одессы было нисколько не легче, чем в незапамятные времена из Марселя в Китай. И всё же отец, в одиночку, таясь от белых, сумел одолеть полпути и уже за Иртышом был арестован красными за иностранную солдатскую книжку и четыре французских воинских креста — эквивалент полного Георгиевского банта. Чудом ему удалось избежать расстрела — военврач, знавший французский, подтвердил, что французский документ и есть самая настоящая русская солдатская книжка. А дальше всё пошло своим чередом: гражданская война, полгода в тифу, служба в Красной Армии. Казалось, химера юности — литература — давно и прочно забыта. Но призвание всё же напоминало о себе — иначе не штудировал бы молодой командир батальона выпущенные ленинградской «Красной газетой» пособия из серии «Что надо знать начинающему писателю»: «Выпуск первый. Выбор и сочетание слов» и «Выпуск второй. Построение рассказов и стихов». Как ни странно, эти две книжицы с вопросительными и восклицательными знаками на полях, NB и заметками на полях сохранились. Но, конечно же, много важнее были другие книги. Назову лишь те, о которых спрашивала и знаю точно, — Толстой, Лесков, Чехов, Достоевский, Салтыков-Щедрин, прочитанные в годы учения в Академии Фрунзе. Потребность в самообразовании, азарт и страсть к знаниям помогли папе наверстать упущенное и после церковно-приходской школы, законченной слишком давно, выдержать вступительные экзамены в академию. Возможность получить образование значила для него так много, что готовился он к этим экзаменам, как к бою. — Я тогда решил: не сдам — застрелюсь. Нельзя было не сдать. — Да почему же нельзя? — изумилась я. (Разговор происходил накануне одного из моих экзаменов и, видимо, с него и начался). — Иначе себя перестал бы уважать. В 1927 году отец поступил в Академию, весной 1930-го окончил её, как тогда говорили, «по первому разряду»... Когда меня спрашивают, как папа меня воспитывал, хочется ответить «никак», хотя это, наверно, неправда. Ни нравоучений, ни особых запретов (это — мамина прерогатива), крайне редкая похвала и за все двадцать лет единственная дидактическая фраза, сказанная в мой первый школьный день: «Ну, принимайся за дело — становись человеком, да смотри не подведи, а то мне будет стыдно». И ещё несколько наглядных уроков. Первый — урок труда. Отправляясь на рождение к подруге, я неуклюже заворачиваю коробку в виде лукошка, внутри которой в фантиках, изображающих клубнику, изумительные конфеты с жутковатым на теперешний вкус названием «Радий». Папа поверх очков довольно долго наблюдает, затем встаёт, отбирает коробку и невероятно умело, артистично, прямо-таки с шиком в одну секунду обёртывает коробку и завязывает даже не бант — розу! «Всякое дело надо делать с блеском!» и поясняет: «Одесская школа!» (Двенадцати лет он начал работать у купца в магазине мальчиком на побегушках). Второй урок — вежливости. Не знаю, откуда появилась на папином столе папка устрашающего размера (жалко, не помню, как она называлась, хотя, наверное, обозначена была просто номером), исчезнувшая через несколько дней. Я полюбопытствовала, полагая, что это белый Тасс, но в папке обнаружилось невообразимое количество доносов, подшитых в хронологическом порядке. (Сейчас могу предположить, что в конце пятидесятых некоторых лиц ознакомили с их особыми личными делами. Можно только гадать, зачем ознакомили и кого именно, но полагаю, что вернулись эти папки, конечно же, не в архив). По детской глупости из всего множества доносов я прочла только первый и последний. В последнем известный мне персонаж с большими звёздами на погонах извещал кого следует об имевшем место на его глазах криминальном факте беседы Р.Я. Малиновского на таком-то приёме с иностранным дипломатом на иностранном же языке. О предмете беседы автор бумаги по незнанию языков сообщить ничего не мог, в чём и расписался. Так ругательное слово из родительских разговоров «сексот» впервые наполнилось очевидным смыслом. И надо же было на другой день нам с папой, неся из магазина «Сыр», что на Горького, кусок рокфора (то было наше традиционное зимнее гулянье), встретить автора доносной бумаги! Я отвернула нос. Папа поздоровался, даже как будто весело, и, выждав, заметил: «С взрослыми ты всегда должна здороваться. А со своими — сама разбирайся». Значило ли это, что дети не должны сводить родительские счёты или что счёты вовсе не надо сводить? Или правомерны оба ответа? История первого доноса не в пример длиннее. Она растянута во времени на полвека и никак не укладывается в два абзаца. Жизнь странно выстроила её — не то как драму, не то как роман, путая жанры, меняя протагонистов и рассказчиков. Итак, действие первое — излагается по документу. В бумаге (по детской глупости не посмотрела, куда адресованной и когда именно сочинённой) соседи по коммуналке извещают, что проживающий рядом комбриг(?) Малиновский так и не снял со стены портрет врага народа Уборевича с дарственной надписью, хотя жёны нижеподписавшихся командиров «обратились к жене Малиновского с соответствующим замечанием», а она-де, на другой день, сказала, что мужу слова их передала и получила ответ: «Что я повесил, то будет висеть». Какое разбирательство последовало за доносом, узнать теперь не от кого, но ясно, что было оно не первым и не последним. Отцу, конечно же, не раз припоминали и Францию, «где он прохлаждался, пока мы беляков рубали» (традиционная шутка одного из героев гражданской войны), и Испанию, куда он «своевременно улизнул» (квалифицируем и это как шутку, не раз повторенную другим героем более поздней войны). Как случилось отцу уцелеть, гадать не буду — случай, судьба? — но что он состоял на перманентном подозрении, сомневаться не приходится. О недоверии Сталина к отцу и верховном повелении «не спускать с Малиновского глаз» рассказывает в своих мемуарах Н.С. Хрущёв. Но вернёмся к истории с крамольной фотографией. Не раз мне приходилось слышать, что те, на кого доносили, обычно знали имена доносчиков; знал про своих бдительных соседей и отец. Доказательством тому — второе действие, излагаемое по маминому рассказу. Прошло по меньшей мере пять лет. Война, видимо, конец сорок четвёртого или начало сорок пятого. Почти ночь. Входит дежурный офицер с докладом: — Товарищ маршал! Генерал такой-то прибыл по случаю назначения на такую должность! (Формулировка в моём штатском изложении, естественно, условна). Отец (спокойно, негромким голосом): — Скажи этому сукиному сыну, чтоб через полторы минуты и духу его тут не было! А то лично приду морду бить. Порученец исчезает. Хотелось бы мне увидать сцену за дверью — как это майор (или капитан, а может, и лейтенант) передавал новоприбывшему генералу «сукиного сына» вкупе с пожеланиями счастливого пути? Но так или иначе через полторы минуты прежнего соседа и дух простыл. В тот вечер никаких комментариев к произошедшему не последовало, и мама так бы никогда и не узнала предыстории, если бы папа не рассказал её вкратце — неделю спустя. Между вторым и третьим действием прошло ещё двенадцать лет — война давно кончилась, а я успела родиться и подрасти, так что излагаю собственные впечатления. Итак, вставная новелла «Песнь о коте Нуаре» (Героический эпос). Наше новое действующее лицо — славный кот Нуар — родилось у нас в доме в Хабаровске в тот год, когда я пошла в школу. Двух котят — Нуара и его брата, поименованного за нежный нрав Ласиком, — решили оставить себе (очень уж были хороши!), остальных четверых роздали. Котёнка, который с первой минуты стал папиным, Нуаром (то есть Чернышём, а совсем ласково — Нуарёнышем или попросту Нурёнком), назвали по ошибке: младенцем он был много темнее братишек. А когда подрос, обнаружилось, что масть у него привычная — сибирская, только полосы и тигровые разводы очень уж широки, черны и мохнаты. В 56-м в Москву с нами переехали все звери (а на полдороге, в вагоне, родилось семеро сибирских котят, очередных братьев Нуара и Ласика, и, раздав их, мы обзавелись уже московскими «родственниками по кошке»). Нуар, Ласька, сеттер-лаверак Фидель и прочая живность быстро освоились на даче, своём новом охотничьем участке, а Нуар — разбойник по природе — немедленно пустился в набеги на соседские курятники (жили мы рядом с лесничеством). Улаживать последствия котовьих подвигов, извиняться и возмещать убытки пришлось маме, чем она непрерывно и занималась. (Но надо было видеть Нуара, лезущего через забор, с доблестно придушенным трофеем в зубах! И хотя курёнка, конечно же, жалели, а кота ругали, усатый герой являл собой зрелище, как и полагается, эпически величественное). Однажды Нуар исчез — его искали и где уж нашли, не знаю, а мне в конце концов сказали, что Нуара, наверно, в отместку за цыплят, убили. Детское горе длится долго, и котовий облик, пока я горевала, в согласии с законами фольклора, безотчётно мифологизировался. В итоге в моих рассказах Нуар достиг размеров сеттера, цыплята оказались чуть ли не бойцовыми петухами, а неведомый их хозяин, коварно подстерёгший кота, походил почему-то на циклопа. И — странное дело — ни с каким реальным соседским лицом злодей не соотносился. Очень долго история Нуара хранилась в одном углу памяти, прочитанная из любопытства доносная бумага — в другом, а про фронтовой инцидент я и вовсе не знала. Концы с концами связал эпилог, возвративший сюжету драматургическую стремительность. По смерти кота Нуара прошло почти тридцать лет — шёл, помнится, первый год перестройки. Отговорив доклад на конференции, я пила свой кофе в буфете Дома учёных в соседстве с учёной дамой, которая и обратилась ко мне со всей приветливостью: — А я вас совсем ребёнком помню! Я тогда только замуж вышла, и лето мы с мужем у его родителей жили, совсем рядом с вашей дачей. Вы тогда таких ужасных громадных зверюг держали! — Каких зверюг? — Якобы кошек. (Кошки действительно были больше обычных — на то и сибирские, теперь таких не водится — порода измельчала). Так вот — зверюга ваша нам медовый месяц в кошмар превратила. Каждый божий день пробиралась эта тварь на террасу и нам на постель гадила! И выслеживали её, и окна запирали, и двери — а ей хоть бы что — проберётся и нагадит! Муж в конце концов... Кофе колом застревает в горле, а пауза длится, как ей и надлежит, бесконечно. Тем же вечером (а вовсе не «неделю спустя», как бы полагалось) я, едва войдя в дом, восклицаю: «Мама, знаешь, что на самом деле было с Нуаром?! Сегодня на конференции...» и т.д. Мама (спокойно): «Знаю». И рассказывает мне фронтовой инцидент. Странно, однако, шутит судьба. Ведь зачем-то же она поселила двадцать лет спустя, если считать от доноса, пусть не через стену, но поблизости, в кошачьей досягаемости, прежнего соседа с семейством. Не знаю, кого судьба испытывала на этот раз, но попутно преподала урок и мне. Мы с той семьёй, понятно, не дружили домами, но с младшим сыном извечного соседа я, можно сказать, играла в песочек с полного согласия взрослых. Родительское отчуждение не касалось детей — и, думаю, не случайно, а по папиной воле. Если я верно, пусть много позже, поняла его мысль, такую, в сущности, простую и естественную, он учил меня не судить за вину перед другим, пусть даже родным человеком, и тем паче не судить за чужую, хоть бы и отцовскую вину. Сейчас я формулирую этот урок — и тем неизбежно упрощаю и искажаю смысл, в котором много обертонов. Наверное, есть и такой: не судите чужое — жестокое — время, особенно если вам выпало расти в вегетарианскую эпоху (а шестидесятые, несомненно, были одной из самых вегетарианских эпох нашей истории). Там, в тридцатых, «нас не стояло», и каково там было изнутри нам отсюда не видно. Но это мои теперешние домыслы, выросшие, правда, из тогдашних ощущений. Другое дело — кот, замечательный зверь, не склонный к рефлексии, всё разом учуявший и отомстивший за хозяина единственно доступным образом. Не тигр же он, в самом деле, и даже не рысь, чтоб вызвать обидчика на бой! Ну, разве что доблестно осквернить брачное ложе наследника рода... Понимаю неизбежную читательскую досаду на не первую уже недомолвку — «один из героев», «лицо весьма уважаемое» и тому подобное. Я и сама не раз досадовала, натыкаясь на фигуры умолчания, аббревиатуры типа NN и закрытые архивы. Но теперь — понимаю. Ещё живы люди, которых неизбежно ранит сказанное, и совершенно не важно, знакома я с ними или нет, знаю или только предполагаю, что им будет больно... Всякий раз, когда заходит речь об отце, меня спрашивают, запомнилось ли мне его назначение министром. Мне — нет, но мама рассказывала, что тот октябрьский день запомнился ей как один из самых тяжёлых (а как о самых страшных за послевоенные годы она говорила о днях Карибского кризиса, когда, ничего не зная, но, чувствуя, как серьёзно происходящее, она днём ждала звонка, а ночами сидела на подоконнике, ожидая, что папа заедет домой хотя бы на четверть часа). В тот октябрьский день, когда папу назначили министром, он приехал на дачу чернее тучи. Ужинать не стал. Долго, почти до ночи гуляли. Молча — мама хорошо распознавала ситуации, исключающие вопросы. Наконец на крыльце появился мамин брат: «Родион Яковлевич, радио сказало, что вас министром назначили!» И тут уже мама не сдержалась: — Что ж ты не отказался? — Поди откажись. И больше ни слова. С тяжёлым сердцем папа принял новые обязанности. Его адъютант Александр Иванович Мишин говорил мне, что вскоре после назначения, завершая партийную конференцию, на которой, как водится, прежние холуи не преминули вылить на Жукова ушат грязи, отец ясно сказал, что смещение — не эквивалент гражданской казни и не повод к улюлюканью: «Сделанного Жуковым у него никто не отнимет». Кстати, весь аппарат Жукова — секретариат, отдел писем, машинистки — остался и работал при папе. Случай, как мне объяснили, уникальный — обычно всех меняют на своих, как и было, к примеру, немедленно сделано после папы. Как я знаю, папины отношения с Жуковым никогда не были близкими (да и сотрудничать в войну им, по сути дела, не приходилось), но уважительными их отношения были определённо. Об их довоенном знакомстве мне рассказывал старинный папин друг Иван Николаевич Буренин. По его словам, при знакомстве Жуков повёл себя привычным образом (то есть приветствовал отца с включением ненормативной лексики) и к своему удивлению получил аналогичный ответ, чему удивился и, как показалось Ивану Николаевичу, почти обрадовался. Затем поздоровался уже по-человечески, видимо, отдавая должное неожиданному отпору. Так паритет был установлен. Вообще же к крику и мату отец никогда не прибегал — об этом говорят буквально все знавшие его и на фронте, и в послевоенные годы. Все сходятся на том, что контраст между приказным, подчёркнуто военным стилем Жукова и папиным — всегда на «вы», по имени-отчеству, не повышая голоса (что не исключало, конечно, требовательности), был разителен и не всем пришёлся по душе. Папину манеру обращения иные называли «штатской». Я бы скорректировала — скорее просто интеллигентной. Но это не просто следствие самовоспитания. Отец слишком хорошо знал, каково быть солдатом, да ещё на войне, и никогда этого не забывал. Однажды В. С. Голубович, военный историк, сказал мне — мимоходом и совершенно спокойно: — Известно, что Родион Яковлевич никогда не бил солдат. Он продолжал, а я застряла на сказанном. Если про человека говорят, что он ходит на двух ногах, значит, это не повсеместная норма? Значит, другие, и не единицы, ходят на четырёх? — Вы хотите сказать — другие били?! — А как же! NN для этого даже специально палку носил. Это всякий, кто воевал там-то (последовало точное указание, где), знает. Помню, как однажды молодой лейтенант, служивший без году неделя (естественно, в Алабино), зайдя к моей маме с поручением от своей, повествовал у нас за обедом о том, как он «школит своих солдат». И когда он в пятнадцатый раз повторил: «Солдата надо нацелить...», папа перебил: — Солдата жалеть надо! Пока ты в нём человека не увидишь, он в тебе командира не признает. Это, кстати сказать, образец резкого папиного обращения. Вообще же чаще всего вместо резкости он прибегал к иронии. Помню диалог, свидетельницей которого мне довелось быть. В Германии, в группе советских войск, папа обратился к одному из генералов с вопросом: — Как у вас продвигается язык, вы ведь здесь уже полгода? И услышал в ответ: — Мне, товарищ маршал, нет надобности учить язык. Имеются квалифицированные переводчики. — Оно конечно! — заметил папа, — на что же географию учить, когда извозчики, да ещё и квалифицированные, имеются. Думаю, его собеседник не понял, при чём тут география, и не уловил намёка на бессмертную госпожу Простакову. Перескажу ещё один случай, рассказанный мне очевидцем. Высокое начальство и папа в том числе обходят казарму. Всё блестит и сияет, осмотр близится к концу, местное командование уже изготовилось облегчённо вздохнуть, как вдруг следует просьба: «Товарищ полковник! Можно у вас кружку воды попросить?» Полковник бросается к бачку с прикованной кружкой, наклоняется, наливает, пытается протянуть кружку и застывает в странном полусогнутом положении: цепь так коротка, что принуждает пить чуть ли не на четвереньках. Немая сцена. И в завершение паузы папина фраза: «Что же вы ради кружки воды человека на колени ставите?» Меня в этой истории поражает наблюдательность. Надо же было, скользнув глазом по казарме, заметить, что цепь коротка! Не зря, видно, Нильс Бор считал умение видеть то, чего другие, даже глядя в упор, не видят, признаком таланта. Тогда, в шестидесятые, главной отцовской заботой стало перевооружение армии, для которого были нужны новые, совершенно иначе подготовленные кадры. Об этих раздумьях свидетельствует запись в его записной книжке 58-го года: «Как воздух необходима нам сейчас военная интеллигенция. Не просто высокообразованные офицеры, но люди, усвоившие высокую культуру ума и сердца, гуманистическое мировоззрение. Современное оружие огромной истребительной силы нельзя доверить человеку, у которого всего лишь умелые, твёрдые руки. Нужна трезвая, способная предвидеть последствия голова и способное чувствовать сердце — то есть могучий нравственный инстинкт. Вот необходимые и, хотелось бы думать, достаточные условия». И ещё одна запись, датированная годом позже: «Третья мировая война неизбежно станет войной ядерной и, следовательно, гибельной для всего человечества. В ядерной войне не будет победителя. И сейчас, когда мы ценой невероятных, самоотверженных, героических усилий всего народа обрели военную мощь в её современном понимании и тем самым подтвердили своё право голоса в мировом сообществе, надо осознать величайшую ответственность, ложащуюся на нас в новых условиях, и ясно представить себе, о чём идёт речь. Человечеству угрожает ядерное самоистребление. И пока ещё не поздно, надо услышать голос разума и голос сердца. Мы должны растопить лёд отчуждения между народами и государствами. Человеку нужна власть только над самим собой». Перечитывая эти слова, я всякий раз вспоминаю фразу Мигеля де Унамуно: «Настоящие пацифисты получаются только из настоящих военных»... В Москве мы жили скорее замкнуто, наверное, слишком напряжённой стала жизнь и в свободный час хотелось просто передохнуть. В Хабаровске домашняя жизнь была многолюдней, чаще приходили гости, и тогда играла громадная, как сундук, радиола. Под конец всегда заводили папину любимую «Гори, гори, моя звезда», а до неё неизменно звучали украинские народные песни (весь набор моих колыбельных), «Славное море, священный Байкал» и вальсы «Осенний сон», «Амурские волны» и «На сопках Манчжурии» (романтика той далёкой войны начала века ещё долго витала на Дальнем Востоке). Помню вертящиеся круглые ярлыки с собакой у граммофона и глянцевый белый конверт испанской пластинки: алая надпись и смуглый женский профиль — чёрный завиток на щеке, роза заухом, высокий гребень в кудрях. Её ставили часто — «Крутится испанская пластинка»... Много лет спустя я узнала и имя певицы, и историю аранжировки этой мелодии, впечатанной в самую раннюю память, а тогда просто слушала, не догадываясь, как много будет значить Испания для меня самой. Помню, на пути в Марокко (когда требовалось придать визиту особо дружественные обертона, брали семью) ночью папа позвал меня к иллюминатору: «Видишь, звездой светится — лучи расходятся. Мадрид». И я поняла, что папе хочется совсем не в Марокко. Рефреном шло через всю поездку: «Вот здесь — похоже», «И закат похож, и горы у горизонта», «И название испанское — Касабланка, и дома, как там, белые, и апельсины цветут». В Марокко к папе был приставлен высокий военный чин, воевавший в своё время на стороне Франко. Тогда они с папой были противниками в точном смысле слова: воевали на одних и тех же участках фронта. И все долгие автомобильные переезды они проговорили по-испански о том, что двадцать лет назад было их жизнью, а для прочих — лишь страница военной истории. Меня тогда поразил заинтересованный и, мне показалось, даже дружеский тон их бесед. Так я и не знаю, была ли это естественная норма дипломатии, или действительно время сгладило давнее разделение — и понимание поверх противостояния, хотя бы спустя годы, возможно. Когда через три года я поступила на испанское отделение филологического факультета, папа подарил мне агиларовский однотомник Лорки, тем предугадав (а может быть, предопределив) главное моё занятие в жизни, а спустя год отдал мне драгоценнейший раритет — прижизненное издание «Кровавой свадьбы», привезённое им из Испании. Только в прошлом году я перевела эту пьесу, а думала об этой работе, наверно, тридцать лет. В жизни нет случайностей — живая нить тянется от книги, купленной шестьдесят лет назад военной зимой в Мадриде, до недавней премьеры в московском театре «Сопричастность». Я кончала третий курс, когда папы не стало — он не успел узнать, что из меня вышло в профессиональном плане, но когда я принесла ему, уже в больницу, свою первую статью о русском Лорке, он написал в верхнем углу газетной страницы по-испански: «Смотри, Пассионария, о ком пишет моя дочка». И подписался — коронелъ Малино. Велел положить в конверт и отправить Долорес Ибаррури. Несколько лет назад, разбирая архив, я нашла черновик так и не защищённой папиной диссертации об испанской войне — он работал над ней накануне Второй мировой и, видимо, не успел завершить. В одной папке с черновиком — множество крохотных фотографий, папины испанские снимки. Цветущий миндаль, река, замок на скале, дети у дороги, мадридское предместье, горная деревенька, лица друзей. В этих фотографиях почти нет примет войны, но в них запечатлёна её горечь, нестираемая печать времени, сиротство той земли и её свет. В прошлом году я достала из нижнего ящика шкафа коробку, которой никто не касался с 31 марта 1967 года. На картонной крышке — надпись маминой рукой; «Эти вещи до последнего дня были с Р.Я. в больнице». Расчёска, пилочка, зеркальце, белый с сизой полосой носовой платок, маленький плюшевый львёнок, принесённый мною в больницу в последний папин день рождения, футляр с очками — оправа рассыпалась у меня в руках, выпали стёкла (я и не знала, что пластмасса ветшает), замшевая тряпочка для протирки очков, чёрная паркеровская ручка и записная книжка. В ней, в обложке, несколько отделеньиц. Верхние пусты, а в самом последнем маленькая фотография — мама, ещё молодая, в платочке, со мной, наверно, трёхлетней — и сложенный вдвое пропуск: тёмно-розовый картон с гербом Мадрида в левом углу. Посередине крупно «Свободный проход всюду», ниже и мельче «с правом ношения оружия» и ещё ниже «...разрешён коронелю Малино». Печать. Дата — 26 мая 1937 года и подпись военного губернатора Мадрида. Почти тридцать лет папа носил с собой этот пропуск. Зная устройство его души, скажу, не боясь ошибиться, — это не просто память и не только любовь, это талисман, с 37-го года кочевавший из старой записной книжки в новую. Во время гражданской войны в Испании папа был назначен советником к одному из лучших республиканских командиров Энрике Листеру, с которым до папы никто не мог сработаться. И в первую встречу Листер, человек тогда очень молодой и отчаянный, очень талантливый, но не получивший специального военного образования, воспринял своего очередного советника настороженно и даже с вызовом. В знак чего предложил ему вместе прогуляться по переднему краю и лично обозреть обстановку. «Прогулка» под пулями длилась, как в мушкетёрском романе, до простреленной шляпы — и Листер убедился в полном самообладании советника, у которого в отличие от молодого командира за плечами уже было две войны. Конечно, отцу был ясен и проверяющий замысел Листера, и бессмысленность бравады, но было ясно и то, что принять предлагаемые условия беседы необходимо — иначе профессиональное сотрудничество не состоится. Вскоре после папиной смерти я получила письмо от Франсиско Сиутата. В нём, мне кажется, сказаны очень важные и точные слова: «Твой отец всегда оставался для меня недосягаемым примером. Я обязан ему не только обретением профессиональных навыков, но и тем, что тогда ещё понял, как необходимо в военном деле прочное, глубокое, доскональное знание предмета, но не только. Не менее нужны командиру взыскательный ум и доброе сердце. Твой отец дал мне не только военный урок, но и урок доблести, стойкости, достоинства. И — не удивляйся! — урок деликатности. И пусть советник трижды прав, но, задевая самолюбие командира, он колеблет веру солдат в него, и в итоге страдает общее дело. Я доподлинно знаю, что коронель Малино обсуждал положение с Листером в самом узком кругу (несколько раз я при этом присутствовал). Коронель Малино давал точную характеристику обстановки, подводил к выводу, но последнее слово всегда оставлял за командиром, а при оглашении приказа иногда даже не присутствовал». Дон Франсиско, светлая ему память, ещё совсем молодым воевал в испанской республиканской армии у Листера, почти тридцать лет эмиграции прожил в нашей стране, ещё двадцать — на Кубе, где по отцовской рекомендации стал советником Кастро, и только на склоне лет вернулся на родину. Рассказывая мне о своей юности, о дружбе с отцом, он заметил: «Это очень важно, когда живёшь не дома, знать, что у тебя в России есть родной человек». И тогда я вспомнила случайно услышанные папины слова из телефонного разговора: «Очень прошу вас помочь испанцам. Ведь не на родине люди живут, нельзя об этом забывать. Нелегко эмигранту». Не знаю, с кем папа говорил, и о чём шла речь (спрашивать о чём бы то ни было, касающемся работы, дома было не принято), но я поняла, правда, не тогда, а много позже, читая папину книгу, что за этой фразой стояло не просто сочувствие. Он помнил лагерь Ла Куртин и госпиталь в Сан-Серване и по себе знал, как тяжела чужбина. Горек был её хлеб даже для тех, кто остался во Франции по доброй воле, — об этом отцу написал в 45-м давно принявший французское подданство Тимофей Вяткин, узнавший по газетному снимку в русском маршале давнего фронтового друга: «Тогда я был уверен, что моё решение — самое верное, но с годами всё чаще думал о тех, кто, несмотря ни на что, вернулся... Кто бы мог подумать, что я буду поздравлять тебя — Маршала и Командора! — с орденом Почётного Легиона». Двадцать лет спустя, в 38-м, отец снова встал перед тем же выбором. Он пробыл в Испании три срока и вернулся лишь после недвусмысленного распоряжения: «В случае задержки считаем невозвращенцем». Я часто думаю, каково ему было возвращаться после этой угрозы. И почему всё же вернулся, зная, что могло его ждать. Старинный папин друг, военврач Н.М. Невский, впоследствии генерал-майор медицинской службы, рассказывал мне, что в их первую после Испании встречу они с отцом долго говорили о том, что происходит дома. Прощаясь, папа сказал: «Может, и не свидимся больше, хотя ещё не война». Но судьба, не раз спасавшая прежде, уберегла и на этот раз. («Сначала во Франции, потом в Испании, потом в Академии отсиделся!» — шутило при всяком удобном случае одно уважаемое лицо, также отсидевшееся перед Второй мировой в горячей точке, но на другом конце земли.) Судьба хранила отца и после войны. На Дальнем Востоке у него разыгрался серьёзный конфликт с Гоглидзе, который, отбывая в Москву, к другу, чьё имя не забыл помянуть, пообещал отцу большие неприятности. Дело вскоре состряпалось, тучи сгустились, но Сталин будто бы самолично сказал: «Малиновского с Дальнего Востока не трогать. Он и так от нас достаточно далеко». Фраза эта (сказанная, по логике вещей, tete-a-tete) была заботливо донесена в изрядную даль, думаю, не без санкции и не без умысла. У тех немногих, кого не тронули, мне кажется, целеустремлённо создавали впечатление, что верховная рука самолично отвела дамоклов меч. В мае 1960 года папе довелось вновь побывать во Франции, на сей раз — в составе правительственной делегации. Как-то за ужином он упомянул об экспедиционном корпусе, о боях под Мурмелоном, о восстании в лагере Ла Куртин. И, когда стало ясно, что переговоры, ради которых приехали, не состоятся, Н.С. Хрущёв предложил: — Давайте отклонимся от маршрута — устроим вам свидание с юностью! И свидание состоялось — сорок два года спустя. Та же, почти не изменившаяся деревушка Плер-на-Марне, знакомые дома и привычная дорога, таверна на окраине и встреча с той, что помнит русских солдат, — маленькая ссохшаяся старушка, в которой, несмотря на её уверения, нельзя узнать Клеманс Пиньяр. В этой самой таверне тем летом русские солдаты написали свечой на потолке имя хозяйки, здесь же папа впервые выиграл у военного врача-хирурга затеянную на спор шахматную партию, едва научившись играть. Кстати, юношеское увлечение шахматами с годами переросло в стойкую привязанность. Знатоки считают, что папа играл на вполне профессиональном уровне, да и его шахматная библиотека свидетельствует, что её собирал не дилетант. Есть в ней, кстати, и том, посвящённый мастерству Ботвинника, с дарственной надписью гроссмейстера. Сколько себя помню, на отцовском столе лежала маленькая, с ладонь величиной, тёмно-вишнёвая коробочка. Раскрытая, она распадалась на два квадрата — шахматную доску с дырочками в каждой клетке, куда втыкались стерженьки крохотных фигур, и обтянутую малиновым бархатом крышку-корытце для ненужных фигур. Шахматная коробочка раскрывалась едва ли не каждый вечер: разбор партий и решение этюдов вошли в привычку, и только большой сибирский кот Ласик, брат легендарного Нуара, считавший место на столе под лампой своим, позволял себе вмешиваться в этот молчаливый диалог с доской, трогая лапой фигурки или теребя жёлтый гранёный карандаш фирмы «Фабер». Ещё одна память о детстве — фаберовские тонкие золотистые и толстые двухцветные красно-синие карандаши и мягкие белые резинки с оттиснутым слоном. Увиденные впервые в доме дяди Яши, станционного смотрителя, они поразили воображение мальчика и запомнились как атрибуты учёности. Не потому ли полвека спустя на папином столе появились точно такие же, остро заточенные карандаши с золотистыми гранями и празднично белый квадрат резинки со слоном, стирать которой рука не поднималась? Отец, вообще глубоко равнодушный к вещам, дорожил этим фаберовским набором — так поздно сбывшейся детской мечтой. Через полгода после поездки во Францию на столе, рядом с шахматной коробочкой, неизменным французским томом Флобера и толковым словарём — Большим Ларуссом, появились блокнот с перечнем действующих лиц и толстая тетрадь. С этих пор закладка в томе Флобера почти не перемещалась, а шахматная коробочка раскрывалась всё реже. Рядом с тетрадью вскоре появились две подробные карты — Восточной Европы и Франции, курвиметр и стопка менявшихся книг по истории Первой мировой войны из Ленинской библиотеки. Если они не разрешали сомнений или возбуждали новые, в отдельной тетрадке с надписью на обложке «Проверить» он записывал в нескольких словах суть и помечал: «У историков (таких-то, там-то) — иначе», и очень кратко — как. Году в 62-м у нас в доме побывал удивительный гость — товарищ отца по экспедиционному корпусу, диковинный человек, очень уж не похожий на всех когда-либо виденных и потому запомнившийся. Высокий, сухощавый, лысый старик (он показался мне много старше папы) в чёрной паре с чёрным галстуком — бабочкой необыкновенных размеров — как бант у первоклассницы. Изъяснялся он каким-то полупонятным старинным слогом, вставляя французские слова и подчёркнуто грассируя. Не знаю, о чём они с папой проговорили всё воскресенье, но, судя по сердечному прощанию и прекрасному настроению обоих, беседа была крайне занимательной. Жаль, конечно, что я тогда не расспросила папу об этом человеке, похожем не то на члена Государственной Думы (такое у меня в ту пору было о них представление), не то на провинциального трагика. Не знаю, как сложилась его судьба после возвращения из Франции, не знаю даже имени. Запомнились пустяки — бант и проповедь вегетарианства за обедом. Папа никогда не говорил о книге. Если спрашивали, отмалчивался, но иногда, как бы вне связи со своей работой, рассказывал какой-нибудь уже написанный или только обдумываемый эпизод. Но бывало это не часто. В последнюю поездку в Одессу летом 66-го, словно прощаясь, папа обошёл все с детства памятные места. Показал маме дом купца Припускова, улицу и дом, где жила семья дяди Миши, закоулки Одессы-Товарной, Аркадиевку и гавань. Миновали они только площадь, на которой по правилу о дважды героях стоит папин бюст работы Вучетича. — Посмотрим? — предложила мама, когда оставалось только свернуть за угол. — Иди одна, если хочешь. И, думаю, дело не в том, нравилось ему или нет сделанное Вучетичем. Не стоять же и в самом деле перед собственным бронзовым изваянием. Зашли они в тот день и к сыну дяди Миши, папиному двоюродному брату Вадиму Михайловичу Данилову, вспомнили первую после детства и последнюю встречу отца с дядей Мишей в день освобождения Одессы, 10 апреля 1944 года. О ней мне рассказывал очевидец — Анатолий Иннокентьевич Феденев, в ту пору офицер для особых поручений при командующем фронтом: «Родион Яковлевич объяснил шофёру, как ехать, и мы сразу нашли тот дом на окраине Одессы. Вышли, собрался народ. Я хотел было спросить о Данилове, но Родион Яковлевич уже шагнул к стоящему поодаль старику: «Не узнаешь меня, дядя Миша?» Михаил Александрович, хоть и знал об удивительной судьбе двоюродного племянника, всё же никак не мог поверить, что стоящий перед ним боевой генерал и есть тот самый «бедный родственник», мальчишка на побегушках». И всё-таки, почему не мемуары? И почему не о главном — не о Второй мировой? Этими вопросами задавались все знавшие, о чём пишет папа, а их было немного. Человек вообще замкнутый, он не делился замыслами, не спрашивал совета и не вдавался в объяснения. Если бы успел довести работу до конца, наверное, объяснил бы, почему ему естественнее было писать о себе как о другом человеке. Не кончив, говорить бы не стал, считая пустыми рассуждения о том, что не сделано. Думаю, ему нужна была дистанция между им самим и героем и обусловленные ею свобода и отстранённость, но, кроме того, мне кажется, этот взгляд на свою судьбу, как на чужую, отвечал его замыслу — исследовать, как складывается человек, как он становится собой; понять, что в нём от времени, что от других людей, что от своей воли, что от случая. И потому начинать надо было с начала — всё запавшее в душу ещё отозвалось бы, рано или поздно. Естественно предположить, что с той же обстоятельностью, так же документированно и неторопливо папа принялся бы за «набросок» второй части. Уже лежали на столе новые карты и большая стопка редких изданий — книг о гражданской войне из спецхрана Ленинки. Они не пригодились. Осенью 1966 года папа отдал на машинку законченное — первую часть, но работать над книгой дальше и даже просто вычитать рукопись ему уже не пришлось. Ни единого дня папа не был в отставке, ни дня не располагал собой, а ведь случись отставка или опала, ему бы не пришлось искать себе занятие: у него была книга — призвание и долг. Он торопился к своим тетрадям каждый вечер, забросив и шахматные задачи, и французских афористов, и даже рыбалку. А в ящике стола ждала своего часа особая папка с документами времён Второй мировой. Он откладывал их ещё тогда — на каждом листе под грифом «Секретно» надписано: «NB! В мою особую папку». И книга о Второй мировой была бы написана — если б только жизнь длилась... Недавно, уже после папиного столетия, его адъютант Всеволод Николаевич Васильев рассказал мне, что видел и даже читал папину тетрадь с заметками о первых месяцах войны. Его поразила эта рукопись: «Я сам фронтовик и могу сказать, что ни до, ни после не читал ничего столь же правдивого. А в начале 66-го, — рассказывает Всеволод Николаевич, — Родион Яковлевич, словно продолжая разговор с самим собой, сказал: «Ещё год дослужу и уйду — пора мне исполнять долг перед войной». Речь шла о Второй мировой. Слишком поздно узнала я о существовании этой тетрадки, когда спрашивать, отчего её не отдали нам после папиной смерти и куда она подевались из служебного кабинета, было бессмысленно, а теперь и не у кого. И даже если папа принёс тетрадку домой, вряд ли она бы сохранилась. Ещё до похорон к нам пришли люди в штатском снимать аппараты правительственной связи — вертушку и кремлёвку. Они же вынули из его стола и забрали все бумаги, а заодно и «рассылаемые по специальному списку» книги из папиного шкафа. Две или три, лежавшие у меня в комнате, — Гароди, «По ком звонит колокол» — так и остались, но кто же знал, что отцовские бумаги надо было просто переложить...
Наталья Малиновская15 1984, 1999
ОБ АВТОРЕ
МАРЧЕНКО Анатолий Тимофеевич родился в 1922 году, в городе Майкоп Краснодарского края. Окончил филологический факультет Калининградского Государственного университета. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», медалями «За победу над Германией», «За отличие в охране Государственной границы СССР» и другими. Многие годы работал главным редактором журнала «Пограничник». Член Союза писателей с 1973 года. Лауреат литературной премии имени Александра Фадеева, литературных премий Министерства обороны СССР, КГБ СССР и Федеральной пограничной службы — «Золотой венец границы». Автор романов «Третьего не дано» (издавался в Венгрии и Чехословакии», экранизирован под названием «Бой на перекрёстке»), «Звездочёты» (экранизирован в одноимённом телефильме»), «Возвращение», «Диктатор», «Звезда Тухачевского», «За Россию — до конца», повестей «Юность уходит в бой», «Дозорной тропой» и др. Роман «Солдат Отчизны» — новое произведение писателя.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1898 год 10(23) ноября в городе Одесса родился Родион Яковлевич Малиновский. 1909 год Родион работает приказчиком у купца Припускова в Одессе. 1914 год Родион Малиновский доброволец; участвует в Первой мировой войне как рядовой солдат. За отличие в боях награждён Георгиевским крестом IV степени. 1916 год, февраль Родион Малиновский отправляется во Францию в составе Русского экспедиционного корпуса, участвует в боях с германцами. 1919 год Родион Малиновский возвращается в Россию и добровольно вступает в Красную Армию. В Гражданской войне участвует в боях с белогвардейцами в составе 27-й стрелковой дивизии на Восточном фронте. 1920 год, декабрь После учёбы в школе младшего начсостава Родион Малиновский командует пулемётным взводом, затем — начальник пулемётной команды, помощник командира и командир батальона. С 1930 года Начальник штаба кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии. Служба в штабах Северо-Кавказского и Белорусского военных округов, начальник штаба 3-го кавалерийского корпуса. 1930 год Заканчивает военную академию имени М.В. Фрунзе. 1936—1938 годы Участвует в Гражданской войне в Испании: военный советник республиканской армии. За боевые отличия награждён орденом Ленина и орденом Красного Знамени. С 1939 года Старший преподаватель Военной академии имени М.В. Фрунзе. 1941 год, март Командир 48-го стрелкового корпуса. 1941 год, июнь Генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский во главе 48-го стрелкового корпуса участвует в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Государственной границе СССР на реке Прут. 1941 год, август Командующий 6-й армией. 1941 год, декабрь — 1942 год, июль Генерал-полковник Р.Я. Малиновский — командующий Южным фронтом. 1942 год, август-октябрь Р.Я. Малиновский — командующий 66-й армией 1942 год, октябрь-ноябрь Р.Я. Малиновский — заместитель командующего Воронежским фронтом. 1942 год, ноябрь Р.Я. Малиновский — командующий 2-й гвардейской армией. 1943 год, февраль Р.Я. Малиновский назначается командующим Южным фронтом, а с марта того же года — Юго-Западным фронтом, который 20 октября 1943 года переименовывается в 3-й Украинский фронт. 1943 год, октябрь Р.Я. Малиновский проводит Запорожскую операцию, в которой войска его фронта в ходе ночного штурма овладели важным узлом обороны противника — городом Запорожье. 1944 год, март-апрель Войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Р.Я. Малиновского осуществили Одесскую наступательную операцию и освободили город Одессу. 1944 год, май Р.Я. Малиновский назначается командующим 2-м Украинским фронтом. 1944 год, август Войска 2-го Украинского фронта под командованием Р.Я. Малиновского совместно с 3-м Украинским фронтом (командующий Ф.И. Толбухин) подготовили и провели Ясско-Кишинёвскую операцию — одну из самых выдающихся операций Великой Отечественной войны. 1944 год Р.Я. Малиновскому присвоено звание Маршала Советского Союза. 1944 год, октябрь 2-й Украинский фронт под командованием Р.Я. Малиновского успешно проводит Дебреценскую операцию. 1944 год, октябрь — 1945 год, февраль 2-й Украинский фронт под командованием Р.Я. Малиновского во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта освобождает столицу Венгрии — город Будапешт. 1945 год, март-апрель Войска 2-го Украинского фронта под командованием Р.Я. Малиновского во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта успешно проводят Венскую операцию и освобождают столицу Австрии — город Вену. 1945 год, июль Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский — командующий войсками Забайкальского фронта, наносившего главный удар в Маньчжурской стратегической операции по разгрому японской Квантунской армии. 1945 год, сентябрь Р.Я. Малиновскому присвоено звание Героя Советского Союза. 1945—1947 годы Р.Я. Малиновский — командующий войсками Забайкальско-Амурского военного округа. 1947—1953 годы Р.Я. Малиновский — Главнокомандующий войсками Дальнего Востока. 1953—1956 годы Р.Я. Малиновский — командующий войсками Дальневосточного военного округа. 1956 год, март — 1957 год, октябрь Р.Я. Малиновский — Первый заместитель министра обороны СССР и Главнокомандующий сухопутными войсками. 1957 год, октябрь Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, дважды Герой Советского Союза, назначается министром обороны СССР. 1967 год, 31 марта Кончина Родиона Яковлевича Малиновского. Похоронен в Москве, на Красной площади, у Кремлёвской стены.

Последние комментарии
1 час 42 минут назад
7 часов 27 минут назад
7 часов 33 минут назад
7 часов 37 минут назад
7 часов 37 минут назад
7 часов 43 минут назад