
Юр. Корольков
НЕ ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ…

*
Изд. 2-ое, испр. и доп.
М., Политиздат, 1972.
ОТ АВТОРА
Прошло больше четверти века с тех пор, когда на Волховском фронте в разгар Великой Отечественной войны без вести пропал сотрудник армейской газеты «Отвага» татарский поэт Муса Джалиль. То было суровое время беспощадной борьбы с германским фашизмом, когда герои нередко пропадали без вести и подвиги их оставались неизвестными. Судьбу безвестных героев разделил и поэт-фронтовик Муса Джалиль.
Позднее его жена Амина-ханум писала:
«В июле 1941 года мой муж Муса Джалиль вступил в ряды Советской Армии. Поначалу он был рядовым, затем окончил курсы политработников в Мензелинске и был направлен на Волховский фронт…
С июля 1942 года от Мусы Джалиля перестали приходить письма. Долго ждала я, и вот, наконец, пришло самое худшее известие — Джалиль без вести пропал. Многие годы я не знала о его судьбе».
Долгие годы Джалиль оставался солдатом, пропавшим без вести. Может быть, он так и остался бы безымянным героем, неизвестным остался бы его подвиг, если б не друзья поэта, не его товарищи по перу и оружию. Терпеливо, по крохам восстанавливали они затерянные в войне страницы фронтовой героической биографии поэта. Постепенно этот поиск сделался интернациональным, в него включались все новые и новые люди. Среди них был и автор этой книги.
Но все началось со стихов…
Нашлись первые стихи Джалиля, написанные им в фашистских тюрьмах и лагерях. Их прислал бельгийский партизан Андре Тиммерманс, участник движения Сопротивления. Он долгое время находился в одной камере с Джалилем. Тиммерманс переслал в Советское посольство в Брюсселе пакет, в котором были только стихи и ни строчки о последних днях жизни поэта. Да и сам Андре Тиммерманс, выполнив обещание товарищу по заключению, бесследно исчез. Присланные им стихи, написанные на страничках самодельного блокнота, дышали страстной силой:
И это страна великого Маркса?!
Это бурного Шиллера Дом?!
Это сюда меня под конвоем
Пригнал фашист и назвал рабом?!
И стенам не вздрогнуть от «Рот фронта»?
И стягу спартаковцев не зардеть?
Ты ударил меня, германский парень,
И еще раз ударил… За что? Ответь!
Тому, кто любил вольнодумца Гейне
И смелой мысли его полет,
В последнем жилище Карла и Розы
Пытка зубы не разожмет.
Тому, кто был очарован Гёте,
Ответь: таким ли тебя я знал?
Почему прибой симфоний Бетховена
Не сотрясает мрамора зал?
Здесь черная пыль заслоняет солнце,
И я узнал подземную дверь,
Замки подвала, шаги охраны…
Здесь Тельман томился. Здесь я теперь.
Так это же фашистская Германия! Вот где оказался Муса Джалиль! Он писал из каменного мешка тюрьмы Моабит, и его стихи дошли до нас. Но Джалиль верит в немецкий народ, он взывает к внукам Клары Цеткин, к друзьям Тельмана, к соратникам Карла Либкнехта и Розы Люксембург:
Солнцем Германию осветите!
Солнцу откройте в Германию путь!
Тельман пусть говорит с трибуны!
Маркса и Гейне отчизне вернуть!
О борьбе поэта, пропавшего без вести, о его героическом пути сначала угадывали только по его великолепным, мужественным стихам, которые позже вошли в сборник «Моабитская тетрадь». В этом посмертном сборнике есть стихотворение «Дороги», написанное, как и весь цикл, в неволе, в тюрьме, в кандалах, под топором, занесенным над головой. Стихотворение покоряет оптимизмом несгибаемого борца, преисполнено тихой грусти и страстной веры в большие человеческие чувства, в торжество правды. Вот два четверостишья:
Дороги, дороги! Вы все беспощадны,
И нет вам, дороги, конца.
Чьи ноги, скажите мне, вас проложили
И чьи проложили сердца?..
Так пусть нас заносит далеко-далеко
Возникшая смолоду страсть,—
По этим дорогам, влекомые сердцем,
Должны мы в Отчизну попасть!
Но судьба поэта сложилась так, что ему самому не суждено было вернуться на Родину. А стихи Джалиля, уже после его смерти, нашли дорогу к сердцам людей, вернулись на Родину. Они рассказывали нам о мужестве поэта, его стойкости и неукротимой воле к борьбе. В них Муса сам подсказывал нам путь, по которому следовало вести поиск. Он писал:
Как волшебный клубок из сказки,
Песни — на всем моем пути…
Идите по следу до самой последней,
Коль захотите меня найти!
Весной пятидесятого года я приехал в Москву из Берлина, где находился на корреспондентской работе. Случайно на улице встретил своего приятеля поэта Илью Френкеля. Он был чем-то озабочен и расстроен. Показал мне стихи, переведенные с татарского. Они принадлежали Мусе Джалилю. Илья Френкель рассказал о его стихах, присланных из Бельгии, и прочитал несколько строф в своем переводе. Особенно поразили меня строки из стихотворения «Не верь!», обращенные к жене поэта:
Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: «Изменник он! Родину предал!» —
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят меня.
Я взял автомат и пошел воевать,
В бой за тебя и за Родину-мать.
Тебе изменить? И Отчизне моей?
Да что же останется в жизни моей?
Илья Френкель сказал:
— Ты представляешь, кто-то распустил грязный слушок, будто Муса недостойно вел себя в плену… Совершенно бездоказательно. Говорят, что его кто-то видел в немецкой форме. Но этого не может быть! Человек, написавший такие стихи, не может быть предателем.
Мне передалось волнение Ильи Френкеля. В тот же день мы побывали у Амины-ханум, жены поэта, которая жила с дочкой Чулпан в Столешниковом переулке в крохотной, тесной комнатке коммунальной квартиры. Мы написали письмо друзьям поэта в Казань, написали Александру Фадееву и Алексею Суркову, возглавлявшим тогда Союз писателей. С этого и начался поиск. Но пока у нас были только стихи Джалиля, и мы пошли по следам его песен. Стали искать в подтексте стихов подробности боевой биографии поэта. Мы шли по этому следу, сбивались с пути и вновь продолжали поиск.
Прости меня, твоего рядового,
Самую малую часть твою.
Прости за то, что я не умер
Смертью солдата в жарком бою.
Кто посмеет сказать, что я тебя предал?
Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек?
Волхов — свидетель: я не струсил,
Пылинку жизни моей не берег…
Не я ли стихом присягал и клялся,
Идя на кровавую войну:
«Смерть улыбку мою увидит,
Когда последним дыханьем вздохну».
Что делать?
Отказался от слова,
От последнего слова друг-пистолет.
Враг мне сковал полумертвые руки,
Пыль замела мой кровавый след…
Так писал Джалиль в одном из своих стихотворений и под ним поставил дату: июль 1942 года. Значит, Муса был ранен и его, обессиленного, захватил враг. Ведь именно в июле того года на Волховском фронте шли очень тяжелые, кровопролитные бои.
А потом мы прочитали такие строки:
Колючей проволоки частоколом
Окружены бараки и пески.
Вот здесь и копошимся мы в неволе,
Как будто мы навозные жуки.
Нет никаких сомнений, что это фашистский лагерь, в котором томился Джалиль, откуда он с тоской и надеждой глядел на далекий лес, где:
…Может быть, товарищ «Т»
Большое дело замышляет.
И чудится — я слышу в темноте,
Как он усердно саблю направляет.
Лес, лес, ты все зовешь меня, звеня,
Качаясь в сумраке сосновом,
И учишь песням ярости меня
И песням мщения суровым.
Так строка за строкой рассказывали нам стихи о жизни Джалиля, о его мыслях, мечтах, надеждах. Потом появились живые свидетели, знавшие поэта в плену, в подполье, в тюрьме. Нашлись документы, письма, рассказывающие о новых фактах жизни и борьбы Джалиля.
Шли годы, и в результате совместных усилий нам удалось во многом восстановить подвиг поэта-патриота, проследить путь его жизни, казалось бы, затерявшейся в войне. Но предстояло сделать еще очень много. В первой книге о Мусе Джалиле, вышедшей в 1959 году, я просил откликнуться всех, знающих хоть что-нибудь о судьбе поэта.
На призыв отозвалось немало людей.
С тех пор многое изменилось. За ратные подвиги в борьбе с фашизмом Джалилю присвоено звание Героя Советского Союза, за посмертные стихи свои он стал лауреатом Ленинской премии. За это время удалось снять многоточия, которыми приходилось заменять неизвестные страницы биографии Джалиля. Теперь мы можем с полной достоверностью рассказать о подвиге солдата-поэта Мусы Джалиля, о стихах и песнях, которые он слагал за колючей проволокой фашистских лагерей, в тюрьме, в камере смертников, оставаясь до конца Коммунистом, Поэтом, Солдатом, Гражданином социалистического Отечества. И навсегда в памяти народа сохранятся строки его стихов:
Нет, врешь, палач, не стану на колени!
Хоть брось в застенок, хоть продай в рабы!
Умру я стоя, не прося прощенья,
Хоть голову мне топором руби!
ДЕТСТВО БЕЗ РАДОСТИ
Далеко-далеко на Казанском тракте в оренбургской степи, за сто с лишним верст от железной дороги стояла глухая татарская деревенька Мустафино. В этой деревне в семье бедняка Мустафы Залилова и родился Муса Джалиль.
Семья Залиловых жила впроголодь. Сколько лет отец надрывался в тяжелом труде, да так и не смог вырваться из беспросветной нужды. Пришлось продавать домишко в Мустафино и подаваться в город. Мустафа храбрился, говорил соседям, что уезжает в Оренбург по своей доброй воле, что там живет родственник, который пристроит его на хорошую должность. Но соседи не завидовали ему: все знали, как горек хлеб и там — на чужбине.
Три года прожили Залиловы в Оренбурге. Отец все старался вырваться из беспросветной нужды, бедности, которая, будто трясина, засасывала семью. Выбраться из нищенской жизни не удавалось, и у отца опускались руки. Все чаще он приходил домой пьяным, едва держась на ногах. Но как только мутный рассвет проникал в окно подвала, он поднимался и снова шел искать работу.
Но чем бы отец ни занимался, денег у него все равно не было. А цены все повышались, продукты дорожали, — начавшаяся война все больше давила своей тяжестью на простых людей.
И несмотря на то что в семье Залиловых почти каждый хоть что-то приносил домой, жить становилось все труднее. Осенью сестренка Зейнаб пошла в школу, но ей не купили ни пенала, о котором она так мечтала, ни грифельной доски. Отец сказал: «Управишься и тем, что есть у Мусы. Коран
[1] и грифельную доску будете брать в школу по очереди». Так и учились: один день коран брал Муса, другой — Зейнаб. Но когда коран доставался Мусе, он не мог писать: грифельную доску уносила Зейнаб.
А дома у Мусы появились новые заботы и обязанности — родилась сестренка Хадича, которая перешла на его попечение.
Залиловы жили недалеко от Форштадта — казачьей пригородной слободы на берегу Урала. Как и прежде, мать еще затемно уходила в очередь за хлебом, а возвратившись, отправляла Мусу и Зейнаб в школу. Но часто, не дождавшись ее, ребята уходили в школу голодные.
Мусе пошел двенадцатый год, когда произошла Февральская революция. Как-то на исходе зимы Муса и его брат Ибрагим увидели на улице много людей. Татарские богачи — братья Хусаиновы, золотопромышленник Валиев, меховщик Аюпов ходили во главе демонстрантов к городской управе, ходили вместе с русскими купцами. Разница была только в том, что русские богатеи прицепили себе на поддевки красные банты, а купцы-татары — зеленые.
Дома в тот день отец сказал, что в Петербурге свергли царя, произошла революция, и теперь, может быть, жить станет легче. Но Февральская революция кончилась, а порядки остались старыми.
Октябрьская революция пришла в Оренбург значительно позже, чем в центр России. Казачий атаман Дутов захватил город сразу же, как только узнал, что рабочие и крестьяне свергли в Петрограде власть Временного правительства.
Ранним утром Муса с сестренкой Зейнаб по дороге в школу увидели за мостом на земляной дамбе отряд казаков. А несколько дальше, за спиртоводочным заводом, около афишной тумбы толпилась кучка людей, читая приказ-объявление, напечатанное броскими черными буквами. Муса не утерпел и тоже подошел к тумбе.
Он прочитал приказ до конца, но многого не понял. Под приказом стояла подпись: «Войсковой атаман полковник Дутов». Он объявлял о переходе всей государственной власти в его руки. Город Оренбург объявлялся на военном положении.
Только в январе восемнадцатого года отряды Красной гвардии выбили белоказаков из города и освободили Оренбург. А через день в Оренбурге приняли радиограмму, которую напечатали и расклеили по всему городу. В радиограмме говорилось: «Всем, всем, всем! Оренбург занят советскими войсками…» Под радиограммой стояла подпись: «Ленин».
Но атаман Дутов не сложил оружия. Он ушел в степи и, заявив, что объявляет войну Советской власти, стал накапливать силы. В начале апреля дутовцы организовали бандитский налет на Оренбург. Среди ночи белоказаки ворвались в город, захватили казарму, где размещались красногвардейцы, порубили их, сонных, саблями и начали кровавую расправу с представителями Советской власти. Под пулями, под белоказачьими саблями погибло немало людей.
По тревоге удалось поднять железнодорожников. Еще помогли мадьяры, австрийцы, немцы — бывшие пленные, объединенные в интернациональный полк. Вместе с железнодорожниками они выбили белоказаков из Оренбурга.
Через день убитых хоронили в братской могиле, которую вырыли недалеко от караван-сарая в городском сквере. Траурная процессия растянулась по всему городу. Гробы несли впереди. Муса насчитал сто двадцать, а их все несли и несли…
Над раскрытой могилой говорили речи. Муса стоял на высокой куче сырой, маслянистой глины и смотрел в глубокую четырехугольную яму, тесно уставленную гробами. На траурном митинге говорил председатель Совета Коростылев. Слова его навсегда запали в душу мальчика.
Председатель Совета призывал не плакать над могилой павших, но многие плакали. Плакал и маленький татарский мальчик. Мусе казалось, что Коростылев говорит как раз то, что думалось ему самому.
Перед глазами Мусы прошли незабываемые события гражданской войны в Оренбурге. Он жил, рос будто в отсветах недавней революции, вдыхал ее атмосферу, переживал успехи и поражения молодой, еще не окрепшей республики. И впечатления ранних лет оставили в его душе глубокий след, закалили его характер и волю.
Белоказачий налет ускорил решение отца покинуть неприветливый Оренбург и возвратиться в деревню. Положение оставалось тревожным, могли быть новые налеты, и Мустафа опасался за свою большую семью.
В Оренбурге остался только Ибрагим, переселившись в какой-то чулан при типографии, а отец с матерью и тремя детьми перед самой весенней распутицей тронулись в путь. Мустафа раздобыл где-то худого конягу, но оказалось, что конь едва стоит на ногах и не в силах тянуть повозку. И если бы не знакомый казак, юзеевский бедняк, с которым отец сговорился ехать вместе, пришлось бы Залиловым надолго застрять в степи.
Казак рассказал Мустафе, что ему нужно пробраться в родное село, но он боится, как бы дутовцы не отняли у него коня, а его самого не мобилизовали в белое войско. Село Юзеево стояло на пути в Мустафино, и отец предложил казаку ехать вместе. Казачье седло они спрятали под домашним скарбом в глубине саней, а верховую лошадь подпрягли в повозку на помощь малосильному, худому коню.
В первый же день пути купленный за бесценок конь Мустафы начал останавливаться. Он припадал на задние ноги и едва брел по раскисшей дороге. На другой день стало еще хуже. Где-то на переправе сани провалились и едва не ушли под лед со всей поклажей и седоками. Лошадь казака спасла всех от беды. Она рванулась изо всей силы и вытянула сани на берег. А коняга Залиловых только мешал. Казак советовал бросить его в степи: все равно от него толку не будет, но отцу было жаль расставаться с лошадью. Надеялся, что конь поправится и на нем можно будет пахать. Как же жить без коня в деревне!
Целый месяц ехали Залиловы по бездорожью вместе со знакомым казаком в свою родную деревню, ехали степью, в которой сновали белоказачьи отряды. И каждый раз холодели от страха при встрече с дозорами, опасаясь, как бы не забрали у них ездового коня. Но все обошлось. Удалось сохранить и залиловского конягу. После той переправы, которая едва не закончилась трагично для всех, коня выпрягли из повозки, и Муса взгромоздился на его костлявую спину. Так и ехали, останавливаясь через каждые полверсты, поджидая Мусу, который плелся далеко позади.
В Мустафино Залиловых никто не ждал, не встречал. Мустафа уговорил свою бывшую соседку пустить его с семьей на постой хотя бы на время. Сердобольная одинокая женщина сжалилась над бедняками, отвела им угол в избе, отгородив его ситцевой занавеской. А тут вскоре пришло время Мусе возвращаться обратно в город.
Деревня Мустафино затерялась в бескрайних оренбургских степях. По Казанскому тракту теперь мало кто ездил, и деревня оказалась в такой глуши, что новости из города приходили сюда с большим опозданием. Так и получилось, что весть о новом вторжении Дутова в Оренбург пришла в Мустафино спустя много времени после того, как отец отправил Мусу в Оренбург с попутной подводой знакомого татарина из Шарлыка. С отъездом Мусы можно было бы повременить: учиться не скоро, но кто знал, подвернется ли еще такой случай. Шарлыкский знакомый обещал доставить мальчика до самого места. С тех пор связь с Оренбургом оборвалась, и Залиловы долго не знали о судьбе двух своих сыновей.
А в городе, захваченном войсками Дутова, политические новости перемежались с другими, которые не меньше будоражили оренбургских обывателей. Осенью, по первому снегу, купец Аюпов выдавал замуж свою племянницу. Сватался за нее Шафи Ал-масов — не купец, не ремесленник, непонятно какими путями сколотивший себе капитал. В Оренбурге жених появлялся наездами, останавливался обычно в номерах, как раз напротив медресе, где учился Муса. Мальчик видел его несколько раз и узнал в Алмасове ярмарочного зазывалу, который когда-то на его глазах предлагал всем зевакам попытать счастье — залезть по гладкому, скользкому шесту за новым самоваром или достать ртом серебряную монету со дна лохани, наполненной простоквашей.
Это было несколько лет назад, еще до революции. Теперь бывшего зазывалу просто не узнать! Невысокого роста, с хитровато прищуренными глазками, тонкой шеей и широкими, остро выпирающими вперед скулами, он смешно выглядел в богатой шубе и круглой шапке, опушенной коричневым мехом. Только движения у него оставались торопливыми, как и прежде. Казалось, что он все время куда-то спешит.
В городе среди татар только и разговоров было, что об этой свадьбе, об удачливом женихе, который отхватил себе такую богатую невесту.
На свадьбе гуляли то в доме купца Аюпова, то у Рамеева, оренбургского богача, издателя татарской газеты «Вакыт». Один только список гостей, напечатанный в газете, занимал почти целый столбец. Муса прочитал его до конца. Некоторые фамилии были ему незнакомы. Вот какой-то Садык Максудов, президент независимого татарского государства «Идель Урал», хотя Муса ничего не знал о таком государстве; вот Гаяс Исхаков — член «Комитета спасения родины» и руководитель татарских эсеров; уфимский муфтий, переселившийся в Оренбург, и многие другие.
Тогда Муса не обратил внимания на этих людей, а через много, много лет судьба вплотную сведет его с ними — с Шафи Алмасовым и Гансом Исхаковым…
Беззаботная жизнь дутовцев закончилась в январе девятнадцатого года. Войска Красной Армии вновь освободили Оренбург от белоказаков, в городе утвердилась Советская власть.
Мусе шел тринадцатый год, когда стране его — Советской России — не было еще и двух. И эти неполные два года страна прожила в такой борьбе, в таком напряжении и муках, которых хватило бы, кажется, на целое поколение.
Красным частям удалось выбить белоказаков из города, но справиться с разбушевавшейся контрреволюцией в оренбургских степях им было, еще не под силу. Казачьи разъезды подступали к городу, совершали налеты, такие же кровавые, как в прошлом году, а с весны фронт остановился под самым городом.
Фронт стоял под Оренбургом все лето. Он то продвигался к городу, то застывал на отрогах Алебастровых гор. Но и это было совсем близко от Форштадта, от Сенной площади. Муса завидовал брату, который вступил в рабочий отряд. На фронт Ибрагима не взяли, сказали — молод. Что же было говорить о Мусе, который в свои тринадцать лет выглядел совсем ребенком.
Но к этому времени он стал уже комсомольцем.
Чуть не первым записался в комсомольскую ячейку, которую создали при медресе вскоре после освобождения города от белоказаков.
А кругом все еще бушевала гражданская война. Мустафино оказалось теперь по другую сторону фронта, доступа туда не было, и Муса остался в городе. Бои шли на подступах к Оренбургу. Красноармейские части изнемогали в тяжелой борьбе, таяли силы участников обороны, и на помощь им пришли боевые дружины, сформированные из рабочих-добровольцев, которые прямо с заводов уходили на передовые позиции. Сколько раз Муса пытался вместе с добровольцами пробраться на окраину Оренбурга, туда, где шла ожесточенная битва, но каждый раз его отправляли обратно.
Однажды он пришел в редакцию красноармейской газеты, которая разместилась рядом с политотделом штаба Туркестанского фронта недалеко от Марсова поля. Газета называлась «Кзыл юлдуз» — «Красная звезда». Муса долго не решался зайти в помещение, и, наконец, преодолев охватившую его робость, решительно шагнул к двери. Но смелость тут же покинула его, как только он остановился перед человеком в военной форме с красной пятиконечной звездой на рукаве потрепанной гимнастерки. Это был редактор газеты «Кзыл юлдуз». Он, сам того не замечая, выскребал ложкой из котелка остывшую кашу, сосредоточив все внимание на оттиске газетной полосы, подготовленной для печати. Оторвавшись от чтения, редактор наконец заметил мальчугана. Он удивленно взглянул на него и спросил, что ему надо. Муса молча протянул несколько страничек, исписанных стихотворными строчками. Редактор взял их, пробежал быстро глазами и посмотрел на Мусу.
— Сам написал? — спросил он.
— Да, — едва слышно ответил Муса.
Редактор выбрал одно стихотворение, похвалил и обещал напечатать.
На другой день Муса снова был на Марсовом поле. Редактор выполнил свое обещание. С каким трепетом держал Муса маленькую военную газету, отпечатанную на грубой оберточной бумаге! Там, на второй странице, было напечатано его стихотворение «Счастье». В нем Муса говорил о своих чувствах, о своем стремлении защищать Родину и о том, что, если это нужно, он готов умереть в бою с ненавистным врагом. Это чувство Муса и называл счастьем. А в конце он призывал крестьян и рабочих вступать в Красную Армию, чтобы быстрее разгромить врагов революции.
Под стихотворением редактор поставил подпись: «Кичкине Муса», что означало «Маленький Муса».
Сколько волнения и радости принес Мусе этот шершавый печатный листок с его первым стихотворением! Муса никогда не был так счастлив, как в тот знойный летний день грозного, опаленного боями девятнадцатого года.
Потом в красноармейской газете «Кзыл юлдуз» редактор напечатал еще несколько стихотворений Мусы о белых генералах, которые мечтают вернуть старые порядки; о толстопузых буржуях и атамане Дутове; о вооруженных рабочих, стоящих на страже Советской республики. Конечно, стихи «Кичкине Мусы» были далеки от совершенства, но они нравились читателям своей искренностью и простотой. Редактор каждый раз просил Мусу принести что-нибудь еще.
К осени девятнадцатого года угроза дутовского вторжения в Оренбург миновала. Белоказачьи банды удалось отогнать далеко в степь. Войска атамана бежали в Китай и там бесславно закончили свое существование. В Оренбурге окончательно установилась Советская власть.
Осенью, после долгого перерыва, стали приходить вести из деревни Мустафино. К тому времени отец работал возчиком в потребительской кооперации в Шарлыке и приехал в Оренбург за товарами. Снега еще не было, но землю уже сковало — морозы стояли крепкие. Мустафа прожил у сыновей три дня и, закончив свои дела в кооперации, тронулся в обратный путь. В день отъезда отец почувствовал себя плохо, жаловался на головную боль, но задерживаться в городе не захотел, думал, что у него простуда, которая пройдет в дороге. Ибрагим и Муса пошли провожать отца за город. Они шли втроем за подводой, груженной всякой всячиной, полученной на кооперативном складе. Потом сыновья долго стояли на дороге, размахивая шапками до тех пор, пока отцова повозка не скрылась из глаз в далекой степи.
Путь до Мустафино был не близкий, в дороге Мустафа Залилов совсем занемог, и домой возчика привезли без памяти. Вызвали фельдшера из Шарлыка, который сказал, что Мустафа заболел тифом. Пролежав в бреду еще несколько дней, он умер. Но Муса и его брат Ибрагим еще долго не знали о смерти отца.
Когда печальная весть дошла до братьев, они тотчас же собрались в дорогу. В Мустафино оставалась мать с маленькими сестренками, которые нуждались в уходе. Семнадцатилетний Ибрагим остался теперь старшим в семье, и на него легли житейские заботы.
Все имущество братьев уместилось в их заплечных холщовых мешках. Через несколько дней, где пешком, где на попутных подводах, братья добрались до своей деревни. Мать встретила их слезами, она еще не отошла от свалившегося на нее горя.
В Мустафино Ибрагим нашел себе место учителя, а Муса занимался домашними делами.
Постепенно затихали отголоски гражданской войны. В Оренбуржье налаживалась жизнь, но время еще оставалось тревожным. Прошло два года, как умер отец. Семья Залиловых жила в Мустафино в убогой хибарке, которую начал строить еще отец, а достраивали и переселились уже без него. Стекол в избе не было — где их достать в ту пору! На рамы натянули бычьи пузыри, от этого в хибарке стоял полумрак и слышно было все, что происходит на улице.
Заботы по хозяйству легли на плечи Мусы. Ибрагиму некогда было заниматься домашними делами. Деревенские коммунисты избрали его секретарем партийной ячейки, и он целыми днями до позднего вечера был занят работой. А работа была разная. Приходилось налаживать нарушенное гражданской войной хозяйство, бороться с остатками белых банд, выезжать с отрядами ЧОН
[2] на ликвидацию кулацких восстаний. Муса тоже рвался участвовать в этой борьбе, но в свои четырнадцать лет он выглядел совсем маленьким — «кичкине», как прозвали его в Мустафине. Брат Ибрагим не хотел брать Мусу на боевые задания. Но Муса продолжал стоять на своем. Вместе с закадычными друзьями он отправлялся за отрядом, в расчете, что им удастся повоевать с контрой. Ибрагим возвращал «добровольцев» домой, а в следующий раз они снова отправлялись тайком вслед за отрядом ЧОН…
Уже стала налаживаться новая, свободная жизнь, как вдруг на Поволжье и соседствующие с ним области свалилась тяжелая беда. Засуха, недород двадцать первого года вызвали страшный голод, захвативший миллионы людей. Голод пришел и в Мустафино. Когда последние припасы в доме подходили к концу, Муса сказал Ибрагиму:
— Брат, всех нас тебе не прокормить. Я уйду в город…
Как ни уговаривал Ибрагим, Муса был непреклонен — он не хочет оставаться обузой в семье.
— Нет, Ибрагим, — решительно отвечал он, — тебе тяжело*.. Я должен идти…
И Муса ушел вместе с Зарифом, товарищем детских лет, пешком в Оренбург. На двоих они взяли краюшку зеленоватого хлеба, испеченного пополам с лебедой, накопали дикого чеснока и тронулись в путь, рассчитывая, что в дороге, в селах, им что-то подадут на пропитание. Но окна, в которые стучались ребята, оставались закрытыми. Это не была черствость — просто у хозяев не было хлеба, они голодали сами.
Почти две недели шагали подростки по голодной, сожженной земле, пока не пришли в Оренбург. Но оказалось, что в городе не лучше, чем в голодном Мустафине. Отовсюду стекались сюда толпы голодающих людей. В городе свирепствовали эпидемии холеры и сыпного тифа. Люди умирали на улицах, а живые, с ввалившимися глазами прохожие, опухшие от голода, равнодушно перешагивали через трупы…
Перед Мусой и Зарифом открылась трагедия города, захваченного голодом. Кто мог им помочь здесь? Сначала они питались арбузными корками, но сытости в них было мало — вода да зеленая горечь. Теряя последние надежды, они безнадежно слонялись по улицам в поисках пищи. Однажды Зариф попытался что-то украсть у торговки на Сенной площади, но его поймали и едва не убили.
Муса пошел на старую квартиру, где они жили с братом до отъезда в деревню. Там никого не застал: хозяйка несколько дней назад умерла от холеры, и подвал закрыли на карантин.
Так, вероятно, продолжалось два, может быть, три месяца. Муса и Зариф влачили голодную, беспризорную жизнь. Иногда их кормили в общественной столовой, открытой специально для голодающих детей. Но голодных было так много, а жидкий суп (в нем плавали одинокие листки капусты) варили в единственной полевой кухне. Но и он доставался им очень редко.
Днем два беспризорных подростка бродили по городу, а ночью забирались в шалаш на берегу Урала или в дощатые полки на Сенном базаре. А ночи становились все холоднее — настала осень. Ребята переселились в ночлежку, которую в Оренбурге открыли для беспризорных детей. Но и там было холодно — спали вповалку на голом полу, подложив под голову кулаки.
В довершение ко всему Зариф заболел тифом. Всю ночь он метался в бреду, и Муса больше всего боялся, как бы это не приметил дежурный в ночлежке: сразу же заберут и отправят в больницу. Муса то и дело подносил к воспаленному рту Зарифа кружку с водой, но больному становилось все хуже. Утром Зарифа увезли из ночлежки, и Муса нигде не мог найти своего друга, хотя обошел, кажется, все больницы, все холерные бараки и околотки. Своего товарища Муса больше никогда не увидел. Он остался один.
Вслед за пронизывающими холодными дождями пришли морозы. С утра крыши покрывались инеем, белела трава. Жить стало еще труднее: к голоду добавился холод. Муса нигде не мог согреться в ветхой своей одежонке, сквозь которую просвечивало голое тело.
Доведенный до отчаяния, Муса решился на самое крайнее — если не повезло Зарифу, может, удастся ему. Дрожащий от холода, он стоял на базаре и голодными глазами глядел на торговку, продававшую куски пирога. Муса плохо соображал и ничего не видел от голода, кроме пирога. Он не заметил, что за ним наблюдает какой-то военный.
— Муса! — окликнул его человек в солдатской шинели. — Ты что тут делаешь?
Муса вздрогнул от неожиданности. Это был тот самый редактор, к которому он приходил когда-то в редакцию «Кзыл юлдуз» со своими стихами. Муса был так смущен, что даже не обрадовался встрече.
— Не знаю, Исамбет-абый, — вяло ответил он.
Но Исамбет-абый и без расспросов уже понял, что произошло с Мусой.
— Вот что, — сказал Исамбет, — идем-ка со мной, может, что и придумаем. — Потом, усмехнувшись, добавил: —Ни воровать, ни просить ты не умеешь… Я все видел.
Он привел Мусу в Константиновские казармы, накормил его тем, что удалось найти из съестного, — военные тоже сидели на голодном пайке, — потом отправил Мусу в баню, а тем временем подобрал ему кое-какую одежонку. Бывает же такое счастье — бывший редактор всего несколько дней вернулся из Москвы, где занимался на политических курсах.
В ту осень при Татарском институте народного образования открылось краткосрочное отделение совпартшколы, куда Исамбет и устроил учиться Мусу Залилова. Занятия здесь чередовались с дежурствами, субботниками, а порой весь курс поднимали по тревоге среди ночи, и курсанты, забрав винтовки, отправлялись куда-то в станицы на ликвидацию кулацких восстаний, бандитских шаек. Все курсанты партшколы состояли в отряде ЧОН и находились на казарменном положении.
Курсанты совпартшколы тоже жили впроголодь, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что пережил Муса в прошедшие месяцы голодных скитаний.
Среди курсантов Муса был самым маленьким по росту и самым младшим по возрасту. Но он ревниво следил, чтобы его не обходили в дежурствах, заданиях, чтобы ему не делали никаких скидок.
В одно из ночных дежурств, когда Муса Залилов вместе с другим курсантом, Григорием Стрепетовым, несли патрульную службу по городу, они заметили двух подозрительных людей, тащивших к реке какую-то тяжелую ношу. Их задержали, доставили в комендатуру. В кованом ларце обнаружили золотые и серебряные вещи, золотые монеты царской чеканки. Задержанные — бывший оренбургский купец и его зять, бывший есаул белоказачьих войск, — признались, что хотели спрятать клад на берегу Урала, чтобы потом бежать в Китай.
Через несколько дней после ночного события курсантам партшколы Мусе Залилову и Григорию Стрепетову за проявленную бдительность объявили благодарность, но Муса ничего об этом не знал: он лежал в тяжелом бреду. Сыпной тиф свалил его и надолго вывел из строя. Организм, подорванный тяжелыми лишениями, плохо сопротивлялся болезни, и Муса провел несколько месяцев в больнице. Он часто терял сознание, и врачи уже не надеялись, что его удастся спасти.
В совпартшколу Муса вернулся только весной двадцать второго года. Он сильно отстал от товарищей и не мог продолжать занятий. Тогда и посоветовали ему поступить на рабфак: стране нужны грамотные, преданные народу люди.
Муса и сам уже слышал о рабочих факультетах, их открывали в больших городах и принимали туда, как говорили, рабочих от станка и крестьян от сохи. В газете он прочитал:
«На рабфаки принимаются грамотные рабочие и крестьяне с пролетарской идеологией (мировоззрением). Граждане не физического труда туда не принимаются.
Старый храм буржуазной науки превращается в мастерскую труда, где выковывается пролетарская наука».
Еще совсем недавно, участвуя в ликвидации неграмотности, Муса Залилов сам ходил собирать бумагу, тетрадки и карандаши для занятий. И вот сейчас, когда еще продолжалась борьба с неграмотностью, партия бросила новый лозунг — пролетаризация высшей школы! Надо подчинить науку трудящимся. Ленин в Москве звал молодежь учиться, учиться и учиться. И комсомолец Муса Залилов с путевкой губкома комсомола поехал в Казань поступать на рабфак.
Но в Казань он приехал, когда занятия на рабфаке давным-давно начались, прием был уже закончен. Что было делать? Муса не захотел возвращаться в Оренбург и нанялся работать переписчиком в редакцию татарской газеты «Кзыл Татарстан». В те годы еще не существовало пишущих машинок с национальными шрифтами и рукописи для набора переписывали от руки.
Жизнь в Казани не прошла для Мусы даром. В редакцию, где он просиживал ежедневно по многу часов, приходили татарские поэты, писатели, они обратили внимание на способного переписчика и часто просили его почитать стихи. Но не так-то легко было уговорить Мусу прочитать новое свое стихотворение. Он писал много, но, как и прежде, показывал стихи только самым близким людям. Тем не менее именно в этот первый год жизни в Казани стихи начинающего поэта появились в толстом литературном журнале «Безнен юл» — «Наш путь». Стихи вышли за подписью «Муса Джалиль». Этот псевдоним он избрал для себя навсегда, изменив только немного свою фамилию: Залилов — Залил — Джалиль.
На рабфак Джалиль поступил только на следующий год. Как один день, промчались эти три года, проведенные в Казанском рабфаке — на лекциях в аудиториях, в читальнях за книгами, в разговорах и страстных литературных спорах в кругу друзей.
В эти годы у Мусы Джалиля вышла первая книжка стихов, которую девятнадцатилетний поэт назвал «Барабэз» — «Идем». Именно здесь, в Казани, Джалиль начинает формироваться как национальный поэт. Его стихи все чаще появляются в журналах, звучат с эстрады на литературных вечерах, он становится членом объединения казанских писателей «Октябрь». Казалось бы, творческий успех сопутствует начинающему поэту. Что еще надо! Но спокойной жизни в Казани Муса предпочитал непоседливую жизнь инструктора уездного комитета комсомола. Закончив рабфак, Джалиль уехал в Орск на комсомольскую работу.
Позже, вспоминая прожитую жизнь в Орске, поэт напишет об этом несколько строк:
Ростепель.
Телеге нет проезда…
Но, меся лаптями снег и грязь,
В кожухе, под вешним солнцем теплым
Он идет, в деревню торопясь.
А пока Муса — инструктор уездного комитета комсомола. У него старенький стол на покосившихся ножках, на столе чернильница с оторванной крышкой, школьная ручка, несколько брошюрок да стопка непрочитанных газет. Но Муса не засиживается долго за своим столом. Он редко бывает на месте. В летний зной или в слякоть, в пургу и морозы он ездит на перекладных, а чаще пешком мерит версты между деревнями. Он шагает от села к селу, создает новые комсомольские ячейки, помогает налаживать работу, выступает с докладами на самые различные темы, присутствует на репетициях пьесок, написанных им же самим, разучивает с ребятами песни, проводит вечера самодеятельности.
Больше года Муса провел в Орске. Потом его отозвали в губком, и Муса стал работать в Оренбурге. Но в жизни поэта мало что изменилось с переездом в родной город: он по-прежнему проводил жизнь в разъездах.
Через несколько месяцев Залилова, инструктора губкома, вызвали в Москву в ЦК комсомола. Сначала на совещание, а потом избрали членом бюро татаро-башкирской секции, которая только что создавалась при Центральном Комитете.
Это было уже в двадцать седьмом году. Удивительно, как у Джалиля хватало на все время! Он успевал работать в ЦК, учился на литературном факультете Московского государственного университета, редактировал детский татарский журнал, руководил литературным кружком в клубе татарского землячества в Замоскворечье. Муса везде находил себе дело, все его волновало, и каждый раз с неиссякаемой энергией он принимался за новые и новые дела.
В памяти друзей тех лет Муса запечатлелся неугомонным, веселым парнем; всегда он куда-то спешил, всегда должен был делать что-то совершенно неотложное. Всюду появлялся в неизменной своей кожанке, а летом — в юнгштурмовке (московские комсомольцы переняли эту форму у немецкого союза «Красных фронтовиков»).
Кочевой образ жизни Муса вел довольно долго. Но наконец ему посчастливилось получить ордер на крохотную комнату в Столешниковом переулке. Теперь он мог забрать к себе из детского дома маленькую сестренку Хадичу, которая осталась на его попечении после смерти матери.
Комнату Мусы в Столешниковом переулке приятели называли «полюсом холода», но тем не менее все они охотно заглядывали туда, и веселый смех или споры не затихали на «полюсе» до позднего вечера. Казалось, Муса не мог дня прожить без старых, закадычных друзей. Появились и новые друзья. Муса умел находить их повсюду. Однажды в Летнем саду, где в тот вечер выступали поэты, Муса познакомился с Ахметом Симаевым. Задиристый, белобрысый паренек проник в сад без билета, через забор, чтобы послушать стихи поэта. Неумолимый контролер начал выпроваживать безбилетника, но Муса заступился за него и провел за кулисы. Джалиль в тот вечер читал свою поэму «Больной комсомолец». После вечера Ахмет пошел провожать Мусу. Он оказался братом литейщика Симаева, члена литературного кружка, которым руководил Джалиль. Работал на Метрострое и недавно поступил в строительный техникум. Ахмет признался, что пишет стихи, но никому еще их не показывал. Муса пригласил Ахмета на занятия литературного кружка. С тех пор они стали друзьями.
Вскоре Ахмет закончил техникум, поступил на строительство комбината «Правда», работал там в лаборатории по испытанию прочности бетона. Но литературное творчество все больше увлекало его, и Ахмет начал работать в газете.
Через четыре года Муса закончил литературный факультет Московского университета. Здесь он стал коммунистом. У Джалиля появлялись все новые обязанности, его кипучая натура требовала активной творческой и общественной жизни. В издательстве «Молодая гвардия» стал выходить детский журнал на татарском языке, который назывался «Октябрь баласы». Мусу Джалиля назначили его редактором. Кроме того, он работал в газете «Коммунист», тоже издававшейся на татарском языке, — заведовал литературным отделом. Татарские писатели и поэты, жившие в Москве, группировались вокруг редакции «Коммунист», создали татарскую секцию столичных писателей и секретарем своего объединения избрали Мусу Джалиля.
Из года в год к поэту приходила творческая зрелость. В этот период вышло в свет несколько новых поэтических книжек Мусы Джалиля. Был издан сборник стихов «Иптешкэ» («Товарищу»), печатались детские и антирелигиозные пьески, появилась его поэма о комсомоле. Вышли в свет стихи Джалиля и на русском языке. Написанные им пьесы ставили в театрах Казани, Уфы, Ташкента, в рабочих клубах Оренбурга и других городов. Песни Мусы Джалиля передавали по радио, исполняли в концертах; лучшие его стихи и рассказы печатали в хрестоматиях для татарских школ, в альманахах и сборниках. Комсомолец Джалиль становился признанным татарским поэтом и драматургом.
В одном из своих стихотворений Муса писал:
Комсомол меня сделал поэтом,
И я
Каждой песней отчитываюсь перед страной.
Эти песни, как лозунг,
Военный пароль,
Как путевка, которая вечно со мной!
Годы не изменили непоседливого характера Мусы Джалиля. В его голове рождались все новые творческие планы. Муса то ехал корреспондентом от своей газеты на Каспий,
Северный Кавказ, то отправлялся в деревню на уборочную кампанию. Он ни на минуту не оставался равнодушным к окружающей его жизни. Именно в эти годы Джалиль начал собирать материал, делал первые наброски для своего большого романа по истории комсомола, он с увлечением работал над давно уже задуманной оперой «Алтынчэч» — «Золотоволосая», которая была поставлена на сцене Казанского государственного театра несколько позже — в начале войны.
Великая Отечественная война застала Джалиля в Казани, где он был председателем Союза писателей Татарии.
ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
Расставание было тяжелым. Чулпан несколько дней нездоровилось, и Муса не хотел тревожить девочку— пусть спит. Но Амина возражала: «Нет, нет! Чулпан обязательно надо поднять. Пусть простится с отцом… иначе…»
Амина не досказала, что — иначе. Она просто хотела, чтобы Чулпан проснулась. Чулпан должна попрощаться с отцом. Это нужно Мусе, нужно самой Чулпан. Чулпан не простит, если… Опять — если! Почему так тревожно было на сердце? Предчувствие? Нет! Амина и секунды не думала о том, что это прощание с мужем может быть последним.
Чулпан проснулась сама. Она полуоткрыла глаза, увидела отца и, все еще охваченная сном, бессознательно улыбнулась. Муса склонился над ней и спросил:
— Чулпаночка, мне можно ехать?
— Можно! — Чулпан кивнула головой и снова закрыла глаза. Через мгновение девочка окончательно проснулась.
Муса бережно поднял ее из кровати, прижал к себе теплое, доверчивое тельце. Он одет был по-военному — в дубленом полушубке, в валенках, а возле двери на полу стоял собранный чемодан.
И вот Муса уехал на фронт. Третий раз покидал он во время войны родной дом, семью, друзей, которые оставались еще в тылу.
Ему навсегда запомнилось утро 22 июня 1941 года. Он собирался поехать с семьей за город к друзьям. На вокзале услышал — война!
Через час Муса был в военкомате. Он требовал, чтобы его призвали в армию, говорил, что его место только там, на фронте, но военком ответил: всему свое время, когда понадобитесь — вызовем…
Муса несколько раз подавал рапорт о досрочном призыве, и наконец его просьбу удовлетворили. Рядовой Муса Джалиль был призван в армию. Сначала служил артиллеристом, потом его направили на краткосрочные курсы политсостава. Несколько месяцев учился в Мензелинске, и в начале сорок второго года только что аттестованный старший политрук Залилов получил назначение в действующую армию.
Прощай, Мензелинск! Уезжаю. Пора!
Гостил я недолго. Умчусь не на сутки…
Так писал поэт, покидая далекий тыловой город. Вот тогда-то, по пути на фронт, Мусе удалось заглянуть ненадолго в Казань, попрощаться с женой и дочерью.
…Поезд медленно приближался к фронту. Он шел без расписания. Где-то впереди разбомбили дорогу, и состав долго стоял на глухом, заброшенном полустанке.
В купе было тесно. Пахло овчиной, просыхающими шинелями. Они по-особому пахнут, солдатские шинели, — это запах войны, трудных дальних походов. Прошло много дней, как Муса покинул Казань, но он все еще был полон воспоминаниями, все ощущал теплоту женских рук, домашнего уюта.
Муса потянулся за блокнотом, чтобы записать родившиеся строки стихов. В душе он посмеивался над собой — едет на фронт и сочиняет лирические стишки…
Когда он уезжал, в Казани была оттепель, шел дождь…И опять перед глазами возникла его Амина, его добрый друг. Как она умеет скрывать свою тревогу. Про слезы сказала — это дождь на ее ресницах…
Муса начал писать. Он перечеркивал и писал снова. Теперь для него ничего не существовало. Только он и стихи с непослушными рифмами. Наконец удалось выразить то, что хотелось:
Когда мы простились, шел дождь. И печально
Вослед мне смотрели глаза,
И что-то блестело на милых ресницах —
Не знаю, вода иль слеза?..
С рифмованных строк стихов Муса перешел на другое: ему просто захотелось написать Амине, рассказать о своем настроении, о своих чувствах.
«Я не пишу дневников, не ощущаю в этом потребности, — писал Муса. — Но иногда в жизни бывает так, что мыслям и чувствам становится тесно в сердце и в голове. Тогда хочется что-то писать: не то дневник, не то письмо…
Последний мой отъезд из Казани был самым тяжелым моментом в моей жизни за последние годы. Он оставил тяжелый осадок в сердце. Я долго переживал эти грустные минуты своего отъезда. Я не могу их забыть. Видно, в душе они оставили глубокий след, потому и решил тебе написать.
До этого я два раза расставался с тобой, уезжая на фронт. Но почему-то это последнее расставание было труднее, во сто крат тяжелее… Почему это так, я объяснить не могу…
Я не видел никаких причин для грусти и переживаний. Но вдруг я задумался: а что, если я не увижу больше ни тебя, ни Чулпан?.. Но эти мысли появились лишь на какое-то мгновение в моей голове. Я просто не знал, чем объяснить все, но расставаться мне было так тяжело. Я это особенно почувствовал, когда прощался с Чулпаночкой, с дочерью. Как не хотелось мне уходить от ее кроватки!..
Если даже я не вернусь и Чулпаночка вырастет, она сохранит туманное воспоминание об отце. Ее последний ответ при расставании сохранится на всю ее жизнь. Лишившись отца, она все же с гордостью будет думать, что сама отпустила отца на великую битву. Она сказала: «Можно». И этот ответ четырехлетней девочки означал многое, она отпустила меня, будто бы говоря: «Поезжай, папа!.. Защищай Родину, уничтожай фашистов. Ничего, что я останусь без папы… Ничего, поезжай: так надо!» Вот что прочитал я в ее глазах, когда она сказала: «Можно».
…Когда я думаю о Чулпаночке, мне становится так тяжело. Я не боюсь смерти. Это не пустая фраза, когда мы говорим, что презираем смерть. Это действительно так. Я не допускаю мысли, что в минуту опасности стану думать со страхом о смерти. Чувство патриотизма, сознание общественного долга господствует над чувством страха. Когда появляется мысль о смерти, то думаешь так: ведь за пределами нашей жизни есть еще другая жизнь, не та «жизнь на том свете», которую обещают попы и муллы. Но есть жизнь после смерти — в сознании, в памяти народа. Если я при жизни делал что-то важное и бессмертное, то этим я заслужил долгую жизнь — жизнь после смерти. Тогда обо мне будут говорить, писать, печатать портреты, чего доброго — воздвигнут памятник! Если всего этого человек заслужил, то чего же бояться смерти! Цель-то жизни в том и заключается — жить так, чтобы и после смерти не умирать.
Но если мы не боимся смерти, это не значит, что мы не хотим жить… Совсем не так! Мы очень любим жизнь, хотим жить и поэтому презираем смерть! А если эта смерть так нужна в войне за Родину, то зачем бояться, что я рано погибну… Эта гибель уже есть бессмертие. Если вот так рассуждать, смерть совсем не страшна. Но мы не только так рассуждаем, но так и чувствуем, ощущаем. Это вошло в наш характер, в нашу кровь.
Но бывают мгновения, когда я думаю о Чулпа-ночке и представляю ее без отца… Все муки, страдания может выдержать моя душа, но она никогда не смирится с тем, что вечером 8 января 1942 года, провожая отца, Чулпан видела его, быть может, в последний раз… Вся душа моя протестует против этого — так сильна моя любовь к Чулпан. Эта любовь сильнее всех смертей.
Такая уж у меня натура: в суровый час Отечественной войны настрочил тебе целую брошюру сентиментальных словоизлияний о личных чувствах замечтавшейся своей души. Видно, времени было много! Но я не осуждаю себя за это. Только сердце, полное чувств, способно творить большие дела. Вот буду скоро на фронте, и ты увидишь, что эта замечтавшаяся сентиментальная душа покажет, на что она способна… Ну, до свидания, милая! До победы!..»
Муса дописал письмо, достал из планшета конверт, надписал свой казанский адрес и положил письмо снова в планшет — когда приедет в часть, отнесет его на полевую почту.
А поезд шел, пробираясь среди заснеженных перелесков. Стало смеркаться, кто-то зашторил окно и зажег огарок свечи. Поезд приближался к Малой Вишере. Муса ехал в распоряжение политуправления Волховского фронта. Это было ранней весной, а в начале апреля Джалиль получил назначение в редакцию газеты 2-ой Ударной армии, которая стояла в болотистых лесах севернее реки Волхов.
От Малой Вишеры до редакции, расположившейся в недавно освобожденной, почти сгоревшей дотла деревне Огорели, надо было ехать еще около сотни километров. Ехали на редакционном грузовичке под бомбежкой, под артиллерийским обстрелом — армия находилась уже в полуокружении.
К тому времени на Волховском фронте сложилась очень сложная обстановка, всюду шли тяжелые, напряженные бои. Еще зимой, стремясь облегчить положение блокированного противником Ленинграда, Ставка Верховного главнокомандования дала указания предпринять решительное наступление силами трех фронтов с задачей окружить и уничтожить немецкую группировку севернее Ленинграда. На любаньском направлении действовали войска 2-й Ударной армии. В тыл немцев ринулись кавалерийские части, а следом за ними в прорыв вошли дивизии Ударной армии. Но выполнить план операции не удалось.
2-й Ударной армией командовал генерал Власов, оказавшийся впоследствии изменником Родины. Не выполнив поставленной перед ним боевой задачи, он остановил армию в непроходимых лесных болотах. В марте немецкая группировка «Север» нанесла контрудар и завязала бои по окружению 2-й Ударной армии. Советские войска самоотверженно сражались с превосходящими силами врага. Без пищи и боеприпасов, в топких болотах, под перекрестным огнем солдаты неделями отражали натиск противника. Приближающаяся распутица грозила поставить Ударную армию в еще более тяжелое положение. Только узкая горловина соединяла ее с войсками Волховского фронта. Подвоз продовольствия и боеприпасов был затруднен. Следовало немедленно принять меры к планомерному отводу дивизий, но генерал Власов не хотел выполнять указания Ставки.
Весной произошла катастрофа. Германские войска, перерезав горловину близ реки Волхов, полностью окружили войска 2-й Ударной армии. В небе над окруженными дивизиями день и ночь висели фашистские самолеты. Они бомбили войска, расстреливали их из пулеметов. Все теснее сжималось кольцо врага. Но борьба продолжалась. Солдаты, черные от болотной грязи, от копоти, с глазами, воспаленными многодневной бессонницей, лежа на зыбкой земле, продолжали драться. Они давно уже не получали ни хлеба, ни сухарей, ели крапиву, кору молодого осинника. А кругом стояли непроходимые топи, нельзя было вырыть даже ямки, чтобы укрыться от пуль и осколков, — все сразу затягивало тиной, заливало водой. И все же солдаты продолжали сражаться, даже в этих нечеловеческих условиях. Особенно тяжелые бои разгорелись вокруг селения Мясной Бор.
В годовщину войны — 22 июня, восемьсот солдат пошли на прорыв через «Долину смерти», как называли они узкую горловину, соединявшую 2-ю Ударную армию с Волховским фронтом. Бой был жестокий. Из восьмисот человек, пошедших в наступление, уцелело всего лишь несколько десятков бойцов. Но они выполнили долг — прорвали кольцо окружения. С одиннадцати часов утра до шести вечера через разорванное кольцо выходили солдаты окруженной армии.
К вечеру этого дня гитлеровцы снова сомкнули кольцо окружения. Еще через несколько дней все было кончено. Предательство генерала Власова привело к поражению 2-й Ударной армии. Власов открыто перешел на сторону фашистской Германии.
В этих схватках, в борьбе не на жизнь, а на смерть участвовал и Муса Джалиль — сотрудник армейской газеты «Отвага». Долгие годы об этом периоде жизни поэта мы знали только по нескольким его четверостишьям:
В содрогающемся под бомбами,
Обреченном на гибель кольце,
Видя раны и смерть товарищей,
Я не изменился в лице.
Слезинки не выронил, понимая:
Дороги отрезаны. Слышал я:
Беспощадная смерть считала
Секунды моего бытия.
Я не ждал ни спасенья, ни чуда,
К смерти взывал: «Приди! Добей!..»
Просил: «Избавь от жестокого рабства!»
Молил медлительную: «Скорей!..»
Об остальном мы могли только догадываться: тяжелое ранение, плен, пропавший без вести Муса Джалиль…
Теперь, через много лет, стало известно: редакция армейской газеты «Отвага» 22 июня пыталась вырваться из окружения. В редакции было двадцать четыре военнослужащих, включая наборщиков, печатников, шоферов и двух бойцов охраны. Они дрались вместе с наступающими войсками, стремившимися прорвать вражеское кольцо. Борьба продолжалась и в следующие дни. Вырваться из окружения удалось только троим. Муса Джалиль был тяжело ранен и двадцать шестого июня попал в плен где-то в районе Мясного Бора. Об этом он сам рассказал в немецком лагере военнопленных Салиху Ганееву, который после войны возвратился на Родину. Ганеев и принес эту печальную весть друзьям поэта.
Салих Ганеев сообщил, что 26 июня Джалиль с группой солдат и офицеров снова пытался вырваться из вражеского кольца. Их машину немцы обстреляли из миномета. Тяжелая мина разорвалась под кузовом их машины. Многие были убиты, а Мусу отбросило взрывной волной. В тот день битва под Мясным Бором закончилась. По словам Ганеева, Муса Джалиль был ранен в плечо, у него была перебита ключица, осколки поцарапали грудь. Только через несколько месяцев Джалиль мог немного прийти в себя после ранений, но глубокие шрамы навсегда остались на его теле. Ганеев видел их, когда приходилось вместе с ним мыться в лагерных банях.
Но самую первую весть о Мусе Джалиле прислали в Союз писателей солдаты, штурмовавшие Берлин. Вот что написал жене поэта Александр Александрович Фадеев, бывший тогда руководителем Союза писателей:
«Товарищ Залилова! — писал он. — Во время пленума Союза писателей в Москве в 1945 году прибыло письмо из одного подразделения Красной Армии, занявшего моабитскую тюрьму в Берлине. (В то время, когда они писали письмо, еще не весь Берлин был занят нашими войсками.)
В этом письме они сообщали, что, заняв тюрьму, среди всякого бумажного мусора они нашли вырванный из какой-то книги лист с чистыми полями, где на полях имеется запись татарского писателя Мусы Джалиля.
Листок был приложен. На полях была запись, примерно следующего содержания: «Я, татарский писатель Муса Джалиль, заключен в моабитскую тюрьму как военнопленный, которому предъявлены политические обвинения, и, наверное, буду скоро расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть передадут от меня привет моим товарищам-писателям в Москве».
…Дальше шло перечисление фамилий, среди них и моя фамилия, а остальные фамилии я забыл. Потом — просьба сообщить семье и адрес семьи. Затем шла подпись и число, которого я не помню, кажется, это был даже 44-й год.
На полях были еще две приписки, сделанные разными лицами, разными карандашами и, очевидно, в разное время. Одна выражала надежду, что, может быть, Залилов еще останется жив. Другая, очень безграмотная, была враждебного содержания к Советской власти и в ней говорилось, что «вашего Джалибула» (по неграмотности писавший спутал фамилию Джалиля с фамилией Джалибул) уже нет в живых.
Красноармейцы из подразделения, приславшие этот листок, писали, что они ознакомились с его содержанием и поклялись отомстить за смерть писателя Залилова…»
Письмо из Берлина, о котором вдове поэта Джалиля сообщил Фадеев, пришло в Москву уже после окончания войны, после нашей победы над фашистской Германией. Мы так и не знаем, кто же были эти солдаты, нашедшие записку Мусы в тюрьме Моабит. Позднее удалось выяснить, что служили они в 79-м стрелковом корпусе, штурмовавшем Берлин. Корпус входил в состав 3-й Ударной армии, командовал им генерал-майор Переверткин, и штаб корпуса во время боев размещался в моабитской тюрьме. Других подробностей пока установить не удалось.
Прошло два года после окончания войны, и о судьбе Мусы Джалиля пришла еще одна весточка. Это была маленькая, самодельная тетрадь со стихами поэта, написанная на татарском языке, латинским шрифтом. Прежде чем прийти по назначению, блокнот совершил долгий путь. Это были последние стихи Мусы Джалиля, написанные им в фашистских тюрьмах. Перед казнью он передал блокнот соседу по камере, бельгийскому партизану Андре Тиммермансу. Джалиль просил сохранить эти стихи и переслать их на Родину.
На обложке блокнота стояла надпись:
«Муса Джалиль. Моему милому другу Андре Тиммермансу от Мусы Джалиля. 1943—44. Берлин».
На другой страничке блокнота указывался московский адрес Амины-ханум — жены поэта и была сделана еще одна приписка:
«В плену, в заточении — 1942.IX — 1943.XI — написал 125 стихотворений и одну поэму. Но куда писать? Умирают вместе со мной».
А дальше, рядом со стихами, последняя просьба поэта:
«Я, татарский поэт Муса Джалиль, заключен в моабитскую тюрьму за политическую работу против фашизма и приговорен к смертной казни. Сообщите об этом в Москву, в Союз писателей. Прошу передать мой привет Фадееву, Тычине и моим родным, которые живут в Казани».
Андре Тиммерманс не смог сразу выполнить просьбу Джалиля. После освобождения из фашистской неволи он тяжело заболел и только через два года смог передать блокнот поэта в Советское посольство в Брюсселе, а оттуда его переслали в Москву. Но Андре Тиммерманс, выполняя предсмертную просьбу поэта, не сообщил собственного адреса. Поиски Тиммерманса не давали никаких результатов. А сосед Джалиля по тюремной камере оставался пока единственным свидетелем последних дней жизни Джалиля.
Потом приходили другие вести, говорившие о героической жизни, борьбе Джалиля и его товарищей в фашистских застенках. Еще одну тетрадь предсмертных стихов привез на Родину лейтенант Нигмат Терегулов. В камере дрезденской тюрьмы обнаружили надпись, сделанную рукой Ахмета Симаева — соратника Мусы, о том, что одиннадцать татар-патриотов приговорены к смертной казни… Но все это были разрозненные сведения, не собранные воедино, из них нельзя было воссоздать картину минувших событий. К тому же познакомиться с этими документами удалось только много лет спустя после войны.
Но еще в Нюрнберге, где судили главных военных преступников, виновных в фашистских злодействах, в заговоре против мира, автору этих строк довелось узнать о некоторых событиях, имевших непосредственное отношение к судьбе Джалиля и его погибших товарищей.
В зале заседаний международного суда на скамье подсудимых среди других преступников сидел человек с колючими глазами — Альфред Розенберг. Это был недавний министр оккупированных территорий Востока, руководивший колониальной политикой нацистской Германии. Остзейский барон Альфред Розенберг, белоэмигрант, сбежавший из России в начале революции, люто ненавидел страну, которую ему пришлось покинуть. Он прижился в Берлине, нашел себе пристанище среди германских нацистов. Здесь стал главным специалистом «по русскому вопросу». Именно ему и принадлежала идея расчленения Советского Союза на ряд мелких колоний, во главе которых должны были стоять нацистские генерал-губернаторы. В Казань, Саратов, Прибалтику, на Украину, Кавказ, в Белоруссию были назначены немецкие гауляйтеры. Еще до нападения на Россию им предоставлялись неограниченные права в управлении будущими колониями.
Среди документов нюрнбергского трибунала, изобличающих бывшего министра оккупированных территорий Востока, имелся протокол совещания, которое Розенберг проводил перед самым нападением на Советский Союз. К протоколу была приложена карта будущих государств немецких имперских комиссариатов. Один из таких комиссариатов, называвшийся «Идель Урал», занимал на карте все Поволжье, Башкирию, часть Урала, астраханские степи. В Казань гауляйтером нового государства назначался некий доктор Отто Шульман.
Но в то же самое время существовал приказ Гитлера об уничтожении всех «азиатов», попавших в плен, — татар, узбеков, киргизов, башкир и других представителей советских народов Востока. Однако этот приказ вскоре был отменен: нацисты рассчитывали осуществить преступные планы руками своих жертв. Расчленение Советского Союза они намеревались провести не только с помощью своих вооруженных сил, но и при содействии завербованных предателей.
Осенью 1942 года, когда для главарей фашистской Германии стало ясно, что восточная кампания затягивается и вызывает тяжелые потери, было решено создать военные формирования из советских военнопленных, прежде всего из людей нерусской национальности. Расчет был прост: под воздействием голода и террора пленные добровольно пойдут в легионы, в армию генерала Власова, который к этому времени, сдавшись в плен, согласился работать на гитлеровцев.
Для руководства легионами нашли семидесятилетнего генерала фон Кестринга, тоже «специалиста» по русскому вопросу; когда-то он воспитывался в Москве в семье книготорговца и свободно говорил по-русски.
В ставке Гитлера полагали, что генерал Кестринг отлично знает психологию русских людей. В юности он переехал из Москвы в Германию. Став офицером во время первой мировой войны, выполнял секретные задания в Галиции и в Палестине. Во время оккупации Украины немецкими войсками в гражданскую войну Кестринг был прикомандирован к военной миссии в Киеве при гетмане Скоропадском. Был командиром кавалерийского корпуса, позднее стал германским военным атташе в Китае, а затем снова вернулся в Москву и до самого нападения гитлеровцев работал здесь военным атташе.
В материалах нюрнбергского трибунала я прочитал справку об Эрнсте фон Кестринге. В ней сказано: «Кестринг — старый, опытный разведчик. В общежитии вежлив, хитер, изворотлив. В разговоре всегда старается льстить собеседнику».
Вот такого человека — лису в генеральских погонах — и поставили во главе будущих легионов.
Духовным наставником и руководителем мусульманских легионов назначили «верховного иерусалимского муфтия», который бежал со своим гаремом с Ближнего Востока под крылышко немецких нацистов. У него было очень длинное имя — Саид Мухамед Амин эль Гуссейн — и такой же длинный перечень преступлений. Перед войной его завербовала немецкая разведка, а несколько раньше он учился в турецкой офицерской школе. Никто не мог понять, как он стал муфтием. Амин эль Гуссейн то участвовал в фашистских заговорах на Ближнем Востоке, то готовил «священную войну» против Советского Союза, укрываясь в японском посольстве в Иране.
Гитлер приветил муфтия-самозванца, принял его в имперской канцелярии и назначил духовным руководителем формируемых легионов. Амин эль Гуссейн принимал участие в формировании мусульманской эсэсовской дивизии на Балканах для борьбы с югославскими партизанами. За это верховный суд партизан Югославии заочно приговорил Амин эль Гуссейна к смерти. Но ловкий духовный наставник избежал петли.
Следует упомянуть еще о двух грязных и продажных субъектах, которые играли какую-то роль в нацистской затее с организацией национальных легионов. Это Шафи Алмасов и Гаяс Исхаков, которые до революции жили в Оренбурге. Спекулянт Алмасов занимался оптовой торговлей, после революции бежал в Стамбул, где принял турецкое подданство и в годы нэпа вернулся в Россию как представитель турецкой торговой миссии. За махинации с валютой на черной бирже советские власти выслали Шафи Алмасова из Советского Союза.
Что касается Гаяса Исхакова, то его «послужной список» также изобилует множеством грязных делишек. В гражданскую войну он служил в войсках генерала Дутова, был правым эсером и готовил отторжение Башкирии от Советской России. В Берлине Гаяс Исхаков возглавил комитет «Идель Урал» и отвечал за вербовку легионеров, получая от военных властей деньги за каждого завербованного военнопленного. Он же редактировал газету «Идель Урал», предназначенную для легионеров.
Вот с такими продажными душами и вступил в борьбу Муса Джалиль, оказавшийся в фашистской Германии.
Гитлеровцы надеялись, что советских военнопленных легко будет загнать в легионы голодом и террором, заставить воевать против Родины. Однако фон Кестринга сразу же постигла неудача. Приказ о вербовке военнопленных был отдан 20 апреля 1942 года.
К весне сорок третьего года сколотили наконец первый батальон. Его торжественно проводили на фронт, но по дороге, где-то под Витебском, легионеры перебили немецких офицеров и перешли к партизанам.
ПО СЛЕДАМ
НЕИЗВЕСТНОГО ПОДВИГА
Что же случилось с Мусой Джалилем после трагических событий, разыгравшихся под Мясным Бором летом 1942 года?
Казалось, поиски страниц его биографии зашли в тупик. Но вот неожиданно в редакции «Литературной газеты» раздался звонок из Стерлитамака. Далекий, приглушенный расстоянием голос пробивался сквозь технические помехи. В Стерлитамаке обнаружены новые неизвестные стихи поэта Мусы Джалиля. Их принес в редакцию городской газеты человек, находившийся в заключении вместе с Джалилем. Вот и все, что сообщили из Стерлитамака. Никаких подробностей, когда хотелось узнать так о многом! Потом чувство радостной взволнованности сменилось раздумьем, сомнением. Так ли это? Можно ли верить в счастливую находку? Надо поехать, узнать, разобраться на месте.
И вот — Стерлитамак, маленький башкирский городок на границе просторных казахских степей. Ряды приземистых деревянных домиков, тополя, снег выше окон, тихие улицы. А рядом, в нескольких километрах, новый Стерлитамак с корпусами многоэтажных зданий, гигантскими заводами, с дымом высоких мачтообразных труб, с колхозом, очутившимся вдруг в обрамлении заводских корпусов.
С трепетным чувством входил я в редакцию газеты, откуда позвонили в Москву о замечательной литературной находке.
За короткие дни пребывания в Стерлитамаке накопилось немало впечатлений, но одно из них было особенно сильным. Я говорю об удивительной народной любви к поэту-герою, о стремлении сохранить литературное наследство советского татарского поэта.
Это чувство привело столяра Талгата Гимранова в редакцию городской газеты. Он пришел туда с крохотным, размером в спичечную коробку, блокнотом, где убористыми арабскими буквами были записаны стихи Джалиля. С угрозой для жизни столяр Гимра-нов сберег их в фашистских застенках. То же самое благородное чувство побудило сотрудников редакции позвонить в Москву; оно же руководило членами литературного кружка при газете: волнуясь и споря, они переводили найденные стихи на русский язык.
С газетной странички и началось наше знакомство с новыми стихами Джалиля. Перевод стихов делали заботливые, но неопытные руки. И все же за шероховатостью строк ощущался творческий почерк поэта, знакомые по моабитским тетрадям мысли — тоска по родным краям, великая жизнеутверждающая вера.
Пусть умру и в земле мне лежать.
Остановит пусть смерть мою кровь, —
Будет в песнях моих звучать
Вера в Родину, к жизни любовь!
Это Джалиль! Это несомненно его стихи. Это он взывал к ветрам, просил их «песнь тоски по любимой земле донести до просторов родных».
Странички с арабскими письменами перемежались с записями на русском языке: адреса, табель-календарь, заметки, даты, потом снова арабские буквы — подобие дневника. Стихи Джалиля были записаны на двадцати неполных страничках блокнота. Трудно себе это представить! Но на листочках, площадь которых измеряется скупыми квадратными сантиметрами, уместилось почти четыреста строк стихотворного текста! Так восточные умельцы с филигранной точностью выписывают на рисовом зерне изречения древних…
Несколько часов рассказывал мне Талгат о минувшем: о жизни в неволе, о встречах с Мусой Джалилем в фашистском лагере.
В разгар войны в лагерях для военнопленных гитлеровцы начали отбирать заключенных нерусской национальности. Эсэсовцы загоняли отобранных пленных в отдельные бараки, а потом под охраной, в запертых товарных вагонах везли куда-то в сторону Польши.
Их привезли на станцию Едлиня. Здесь Талгат Гимранов и встретился с Мусой Джалилем. Сначала Муса не назвал своего настоящего имени. Только позже Талгат узнал, что его новый знакомый — поэт Джалиль, стихи которого Талгат знал на память.
Джалиль никогда не расставался с маленькой записной книжкой в темно-вишневой обложке. Он раскрывал ее, когда вокруг не было никого из посторонних, и начинал читать заветные, сокровенные строки. Муса записывал стихи арабской вязью, мало известной среди обитателей лагеря и недоступной немецким тюремщикам.
Талгат попросил как-то Джалиля дать ему книжку, чтобы переписать стихи.
— Зачем тебе? — спросил Муса.
— Они мне нравятся, — ответил Талгат. — В них есть то, о чем мы все здесь думаем.
— За такие стихи можешь потерять голову. Не боишься? — Муса словно испытывал нового знакомого.
Узнав, что Гимранов знает арабскую письменность, Джалиль согласился. Он сказал:
— Знаешь что, если ты уцелеешь, передай моей жене эти стихи. Вот ее адрес…
Тогда-то и начал Гимранов записывать стихи Джалиля в крохотный блокнот, который легко можно было спрятать в складках убогой одежды. Записывали и другие. Бумаги не было, но заключенные нашли выход. Им выдавали по двадцать граммов маргарина — пачку на десять человек. Пергамент тщательно вытирали, сушили и вырезали из него листки для блокнотов. Гимранов записал около двадцати стихотворений — только малую часть стихов из блокнота Мусы Джалиля. Некоторые строки Джалиль не доверял даже непонятному многим арабскому шрифту. В таких местах он ставил точки, а узники запоминали пропущенные строки на память.
Муса жил в соседнем бараке, рядом с рабочей командой, в которую определили Гимранова. В тесной комнатке с трехъярусными нарами вместе с Джалилем жили еще несколько человек. Среди них — казанский актер, художник, учитель…
Здесь помещалась так называемая рота пропаганды. Через некоторое время стало известно, что именно здесь находится центр подпольной организации.
Муса каждый день встречался с Талгатом. Гимранов чувствовал, что какая-то тайная тревога все больше охватывает Джалиля. Раза два Талгат видел Джалиля в обществе незнакомого человека, они шепотом что-то горячо обсуждали и умолкали с приближением посторонних.
Все это совпало с тем временем, когда фон Зиккендорф, начальник лагеря, объявил, что предстоит отправка на фронт сформированного батальона легионеров. В канун отправки легионеров радомский лагерь взбудоражили листовки, обнаруженные в бараках… Они появились на дверях и стенах. Несколько коротких строк, написанных карандашом на лоскутках оберточной бумаги, призывали людей не запятнать честь Родины.
Взбешенные охранники выгнали пленных на улицу, перерыли все нары, но не обнаружили никаких следов. Утром батальон вышел на станцию. Среди людей, покидавших лагерь, шел и тот незнакомец, что тайком встречался с Джалилем.
Прошло две-три недели. По лагерю распространилась новость — ее передавали друг другу на ухо, — батальон восстал по дороге на фронт. Из нескольких сот легионеров в лагерь вернулось не больше четырех десятков. Остальные ушли к партизанам или погибли в борьбе.
Никогда еще не видели Мусу таким взволнованным. Он не мог скрыть своего торжества. Попытка нацистов сделать военнопленных участниками своих преступлений закончилась крахом.
Окрыленные успехом, подпольщики продолжали борьбу; они стали более дерзкими и, может быть, менее осторожными, хотя малейшая ошибка грозила катастрофой. Подпольщики в кандалах, за колючей проволокой использовали в борьбе с врагом все возможные в их положении средства.
Нацисты заигрывали с легионерами, позволяли им иногда устраивать нечто вроде вечеров самодеятельности. На таких вечерах заключенные читали стихи, пели национальные песни, ставили короткие пьески. Со своими стихами выступал и Муса Джалиль. Он читал, порой заменяя слова, но все понимали, что хотел сказать, о чем думал поэт. Стихи вселяли надежду, укрепляли силы. Одну из пьес написал Джалиль. Сюжет ее был прост.
Партизаны расположились на отдых в деревне. Среди них — предатель. Он пытается выдать отряд. В последний момент его убивают. Вопреки официальному тексту, симпатии зрителей были явно на стороне партизан, а смерть гитлеровского прихвостня встречалась аплодисментами. Майор фон Зиккен-дорф присутствовал на представлении. Он недовольно поморщился и запретил ставить эту пьесу…
Вспомнил Талгат Гимранов, какое впечатление произвела на него картина художника, написанная в лагере. Художник тоже входил в подпольную организацию легионеров. Картина называлась «Она ждет тебя». На фоне вечернего неба у колодца стоит татарская девушка, устремив взор на запад. Перед ней — аул, родной пейзаж. Свет вечерней зари освещает ее лицо, полное тоски, грусти. Сколько мыслей будила картина в сердцах узников! Начальник лагеря приказал убрать картину.
Однажды Муса спросил, не сможет ли Талгат смастерить самодельный компас. Гимранов согласился, он долго возился с порученным делом. Сделал футляр, намагнитил стрелку. Работой своей он остался недоволен, получилось коряво, но Муса забрал компас — пригодится.
Затем понадобилась карта. Ее раздобыли на соседнем хуторе у знакомого поляка, который хорошо говорил по-русски. Сын этого польского крестьянина перед войной учился в школе, и у него где-то на чердаке остался учебник географии. Там были школьные карты, которые выпросили у подростка. Талгат с Мусой часто бывали на этом хуторе, подружились с хозяином и как-то раз Муса спросил крестьянина, не смог бы он связать его с партизанами. Поляк отказался — партизаны действуют в районе Кельце, а туда не меньше двух дней ходу. С обратной дорогой это займет дней пять. На такой срок покидать хутор нельзя. Узнают немцы — и дело кончится плохо.
Гимранов предполагал, что у Джалиля были и другие возможности связаться с партизанами. Он даже знал фамилию командира одного из отрядов и, вероятно, поддерживал с ним связь. Такой вывод Талгат Гимранов сделал после того, как Муса попросил его сходить в Радом, чтобы встретиться с партизанским связным. Муса дал Гимранову адрес, предупредил об осторожности и просил передать связному, что хочет встретиться с командиром отряда.
Талгат был в Радоме, но связного не застал и вернулся ни с чем.
Весной сорок третьего года, примерно в мае, из радомского лагеря бежала группа легионеров. Бежала с картой, переведенной на кусок материи, самодельным компасом, запасом продуктов и кое-каким оружием. Всем этим беглецов снабдила подпольная группа. Возглавил бежавших, как припоминал Гим-ранов, чуваш-учитель Михайлов Григорий.
Обнаружив побег, гитлеровцы подняли среди ночи всех легионеров, перетрясли весь лагерь, учинили повальный обыск, но так ничего и не добились.
Все это было только репетицией, проверкой нового дерзкого замысла: подпольщики готовили восстание в лагере и большой побег. Не об этом ли писал Джалиль в одном из своих стихотворений:
Только одна у меня надежда:
Будет август. Во мгле ночной
Гнев мой к врагу и любовь к Отчизне
Выйдут из плена вместе со мной.
Теперь стало известно, что именно в августе Муса Джалиль рассчитывал организовать побег из лагеря и вырваться на волю. Но осуществить этот план подпольщикам не пришлось…
В середине лета произошел провал подпольной организации. Среди ночи Джалиль и его товарищи были схвачены гестаповцами. Арестованных увезли в Берлин, в Моабит. Гитлеровцы были вынуждены отказаться от формирования отрядов из военнопленных. После ареста группы Джалиля пленных из радомского лагеря рассовали по другим лагерям.
Талгата Гимранова отправили сначала в Кельце, затем в Прибалтику. Начались скитания по лагерям. Неудачный побег — и снова скитания. Когда Талгата уводили из камеры на допрос в гестапо, он оставлял товарищам заветный блокнот. Так удалось сохранить стихи поэта. Но многие адреса пришлось уничтожить, затерялся и адрес семьи Джалиля. Возвратившись на Родину, Талгат Гимранов работал столяром в Стерлитамаке, затем уехал на Тянь-Шань с поисковой геологической партией. Он на память, как акын, читал друзьям стихи поэта, не зная о судьбе Джалиля.
И эти стихи вызывали восхищение слушателей. Только вернувшись из экспедиции, Талгат прочитал Указ о посмертном награждении Мусы Джалиля званием Героя Советского Союза. И тогда он принес в редакцию городской газеты блокнот с неизвестными до сих пор стихами поэта.
Вскоре откликнулся на призыв принять участие в поиске неизвестных страниц биографии Джалиля еще один недавний узник фашистского лагеря. Он прочитал статью о пропавшем без вести поэте и прислал мне письмо, в котором рассказал о своих встречах с Джалилем. Это был Николай Викторович Толкачев, колхозный фельдшер с Тамбовщины. Из письма стало известно, что Муса Джалиль сразу после пленения был отправлен в сборный лагерь под Холмом, оттуда куда-то в Прибалтику, а потом в крепость Демблин. Это было в конце 1942 года. В демб-линском лагере Муса связался с подпольной группой, действовавшей в крепости, и начал там нелегальную работу.
Николай Толкачев описал, при каких обстоятельствах он встретился с Мусой Джалилем. В демблинском лагере Николай работал фельдшером. Однажды в лазарет поступила большая группа пленных из лагеря Холм. Всех прибывших направили в карантин. Среди них находился военнопленный Гумеров, который страдал конъюктивитом и фурункулезом. Первую помощь оказывал ему фельдшер Толкачев. Больной ему понравился. Он шутил и как будто бы не обращал никакого внимания на то, что происходит вокруг. Фельдшер сделал ему переливание крови и вышел покурить в коридор. Здесь его встретил какой-то тип и спросил:
— А ты знаешь, фельдшер, кого сейчас лечил и надо ли было с ним возиться?
Николай Толкачев ответил, что лечил человека, который нуждается в медицинской помощи. Его собеседник зло усмехнулся и возразил:
— Ты лечил кого не надо… Это — политрук, татарский поэт Муса Джалиль. Я его знаю… Где шеф лазарета?
Толкачев понял, что перед ним стоял предатель. Нужно немедленно принять какие-то меры. Фельдшер сказал, что немецкого врача сейчас в лазарете нет, он в комендатуре, а проходить туда разрешают только медицинским работникам. Отвлекая внимание доносчика, Толкачев пообещал ему, что обо всем сам расскажет начальнику лазарета.
После этого Николай старался выяснить: кто же такой Гумеров? Он еще сомневался в словах доносчика. Один из пленных подтвердил, что Гумеров действительно татарский поэт Джалиль. Что было делать? Доносчик в любую минуту мог его выдать. Прежде всего фельдшер решил обезвредить предателя и немедленно перевел его в другую палату, предупредив дежурного, чтобы тот никуда не выпускал этого человека. Потом Толкачев позвал Джалиля и рассказал ему о том, что произошло.
— Ну я так и знал, что попал к своим! — улыбнувшись, воскликнул Джалиль.
Когда Муса начал выздоравливать, он попросил Толкачева пройти с ним по крепости. Фельдшера это встревожило, он понял, что это неспроста. Но Муса настаивал, и фельдшер не мог ему отказать. Он дал Мусе санитарную сумку, повязал ему на руку санитарную повязку, и они под видом медицинских работников, проверяющих санитарное состояние помещений, пошли из одного блока в другой. Бродя по казармам, Джалиль все время кого-то искал. И он нашел своих фронтовых друзей, с которыми вместе служил в армии.
В лазарет Муса вернулся в приподнятом настроении и тут же попросил Толкачева выписать его. Фельдшер стал отговаривать: он еще нездоров, ему нужно поправиться, в казармах его скорее могут узнать, но Джалиль возразил:
— Тесно мне здесь, Николай!.. Понимаешь — тесно!.. Я должен быть там.
И Николай Толкачев выписал Мусу из лазарета в общий лагерь.
После этого Толкачев еще не раз встречался с Джалилем. В крепости он продолжал выдавать себя за учителя Гумерова. Выглядел Муса очень плохо — худой, с втянутыми щеками, с глазами, запавшими, как у больного туберкулезом.
Вместе с друзьями, которых он встретил, Муса готовил массовый побег заключенных, но побег не удался.
Ближе к весне сорок третьего года Джалиля куда-то увезли. Николай Толкачев видел, как уходил Муса. Одет он был в старую, потрепанную шинель, в деревянных колодках, которые вместо обуви носили военнопленные. Таким и запомнился Муса Николаю — с сумкой от противогаза через плечо, в ветхой, обгоревшей пилотке.
Мусу увезли в Германию, в лагерь Вустрау под Берлином. Кто-то узнал, что под фамилией Гумерова скрывается поэт Джалиль. Сказали Шафи Алмасову, и он сам поехал в Вустрау уговаривать Мусу Джалиля работать в комитете «Идель Урал». Для гитлеровцев было важно иметь на своей стороне известного татарского поэта. Сначала Джалиль не дал никакого ответа. Только после горячих споров, по решению подпольной группы лагеря, Муса согласился работать в комитете «Идель Урал». Он поставил одно условие — остаться под фамилией Гумеров. Шафи Алма-сова это не устраивало, но он вынужден был согласиться.
В комитете «Идель Урал» Джалиль занимался «культурным обслуживанием» легионеров. Он подбирал актеров для культвзвода, искал музыкантов, певцов, которые могли бы выступать перед легионерами. Лагерь легиона «Идель Урал» находился под Радомом, но Муса теперь имел возможность выезжать и в другие районы Германии. Вместе с хоровой капеллой он ездил в Познань, Дрезден, бывал вДемб-лине, и там, где появлялся Муса Джалиль или его товарищи, возникали новые группы бойцов сопротивления.
Так, в столице фашистской Германии в разгар ее войны с Советским Союзом возникло еще одно антифашистское подполье, во главе которого стоял татарский поэт Муса Джалиль.
Уже в Берлине Муса встретился с Абдуллой Алишевым, детским татарским писателем. Джалиль хорошо знал его по Казани. В подпольную организацию вошел Тариф Шабаев, бывший финансовый работник из Ташкента. Был здесь Ахмед Симаев, поэт и журналист, который в Москве занимался в литературном кружке Джалиля. Теперь они встретились вновь и уж больше не расставались до последнего часа.
О жизни в демблинском лагере и встречах с Мусой многое рассказал Рушат Хисамутдинов, ветеринарный врач из Алма-Аты, которого через несколько лет после войны удалось найти. Он тоже входил в подпольную группу Джалиля.
«На мою долю выпало горькое счастье познакомиться и хорошо узнать Мусу Джалиля в гитлеровской неволе, — писал мне Рушат из далекого Узбекистана. — Не довелось Мусе
вернуться домой и самому рассказать о «нашей трудной длительной борьбе». Поэтому, рассказывая о том, как мы прошли, по выражению Мусы, через сорок смертей, я постоянно испытываю такое чувство, будто выполняю последнюю просьбу поэта.
Летом сорок второго года я попал в плен и к осени был доставлен в старинную крепость на берегу Вислы — Демблин. Каменные стены этой крепости высоки. Сверху они опутаны колючей проволокой, а внизу рядом с ними вырыты глубокие рвы, заполненные водой.
Раз в день мы получали вонючую баланду из картофельных очисток. Люди гибли, трупы не успевали убирать. Те, кто еще держался на ногах, ковыряли землю в поисках трав, которые поедали тут же, прямо с корнями. У прибывших военнопленных немцы отбирали обувь, одежду, что поприличнее, а взамен выдавали рваные лохмотья и деревянные башмаки.
В этом страшном лагере я встретил Гайнана Курмашева, ставшего здесь моим первым другом. Как-то Гайнан, подозвав меня, кивнул в сторону человека, стоявшего поодаль от нас. Старая, выгоревшая пилотка, рваная шинель, деревянные башмаки, через плечо — санитарная сумка. Гайнан оглянулся и, убедившись, что нас никто не подслушивает, шепнул:
— Это Муса Джалиль, поэт.
Оказалось, Курмашев был другом Джалиля. Они познакомились еще в Казани. Я попросил познакомить меня с ним.
— Муса! — позвал Гайнан.
Джалиль оглянулся, и лицо его, до этого задумчивое, стало приветливым. Он подошел к нам и пожал мне руку. Я назвал себя.
— Гумеров, — ответил поэт, чуть усмехнувшись.
С того дня мы часто бывали вместе.
В этом лагере и наметился первый отряд, боевое ядро будущей подпольной организации. Вот неунывающий Абдулла Батталов. Среднего роста, плотный, он чуть прихрамывал: одна нога у него была обморожена, и пальцы ампутированы… Он знал на память многих поэтов, в том числе стихи своего брата Салиха Батталова и Мусы Джалиля.
Здесь же, в Демблине, я встретился впервые с Гарафом Фахретдиновым. В лагере его звали Димом Алишевым. Фахретдинов трижды бежал из лагерей, но каждый раз его ловили, подвергали пыткам.
Вскоре нас разлучили, меня отправили в Германию.
В сорок втором году гитлеровцы стали формировать из военнопленных антисоветские легионы для фронта. И вот снова этап. На этот раз везут назад, в Польшу, в Едлино. Здесь, в окруженном колючей проволокой военном лагере, находился татаро-башкирский легион, получивший название «Идель Урал».
В едлинском лагере я попал в один барак с музыкантами. Вскоре к нам из берлинского комитета «Идель Урал» приехал высокий смуглый человек по имени Султан. Ему сказали, что в музыкальной команде не хватает артистов и музыкальных инструментов.
— Гумеров советует привезти музыкантов из Демблина, — сказал приезжий.
Известие о том, что Муса Джалиль поступил на службу к немцам и работает в комитете «Идель Урал», не было новостью. Но я не хотел верить этому. Теперь же, услышав о Гумерове, я словно прозрел! Так вот оно что… Муса хочет собрать вокруг себя верных товарищей! Я тут же сказал Султану, что хорошо знаю артистов из Демблина. «Поедешь за ними», — сказал он.
Позже моя догадка подтвердилась. Муса вначале и слышать не хотел о службе у немцев. Лишь позже, осознав, что затея гитлеровцев открывает ему возможность заниматься антифашистской пропагандой, он дал согласие. Путь, на который стал Муса, был труден и опасен.
Джалиль приступил к организации подпольных групп. Для подпольной работы в легионе ему нужны были надежные помощники. И вот мы вдвоем под конвоем отправились в Демблин за пополнением. В Демблине я разыскал Гайнана Курмашева, Абдуллу Батталова и других товарищей. Узнав, что Муса жив и что «артисты» набираются по его инициативе, товарищи вместе со мной начали думать, кого бы взять в Едлино. Выбрали тринадцать человек. Ни один из них не был профессиональным артистом. Гайнан — учитель, Абдулла — старший политрук, Хасанов — строевой командир, Султанов — преподаватель, Мичурин — юрист… Из этих людей в Едлино и был создан так называемый культвзвод, или капелла. Режиссером ее назначили Гайнана Курмашева, я стал ее руководителем.
В начале мая сорок третьего года нашу капеллу повезли в Берлин. Там встретил нас восторженный Муса. Втроем удалось поговорить во время прогулки по зоопарку. Он рассказал нам, как подпольная организация должна проводить работу в Едлине. Предложил в целях конспирации разбиться на маленькие группки по три-четыре человека.
— Это на случай провала, — сказал Муса. — Рядовые подпольщики не должны ничего знать о членах других групп.
Через два дня мы вернулись в легион. Перед отъездом Муса передал нам две пачки листовок на русском языке.
Наш музыкальный взвод часто выезжал для выступлений в Радом, Крушно, Демблин, Узедом и Дрезден. Муса обычно сопровождал нас в этих поездках как официальное лицо, приставленное к нам для надзора. Сам он в концертах участия не принимал, но все наши поездки использовал для встреч с нужными ему людьми.
Я не раз наблюдал, как Муса вел переговоры. В Крушно у него были надежные люди. Возможно, что с их помощью он связывался с польскими партизанами. После выступления в легионе мы предполагали отступать именно через Крушно. Там были расположены рабочие батальоны из советских военнопленных и людей, угнанных из оккупированных территорий Советского Союза.
Нам предстояло подобрать надежных пропагандистов, которые, будучи назначенными немцами на эти должности, могли бы незаметно разоблачать фашистскую пропаганду. Одним из таких пропагандистов стал Мичурин. Под видом коллективных читок грязной газетенки «Идель Урал» пропагандисты сообщали последние сводки Совинформбюро, рассказывали о положении на фронте, цитатами из немецких журналов показывали, как фашисты на самом деле относятся к восточным народам. Главное в нашей пропаганде заключалось в том, чтобы раскрывать планы нацистов, их цели в создании легионов.
Двум нашим подпольщикам — Омарову и Ахметову, находившимся в Едлино, удалось стать радистами легиона, через них мы получали самые последние сведения о положении на фронтах Отечественной войны. К тому же Ахметов вскоре даже сделался денщиком командира легиона — майора фон Зиккендорфа. Через него подпольщики могли узнавать обо всем, что происходит в едлинском лагере.
В конце июля сорок третьего года Муса Джалиль приехал в Радом, где готовился план вооруженного выступления. Разрозненные группы надо было собрать в единый кулак. В Берлине свою поездку Муса объяснил тем, что нужно готовить постановку музыкальной комедии «Шурале», которую он написал. Действительно, члены капеллы распределили роли, начали репетировать музыкальную комедию, а тем временем вели подготовку к решающим действиям.
Одновременно с Мусой Джалилем из Берлина приехал один человек, татарин, в форме немецкого офицера. Вскоре незнакомец этот бежал с четырьмя нашими товарищами. Одним из четверых был радист Омаров, член подпольной организации. Двое бежавших были шоферы. Муса несомненно знал о предстоящем побеге. Через этих людей он хотел связаться с партизанами и частями Красной Армии.
Только через несколько дней во время совещания, на котором присутствовало всего лишь четыре человека, Муса намекнул нам, с какой целью осуществлен был побег. Кажется, это было наше последнее совещание, проходило оно за день или два до нашего ареста. Здесь были Муса, Курмашев, Сайфульмулюков и я. Гараф Фахретдинов охранял нас. Джалиль сказал, что связь с партизанами и Красной Армией установлена.
Мы обсудили, какие обязанности возьмет на себя каждый в день восстания. Сайфульмулюкову поручили уничтожить командование легиона, я со своей группой должен был захватить пушки, лошадей, Курмашев — перебить охрану, Фахретдинов и Мичурин — нарушить связь. В Крушно подготовка, по-видимому, была закончена. Незадолго перед тем Муса побывал там с нашей капеллой.
Восстание в легионе намечалось через несколько дней — на 14 августа. Однако нам не суждено было выступить. 10 августа Муса неожиданно исчез. Мне и до сих пор неизвестны подробности его ареста. Позже, по дороге в берлинскую тюрьму, я узнал от Гайнана Курмашева, что Джалиля, закованного в наручники, доставили сначала в варшавскую тюрьму, потом спешно отправили в Берлин».
Как же развивались события в центре фашистской Германии, после того как Муса Джалиль был отправлен из крепости Демблин в специальный лагерь Вустрау, расположенный неподалеку от Берлина. Много лет мы ничего не знали об этом. И только постепенно, в результате тщательных поисков удалось почти полностью восстановить все то, что касается деятельности Мусы Джалиля и его товарищей.
Один из участников подпольной работы — Галим Батихов вспоминает о первых днях пребывания Мусы в Берлине. По его словам, дело обстояло так.
Вскоре после перевода Мусы Джалиля из лагеря Вустрау в Берлин подпольщики собрались на Хавельштрассе якобы на вечеринку, посвященную приезду Мусы. Здесь были Джалиль, Батихов, Алишев и Симаев. Говорили о тактике работы в подполье. Муса предложил свой план. Он заключался в следующем: прежде всего надо постараться обезвредить фашистскую газету «Идель Урал». Ее надо сделать беззубой, скучной и аполитичной. Надо воспользоваться тем, что Шафи Алмасов, этот жадный маклер и спекулянт, почти неграмотный человек, вовсе не интересуется содержанием газеты. На ее страницах надо делать возможно больше ошибок и опечаток. Переводы должны быть малопонятными и путаными, чтобы трудно было добраться до смысла статей.
Муса настаивал на том, что надо всеми способами мешать появлению антисоветских статей, уделить больше места отвлеченным материалам на темы о татарской национальной культуре, писать о просветителях, об истории татарского народа.
В противовес фашистской газетке он предлагал наладить выпуск подпольных листовок. Для этого нужно достать шапирограф или ротатор, в крайнем случае на первое время хотя бы пишущую машинку. Заняться техникой печатания листовок решили поручить Тарифу Шибаеву; он в это время работал в типографии.
Ахмет Симаев взялся организовать слушание радиопередач из Москвы, чтобы получать информацию о положении на фронтах. Симаев работал в радиостудии комитета и мечтал при удобном случае проникнуть к микрофону, чтобы выступить по радио с антифашистской речью. Но пока этого сделать не удавалось: немцы перед выходом в эфир записывали переводы на пленку.
Подпольщики говорили о том, что надо связаться с советскими людьми, привезенными на работу в Германию. Сошлись на том, что в организационном построении подполья лучше всего придерживаться системы звеньев. Такое построение должно было гарантировать подпольщиков от массовых провалов в случае разоблачения какого-то звена.
Мы знаем теперь еще об одном совещании узкой группы подпольщиков, которое Муса Джалиль провел в Берлине в начале лета сорок третьего года. Подпольщики встретились возле ресторана на Курфюрстендамме. Среди них был Муса Джалиль, Абдулла Алишев, Фуад Булатов и Ахмет Симаев. Разговаривать в ресторане подпольщики не решались: было много народу. Они отправились в зоопарк.
Совещались около часа, прогуливаясь по аллеям парка. Говорили о борьбе с руководством эмигрантского комитета, о расширении подпольной организации и усилении работы среди легионеров. Муса, побывавший незадолго перед тем в одном из лагерей, рассказал о настроении среди военнопленных. Он считал, что надо усилить работу по выпуску и распространению антифашистских листовок. Одного из подпольщиков решили направить в Познань на заводы татарского белоэмигранта Яушева и создать там подпольную группу.
Оренбургский купец Яушев сразу после революции эмигрировал из Советской России, попал в Германию и сблизился с немецкими фашистами. Он вступил в нацистскую партию, стал своим человеком в окружении Розенберга и с помощью новых друзей приобрел в Познани большие заводы. Во время войны на купца Яушева работало много иностранных рабочих, но ему не хватало надсмотрщиков, и он обратился в комитет «Идель Урал» к Шафи Алмасову с просьбой выделить нужных ему людей. Этим обстоятельством и воспользовалась группа Мусы Джалиля. В список трех десятков татар, посланных на военные заводы Яушева, удалось включить несколько подпольщиков. Им поручили связаться с польскими рабочими.
Работе в Познани подпольщики придавали большое значение. Муса надеялся, что подпольная группа в Познани сумеет добыть на заводах Яушева оружие для восстания в едлинском лагере.
Летом Муса Джалиль снова поехал в Едлино — на самый опасный и ответственный участок работы. Он был там уже не раз, но теперь рассчитывал задержаться на более длительный срок. Поехал Муса не один. С ним, как рассказывают, был высокий черноволосый татарин в немецкой форме. Кроме Мусы, его никто не знал… Это был связной — уже не первый человек, которого Муса посылал для связи с партизанами и командованием Красной Армии.
Имя этого черноволосого спутника Джалиля с оспинками на лице, одетого в форму немецкого унтер-офицера, так и осталось неизвестным. Скорее всего, это был Саттаров. По заданию подпольной организации он должен был под видом военного фотокорреспондента эмигрантской газеты поехать на фронт, перейти линию фронта и связаться с советским командованием. Вместе с Джалилем он приехал в едлинский лагерь, чтобы получить документы и тронуться дальше. Вскоре спутник Мусы исчез из лагеря.
Теперь мы располагаем еще одним свидетельским показанием о деятельности подпольной группы Мусы Джалиля в Германии, о его связях с другими подпольными организациями.
После измены генерала Власова, после того, как он по заданию германского командования начал создавать военные формирования, получившие название «власовской армии», в недрах этой армии возникла подпольная группа, которую сначала возглавляли московский художник Федор Чичвиков, лейтенант Григорий Коноваленко, а затем полковник Бушманов.
Подпольная группа существовала до середины 1943 года. В результате предательской деятельности проникшего в организацию провокатора руководящая группа подпольщиков была арестована
[3]. Один из подпольщиков — Андрей Рыбальченко, в прошлом военный журналист, также откликнулся на призыв сообщить все, что известно о подпольной деятельности Мусы Джалиля и его товарищей. Он прислал большое письмо с воспоминаниями о встречах с Джалилем в Германии в годы войны. Позже, при встрече, Рыбальченко дополнил свое письмо рассказами о том, чему был свидетелем в Берлине.
«Примерно в конце января 1943 года, — вспоминает Рыбальченко, — ко мне в подвал, где я разбирал русские книги, увезенные гитлеровцами из библиотек оккупированных районов, зашел незнакомый человек и показал мне записку, из которой следовало, что господину Гумерову разрешается пользоваться книгами без выноса их из помещения.
Гумеров стал приходить ежедневно, часа по два-три он вместе со мной разбирал книги. Постепенно мы становились все более откровенными друг с другом. Через неделю я уже знал, что он татарский поэт Муса Джалиль. Я стал доставать ему литературу, а однажды дал и подпольную листовку, подписанную нашим подпольным комитетом.
Джалиль бросился меня обнимать.
— Что же ты молчал! — взволнованно говорил он. — Говори, говори! Где этот комитет, как с ним связаться?
Я рассказал ему все, что было можно сказать, сохраняя конспирацию. Места, где находился наш подпольный комитет, я не назвал, но сказал, что я сам — член комитета и связаться он может через меня.
Я спросил, есть ли среди татарских товарищей люди, на которых можно положиться.
— А где их нет! — воскликнул Муса. — Есть такие, что пойдут куда угодно — в огонь и в воду, лишь бы приносить пользу Родине.
Джалиль рассказал, тоже коротко и осторожно, о своей подпольной группе, которая еще формировалась.
Так во второй половине февраля 1943 года, если не ошибаюсь, была установлена связь между двумя подпольными группами.
Чтобы избежать подозрений со стороны фашистов, мы решили в библиотеке встречаться только в самых крайних случаях, если это будет вызвано срочной необходимостью. Стали видеться в разных местах Берлина…
Я передавал Мусе советские газеты, которые с большим опозданием каким-то образом поступали в библиотеку, интересующие его книги, листовки нашей подпольной группы. Эти листовки Муса со своими друзьями из редакции «Идель Урал» размножали на татарском языке и распространяли среди легионеров.
Однажды, когда я уже не работал в библиотеке, мы встретились с Мусой в парке Тиргартен, прошлись по центральной аллее… Потом свернули в узкую аллейку, обсаженную кустарником. Здесь стояли деревянные скамейки с надписями «Не для евреев». Муса прочитал и воскликнул:
— Какая мерзость!.. С этого начинается фашизм… А знаешь, что я думаю, — перебив самого себя, сказал он. — После войны, если буду жив, увезу такую скамейку в Москву. Такая скамья будет говорить молодежи о германском фашизме больше, чем любая книга!
Я засмеялся и сказал — представляю, как он будет везти скамью.
— А что, возьму и увезу, кто тогда сможет запретить, — уверенно ответил Муса.
Мы выбрали самое глухое место, сели на скамью и начали перегружать из кармана в карман листовки и газеты. Помню, десяток листовок был отпечатан под копировку на пишущей машинке на папиросной бумаге. В них говорилось о разгроме немцев под Харьковом.
Мы крепко пожали друг другу руки и расстались.
Муса часто уезжал в командировки. Тогда за подпольной литературой приходил кто-нибудь другой из его верных друзей, с которыми он меня познакомил. Произошло это в местечке Мариенфельд. Я прошел до трамвайной остановки, постоял немного и пошел к месту встречи. Вдруг увидел Мусу в сопровождении двух немецких офицеров. Я похолодел… Скрыться было некуда. Они меня уже увидели. Муса улыбнулся и приветливо помахал мне рукой. Его попутчики тоже смотрели на меня и улыбались. Муса подошел ко мне.
— Кого ты привел? — встретил я его настороженным вопросом.
— Не беспокойся, это друзья из татарской газеты, о которых я тебе рассказывал. Люди надежные, ручаюсь за них головой.
Оказалось, что на следующий день Муса должен был уезжать недели на две в легион и решил познакомить меня со своими товарищами, чтобы не прерывалась наша связь. Мы зашли в ближайшую пивную, в туалете я передал Мусе подпольные листовки. Мы выпили по кружке пива и вышли на улицу.
— Я поеду, а они к тебе сейчас подойдут, — сказал Джалиль. Он зашагал в сторону.
Я пошел к станции. По дороге меня нагнали спутники Мусы. Поздоровались. Это были Ахмет и Абдулла. Фамилий они своих не назвали. Условились о следующей встрече.
Вернувшись из своей поездки в Радом, Муса рассказал о большом впечатлении, которое произвели листовки среди легионеров. В эту встречу я спросил у Джалиля, нет ли в татарском комитете возможности организовать печатание листовок. Он ответил, что есть. Следующая встреча состоялась у нас через два дня на Потсдаммерплаце. Муса пришел вдвоем с Абдуллой. Мы сели в поезд и вышли на станции Райсдорф… Через несколько минут мы были в лесу. Абдулла перевел мне содержание листовки, которую он принес с собой.
Примерно там говорилось так:
«Товарищи легионеры! Не верьте фашистской и белоэмигрантской сволочи! Не поддавайтесь на агитацию заклятых врагов советского народа! Поверните оружие против фашистов!..»
Муса попросил меня поподробнее рассказать о работе наших подпольных групп в лагерях «остарбейтеров» — восточных рабочих. Я сказал то, что знал о подпольной группе на военном заводе Фрица Вернера в Мариенфельде. Там большинство подпольщиков были девушки, увезенные с Украины. Они начали с того, что портили дефицитные материалы, выводили из строя станки, срывали выпуск военной продукции. То же самое происходило и на других военных заводах, где действовали подпольные антифашистские группы.
Джалиль внимательно слушал. Он сказал, что в городе, рядом с которым расположен легион «Идель Урал», есть несколько военных заводов. Там работает много военнопленных и других советских людей, угнанных из Советской России. На этих людей надо обратить внимание, помочь им организоваться для антифашистской борьбы.
Последняя встреча с Мусой Джалилем на воле произошла у нас на станции Папенштрассе. Мы приехали вдвоем с Федором Чичвиковым, оба напичканные листовками. Муса уже прохаживался по перрону. Оставив Федора, я подошел к Джалилю. Сказал, что хочу познакомить его с одним из членов подпольной группы, с которым Мусе придется иметь дело в дальнейшем. В то время я должен был уехать из Берлина. Я дал условный сигнал, и к нам подошел Федя Чичвиков.
Мы вошли в город. Муса рассказал нам, что его группе удалось установить связь с некоторыми лагерями иностранных рабочих. Как всегда, мы передали Мусе листовки. Он спрятал их в тайный карман, специально пришитый под подкладкой. Это была наша последняя встреча».
А вот что мы узнали от Рыбальченко о его встрече с Мусой в гестапо:
«На допросах в центральном гестапо… я узнал о чудовищном провале берлинской подпольной организации. Арестовано было большинство членов подпольной группы, десятки руководителей групп на военных заводах и воинских формированиях из военнопленных, а также много людей, у которых при обыске обнаружены были листовки. Не оставалось никакого сомнения — в наши ряды пробрался провокатор. Иначе никак не могли попасть в гестапо оригиналы листовок, написанных рукой полковника Бушманова…
В начале сентября 1943 года меня снова привезли в гестапо. Когда, вместо того чтобы поднять на лифте на четвертый этаж, где находился кабинет следователя, меня отвели в подвал, я начал серьезно нервничать, думая, что сейчас ко мне применят пытки. В подземелье был просторный вестибюль, от которого в разные стороны тянулись длинные коридоры, освещенные электрическим светом. В кафельных стенах коридоров виднелись ниши многочисленных дверей.
Конвоир остановил меня у одной из дверей, открыл ее и приказал войти. Это была каморка с низким потолком, без единого окошка… На потолке горела тусклая электрическая лампочка, прикрытая проволочной сеткой. Это был каменный мешок. От двери до задней стены были устроены узенькие кабинки, в каждой — скамейка для сиденья. Конвоир указал мне на одну из кабин, приказал сесть и ушел, заперев за собой дверь на ключ.
Наступила тишина. В противоположном конце вдруг скрипнула скамья. Ясно, что в ожидалке я был не один.
— Есть здесь кто-нибудь? — спросил я.
— Есть… Свято место пусто не бывает, — услышал я голос, который показался мне знакомым.
У меня забилось сердце, перед глазами замелькали лица людей, с которыми когда-либо приходилось встречаться.
— Есть здесь кто-нибудь еще? — спросил я.
— Был один, но его только что увели на допрос.
Я мучительно думал, чей же это голос…
— Ваш голос кого-то мне напоминает, — сказал я.
— Кого же? — из соседней кабины появился заключенный. — Ну и теперь не узнаешь?
— Муса! — воскликнул я, бросился к нему, забыв о всякой предосторожности.
Я не ошибся — это был Муса Джалиль. С тех пор, как мы виделись с ним в последний раз, он заметно изменился, очень похудел, на бледном лице с синими кругами появились морщины, которых раньше я не замечал. Верхняя губа припухла, и на ней виднелась запекшаяся кровь.
Встреча была столь неожиданна, что в первые минуты я растерялся. Ведь то, что Муса арестован, означало, что провал произошел и в татарской подпольной организации. Хотелось все узнать, уточнить, условиться о поведении на допросах. Такое же нетерпение испытывал и Джалиль. Он засыпал меня вопросами. Я не знал, небезопасно ли разговаривать, не подслушивают ли нас. На мои опасения Муса ответил:
— Конечно, нельзя поручиться, что эти стены не имеют ушей. Но я здесь уже в третий раз, пока ничего подозрительного не заметил. Однако осторожность не мешает.
Мы зашли в одну из кабинок и заговорили шепотом. Я рассказал ему об арестах, о том, какой тактики придерживаются наши товарищи на допросах. Каждый из арестованных стремится принимать все на себя, не впутывая других, отрицает свои связи с кем бы то ни было.
Муса ответил, что такое поведение арестованных он считает правильным, что его товарищи из подпольной группы придерживаются такой же линии.
Самое главное, добавил он, чтобы фашисты ни при каких обстоятельствах не узнали, что все мы принадлежим к одной организации. Пусть думают, что мы работали самостоятельными группами. Об этих связях нельзя говорить ни слова, даже если будут четвертовать.
Я ответил, что о существовании татарской подпольной группы в комитете знали только трое — Бушманов, Чичвиков и я. Поэтому опасаться нечего, что гестапо узнает о наших связях.
— Ну а про наши связи с комитетом тоже знают только три человека — я, Ахмет и Абдулла. Эта тайна уйдет со мной в могилу. За Ахмета и Абдуллу тоже не беспокойся, оба они крепче камня.
Мы разговаривали недолго, всего несколько минут. Главное было в том, чтобы отрицать на допросах взаимные связи наших групп. Это удалось сделать. Следователи гестапо и не подозревали об этом, они даже не задавали ни одного вопроса о связях с татарами. Если бы эта связь была обнаружена, аресту подверглись бы еще новые десятки, может быть, сотни людей. Тогда организация была бы разгромлена полностью».
МОАБИТСКАЯ ТЕТРАДЬ
Андре Тиммерманс, участник бельгийского движения Сопротивления, переправив в советское посольство блокнот с предсмертными стихами Джалиля, не подавал о себе никаких вестей. Его искали и не могли найти. Только через десяток лет после окончания войны писателю Константину Симонову удалось это сделать.
В конце 1956 года в Бельгии в маленьком курортном городке проходил международный поэтический фестиваль, в котором принимали участие советские поэты — Павел Антокольский и Константин Симонов. Выступая на фестивале, Константин Михайлович Симонов прочитал письмо-обращение Амины-ханум, вдовы Джалиля, к поэтам, собравшимся на поэтический фестиваль. Она рассказывала о трагической судьбе своего мужа, о благородном поступке Андре Тиммерманса, который сохранил тюремные стихи Мусы Джалиля, просила бельгийских поэтов помочь найти тюремного друга ее мужа.
Бельгийские поэты горячо откликнулись на призыв Амины-ханум. Член Бельгийской академии наук известный поэт Роже Бодар пообещал сделать все возможное для того, чтобы разыскать Андре Тиммерманса. Правда, он не был уверен в том, что сможет выполнить просьбу вдовы. Никто не знал ни возраста, ни профессии Тиммерманса. Только имя, фамилия и указание на то, что он участник Сопротивления. А может быть, его уже не было в живых — прошло столько лет после войны.
И вот — удача! Константин Симонов с помощью бельгийских друзей нашел Андре Тиммерманса. Вот что он рассказывает сам об этом поиске.
«3 марта 1956 года в «Литературной газете» была напечатана статья Юрия Королькова «По следам песен Джалиля».
…Мне хочется рассказать здесь о том новом, что мне удалось узнать о Джалиле, продолжая те коллективные розыски, которые были начаты другими товарищами.
…На следующее же утро мы выехали в город Тир-лемон, в сорока с небольшим километрах от Брюсселя. Поколесив некоторое время по узким улочкам старинного маленького городка, мы разыскали дом номер 51 по улице Виктора Бодуэна.
Итак, нам предстояло сейчас узнать: живет ли здесь Тиммерманс, проживавший тут пять лет тому назад, а если живет, то окажется ли он именно тем человеком, которого я ищу? От ответа на этот вопрос зависел ответ на другой вопрос, узнаем ли мы что-нибудь о Мусе Джалиле из уст свидетеля или по-прежнему единственным рассказчиком о последнем годе жизни поэта останется его «Моабитская тетрадь».
Хозяином маленького домика в Тирлемоне, перед которым остановилась машина, оказался тот самый Тиммерманс, которого мы искали».
Константин Симонов так описывал своего собеседника:
«Андре Тиммерманс, высокий, худощавый, чуть-чуть сутуловатый, черноволосый человек, скромный, даже, пожалуй, застенчивый, старательно и напряженно вспоминал каждую подробность, связанную с Мусой Джалилем, в то же время неохотно и немногословно говорил о себе: да, был в движении Сопротивления, да, он был и остается антифашистом, но не принадлежал и не принадлежит ни к какой партии. В 1942 году его, очевидно по чьему-то доносу, арестовали немцы… Вот, пожалуй, и все, что он рассказывает о себе в связи с Мусой Джалилем, а остальное мы узнаем мимоходом, попутно, тогда, когда он вспоминает о Джалиле».
Симонов приводит подробно, почти стенографически свой разговор с Андре Тиммермансом. Вот некоторые выдержки из рассказа бельгийского участника Сопротивления.
— Джалиль уже был в камере, когда меня туда привезли немцы. Он сидел там вдвоем с одним немецким солдатом польского происхождения, родом из Силезии. Этот солдат уходил на целые дни из камеры, он работал на кухне в какой-то другой тюрьме, и его утром уводили туда, а вечером приводили оттуда, поэтому я по целым дням бывал вдвоем с Джалилем.
— Были в этой тюрьме другие советские люди, кроме Джалиля? — спросил Симонов.
— Тюрьма была большая, — ответил Андре, — я не мог знать всех заключенных, но в двух соседних с нами камерах — слева и справа — сидело еще двое татар. Одного звали Абдулла Булатов, а другого — Алишев. Этот Алишев, кажется, если мне не изменяет память, раньше, до войны, писал сказки для детей. Мне об этом рассказывал Муса Джалиль. Вместе с этими татарами в каждой камере сидело по бельгийцу. Эти бельгийцы были мои знакомые, они были арестованы в один день со мной по тому же делу, что и я. Мне хотелось как-нибудь связаться с ними, а Джалилю — со своими товарищами. Мы хотели пробить хоть небольшие отверстия в стенах, чтобы просовывать записки, но у нас не было для этого инструмента.
В нашей тюрьме заключенным, если они просили об этом, иногда давали работу и инструменты для нее. Мы с Джалилем попросили дать нам работу, надеясь получить при этом какой-нибудь инструмент, которым можно ковырять стену. Наши надежды оправдались, нам приказали вырезать пазы на деревянных круглых кружках (не знаю, для чего и куда шла эта деталь). Для работы нам дали несколько инструментов, в том числе небольшую стамеску. Этой стамеской мы и стали ковырять стену…
Через несколько дней после того, как мы продолбили отверстие в одну камеру, немножко отдохнув, мы начали долбить отверстие в другую… Нам показалось с Джалилем, что вторая стена тверже, чем первая, а может быть, мы просто устали. Джалиль говорил мне, что ему очень хочется поговорить с Алишевым, сидевшим за этой стеной, но довести дело до конца нам так и не удалось. Однажды за Джалилем пришли конвоиры и увели его в Дрезден, на суд.
— В тот день вы в последний раз виделись с Джалилем? Он уже не вернулся в тюрьму?
— Да, он больше не вернулся туда, но я его видел еще один раз потом, в тюрьме Шпандау… Татары, которые сидели в соседних камерах, тоже были отправлены на суд в Дрезден. Джалиль говорил мне, что они сидят по одному делу с ним.
— А когда Джалиль передал вам свою тетрадь, которую вы сохранили?
— Это было примерно за полмесяца до того, как его отправили на суд в Дрезден. Он передал мне маленькую тетрадку, сделанную из почтовой бумаги, которая продавалась в тюремной лавочке. Он уже задолго до суда был уверен, что его казнят. Он несколько раз совершенно спокойно говорил мне о том, что у него нет ни малейших сомнений на этот счет. В тот день, когда он мне передал тетрадь, Джалиля вызвали к начальнику тюрьмы. Точно не знаю зачем, но, кажется, требовали подписать какую-то бумагу. Когда он вернулся из тюремной конторы, он подошел ко мне, дал мне тетрадь и попросил, если я останусь жив и вернусь домой, сохранить ее и передать после войны в советское консульство в той стране, где я окажусь.
— Как вам удалось сохранить и передать тетрадь?
— Когда меня переводили в Шпандау, я взял ее с собой — спрятал в одежде, а когда мне объявили мой новый приговор — пять лет каторги, то на следующий день после приговора я, как и все другие, должен был пойти в тюремную контору и сдать все лишнее. Мы уже были неподследственные, и нам запрещалось иметь лишние вещи… Я собрал вещи, которые мне нужно было сдавать, и засунул в них тетрадку Джалиля так, чтобы ее не сразу было видно, но чтобы в то же время не было впечатления, что я ее спрятал специально. Вместе с ней я засунул молитвенник, который мне дал в берлинской тюрьме немецкий священник. В этом молитвеннике две первые страницы были исписаны стихами Джалиля, которые он написал мне в подарок.
Немцы начали составлять инвентарную опись вещей. Они увидели среди других вещей молитвенник и тетрадку и записали их тоже, спросив про тетрадь: «Что это такое?» Я сказал, что это мой дневник, а они сдуру, на мое счастье, не обратили внимания, что в тетрадке записи не на немецком и не на французском, а на другом языке. Впрочем, они спешили, они в тот день отправляли много людей.
Посылка с моими вещами, с молитвенником и тетрадкой Джалиля пришла к моей матери, и она хранила все это до моего возвращения домой после войны. Когда меня отправляли из тюрьмы в концлагерь, мне разрешили написать матери письмо. Я не мог написать ей прямо, но старался дать понять, чтобы она во что бы то ни стало сохранила эту тетрадку и молитвенник.
Когда я вернулся, оказалось, что молитвенник пропал, не знаю, как это получилось, а тетрадь сохранилась, и я ее передал в советское посольство. Сам я не мог передать ее потому, что после концлагеря был долго болен, но я попросил одного своего товарища, который бывал в Брюсселе, свезти тетрадку в советское посольство. Он взял тетрадь и, вернувшись, сказал мне, что выполнил мое поручение.
— Вы не знаете, по какому делу находился в заключении Джалиль, в чем его обвиняли фашисты?
— Как правило, в тюрьме никто не говорил другим о своих делах, боясь, что рядом с ним в камере могут оказаться люди, специально подосланные немцами. Но мы с Джалилем доверяли друг другу и разговаривали о своих делах. Однако когда говоришь, дополняя слова жестами или еле-еле зная язык друг друга, то не всегда и не все понимаешь. Поэтому у меня, может быть, нет вполне точного представления о том, что мне рассказывал Джалиль. Передам вам лишь то, что я мог понять. Судя по разговорам Джалиля со мною и с Булатовым, с которым, по-моему, он говорил по-русски, потому что в их разговорах я кое-что понимал, он, Джалиль, до того как попал в тюрьму, сидел в немецком концлагере. Туда, к ним в лагерь, пришел главный муфтий. Там, в лагере, было известно, что Джалиль — писатель, и муфтий требовал от него, чтобы Муса и несколько других татар написали обращение ко всем военнопленным-татарам с призывом вступить в армию генерала Власова. Как я понял из слов Джалиля, они для вида согласились сделать это, но в то же время в подпольных листовках, которые они выпускали в лагере, написали все совершенно обратное и призвали татар не вступать в армию генерала Власова. Всего, как мне говорил Джалиль, их в подпольной организации, которая выпускает листовки, было двенадцать человек татар. Потом они привлекли еще одного — тринадцатого, и этот тринадцатый их выдал. Насколько я помню, они часто говорили об этом через стену с Булатовым…
Рассказ о Джалиле закончен… Я говорю Тиммермансу о его большой заслуге перед татарской да и вообще перед всей советской литературой, для которой он спас последние произведения Мусы Джалиля, и рассказываю, что Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза;
— Он был очень спокойный и очень мужественный человек, я всегда уважал его, — уже в который раз с большой внутренней силой повторяет Тиммерманс.
Поднявшись, чтобы попрощаться, я еще раз говорю Тиммермансу, что мы глубоко благодарны ему. Он хмурится и делает протестующий жест.
— Я ведь не знал, что это за тетрадка, — говорит он без тени рисовки. — Я не знал, что это что-то особенное, я просто выполнил просьбу товарища. Я не хочу, чтобы вы думали, что я сам считаю, что я сделал что-то особенное. Если оказалось, что эта тетрадь такая важная, — очень хорошо, но мне этого нельзя ставить в заслугу, я этого не знал, я этому не придавал такого значения… Все это было очень просто, и такой же простой вещью осталось для меня и сейчас. Я уважал человека и сделал для него то, что мог сделать. Когда вы увидите вдову Мусы Джалиля, — добавляет он, — передайте ей, я очень глубоко уважал ее мужа. Непременно передайте это ей…
Некоторые дополнительные подробности о своей тюремной жизни вместе с Джалилем Андре Тиммерманс излагает в письме, которое он прислал в Москву. Тиммерманс пишет:
«…Фотография моего покойного друга Мусы Джалиля доставила мне много приятного, и я вам за нее весьма благодарен.
Такие друзья, как Джалиль, встречаются не часто и не так легко забываются.
Я не писатель, но все же попытаюсь кое-что рассказать вам о нем. Надо иметь в виду, что дело происходило много лет назад, и следовательно, мне трудно вспомнить все.
Если память не изменяет мне, я познакомился с Мусой Джалилем в 1943 году в берлинской тюрьме, находившейся на Лертерштрассе.
Был он человеком небольшого роста, с густой черной шевелюрой, немного посеребренной сединой. Слегка скошенные глаза придавали его лицу монгольские черты. Руки у него были пухлые, ноги небольшие. Таким я увидел Мусу, когда вошел в его камеру. В первые дни нашего совместного пребывания отношения у нас были скорее холодные.
В камере с нами был также один поляк из Силезии, насильно завербованный в германскую армию. Он бегло говорил по-немецки. Работал он на кухне в центральной тюрьме, уходил туда с утра и возвращался поздно вечером. Таким образом, практически Муса и я были почти всегда вдвоем. Мы воздерживались от разговоров и поглядывали друг на друга без дружелюбия.
Однажды поляк принес из кухни для Мусы кусок хлеба. Муса чистосердечно предложил мне половину, и лед был, таким образом, сломан. Жизнь в камере стала приобретать иной характер. Между Мусой и мною установилось доверие.
Однажды он хотел объяснить мне, по каким причинам его арестовали. К сожалению, я не понял и четверти из того, что он мне рассказал, но я все же уловил, что доверие его было кем-то обмануто. Этим и объяснялся холодный прием, который Муса оказал мне, когда я впервые появился в камере.
Он всем очень интересовался. Но интерес этот был здоровый, познавательный. Он хотел знать все: мое прошлое, как я жил прежде, мои планы на будущее, после того как меня освободят из тюрьмы. Короче говоря, толковали мы о чем угодно. Если, бывало, он, к сожалению, не понимал моего рассказа, то дожидались возвращения поляка, который служил нам переводчиком. Постепенно я усвоил некоторые русские слова. Мусу я видел всегда в хорошем настроении, склонным к шутке, даже в критической обстановке. Как-то ночью во время сильной бомбежки в тюремном дворе, как раз против нашей камеры, упали две зажигательные бомбы. Джалиль начал кричать. Прибежал тюремный надзиратель… Джалиль тогда с самым серьезным видом спросил его: «Скажите, разве в Германии отменено затемнение?» Можете вообразить, как вскипел тюремщик!
Шутки Мусы бывали иногда очень мрачны, и мне кажется, в этом трагическом сарказме у него не было равных.
В тот день, когда немцы явились, чтобы отправить его в военный трибунал, он сказал мне:
— Я вернусь, но с головой под мышкой.
О его отношении к врагам, с которыми ему приходилось иметь дело, я не в состоянии много сказать, так как недостаточно долго знал его. Могу лишь удостоверить, что, когда в камере появлялся кто-либо из тюремной администрации, Муса наотрез отказывался встречать его стоя, что нам вменялось в обязанность. Из одного этого можно заключить, что Муса был не из покладистых.
Жизнь в камере текла однообразно. В шесть часов утра подъем. Муса вставал первым. Он слегка обтирался холодной водой, умывался и делал свою обычную гимнастику. Приносили еду. Затем около девяти часов прогулка. Возвратившись в камеру, Муса принимался исписывать бумагу, листок за листком! Многие он рвал. То, что оставалось, правил и так работал до полудня. В ожидании обеденного супа мы беседовали о разных вещах. Проглотив похлебку, отдыхали до двух часов. После этого Муса снова принимался за продолжение утренней работы. Листков становилось все больше. Муса их перечитывал, рвал, правил и время от времени переписывал в записную книжечку, которую я впоследствии передал в советское посольство. Мне кажется, что, если бы я сохранил все разорванные им листки, материала хватило бы для издания четырех или пяти томов. У него была страсть к писанию.
Могу вас уверить, что мы жили довольно дружно. Увы, всему бывает конец, даже совместной жизни двух человек, пришедших из совершенно различных миров и встретившихся под небом, столь мало милосердным. Настал день, когда Мусу отправили в Дрезден, где ему должны были объявить приговор военного суда. Меня перевели в тюрьму Шпандау. Каково же было мое удивление, когда однажды во время прогулки в тюремном дворе я увидел в приоткрытом окне первого этажа голову Мусы Джалиля. Остановившись как бы для того, чтобы завязать шнурок ботинка, я дал понять Джалилю, что встречусь с ним в бане. В условленный день я попросил разрешения пойти искупаться. Разрешение мне было дано. Муса уже был в бане. Он похудел и выглядел бледным. Несколькими словами и жестами он дал мне понять, что ему вынесен смертный приговор и что каждое утро он ждет, что приговор будет приведен в исполнение. Он напомнил мне об обещании, которое я дал ему относительно его рукописи. Я сообщил ему, что рукопись находится уже в надежных руках в Бельгии. Он был счастлив.
Так я расстался навсегда с одним из самых лучших моих друзей по тюремной камере.
Вот все, что я могу сказать о Джалиле».
Мы обязаны Андре Тиммермансу тем, что он сохранил маленький тюремный блокнот Джалиля с его стихами, которые впоследствии вошли в посмертный сборник произведений поэта под названием «Моабитская тетрадь».
В этом сборнике есть чудесные строки Джалиля, посвященные Андре Тиммермансу. В посвящении он написал: «Моему бельгийскому другу Андре, с которым познакомился в неволе». Это стихотворение «Мой подарок». Поэт грустит, что в жизни у него не осталось ничего для друга:
Когда б вернуть те дни, что проводил
Среди цветов, в кипенье бурной жизни,
Дружище мой, тебе б я подарил
Чудесные цветы моей Отчизны.
Но ничего тут из былого нет —
Ни сада, ни жилья, ни даже воли.
Здесь и цветы — увядший пустоцвет,
Здесь и земля упалачей в неволе.
Все, что осталось у поэта, — его чистое сердце и песня, их он отдает своему другу:
Лишь не запятнанное мыслью злой,
Есть сердце у меня с порывом жарким,
Пусть песня сердца, как цветы весной,
И будет от меня тебе подарком.
Коль сам умру, так песня не умрет,
Она, звеня, свою сослужит службу,
Поведав Родине, как здесь цветет
В плененных душах цвет прекрасной дружбы.
Те же мысли высказывает Джалиль и в другом стихотворении, тоже посвященном Андре Тиммермансу. Это как раз те стихи, которые Муса кроме своего блокнота записал на чистых страницах молитвенника, — последнее, дошедшее до нас стихотворение поэта. Оно датировано первым января 1944 года.
Здесь нет вина. Так пусть напитком
Нам служит наших слез вино!
Нальем! У нас его с избытком,
Сердца насквозь прожжет оно.
Быть может, с горечью и солью
И боль сердечных ран пройдет…
Нальем! Так пусть же с этой болью
Уходит сорок третий год.
Бессмертный воинский подвиг поэта-солдата не только возвысил самого Мусу Джалиля, но и возвеличил его творчество. Слияние, созвучие подвига и таланта явили новый пример того, как личная отвага, мужество, патриотическое служение Родине придают особое звучание творчеству поэта, озаряют новым светом его стихи, придают им особую силу, страстную убедительность. Муса Джалиль остался в поэзии таким же, каким был в жизни, в борьбе.
К счастью, до нас дошли не только стихи Джалиля, переданные им Андре Тиммермансу. Сохранилась еще одна тетрадка с несколькими десятками предсмертных стихов Джалиля. Этот блокнот поэта совершил долгий путь, пока дошел до Казани. Как эстафету передавали его из рук в руки узники фашистских концлагерей, подвергали себя жестокой опасности, и в конце концов после войны стихи поэта привез с собой на Родину Нигмат Терегулов.
После нескольких вооруженных выступлений в батальонах легиона «Идель Урал» гитлеровцы пришли к неутешительному для них выводу о ненадежности этих формирований из советских военнопленных.
Последний батальон «Идель Урал» был переведен во Францию. Здесь часть легионеров с оружием в руках перешла на сторону французских партизан. Один из легионеров-подпольщиков, Габбас Шарипов, привез с собой блокнот, который ему передал в тюрьме Муса Джалиль. В свою очередь Шарипов, не надеясь, что ему удастся вернуться на Родину (он был тяжело болен, измучен пребыванием в тюрьме), отдал блокнот Нигмату Терегулову. На этом блокноте рукой Джалиля было написано:
«Другу, который умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадку.
Это написал известный татарскому народу поэт Муса Джалиль. Испытав все ужасы фашистского концлагеря, не покорившись страху сорока смертей, он был привезен в Берлин. Здесь он был обвинен в участии в подпольной организации, в распространении советской пропаганды и заключен в тюрьму. Его присудят к смертной казни. Но у него останется 115 стихов, написанных в заключении. Он беспокоится за них. Поэтому он из 115 старался переписать хотя бы 60 стихотворений. Если эта книга попадет в твои руки, аккуратно, внимательно перепиши их набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань, выпусти их в свет как стихи погибшего поэта татарского народа. Это мое завещание. Муса Джалиль. 1943. Декабрь».
Нигмат Терегулов вместе с Амиром Утяшевым, выполняя завещание поэта, переписали стихи Джалиля в нескольких экземплярах, а подлинник оставили на сохранение француженке Марии Дубиз, партизанке, участнице французского Сопротивления.
Солдат Терёгулов выполнил завещание поэта, его блокнот с тюремными стихами он передал в Союз писателей Татарии.
Муса Джалиль предпринимал и другие попытки переправить свои стихи на Родину. Для него они были дороже жизни, в них он видел свое бессмертие. В одном из стихотворений Джалиль писал:
Песни, в душе я взрастил ваши всходы,
Ныне в Отчизне цветите в тепле.
Сколько дано вам огня и свободы,
Сколько дано вам прожить на земле!
Вам я поверил свое вдохновенье,
Жаркие чувства и слез чистоту.
Если умрете — умру я в забвенье.
Будете жить — с вами жизнь обрету.
В разгар поисков затерянных страниц жизни Джалиля я получил из Архангельска большое письмо от учителя Михаила Иконникова. Потом он прислал мне еще несколько писем, в которых рассказывал о своих встречах с Мусой и другими подпольщиками из его группы в фашистской неволе. Письма Иконникова пришли примерно в то самое время, когда Константину Симонову удалось разыскать Андре Тиммерманса и побывать у него в бельгийском городке Тир-лемоне.
Берлинская тюрьма Тегель, обнесенная высокой кирпичной стеной, стоит на берегу озера Тегельзее. И свое название она получила от этого озера. В тюремном дворе высятся четырехэтажные корпуса, в них множество камер с маленькими оконцами, перечерченными штрихами железных решеток.
Камеры смертников в тюрьме Тегель отличались от других только тем, что на их дверях висели бумажки с именами и фамилиями заключенных. В тюрьме их называли «визитными карточками на тот свет». Бумажки были обведены красными чернилами, а над фамилиями обреченных стояли кресты тоже красного цвета. Это — чтобы знали вахтманы. В Тегеле для смертников существовал особый режим.
В сорок четвертом году Берлин подвергался массированным воздушным налетам. Во время налетов тюремщики прятались в подвалы, но иногда, во время особенно сильных бомбардировок, заключенных тоже переводили вниз. Это касалось заключенных двух верхних этажей. Узников торопливо заталкивали без разбору в камеры первого и второго этажей. В одиночки загоняли по нескольку человек. Во время воздушных тревог до самого отбоя узники Тегеля были предоставлены самим себе.
Только в камеры смертников никого не пускали. Но смертники тоже в часы тревоги чувствовали себя свободнее: они могли переговариваться с соседями через тюремные окна. Никто не мешал им: тюремщики прятались в бомбоубежищах.
На первом этаже тюрьмы Тегель в камере номер два сидел советский капитан Русанов. В тюрьме он был на особом счету. На двери его камеры не было красных крестов, но Русанова содержали, как смертника. Говорили, что сам Мюллер — шеф имперского управления гестапо — приказал начальнику тюрьмы изолировать советского капитана от всех других заключенных. Но в Тегеле все знали капитана Русанова. Высокий и статный, с густой копной черных волос, с такими же черными горящими глазами, он держал себя независимо. Даже тюремщики не выдерживали взгляда его жгучих глаз. Они называли его «Шварце Луге» — черные глаза. Капитан Александр Русанов носил военную форму Советской Армии, погоны, а на его груди были советские ордена. Начальник гестапо Мюллер распорядился сохранить ему форму и ордена. На это у главаря гестапо были особые причины.
На прогулку Русанова выводили одного, и он расхаживал по тюремному двору в кубанке, независимо вскинув голову и не обращая внимания на сопровождавшего его охранника. Во время воздушных тревог Русанов подтягивался на руках к окну камеры и начинал разговаривать с соседями или петь песни. У него был сильный голос. Особенно он любил песню «Священная война». Казалось, что могучую торжественную мелодию песни не мог заглушить даже грохот недалеких взрывов.
Однажды во время воздушного налета вахтман второпях распахнул дверь его камеры и загнал туда нескольких заключенных. В одиночке Русанова оказались Альберт Маршалковский, Михаил Иконников и еще двое немцев-антифашистов.
Русанов с восторгом встретил неожиданных гостей. Они провели вместе несколько часов — до тех пор, пока не объявили отбой тревоги. О себе Русанов говорил мало. Сказал только, что до войны был чекистом, в войну командовал партизанским отрядом, попал раненым в плен в Брянских лесах
[4].
Тогда капитан и рассказал, что как раз напротив его камеры на втором этаже сидит группа татар во главе с поэтом Мусой Джалилем. Они иногда переговариваются с ним. Словно в подтверждение своих слов, Русанов подошел к окну, подтянулся на сильных руках и крикнул:
— Эй, Муса!.. Как тебе нравится эта иллюминация?!
В противоположном окне за решеткой появилась голова заключенного, освещенная заревом пожарищ и светом подвешенных в небе ракет.
— Ого-го!.. — отозвался Муса. — Капитан, вот что значит посеять ветер! Как себя чувствуешь, капитан?
— Хорошо!.. Как стихи? Пишутся?
— Теперь только читаются, — ответил Джалиль. — У меня отобрали бумагу, приходится диктовать соседям…
Потом, прильнув к решетке, Муса начал громко читать стихи. Он почти кричал, и казалось, что Джалиль, как птиц, выпускает стихи на волю. А его друзья — Алишев, Симаев, Булатов, — те, кто мог слышать поэта, записывали, запоминали их строку за строкой.
Бомбежка все продолжалась, а узники, запертые в камере капитана Русанова, все слушали голос Джалиля, который диктовал стихи своим товарищам. Но вот Муса разжал усталые руки, его голова исчезла за окном. Русанов заметался по камере.
— Вот это люди! — воскликнул он. — Вот это кремни! Из каждого хоть высекай огонь…
Но и сам капитан Русанов был из таких. Потому и полюбился Мусе Джалилю этот капитан с неукротимым характером. Капитан Русанов сказал, что он, пожалуй, не встречал такого сильного духом человека. Джалиль держал себя мужественно, стойко, несмотря на то что уже знал: его ждет смерть.
Русанов предложил — хорошо бы встретиться с кем-то из них, из подпольщиков. Подсказал: можно встретиться в душевой или в тюремной амбулатории.
Вскоре Михаил Иконников смог воспользоваться советом Русанова.
«Однажды, это было весной 1944 года, — рассказывает Михаил Иконников, — нас повели в баню, которая находилась на третьем этаже тюрьмы. Попав в душевую и обливаясь водой, я услышал за перегородкой русскую речь, перемежавшуюся с татарской. Попробовал заговорить. Выйдя из-под душа, перекинулся несколькими фразами с одним из заключенных».
Это был Ахмет Симаев. Разговор был очень короткий, и оба они стали искать новый повод для встречи. В следующий раз им удалось встретиться в тюремной амбулатории. Там стояла очередь, человек сорок. Среди больных Иконников увидел своего знакомого. Симаев стоял впереди, но, узнав Иконникова, перешел к нему в конец очереди. На этот раз им удалось поговорить минут сорок. Когда подошла их очередь к врачу, оба снова перешли в самый конец.
Симаев рассказал о себе и своих товарищах, сказал, как встретился он с Джалилем, которого Симаев хорошо знал еще по Москве, как возникла подпольная группа и как все они после долгих, тяжелых раздумий и споров решили пойти в эмигрантский комитет и развернуть там работу по разложению татарского легиона.
Симаев сказал, что подпольщики ездили по лагерям под видом артистов или пропагандистов, вербующих татар-военнопленных в легион «Идель Урал». На самом же деле они отбирали надежных людей и поручали им создавать в легионе подпольные группы, чтобы в нужный момент повернуть оружие против гитлеровцев.
Ахмет Симаев рассказал и о том, как была раскрыта подпольная группа в Берлине.
Основная группа работала в одном из восточных отделов при министерстве оккупированных территорий Розенберга — недалеко от Потсдамерплаца. Там же многие и жили. Подпольщики имели возможность пользоваться радиоприемниками. Они слушали сводки Совинформбюро, писали листовки, печатали их на ротаторе и переправляли в едлинский лагерь, куда часто наезжал Муса Джалиль. Часть листовок распространяли среди молодежи, вывезенной из Советского Союза на работу в Германию.
У подпольщиков был даже доступ к радиопередатчику, с помощью которого они надеялись установить связь с Советским Союзом.
Берлинскую подпольную группу арестовали в августе 1943 года. Кроме Мусы в нее входили Ахмет Симаев, Абдулла Алишев, Фуат Булатов, Тариф Шабаев. Внезапный налет гестапо застал подпольщиков в редакции «Идель Урал», когда подпольщики, настроив приемник, начали слушать и записывать сводку Советского информбюро.
Этот провал произошел вскоре после ареста едлинской группы Джалиля. Арестованных сразу увезли в тюрьму гестапо на Курфюрстендамм. Их посадили в камеры-одиночки, расположенные почти под землей. Здесь они пробыли около месяца.
О провале едлинской группы Мусы Джалиля Ахмет Симаев узнал только в тюрьме. Встретились они с Мусой на очной ставке.
Вскоре после этого всю группу направили в тюрьму Моабит, оттуда несколько раз их возили на допросы в гестапо. Следствие, как рассказывал Симаев, длилось больше полугода.
В тюремной амбулатории Ахмет Симаев спросил Иконникова:
— Ты знаешь здесь капитана Русанова?
— Да, — ответил Иконников. Он рассказал, что недавно провели целую ночь в одной камере.
— Послушай, — попросил Ахмет, — передай ему стихи. Очень надо переправить их на волю. Капитан обещал…
Встретились еще раз через неделю, снова в тюремной бане. Вместе одевались, и Симаев незаметно сунул Иконникову самодельную книжку.
— Держи, десантник! — прошептал он. — Передай капитану, он знает… А нас, видно, увезут скоро.
Мы хотим, чтобы дома знали, как мы вели себя перед смертью.
Симаев не сказал, куда увезут. Ясно и так — в тюрьму Плетцензее. Там есть гильотина, там совершают казни. Михаил Иконников поразился тому, как спокойно говорил его собеседник о смерти. Он сказал это вслух. Ахмет усмехнулся:
— Нам пора уже привыкнуть. Целый год ходим под топором.
Прощаясь, Ахмет сказал, что на прогулки их выпускать перестали. Но когда остальные узники будут выходить в тюремный двор, они — смертники — будут держать руки на решетках окон.
— Пусть это будет нашим последним сигналом, — сказал Ахмет Симаев. — Увидите руки, — значит, мы еще живы. Ну а если… — Симаев не договорил.
В тюрьме Тегель бывшему десантнику Михаилу Иконникову удалось встречаться и с Мусой Джалилем. Об одной из таких встреч он рассказывает:
«Однажды, когда мы выносили параши и ставили их перед дверьми, я вышел, оглянулся по сторонам и посмотрел вниз. Как раз в этот момент открылась камера Мусы на втором этаже, и он тоже вынес свою ношу. Он был в наручниках и ножных кандалах. Я его окликнул и спросил: «Как дела?» Он улыбнулся и ответил, что «неплохо, во всяком случае лучше, чем у фюрера…». В это время появился вахтман, стал ругаться. Муса что-то ему ответил, приподнял руку в наручниках, прощаясь, и дверь камеры за ним захлопнулась».
Что касается блокнота Джалиля, переданного Ахметом Симаевым, Иконников вспоминает:
«Часто, находясь в камере, я вынимал записную книжку со стихами Джалиля, рассматривал ее, но прочитать не мог. Это был маленький блокнот, сшитый из серой и желтой оберточной бумаги, в обложке из серого картона. Листочки в блокноте были исписаны арабскими письменами. В конце книжки написано завещание Мусы и фамилии товарищей, приговоренных к смертной казни. Кроме того, была записка с адресом, которую написал Симаев».
Передать блокнот капитану Русанову не удалось: его вскоре куда-то увезли из тюрьмы Тегель. Иконников долго хранил стихи Джалиля, после освобождения передал их кому-то из офицеров, и они затерялись.
Со слов. Иконникова удалось узнать некоторые подробности суда над подпольщиками в Дрездене
[5]. Об этом ему рассказывал Ахмет Симаев.
Судил их Верховный имперский суд в Дрездене. Прокурор в своей обвинительной речи говорил о подрывной деятельности подпольщиков против германского рейха. Он потребовал вынести смертный приговор всем подсудимым. Защитник, назначенный без ведома подсудимых, просил только заменить смертную казнь пожизненной каторгой.
С последним словом от имени подсудимых выступил Муса Джалиль. Он резко говорил, что преступление совершают не они, советские люди, оказавшиеся на скамье подсудимых, а клика Гитлера. Джалиль сказал, что он и его товарищи гордятся тем, что, даже находясь в плену, сумели внести свою долю усилий в грядущую победу над фашизмом. Он пожалел, что им не удалось продолжить борьбу. «Фашисты ответят за свои преступления!» — бросил Джалиль своим судьям.
Муса отверг обвинение в том, что подпольщики действовали якобы по заданию советского командования. Он повторил: группа действовала по собственной инициативе, потому что каждый из них всегда оставался советским человеком.
Судья не позволил Мусе закончить свое последнее слово. Он прервал его, стал грубо кричать, ругался и приказал охране удалить Джалиля из зала заседания.
После того как огласили приговор, судья сказал, что осужденные могут подать ходатайство о помиловании. Но подсудимые, все до одного, отказались от этого. Единственно, о чем просили осужденные, чтобы на Родине узнали, что они приговорены к смерти.
Это было заветное желание Джалиля и его друзей. Они хотели, чтобы на Родине знали, за что они погибли, что они до конца, до последней минуты своей жизни, остались верны своему народу.
«Речь Джалиля на суде, — сказал Симаев Михаилу Иконникову, — подействовала на всех нас ободряюще. Мы ощутили приток сил, мы были горды тем, что выполнили свой долг перед Родиной».
В поэтическом сборнике Джалиля до нас дошло стихотворение поэта, посвященное фашистскому суду. Оно так и называется: «В день суда». В борьбе и поэзии Муса Джалиль оставался одинаково непреклонным и страстным:
В день суда нас вывели из камер,
Выстроили на пустом плацу.
Солнце затянулось облаками:
Солнцу этот суд не по нутру…
Холодно. Одни босые ноги
Чувствуют сырой земли тепло.
Мать-земля за сыновей в тревоге,
Греет нас и дышит тяжело.
Не горюй, земля, — не задрожим мы
До тех пор, пока ты носишь нас,
Именем страны, которой живы,
Поклянемся мы и в смертный час…
ПРОВАЛ
Порой казалось, что поиски неизвестных страниц военной биографии Мусы Джалиля безнадежно заходят в тупик и следы его жизненного пути обрываются, словно неприметная тропинка в глухом лесу… Прошло больше десяти лет, как закончилась вторая мировая война, а мы еще не знали всех фамилий товарищей Джалиля, которые вместе с ним вели самоотверженную борьбу в фашистской Германии. Для нас оставалось тайной, как гестаповцам удалось раскрыть подпольную организацию Джалиля, почему произошел провал его группы, которая так успешно начинала свою работу.
Но вот, будто случайно, обнаружились новые вехи, новые следы, и вместе с ними вновь зарождалась надежда, что удастся завершить многолетние поиски. Это были неожиданные, однако совсем не случайные находки: с годами в поиск вступали все новые следопыты, которые приносили с собой крупицы недостающей мозаики. Счастливые находки были результатом коллективных усилий.
Однажды в Доме литераторов мы встретились с поэтом Григорием Санниковым. Когда-то он был знаком с Мусой Джалилем, давно знал о наших поисках, радовался успехам, огорчался нашим неудачам. На этот раз он сказал:
— Послушай-ка, может быть, вам пригодится то, что я недавно узнал.
Григорий Санников рассказал, что на днях он встретился с Рубеном Павловичем Катаняном, который припомнил, что вскоре после войны судили какого-то предателя, а на процессе свидетелем выступал человек, как будто бы входивший в группу Мусы Джалиля.
Рубен Павлович Катанян, старый большевик, юрист по образованию, много лет работал в прокуратуре Советского Союза (в 1966 году Р. П. Катанян скончался).
Конечно, через несколько дней я был у Рубена Павловича. Он повторил мне то, что говорил Санникову, но вспомнить фамилии предателя, тем более свидетеля он не мог. Точно знал одно: предателя судили в Туркестанском военном округе.
И вот начался новый круг поисков. В Главной военной прокуратуре горячо откликнулись на просьбу, но выполнить ее почти невозможно. Все сводилось к тому, чтобы решить, казалось, неразрешимую задачу с многими неизвестными — найти фамилии людей, которых никто не знал. Заместитель главного военного прокурора Борис Алексеевич Викторов сочувственно развел руками. «Попробуем вам помочь, — сказал он, — но вы сами понимаете…»
И все же через несколько месяцев кропотливых архивных исследований работникам прокуратуры удалось установить фамилию провокатора, который выдал гестаповцам группу Джалиля. Это был Махмут Ямалутдинов, много лет назад приговоренный к расстрелу по приговору военного трибунала. Стала известна и фамилия свидетеля, выступавшего по делу предателя, — Гали Курбанов. Но где он сейчас, жив ли — никто не знал.
Прошел еще без малого год, когда Гали Курбанович Курбанов, наконец, объявился. Мы встретились с ним в Москве, где он находился проездом, — Гали ехал из Средней Азии куда-то в Закавказье к своим родным.
Прежде всего меня интересовали лица, арестованные вместе с Джалилем. В нашем распоряжении был тогда тюремный блокнот Мусы, в котором наряду со стихами был список арестованных подпольщиков.
Вот эта запись, написанная рукой Джалиля:
Гариф Шабаев — бухгалтер
Муса Джалиль — поэт
Ахмет Симаев — журналист
Абдулла Батталов — Казань
Курмашев (Гайнан)
А. Алиш — писатель
Фуат Булатов — инженер
Сайфульмулюков —
Хисамутдинов — ветеринарный врач
Мичурин — юрист Амиров — певец Шарипов
Тринадцатым в списке стояла зачеркнутая фамилия предателя с пометкой: «Из Узбекистана». А под списком запись Мусы: «Это список обвиняемых татарских парней. Обвиняются в разложении татарского легиона, в распространении советских идей и в организации побегов».
Среди этих фамилий неизвестным оставался юрист Мичурин. Кроме фамилии, никаких сведений о нем не было. О нем прежде всего я и спросил у Гали Курбанова. Гали усмехнулся и ответил:
— Юрист Мичурин — это я — Курбанов… В плену меня называли Мичуриным.
Так стал известен последний из арестованных, перечисленных в блокноте Мусы Джалиля.
Гали Курбанов был прокурором 97-й пехотной дивизии, которая вступила в бой в первые часы войны. Попав в окружение, Курбанов пытался покончить самоубийством, но сделать этого ему не удалось: помешал штык, примкнутый к винтовке, из которой стрелял в себя Гали Курбанов. Он только раздробил себе челюсть и тяжело раненным попал в плен.
Курбанов отличался чудесной памятью. В беседе он называл фамилии подпольщиков, описывал их внешность, перечислял имена немецких сотрудников легиона, подробно рассказывал о событиях, неизвестных нам ранее.
С Гали Курбановым мы встретились еще раз месяца через полтора, когда он снова задержался в Москве на обратном пути из Закавказья. Это была наша последняя встреча: вскоре он умер после тяжелой болезни. Сказались лишения, перенесенные им в фашистской неволе.
Гали Курбанов поведал о том, чему был свидетелем. У него оказалась прекрасная память на имена и события. Он рассказал о зарождении подпольной организации, которая возникла еще в лагерях Кельце и Демблина, о специальном лагере Вустрау, недалеко от Берлина. Здесь окончательно сложилась подпольная группа. Джалиль продолжал выдавать себя за рядового Гумерова. Но в редакции газеты и в комитете «Идель Урал» кто-то узнал, что в Вустрау среди заключенных находится татарский поэт, написавший либретто известной оперы «Алтынчэч». Товарищам удалось вызволить Джалиля из лагеря. Муфтий и Шафи Алмас дали согласие привлечь его к работе в комитете «Идель Урал». Больше того, они сами ездили в Вустрау уговаривать Джалиля. Гитлеровский министр оккупированных территорий Востока Розенберг вызывал к себе Джалиля и тоже убеждал его принять участие в работе комитета. Для гитлеровцев было очень важно иметь на своей стороне известного татарского поэта. Главари легиона полагали, что авторитет поэта даст им возможность привлечь на свою сторону больше советских военнопленных нерусской национальности.
Были тяжелые раздумья и сомнения — как поступить? Решали коммунисты, нашедшие друг друга в лагере. Их было девять человек. Держали совет, опросили каждого. Семеро высказались за то, чтобы идти в легион, использовать эту возможность для борьбы. Двое решительно возражали.
Весной 1943 года по решению подпольной группы Муса дал согласие работать в комитете «Идель Урал». Он поставил только одно условие — сохранить за собой фамилию Гумеров.
Вот тогда, в бессонную ночь перед отъездом из Вустрау, Муса Джалиль прочитал друзьям свое стихотворение «Не верь!», адресованное жене Амине-ханум.
Коль обо мне тебе весть принесут,—
Скажут: «Изменник он! Родину предал» —
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят меня…
Муса сделал выбор — он пошел в легион, чтобы продолжать борьбу не на жизнь, а на смерть.
Гали Курбанов подробно рассказывал о работе подпольщиков в едлинском лагере. Центром подполья был так называемый культвзвод лагеря, в который входили члены организации. Под видом репетиций подпольщики проводили нелегальные совещания, обсуждали планы. Здесь получали задания, принимали донесения из батальонов и окрестных рабочих лагерей.
Подпольщики стремились захватить какие-то посты в легионе, вплоть до того, что даже старший мулла Саберджанов был назначен на эту должность с ведома подпольной организации. Пять раз в день мулла должен был призывать правоверных к молитве, а когда поблизости не было немцев, он рассказывал легионерам содержание сводок Совинформбюро.
Сводки с фронтов Отечественной войны записывали специально выделенные для этого люди. Москву слушали с помощью радиоприемника, который находился в роте пропаганды. Но это не всегда удавалось делать. Для получения радиоинформации пользовались и другими источниками. В двух километрах от лагеря в поселке при станции Едлино жила чешка по имени Елена. Она была женой чехословацкого политического деятеля. В Едлино жила на нелегальном положении, скрываясь от преследования гестапо. Вот с этой чешской патриоткой и установили связь члены подпольной организации. Елена познакомила Мусу с польской семьей Зеленских, которые, в свою очередь, свели подпольщиков с ксендзом из Радома. Вот через этого ксендза, который был членом польской организации Сопротивления, группа Джалиля и получала записи сводок Совинформбюро.
Летом сорок третьего года в лагере произошло несколько побегов, организованных по инициативе подпольщиков. Но главное, чем занималась в это время организация, была подготовка массового восстания по примеру того, что произошло в 825-м батальоне.
Подпольщики рассчитывали, что им удастся связаться с командованием Советской Армии. Для связи через линию фронта были посланы люди, но пока о судьбе их не было никаких известий. Было решено начать подготовку своими силами. Оружие рассчитывали добыть в Познани на военных заводах татарского купца Яушева, где среди рабочих существовала подпольная организация, связанная с группой Джалиля. С помощью гранат и автоматов, доставленных из Познани, рассчитывали обезоружить немцев.
В первых числах августа 1943 года в Едлино появился Муса, который приезжал сюда из Берлина довольно часто. Вместе с подпольщиком Курмашевым Муса написал текст листовки с призывом к восстанию. Листовка была подписана Комитетом освобождения. В ней говорилось о новых успехах советских войск после разгрома немцев под Сталинградом, о действиях союзных войск в Африке. Листовка призывала легионеров ускорить победу Советской Армии и начать вооруженную борьбу с гитлеровцами в их тылу.
Текст листовки в Берлин повез Гали Курбанов. Муса просил передать Шабаеву отпечатать листовку возможно быстрее большим тиражом. Гали уехал в Берлин, а Муса с группой артистов из культвзвода отправился в Познань на заводы Яушева, где поляки обещали ему добыть оружие.
Кроме Блока управление имперской безопасности направило в едлинский лагерь еще несколько других опытных контрразведчиков, в том числе капитана Гелле, возглавившего отдел «1-с» — лагерную контрразведку.
Прибывшие из Берлина гестаповцы прежде всего занялись вербовкой надежного осведомителя из среды легионеров. Выбор пал на Махмута Ямалутдинова. Гестаповцы довольно быстро обработали Махмута, он стал провокатором.
Дерзкий побег из лагеря группы легионеров во главе с чувашем Григорием Михайловым вызвал новую тревогу в лагерном гестапо. Контрразведчик Блок не находил себе места, каким-то собачьим нюхом он чуял, что в лагере что-то назревает.
Дело было в том, что в последнее время пропагандисты культвзвода вдруг активно начали восхвалять победы германских войск на Восточном фронте. Раньше этого никогда не было — пропагандисты всегда говорили о немецких успехах как-то сдержанно и неохотно. Теперь же о событиях под Курском они рассказывали очень подробно. Даже на вечерней молитве мулла читал недавний приказ Гитлера, в котором говорилось, что это наступление будет иметь решающее значение, станет поворотным пунктом войны на Востоке.
Доктора Блока что-то тревожило во всей этой истории. Во-первых, почему пропагандисты с таким опозданием заговорили о германском наступлении: ведь оно длилось уже больше двух недель. Если бы только знал доктор Блок, чем была вызвана внезапная активность пропагандистов культвзвода! Из сообщений Совинформбюро подпольщики уже знали о провале немецкого наступления под Курском. Было известно, что немцы оставили на поле боя свыше семидесяти тысяч солдат и офицеров. Гитлеровцы потеряли большое количество танков и самоходных орудий, тысячу четыреста самолетов, около тысячи орудий, пять тысяч автомобилей… В то же самое время гитлеровская пропаганда все еще продолжала трубить о победе. Этим и воспользовались подпольщики в едлинском лагере.
До нас дошли слова Мусы по этому поводу. Он сказал своим товарищам:
— Гитлер несомненно будет скрывать свое поражение под Курском. Фашисты продолжают хвастать своими победами. Давайте и мы раздувать гитлеровские «победы». Чем выше подкинуть лягушку, тем больнее ей падать… Одновременно в наших листовках надо рассказывать о настоящем положении дела под Курском.
Вскоре сотрудники лагерного гестапо перехватили несколько рукописных листовок, наспех написанных карандашом. В Берлине тоже появились схожие листовки, отпечатанные на пишущей машинке и размноженные с помощью стеклографа. Доктор Блок начал искать авторов встревоживших его листовок. Он действовал методом исключения. Чтобы писать листовки, нужна информация, основанная на сообщениях советского командования. Получить их можно, только слушая советские радиопередачи. В лагере есть только один приемник — в культвзводе. Блок распорядился изъять приемник, якобы для ремонта. Если подпольщики пользовались этим аппаратом, распространение листовок должно прекратиться.
Гестаповцы ждали несколько дней. Листовок не было. Блок торжествовал — его предположения подтверждаются. Теперь надо вернуть приемник на место и установить слежку. Но перед тем как радиоприемник водворили обратно в культвзвод, в лагере снова появились нелегальные листовки… Подпольщики, лишившись радиоприемника в культвзводе, наладили получение сводок Совинформбюро через радомского ксендза и семью Зеленских.
Следствие продолжалось. Вот тогда гестаповцы и ввели в игру предателя Махмута Ямалутдинова.
Вот что показал Махмут Ямалутдинов на предварительном следствии, а потом на заседании военного трибунала:
«Будучи на службе в легионе «Идель Урал», я находился там в должности командира отделения и имел чин унтер-офицера немецкой армии. В начале июля 1943 года в местечке Едлино (Польша) немецкий фельдфебель Блок завербовал меня в качестве агента германской разведки.
В начале месяца, не помню какого числа, часов в десять вечера меня вызвали в штаб батальона. В штабе со мной говорил наш командир, немец, фамилию которого я не помню. Он сказал через переводчика, что в моем отделении легионеры плохо учатся, нет дисциплины. Он предупредил, если так будет продолжаться, меня накажут.
Потом командир роты отвел меня на квартиру к фельдфебелю доктору Блоку, а сам ушел. Фельдфебель начал меня обвинять, что в Советской Армии я был политруком, а в легионе провожу антифашистскую работу. Я это отрицал: я и в самом деле не был политруком, а Блок настаивал и угрожал, что расстреляет, если не признаюсь. В подтверждение своих слов он повел меня в лес, будто на расстрел. Мы отошли от бараков метров на триста. Я просил фельдфебеля меня не расстреливать. Тогда Блок снова привел меня к себе на квартиру. Там уже поджидал нас лагерный переводчик Гаяс Исхаков.
Гаяс Исхаков поздоровался со мной, предложил сесть и заговорил по-татарски. Он начал расспрашивать, был ли я политруком в Советской Армии. Я отрицал это. Гаяс Исхаков переговорил о чем-то с Блоком по-немецки, после чего снова обратился ко мне. Он сказал, что верит мне, потому что я еще молод и политруком быть не мог. Но если фельдфебель настаивает, нужно признаться. Он разрешил мне уйти и предупредил, чтобы я никому не рассказывал, где я был и о чем со мной говорили.
На следующую ночь фельдфебель снова вызвал меня к себе на квартиру и снова потребовал признаться, что я был политруком в Советской Армии. Меня опять повели будто на расстрел, а когда я вернулся, в квартире Блока сидел Гаяс Исхаков».
И так продолжалось несколько ночей подряд. В последний раз немецкий фельдфебель, получив от Махмута все тот же отрицательный ответ, выхватил пистолет и выстрелил над его головой. В тот же момент в комнату вбежал Гаяс Исхаков. Делая вид, будто он защищает Махмута, Исхаков начал бранить фельдфебеля. Блок вышел, а Гаяс Исхаков соболезнующе сказал Махмуту, что если бы он, Исхаков, не подоспел вовремя, фельдфебель непременно убил бы Махмута вторым выстрелом.
Гаяс Исхаков всячески пытался расположить к себе Махмута. Он говорил ему: оба они татары и цели у них должны быть общие. Он уверял, что немцы скоро победят Советский Союз, и тогда в Поволжье возникнет государство «Идель Урал». Там найдется выгодное местечко и для Махмута Ямалутди-нова. Но для того чтобы это произошло быстрее, надо всячески помогать немцам.
Гаяс Исхаков сказал, что ему скоро придется уехать из лагеря и защищать Махмута он больше не сможет.
Махмут Ямалутдинов показал на следствии:
«Я скоро уеду, — сказал Гаяс, — защищать тебя будет некому. Если хочешь спасти свою жизнь, должен помогать мне выявлять среди легионеров антифашистски настроенных лиц. О них надо сообщать мне или лицу, которое я укажу.
Он предложил сотрудничать с германской разведкой, на что я согласился. После этого в комнату вошел фельдфебель Блок. Он принес водку, закуску. Похлопал по плечу и стал угощать сигаретами. Гаяс предупредил: если не буду выполнять обещанного, меня расстреляют».
Потом они втроем пили водку. Махмут дал подписку работать на гестапо.
После того как Махмута Ямалутдинова завербовали в тайные осведомители лагерного гестапо, он стал выполнять различные поручения фельдфебеля Блока. Прежде всего предателя направили в культ-взвод с заданием втереться в доверие к легионерам. Фельдфебель Блок давно предполагал, что именно в роте пропаганды надо искать руководителей подпольной организации.
В конце июля из едлинского лагеря в Берлин послали Батталова за фашистской пропагандистской литературой, которую он должен был привезти из комитета «Идель Урал». Вместе с ним Блок отправил и Ямалутдинова, поручив ему следить за Баталовым. Вот что рассказывал об этом Ямалутдинов:
«В конце июля 1943 года пропагандист Батта лов был направлен в Берлин в национальный комитет «Идель Урал» за фашистской пропагандистской литературой. Отделение гестапо направило меня вместе с Батталовым, поручив следить за ним и выявить его связи.
Батталов вместе с Курмашевым, который находился уже в Берлине, ночевали в национальном комитете, а я в казарме. Получив литературу, отправились обратно в Едлино.
Курмашев был руководителем культвзвода. Он сообщил, что привезли подпольную литературу. Листовки спрятали в матрацы солдат культвзвода. Шестьдесят листовок я взял к себе и спрятал в наволочку подушки. Обо всем донес фельдфебелю Блоку. Вскоре приехал Исхаков с немецким офицером. Он предупредил о предстоящих арестах легионеров и о том, что меня тоже арестуют, но позже освободят. Сделают это, чтобы не раскрывать меня».
В ту же ночь в культвзводе было арестовано около десяти легионеров, в том числе Батталов, Курмашев и Ямалутдинов. При аресте были обнаружены подпольные листовки, доставленные из Берлина.
В едлинском лагере всего арестовали около сорока человек. Одновременно произошли аресты и в Берлине. Там схватили еще человек тридцать. Подпольщиков из Едлина направили сначала в варшавскую тюрьму, оттуда — в Берлин, в тюрьму Моабит. Началось следствие, которое длилось долгие месяцы.
Махмута Ямалутдинова после ареста посадили в отдельную камеру. На другой день рано утром его увезли в легковой машине в Радом. Там на вокзале предателя встретил Гаяс Исхаков и возвратил ему немецкое снаряжение и погоны, отобранные при аресте. В тот же день он уехал в Австрию на экскурсию. Некоторое время Ямалутдинов жил в Инсбурге, затем возвратился в Едлино. Таким образом была создана видимость, будто его тоже арестовали вместе с другими легионерами, но за недоказанностью обвинения освободили.
Выдав подпольную организацию Джалиля, Махмут Ямалутдинов получил повышение по службе — он стал командовать взводом. Некоторое время работал полицаем в районе Кракова, а летом сорок четвертого года, не надеясь больше на победу Германии, организовал группу полицаев и перешел с ними к партизанам в отряд И. Ф. Золотаря. Махмут Ямалутдинов пытался скрыть следы своего преступления. Вернувшись в Советский Союз, он часто менял места своего жительства, но советские органы безопасности все же обнаружили следы предателя.
Военный трибунал Туркестанского военного округа, разбиравший дело предателя Махмута Ямалутдинова, приговорил его к высшей мере наказания — к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение.
Не о нем ли и ему подобных изменниках писал Муса в стихотворении «Четыре цветка», воспевая героическую смерть четырех солдат и проклиная предательство пятого:
И четыре алые гвоздики
Славные могилы осенят,
Но репейник вырастет на пятой,
Где схоронен трус, а не солдат.
А борьба, несмотря на тяжелый провал, все продолжалась. Уже после ареста Джалиля и других подпольщиков произошло восстание в другом, в 828-м батальоне легионеров. Он насчитывал в своем составе несколько тысяч человек. Батальон размещался под Варшавой, и Муса Джалиль бывал в нем не раз. Часть батальона германское командование направило на Западную Украину для борьбы с советскими и польскими партизанами. Легионеры прибыли на место, получили оружие и вскоре повернули его против фашистов. Перебив гитлеровских офицеров, большинство советских военнопленных перешли на сторону партизан.
Произошли беспорядки и еще в одном — в третьем по счету — батальоне. Выступление это было жестоко подавлено карательными войсками.
Все эти восстания и беспорядки среди легионеров явились результатом подпольной работы различных групп советских патриотов. Они заставили германское военное командование отказаться от мысли использовать на фронте советских военнопленных против Советского Союза.
Свое существование легион «Идель Урал» закончил в Южной Франции, в маленьком городке ЛеПюи, близ Лиона, куда гитлеровцы перевели остатки легиона. Немецкое командование решило использовать легионеров хотя бы для борьбы с французскими партизанами. Но и здесь нацистов ждало разочарование. Осенью сорок четвертого года, перебив немецких офицеров, легионеры перешли к французским партизанам. Они стали действовать вместе с отрядами маки, принимали участие в освобождении французских городков и селений от гитлеровских оккупантов.
Преступления Махмута Ямалутдинова были раскрыты через десяток лет после того, как он их совершил. Но есть события, которые раскрываются спустя более четверти века… Известно, что основным пунктом обвинения, предъявленного фашистским судом группе Джалиля, являлась антифашистская пропаганда, распространение нелегальных листовок и организация побегов из лагеря легиона «Идель Урал».
Уже в наши дни немецкому литератору Леону Небенцалю удалось получить новые сведения об этой работе подпольщиков. Он нашел еще одного свидетеля — некоего Фридриха Биддера, который в те годы служил переводчиком в легионе.
«Однажды, — рассказывает Биддер, — в лагере поднялась большая суматоха. В соломенных матрацах легионеров нашли листовки — огромное количество. Само собой, они призывали к побегу из легиона и к борьбе против фашизма. Я сам эти листовки не видел, но знаю, что они писались не на татарском, а на русском языке и печатались на машинке, имеющей какой-то небольшой дефект — одна буква стояла неправильно. По этому дефекту стали разыскивать пишущую машинку, которой пользовались подпольщики. И нашли ее… у Геббельса, в его министерстве пропаганды».
Сейчас это кажется почти невероятным фактом. Но дело в том, что министерство пропаганды Геббельса и министерство оккупированных территорий Розенберга имели один общий отдел, который назывался «Винета». Отдел «Винета» являлся центром пропагандистской работы на Востоке. Здесь работало много переводчиков на разные языки народов Советского Союза. Был среди них и соратник Мусы Джалиля — Ахмет Симаев.
В 1943 году германская столица часто подвергалась массированным и длительным бомбардировкам авиации союзников. В связи с этим во многих правительственных учреждениях были введены ночные дежурства для работы. А в отделе «Винета» к таким ночным дежурствам привлекались все переводчики. Фридрих Беддер утверждает: «Было установлено, что в одну из ночей некий дежуривший переводчик татарского происхождения использовал министерскую пишущую машинку с русским текстом для размножения листовок во многих экземплярах на русском языке».
Единственным подпольщиком из группы Мусы Джалиля, дежурившим по ночам в отделе «Винета», был Ахмет Симаев
[6]. В объединенном ведомстве двух столпов гитлеровской Германии — Геббельса и Розенберга он печатал подпольные листовки.
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДЖАЛИЛЯ
Коллективными усилиями друзей Мусы Джалиля удалось проследить тяжелый и героический путь поэта от Мясного Бора на Волховском фронте до фашистских застенков в берлинских тюрьмах Моабит, Тегель, Шпандау. Что произошло дальше, когда погиб Джалиль и его товарищи, оставалось неизвестным. До нас доходили разрозненные, отрывочные сведения, порой противоречивые и не позволявшие установить точно, как и когда погибли участники подпольной группы Джалиля.
Вскоре после войны брат Ахмета Симаева — Фот-тех получил письмо от незнакомого ему человека. Писал из Германии капитан Советской Армии Лукьянов. Это была короткая записка, сообщавшая Фот-теху Симаеву о судьбе его брата.
«При обследовании одного из фашистских застенков в дрезденской тюрьме, — сообщал Лукьянов, — обнаружил надпись на тюремной стене. Она гласила:
«Здесь сидел Ахмет Симаев, журналист, москвич. Нас из России одиннадцать человек. Все мы осуждены вторым германским имперским судом на смертную казнь. Кто обнаружит эту надпись и вернется живым на Родину, прошу сообщить родным и близким о нашей судьбе.
24 марта 1944 года».
Вот об этом я вам и сообщаю.
Дальше был написан ваш адрес, по которому я и посылаю это письмо, выполняя волю погибшего патриота.
С приветом к вам капитан Лукьянов».
Вдова Тарифа Шабаева, тоже после войны, получила в Ташкенте письмо от незнакомого ей человека — Василия Ивановича Чебона. Он писал:
«Я сообщаю вам, что Шабаев Тариф Хафузович сидел со мной в тюрьме в г. Берлине в июле месяце 1944 года. Они были присуждены к расстрелу — одиннадцать человек за подпольную работу против немцев, а я был присужден к пятнадцати годам тюрьмы.
Я с ним сидел в одной тюрьме, и один раз в неделю мы с ним виделись на прогулке.
Пока все. Описывать всего не стану, но его нет в живых».
На запрос вдовы Тарифа Шабаева Василий Чебон прислал еще одно письмо.
«Я вам должен сказать, — писал он, — что мы познакомились с Шабаевым в сорок четвертом году в июле месяце в Берлине, в тюрьме… Он был присужден к смертной казни имперским судом за подпольную работу против немцев. Работал в подпольной типографии в Берлине. Но он был не один — к смертной казни присуждено было одиннадцать человек».
Последняя строчка письма позволяла предполагать, что подпольщиков-антифашистов могли казнить только после даты, указанной Василием Чебоном.
В том же письме Василий Чебон рассказал жене погибшего товарища о том, что ему пришлось заучивать на память все, что говорил Тариф Шабаев: адрес семьи, имя жены и просьбу передать всем, что они погибают за Родину.
Заключенные, прибывшие из той же тюрьмы в лагерь позже Василия Чебона, говорили ему, что всех осужденных уничтожили, но сам он точно не знает, когда это произошло.
Найти Чебона, чтобы подробнее порасспросить о его жизни в тюрьме, не удалось Может быть, он уже умер или куда-то переехал, не оставив своего адреса.
Поиск продолжали немецкие товарищи. Леон Небенцаль обратился с письмом к бывшему тюремному священнику Плетцензее Харальду Пельхау с просьбой сообщить все, что он знает о Мусе Джалиле и его товарищах. В демократической Германии Пельхау был известен как активный антинацист и автор известной книги «Последние часы», в которой вспоминал о последних часах жизни перед казнью многих политических заключенных.
К сожалению, Харальд Пельхау не встречался в тюрьме Плетцензее с узниками-татарами и не мог ничего сказать о них. Но запрос Небенцаля Пельхау отправил бывшим священникам других тюрем. Один из них — священник Юрытко, служивший во время войны в военной тюрьме Шпандау, написал следующее:
«Я помню еще поэта Мусу Джалиля. Я посещал его, как католический священник, приносил ему для чтения книги Гёте и научился ценить его как спокойного благородного человека. Его товарищи по заключению в военной тюрьме Шпандау очень уважали его… Он сидел в камере с одним инженером, имени которого я не помню. Как рассказывал мне Джалиль, он был приговорен к смертной казни за то, что печатал и распространял воззвания, в которых призывал своих земляков не сражаться против русских солдат».
Священник Юрытко рассказал еще, что среди приговоренных к смерти в тюрьме Шпандау находился один итальянец по фамилии Ланфердини — Рениеро Ланфердини, который сидел в одной камере с Мусой Джалилем. Юрытко хорошо помнил, что он приносил Ланфердини «Божественную комедию» Данте на итальянском языке.
Книга «Божественная комедия» сохранилась в библиотеке священника Юрытко. На ее полях обнаружили неясную запись — адрес жены Ланфердини, жившей в Северной Италии в городе Мантуе, и ее имя. Заключенный записал на полях книги, что военный трибунал в Берлине приговорил его к смерти, приговор вынесен 29 мая 1944 года. Эта запись стала источником дальнейших поисков.
В одну из поездок в Германию мне представилась возможность посетить католического священника Юрытко, жившего в Западном Берлине. Наша встреча произошла в его домике, стоявшем на берегу озера. Домик был окружен молодым садом. Мы долго ждали хозяина на берегу Гафеля, он, как нам сказали, ушел куда-то в больницу. Потом пришла пожилая экономка, сообщила, что святой отец вернулся домой и ждет нас. Господин Георг Юрытко встретил нас в дверях своего дома, провел на второй этаж, в рабочую комнату, заставленную множеством богословских книг.
Узнав о цели моего приезда, священник начал вспоминать о своих встречах с поэтом. Он рассказал, что впервые увидел Джалиля летом 1944 года. В камере было двое заключенных — Джалиль и его товарищ. С Джалилем он разговаривал больше, потому что тот лучше знал немецкий язык. Оба заключенных оставляли впечатление умных и образованных людей. Джалиль просил тюремного священника приносить ему книги. Особенно он любил Гёте, и Юрытко как-то принес ему книжку стихов поэта.
— Как тюремный священник, — рассказывал Юрытко, — я мог посещать камеры заключенных-смертников, старался помочь им… Последний раз я видел Джалиля за день до казни. Джалиль тогда передал мне письмо, которое я тайно вынес из тюрьмы, наклеил марку и опустил в почтовый ящик. Письмо было написано по-русски, я и сейчас вижу красивые, ровные строки. Джалиль прочитал и перевел мне письмо. Помню, оно было адресовано товарищу, но предназначалось жене. В письме он прощался с ней. В тот день Джалиль рассказал мне свой последний сон. Ему приснилось, будто он стоит один на большой сцене, а вокруг него все было черно — и стены, и вещи…
О смерти поэта священник узнал на другой день. О предстоящей казни ему ничего не сказали, при казни присутствовал татарский мулла.
Я спросил священника, когда умер Джалиль. Юрытко задумался и ответил:
— Мне кажется, это было поздней осенью 1944 года, скорее всего в октябре. В то время в заключении находился один итальянец по фамилии Ланфердини, который был арестован за то, что кому-то сказал: «Гитлер — это современный Нерон».
Мы заговорили о Ланфердини. Юрытко сказал, итальянец был приговорен к смертной казни, но он имел возможность после суда подать ходатайство о помиловании. Помочь ему мог только адвокат, но у Ланфердини не было денег. Юрытко сам нанял адвоката и заплатил восемьсот марок. Новый суд приговорил Ланфердини к длительному тюремному заключению. После войны он вернулся в Италию.
Беседа подходила к концу. Когда мы прощались, священник поднялся из-за стола и сказал:
— Я уверен в добрых человеческих намерениях Мусы Джалиля и его товарищей. Они были другой религии, но я уверен, что все они сейчас находятся в раю… Да, да, в раю.
В устах католического священника это было высшей оценкой земных деяний Мусы Джалиля и его товарищей.
К тому времени, когда я посетил Георга Юрытко, уже удалось найти Рениеро Ланфердини, хотя после войны он переменил место жительства.
Вернувшись в Италию, Ланфердини записал все, что пережил в фашистской тюрьме. Ссылаясь на свои записи, Рениеро тотчас ответил на вопросы, поставленные перед ним.
«5 июня 1944 года, — сообщил он, — меня поместили в камеру № 53 тюрьмы Шпандау, где находились Муса Джалиль и господин Булатов, которые встретили меня очень радушно. Мы тут же стали добрыми друзьями. Они рассказали мне, что уже много месяцев назад были приговорены к смерти и ждут казни. В ожидании смерти они были спокойны и даже веселы. В то же время я познакомился и с некоторыми другими их товарищами-татарами, тоже занимавшимися пропагандой против нацистов. В этой камере я оставался примерно с месяц. Потом меня перевели в другую камеру, № 153, где я встретил друзей Джалиля и Булатова. Их было двенадцать человек, и все они были приговорены к смерти.
25 августа 1944 года в шесть часов утра немецкая стража распахнула дверь камеры. Жандармы вызвали приговоренных по фамилиям и потребовали, чтобы они вышли. На вопрос «зачем?» им ответили, что стража этого не знает. Но они тотчас поняли, что это значит. Как удары, воспринял я их слова ко мне: «Ты так боялся умереть. Теперь мы идем умирать». Они оставили в камере все свои вещи. В то время как они выходили, я ясно различил в коридоре голос Джалиля и его товарищей, разговаривавших друг с другом. Позже я спросил патера Юрытко, что стало с татарами, моими соседями по камере, и он мне ответил, что все двенадцать были казнены в десять часов того же дня».
Потребовалось еще время, чтобы документально установить печальную дату гибели антифашистов-подпольщиков. Запросы в прокуратуру Западного Берлина не дали результатов. На имя адвоката доктора Кауля пришел ответ: «В архиве тюрьмы Плетцензее, где хранятся картотеки казненных, Джалиль, он же Залилов, не обнаружен».
И все же в немецких архивах, сохранившихся с фашистских времен, удалось найти документ, подтверждающий дату смерти одного из обреченных на казнь. Речь шла об Ахмете Симаеве. В тюрьме Плет-цензее нашли регистрационную карту «осужденного Ахмета Симаева, рождения 1915 года, 28 декабря, по профессии журналиста из татарского легиона». Здесь указывалось его вероисповедание — «магометанин», формула обвинения— «подрывная деятельность». Тут же сообщалось, что осужденный Ахмет Симаев поступил в Плетцензее из тюрьмы Шпандау 25 августа 1944 года. В графе «Вид наказания, подлежащего исполнению» было написано: «Смертная казнь». В заключительной графе — «Причина выбытия из тюрьмы Плетцензее» стояло: «Казнен 25 августа 1944 года».
Ахмет Симаев, а следовательно, и остальные подпольщики были казнены в тот самый день, когда их привезли в Плетцензее. В этой тюрьме, в бывшем спортивном зале, стояла средневековая гильотина, с помощью которой в фашистской Германии совершались казни.
И наконец, последний документ, его нашли только в 1968 году, который подтверждает день казни самого Мусы Джалиля. В районе Шарлоттенбурга (Западный Берлин) в отделе записей актов гражданского состояния был найден журнал регистрации за 1944 год. 26 августа, на другой день после казни под-полыциков, в этом журнале за № 2970 была сделана следующая запись:
«Берлин, Шарлоттенбург. 26 августа 1944 года.
Писатель Муса Гумеров-Джалиль, мусульманин, умер в Берлине в 12 часов 18 минут.
Причина смерти — обезглавлен.
Записано с устного сообщения помощника надзирателя Пауля Дюррхауэра, проживающего в Берлине, Мантейфельштрассе, 10. Сообщивший эти данные известен и заявил, что является свидетелем смерти».
Такие же записи в журнале регистрации смертей с непременной ссылкой на свидетеля Дюррхауэра были сделаны и по поводу других участников подпольной группы Джалиля.
Слова Ахмета Симаева о том, что все они, приговоренные к смерти, будут держать руки на тюремных решетках во время прогулок заключенных, дошли до других узников тюрьмы Тегель. С того дня заключенные Тегеля постоянно следили на прогулках в тюремном дворе за окнами второго этажа. Там виднелись двенадцать пар рук, закованных в кандалы. Это было сигналом, что подпольщики живы, что они шлют последний привет живым и непокоренным…
Но настал день, когда узники Тегеля не увидели рук… Молча шагали они по кругу в тюремном дворе, стиснув зубы и кулаки. Снова поднимали глаза на тюремный корпус — может быть, все же появятся руки? Нет, они были пусты — эти двенадцать одиночных камер.
— Увезли!.. Казнили! — как стон разнеслось по тюрьме.
Стало тихо…
И вдруг в этой невыносимой тишине над тюремным двором торжественно и широко полилась песня:
Это пел капитан Русанов, вцепившись руками в железные переплеты оконной решетки. Он пел в полный голос, не обращая внимания на вахтманов, пел, как во время воздушной тревоги. Охранники бросились к его камере, но Русанов продолжал петь.
Все, кто был на тюремном дворе, подняли головы. В окне второй камеры на первом этаже они увидели две руки, вцепившиеся в железные решетки. Невидимый узник продолжал петь…
Борьба продолжалась. Песня рвалась из тюремного окна на волю, так же, как песни Джалиля, о которых он говорил:
Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.
INFO
Ваши отзывы и пожелания присылайте по адресу: Москва, А-47, Миусская пл., 7, Политиздат, редакция литературы по истории советского общества.
Корольков Ю. М.
К68 НЕ ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ… Изд. 2-ое, испр. и доп. М., Политиздат, 1972.
120 с. (Герои Советской Родины).
8С(Татар.)
Заведующий редакцией А. И. Котеленец
Редактор А. С. Кочеткова
Художественный редактор В. И. Терещенко
Технический редактор О. М. Семенова
Ответственные корректоры
Н. А. Иванова, К. И. Соболевская
Сдано в набор 28 декабря 1971 г. Подписано в печать 23 февраля 1972 г. Формат 70x108 1/32. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 5,25. Учетно-изд. л. 4,82. Тираж 150 тыс. экз. А 00037. Заказ № 1058. Цена 17 коп.
Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.
…………………..
FB2 — mefysto, 2023
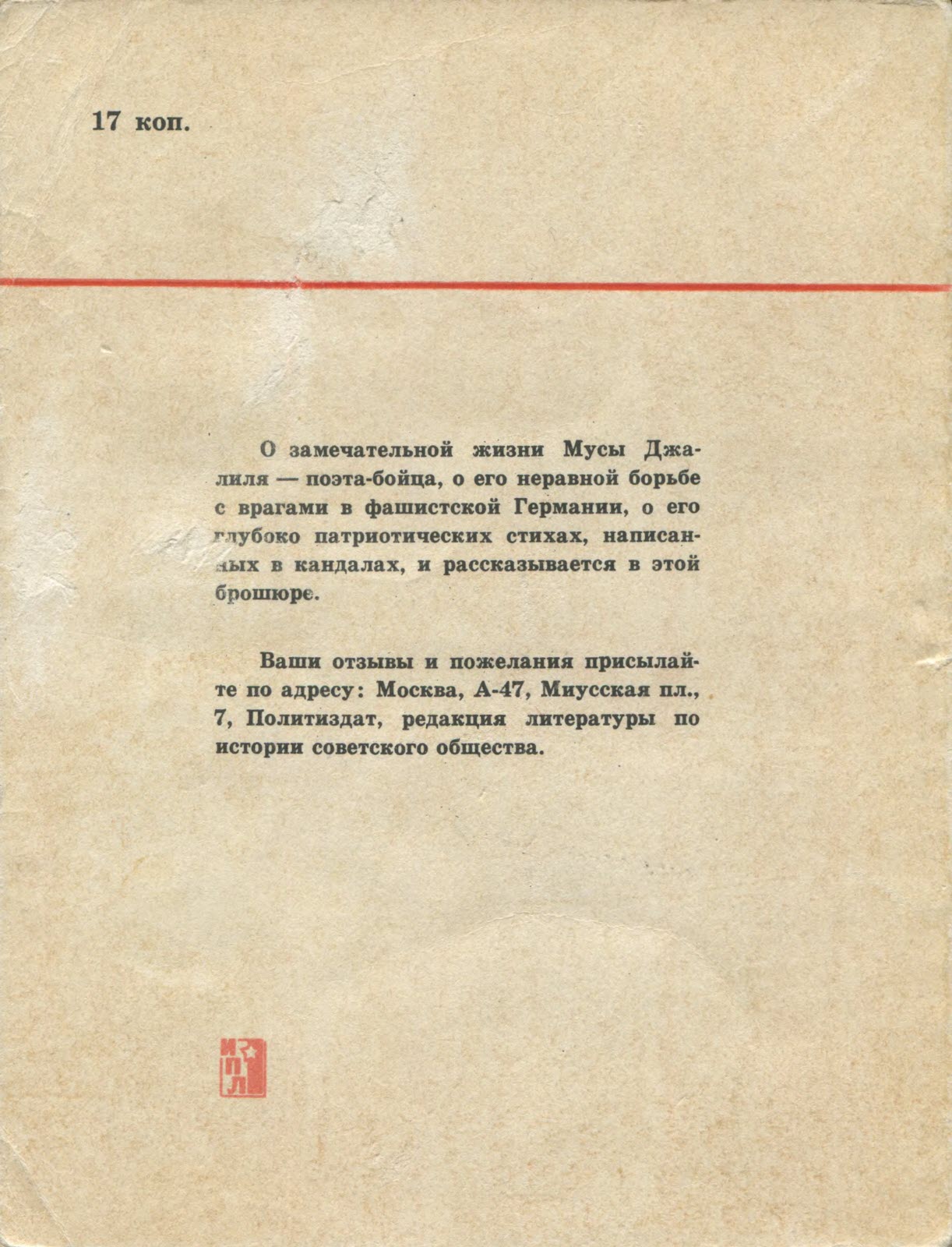
Примечания
1
Грамоте в то время в татарских школах учили по корану — основной мусульманской «священной» книге.
(обратно)
2
Так назывались коммунистические вооруженные отряды — части особого назначения.
(обратно)
3
Спустя много лет после войны в архивах удалось найти уголовное дело этого провокатора, сына белогвардейца. Он состоял в молодежной организации НТС. В письменных показаниях от 12 февраля 1945 года он рассказывает историю своего предательства. «Группа наших ребят порвала с союзом эмигрантской молодежи и с некоторыми чинами из армии Власова и начала вести пропаганду против нашего союза…
Об этом я узнал и в свою очередь поговорил с начальником по союзу доктором Сергеевым. За день до этого разговора я был призван в отдел контрразведки (Абверштелле-III), где мне было поставлено на вид, что или я помогу раскрыть подпольщиков, или не увижу воли. Я согласился и был взят под руководство агента контрразведки Эрвина фон Шульце (балтийский немец, служивший уже много лет в немецкой контрразведке и бывший еще до войны несколько раз на территории России). Под его «руководством» мне удалось узнать несколько фамилий членов подпольной группы — полковника Бушманова, работника организации ТОДТ Петра Ивановича Иванова. Остальные фамилии забыл…» После этого — летом 1943 года — члены этой группы были арестованы, а вскоре гестапо раскрыло и группу Джалиля.
(обратно)
4
Только много лет спустя удалось подробнее узнать о судьбе Александра Дмитриевича Русанова. Двадцатичетырехлетний капитан был адъютантом начальника Украинского штаба партизанского движения генерала Строкача, потом командовал партизанским отрядом «Двадцать лет РККА» и тяжело раненным попал в плен. Гестаповцы всячески пытались получить от него нужные им сведения, но капитан Русанов молчал. От его имени гитлеровцы выпустили провокационную листовку, но и это не помогло гестаповцам привлечь на свою сторону советского капитана. Его не сломили ни пытки, ни провокации. Приговоренный к смерти, он покончил самоубийством, оставив записку, которая была найдена через много лет после войны при разборке бараков концлагеря Заксенхаузен, в котором томился капитан Русанов. Свое предсмертное письмо он закончил словами: «Родину не предал, секретов не выдал. Прощай, Родина. Твой сын А. Русанов.
Подвергаясь нечеловеческим пыткам со стороны гестапо, кончаю самоубийством».
Копию этой предсмертной записки и прислал мне бывший начальник Украинского штаба партизанского движения Тимофей Амвросиевич Строкач.
(обратно)
5
До этого о дрезденском процессе ничего не было известно. Прокурор Дрездена, к которому обращались по этому поводу, сообщил из Германской Демократической Республики:
«Акты по делам борцов антифашистского Сопротивления хранились в Дрездене на Пильнитцерштрассе. В ночь с 12 на 13 января 1945 года во время варварской бомбардировки города американской авиацией здание сгорело дотла. Все хранившиеся там материалы были уничтожены.
В здании суда на Мюнхенерплац в Дрездене все судебные акты по политическим делам перед приходом Красной Армии были свалены нацистами во дворе, облиты бензином и сожжены».
О суде в Дрездене говорилось только в стихотворении Джалиля «В день суда».
(обратно)
6
Это подтверждает и Гайни Батихов, который писал в одном из писем: «Ахмет Симаев работал переводчиком с русского на татарский в отделе «Винета» на Мюнцштрассе».
(обратно)
Оглавление
ОТ АВТОРА
ДЕТСТВО БЕЗ РАДОСТИ
ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
ПО СЛЕДАМ
НЕИЗВЕСТНОГО ПОДВИГА
МОАБИТСКАЯ ТЕТРАДЬ
ПРОВАЛ
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДЖАЛИЛЯ
INFO
*** Примечания *** 

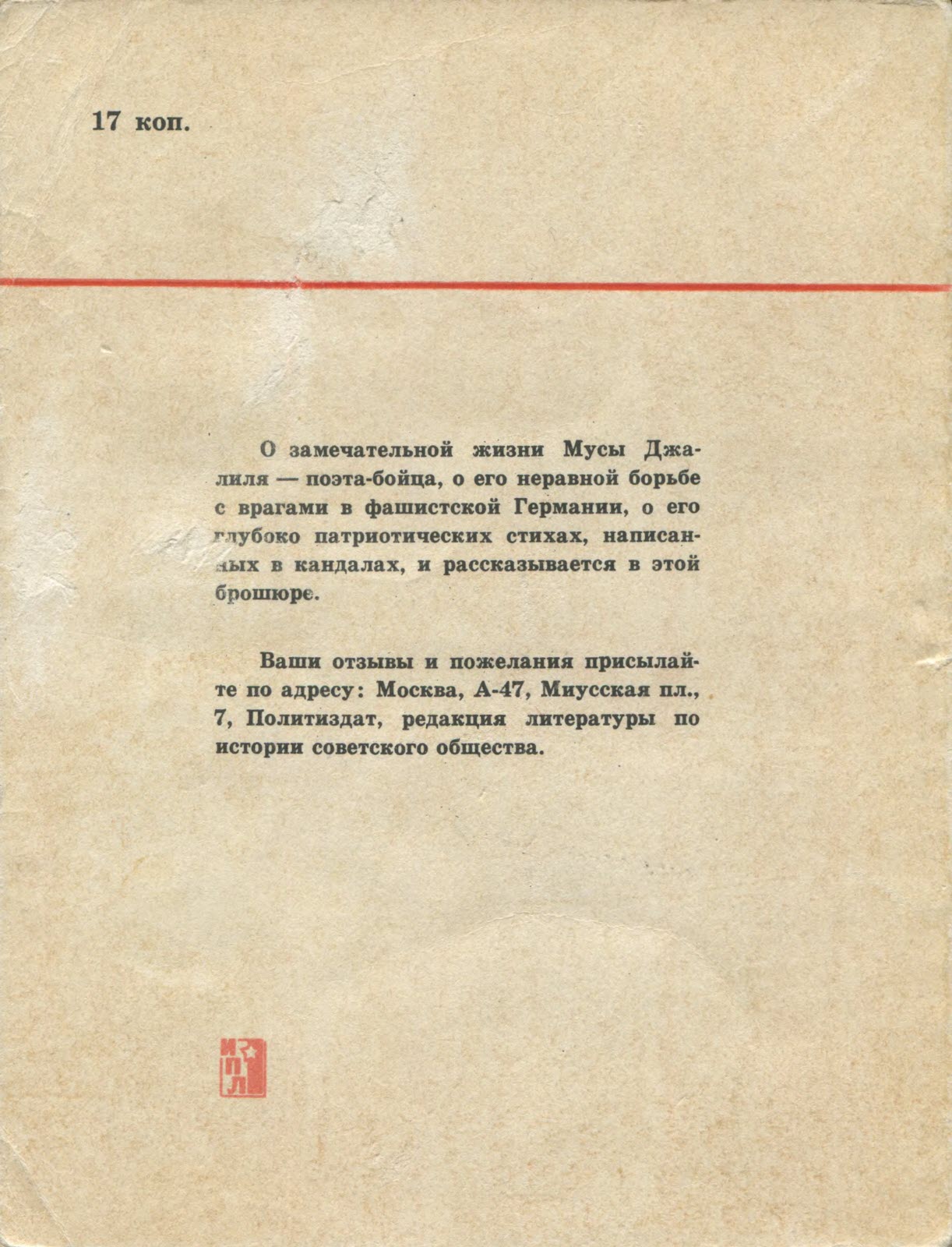
Последние комментарии
3 часов 55 минут назад
11 часов 43 минут назад
14 часов 14 минут назад
14 часов 22 минут назад
2 дней 1 час назад
2 дней 5 часов назад