Япония. От сегуната Токугавы - в ХХI век [Джеймс Л. Мак-Клейн] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Джеймс Л. Мак-Клейн
ЯПОНИЯ
ОТ СЕГУНАТА ТОКУГАВЫ — В XXI ВЕК

*
Настоящее издание является переводом с английского оригинального издания «Japan: A Modem History» by James L. McClain.
Перевод с английского E. A. Красулина
© ООО «Издательство Астрель» © 2002 by W. W. Norton & Company, Inc.
Энн и Кати
Джеймс Л. Мак-Клейн является также автором следующих книг:
«Канасава: японский город-замок XVII столетия»
«Эдо и Париж: городская жизнь и государство на заре новой истории»
«Осака: торговая столица Японии на заре новой истории»
Предисловие
Впервые я увидел Японию с борта американского военного корабля «Президент Вильсон», когда в один из октябрьских дней чудесной осени 1966 г. мы входили в воды Токийского залива. Несколько часов занял наш путь до причала в порту Йокогамы. Рассматривая гору Фудзи и поля с еще не убранным богатым урожаем, я задавал себе вопрос — а что вообще я делаю в Японии? Я только что закончил Мичиганский университет, где специализировался по американской истории, и ровным счетом ничего не знал об этой стране. Я даже никогда до этого не покидал пределов Соединенных Штатов. Так далеко от родных мест я оказался лишь благодаря моему школьному товарищу, который был родом из Токио. Он сказал мне, что его семья может приютить меня в том случае, если я захочу посетить его родные места. Таким образом, мое путешествие в Японию было чем-то сродни школьной шалости. Однако это приключение, к немалому моему удивлению, коренным образом изменило мою жизнь. Вскоре я уже не мыслил себе иного занятия, чем изучение истории Японии. Я, пожалуй, совсем ничего не знал о Японии, ступив впервые на ее землю. В моем «багаже» было лишь несколько стереотипов. Среди прочего, я представлял себе японское общество на редкость единодушным. Население, по моему мнению, было весьма однородным. Люди выглядели одинаково думали одинаково, и достигнуть всеобщего согласия по какому-либо вопросу им было необычайно легко. Совсем немного времени ушло у меня на то, чтобы понять ошибочность подобных представлений. Меня повсюду окружали люди разных возрастов, разных полов, разного образовательного уровня и принадлежавшие к разным социальным слоям. У каждого из них было свое мнение по любому поводу — должна ли женщина сидеть дома или ходить на работу, нужно ли Японии становиться союзником Соединенных Штатов или следует придерживаться нейтралитета, восхвалять ли японский крупный бизнес за его вклад в послевоенное процветание или заклеймить за ущерб, наносимый его деятельностью окружающей среде. Я, конечно, понимал, что гармония и согласие были желаемым идеалом. На деле, однако, оказалось, что мнения японцев относительно важнейших вопросов, касающихся их страны, сильно расходятся, что порождает острые противоречия в обществе. То, что я узнал во время первого посещения Японии, повлияло на мое восприятие истории этой страны. Если горячие споры и противоречия настолько очевидны в современном японском обществе, то, видимо, что-то подобное можно обнаружить и в прошлом. Именно столкновение мнений и порождало ту энергию, которая заставляла общество двигаться вперед. Последние два века практически в любом обществе наличествуют три основные тенденции развития. Это урбанизация, индустриализация и глобализация. Все они оказывали очевидное влияние и на ход японской истории, формируя восприятие индивидуумами самих себя и окружающего мира и обозначая границы возможного. Тем не менее в пределах этих общих основных тенденций японцы, во всем своем огромном разнообразии, творили свою собственную историю. Поэтому нашей главной задачей должно быть стремление понять, как различные люди и социальные группы определяют для себя приоритеты и каким образом затем борются за построение такой жизни, в которой найдут отражение их мечты, ценности, верования и амбиции. Эта цель и явилась тем фундаментом, на котором строится данное повествование. За время многолетнего общения со своими новыми друзьями и коллегами я также пришел к пониманию того, что большинство японцев гораздо ближе стоят к собственному прошлому, чем американцы, по крайней мере, те, с которыми я знаком. Вероятно, это является естественным для страны, более тысячелетия сохранявшей свое политическое единство. Кроме того, Япония — страна, где человек, сойдя с поезда современного сабвея, может тут же очутиться в тиши древнего храма. Наслаждаясь в кафе чашечкой французского кофе и слушая последние джазовые новинки, бросив взгляд на улицу, можно увидеть проходящую мимо пожилую женщину, одетую в традиционное кимоно, в руках у которой будет сёмисен — трехструнная лютня, звуки которой обычно разносятся над «плавучим миром» — районами, именующимися в Европе кварталами «красных фонарей», — в котором обитают дамы и кавалеры полусвета, возникшим в японских городах на заре современной эпохи. В обзоре этого раннего периода современной истории (1603–1868), приведенном в данной работе, отражена важность связи между прошлым и настоящим. Среди прочих проблем в книге исследуется, каким образом политическая культура, позволившая простым японцам участвовать в самоуправлении их деревень и городских кварталов, взрастила горожан новой эпохи, считавших своим долгом критиковать политику правительства, организовывать политические движения и партии и играть важную роль в парламентской системе, созданной в период Мэйдзи (1868–1912); как рост торговли и протоиндустриализации в XVIII — начале XIX в. сделал возможным быструю индустриализацию после 1868 г.; и, наконец, как традиционные взгляды на семью и отношения полов повлияли на модели поведения, существующие в современную эпоху. Мой японский опыт также предостерегает меня от взгляда на японское общество и его историю как на образец успешного развития. Когда я впервые оказался в Токио в конце шестидесятых, было трудно не оказаться под впечатлением от того изобилия, которое меня окружало, с новыми небоскребами и чистенькими улицами, и с ощущением того, что все вокруг идеально отлажено и прекрасно работает. И все же газетные материалы и телевизионные сюжеты быстро указали на многочисленные издержки и неудачи, поджидавшие Японию на пути модернизации. Жилищные условия огромного количества людей по-прежнему оставались далеки от стандартов. Система образования основной упор делала на примитивное зазубривание фактов, а не на развитие индивидуальных способностей и талантов каждого студента. Руководители среднего звена в основных корпорациях работали так напряженно, что у них практически не оставалось времени на семейную жизнь, да и на жизнь вообще. Проблемы, досаждавшие Японии во второй половине XX столетия, сделали очевидным даже для такого дилетанта, как я, тот факт, что на историю этой страны нельзя смотреть просто как на последовательность событий, ведущих к светлому будущему. Многие мои японские друзья несколько обескураженно говорили о печальных тенденциях, порожденных некоторыми аспектами истории. То предубеждение, с которым японцы сейчас относятся к айнам и корейцам, зародилось еще на заре Нового времени. Более того, в прошлом, когда страна оказывалась на историческом распутье, японцам приходилось принимать решения о том, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие общества. Иногда результатом подобного выбора было процветание всего народа. Но в других случаях он приводил, по общему мнению, к трагическим последствиям. Следует только сравнить бурную социальную и интеллектуальную жизнь 20-х гг. XX в. с гнетущей атмосферой военного времени в конце 30-х — начале 40-х, чтобы понять, какие пируэты и виражи может выделывать японская история. Со временем я также пришел к пониманию, что культура и история Японии не представляют из себя какое-то исключительное явление. Вне всякого сомнения, Япония уникальна. В том смысле, что все национальные истории и культуры не похожи одна на одну, даже если у них есть определенные общие черты. Соответственно, стиль поведения японцев, как в прошлом, так и в настоящем, не отличается от поведения других народов настолько, чтобы не быть понятым (насколько мы можем понимать те ценности, которые определяют те или иные модели поведения). Иначе говоря, быть отличным — это не значит быть непонятным. Вернувшись из первого путешествия в Японию и поступив в аспирантуру Йельского университета, я прочитал эссе, написанное антропологом Клиффордом Геерцем. Оно помогло мне упорядочить мои собственные мысли относительно культурных различий разных народов[1]. Его автор занимался изучением культуры марокканцев. Главным выводом, к которому он пришел, было то, что мышление марокканцев является одновременно и логичным, и алогичным. «Понимание культуры народа, — заключил он, — заключает в себе осознание его нормальности без отрицания особенностей». По мере того как я продвигался в моих исторических исследованиях, у меня выработался свой подход к изучению японской истории. Его основные положения состоят в следующем: избегать стереотипов и пытаться понять ценности и способ мышления, заставляющие японцев поступать так или иначе; оценивать наследие прошлого, но не забывать при этом, что история постоянно вынуждала людей принимать решения, способные самым радикальным образом изменить направление развития; при рассмотрении последствий тех или иных поступков обязательно учитывать мотивацию людей, принимавших участие в событиях; помнить, что историю Японии можно понять, несмотря на некоторые странные ее проявления; и всегда держать в голове, что не существует универсальной модели поведения и что другие народы могут находить удовлетворение в таком стиле жизни, который сильно отличается от нашего. Постижение чужой культуры и истории не всегда проходит гладко. Геерц понимал это и в качестве иллюстрации привел анекдот о том, как индус рассказывал англичанину об устройстве мира. Мир, говорил он, находится на платформе, которая покоится на спине слона, а тот, в свою очередь, стоит на спине черепахи. Англичанин поинтересовался, на чем находится в таком случае черепаха. На другой черепахе, был ответ. А эта черепаха? «Ах, — ответил ему друг-индус, — далее идут одни черепахи». Подобным образом, нам никогда не постичь всех глубин японской истории. Редко мне удавалось понять что-нибудь настолько, насколько мне хотелось бы это сделать. Но у Геерца есть и другая мысль, которая может устроить всех нас. Нет необходимости, писал он, «знать все, чтобы понимать что-то». Занимаясь историей Японии, я принял к сведению, что история сама по себе, по своей самой глубокой сути, является искусством рассуждения о мотивации людских поступков и понимания значения их действий. В него также входит оценка наших рассуждений, из которых мы выбираем наиболее приемлемые выводы. В этом смысле, как для новичка, так и для опытного ученого, изучение японской истории и расширение таким образом границ наших знаний приносит богатые плоды. Я давно работаю над темами, которые рассматриваются в этой книге. Тем не менее я глубоко признателен многим людям, без которых ее появление на свет было бы невозможным. Идея этого проекта принадлежит Стиву Форману, вице-президенту и редактору издательства «Нортон», который, кроме того, вычитывал наброски многих глав. Но более всего я благодарен Стиву за те слова ободрения, которые я от него слышал на протяжении многих лет, а также за то, с каким терпением он принимал все многочисленные отсрочки завершения моей работы. Будь это в моей власти, я бы немедленно канонизировал его как самый выдающийся образец конфуцианского терпения. Лори Френкель, помощница Стива, наблюдала за изданием книги. Я особо хочу подчеркнуть ее содействие в подборе иллюстраций и ту поразительную деликатность, с которой она подталкивала меня к завершению работы в определенные сроки. Я признателен Перлу Хенигу, который своим орлиным взглядом выловил огромное количество ошибок в подготовленной к изданию рукописи. А также мне хотелось бы поблагодарить всех дизайнеров, разработчиков макета книги и составителей индекса, работающих в издательстве «Нортон». В подготовке публикации этой книги принимало участие большое количество людей. Многие студенты — Ацуко Аоки, Эндрю Белл, Бетти Чунг, Андреа Деймон, Брайян Фонг, Лиза Э. Хартман, Шихо Имаи, Рики Вонг и Ракель Зимет — любезно делились со мной своими идеями на ранних этапах работы над рукописью. В более широком смысле я благодарен всем студентам, которые на занятиях постоянно заставляли меня избегать упрощений и делать анализ более сложным и, таким образом, более разумным и реалистичным в их глазах. Многие коллеги жертвовали своим собственным временем ради прочтения и комментирования различных глав моего труда. Особенно я хотел бы выразить свою признательность Эндрю Бершею, Джону Доуверу, Алексису Даддену, Джерому Гридеру, Керри Смит, Константину Вапорису, Бретту Уолкеру, Акио Ясухаре и Луизе Янг за их ценные суждения относительно моей работы. Благодарю также Смита и моего друга и коллегу Роджера Кейеса за те часы, которые они провели вместе со мной, выбирая иллюстрации и помогая найти для них место в тексте. И отнюдь не в последнюю очередь я говорю спасибо всем ученым, занимающимся японской историей. Названия их трудов, внесенные в список рекомендуемой литературы, могут лишь намекнуть на то, насколько я им всем признателен. Существует одна восточная поговорка, по крайней мере, я всегда ее слышал как восточную: «Пусть твоя жизнь проходит в интересные времена». Заслуга в том, что эта поговорка справедлива для моей жизни, принадлежит моей жене и дочерям — Чанг, Энн и Кати.Слово к читателю
На первый взгляд письменный японский язык может показаться слишком сложным. На самом деле в устной форме он весьма прост для американцев и европейцев. Существуют пять гласных звуков (a, i, и, е, о), которые произносятся приблизительно как гласные испанского языка. Слоги состоят либо из одного гласного звука, либо из сочетания гласного и согласного. Вдобавок существует нозальный звук л, который может создавать отдельный слог. Этот звук записывается буквой п в том случае, если он идет перед согласным или в конце слова. Перед гласной он передается знаком п’ чтобы отличить его от таких слогов, как па и ni. Таким образом, имя, записываемое латинским шрифтом как Ise, произносится «и-се», Kobe — как «ко-о-бе», Honshu — как «хо-н-шу-у», a Chonindo — как «чо-о-ни-н-до». В соответствии с обычной практикой, мы не используем знаки долготы в хорошо известных географических названиях. Название японской столицы будет, таким образом, записываться как «Токио», хотя в реальности оно звучит как «то-о-кьо-о». Личные имена приводятся в их обычной местной форме: если для американцев и других западных людей имя предшествует фамилии, то у представителей народов Восточной Азии они меняются местами (исключение составляют восточные ученые, которые в публикациях на английском языке предпочитают западную форму записи). В некоторых случаях для обозначения индивидуума используется только его личное имя (например, Иэясу вместо Токугава Иэясу). Это делается для того, чтобы отличать его от других исторических персонажей, носивших ту же фамилию. Кроме того, некоторые художники и писатели (например, Андо Хиросиге и Нацуме Сосеки) по традиции обозначаются только личными именами, в то время как другие писатели (например, Басё) известны под своими псевдонимами. Наконец, в данной книге сохраняется старая японская традиция обозначать императоров их тронными именами (например, император Мэйдзи). Японская календарная система может вызвать интерес у того, кто впервые совершает путешествие в историю этой страны. Японцы приняли грегорианский календарь 1 января 1873 г. До этой даты они использовали календарь, состоящий из последовательно пронумерованных лет, принадлежащих определенной эре, называемой ненго. По обычаю императорский двор объявлял новую ненго после вступления на трон нового императора или императрицы. Это могло произойти и в случае каких-либо бедствий или опасностей, угрожавших стране. Японцы надеялись, что объявление нового благоприятного названия эры может обеспечить в будущем мир и процветание. Например, в 1847 г. на престол вступил император Комеи. Через год после этого он выбрал название для новой эры — Каэи. Это название подразумевало долгое и благоприятное правление. Однако семь лет спустя, когда американские канонерки, находившиеся под командованием Мэтью К. Перри, принудили японцев отказатья от их политики самоизоляции, императорский двор выбрал новое название — Ансей. Оно состояло из идеограмм, обозначавших эру мирного и стабильного правления. Только после 1868 г. в Японии была принята практика распространять название эры на все правление императора. Начало года в традиционном календаре соответствовало приблизительно середине отрезка времени, находящегося между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Каждый год делился на двенадцать месяцев, состоявших из двадцати девяти или тридцати дней. Чтобы привести свой календарь в соответствие с движением Земли вокруг Солнца, японцы периодически вставляли в него дополнительный месяц. Таким образом каждый определенный год в цикле ненго в значительной степени соответствовал году западного солярного календаря. Поэтому можно сказать, что Каэи 1 (т. е. первый год эры Каэи) приблизительно соответствует 1848 г., Каэи 2 — 1849. Однако годы японского лунного календаря не совсем совпадают со своими западными соответствиями. Два последних месяца японского года выпадают на начало следующего европейского. Например, поскольку Токугава Ёшинобу, последний представитель своего рода, носивший титул сёгуна, занял эту должность в двенадцатый месяц года Кейо 2, в литературе зачастую это событие привязывают к 1866 г. На самом деле точной датой этого события по западному календарю является 10 января 1867 г. В данной книге даты до 1 января 1873 г. переводятся из традиционного японского календаря в соответствующий им год христианской эры. Важные события, имеющие отношение и к западным нациям, передаются как западными, так и японскими датами. Там, где это было возможным, я для перевода японских терминов и имен пользовался Кодансайской энциклопедией Японии («Kodansha Encyclopedia of Japan»). Транслитерация основана на этом издании и на Кенкьюсском новом англояпонском словаре («Kenkyusha’s New English-Japanese Dictionary»). Другими справочными изданиями, использовавшимися при определении терминов, уточнении дат исторических событий и прочтении личных имен и географических названий, являются исторический словарь «Кокуси даидзитен», хронологические таблицы в книге «Ненпье: Нихон рекиси» (Чикума Собо) и географический справочник «Нихон рекиси чимей тайкей» (Хейбонса). Китайские слова в основном транслитерируются в соответствии с системой пинджин. Введенная в 50-е гг. XX в. китайским правительством система пинджин заменила предыдущую практику Вейда-Джайлса и прочтения географических названий, приводимые в «Почтовом атласе Китая». Таким образом, имя основателя Китайской Народной Республики звучит в книге «Япония: Новая история» как Мао Цзэдун, а не Мао Цетунг, а название китайской столицы приводится как Бейджин (в противоположность вариантам «Пекин», использовавшемуся до 1928 г., и «Пейпин», существовавшему между 1928 и 1949 гг.)[2]. Я сделал несколько исключений для диалектных слов и тех имен, которые западным читателям будет трудно разобрать в варианте пинджин. Например, имя главного оппонента Мао передается как Чан Кайши, а не Джьян Джьеши, а Кантон остается Кантоном (а не Гуаньчжоу). В индексе приводятся прежние эквиваленты пинджиновских вариантов личных имен и географических названий. Дело запутывает тот факт, что многие города и местности имели китайские, японские и западные варианты названий, либо же они назывались по-разному в разные периоды истории. В целом я придерживался принципа исторического соответствия, приводя имя в том варианте, который наиболее подходит к теме той или иной главы. Таким образом, название «Эдо» употребляется для обозначения места резиденции сёгунов, а «Токио» появляется после того, как оно было принято в 1868 г. Кроме того, я старался придерживаться некоторых колониальных названий для того, чтобы передать дух прошлой эпохи (например, «Порт-Артур» вместо «Люйшунь»). Поскольку данная книга адресована студентам или просто интересующимся историей людям, в начале каждого раздела приводятся хронологические таблицы. Где это необходимо, даются переводы технических терминов. В некоторых случаях приводятся глоссарии терминов и имен. Иногда в сносках встречается слово «(изменено)». Оно означает, что данная цитата сокращена или слегка изменена в целях приведения ее в соответствие со стилистикой данного издания.
ЧАСТЬ I
Традиционная Япония
Хронология
646 Первый месяц, первый день. Верхушка клана Ямато издала декрет о проведении реформы Тайка и окончательно установила свою власть как власть рода Небесных Владык
712 Писцы, находящиеся на службе у династии Ямато, завершают составление текста «Кодзики» («Записи о деяниях древности»)
794 Небесные Владыки основывают свою столицу — город Хэйан (Киото)
1192 Минамото Ёритомо назначается сёгуном и создает свое «шатровое правительство» в г. Камакура
1274 и 1281 Тайфун, известный как камикадзе («божественный ветер»), уничтожает монгольский флот и спасает Японию от иноземного вторжения
1333–1338 Асикага Такаюдзи уничтожает сёгунат Минамото и сам принимает титул сёгуна
1467–1477 Война Онин приводит к началу эры Сенгоку, во время которой Япония была «воюющей страной»
1543 Португальские торговцы высаживаются на острове Тане-гасима, к югу от Кюсю
1549 Франсис Ксавье основывает в Японии первую христианскую миссию
1571 Даймё Омура Сумитада открывает порт Нагасаки для португальских кораблей
1573 Военачальник Ода Нобунага изгоняет сёгуна Асикага и сжигает большую часть Киото
1575 Нобунага одерживает победу в решающей битве при Нагасино благодаря европейскому оружию, которым он снабдил свою армию
1580-е Вслед за смертью Нобунаги, последовавшей в 1581 г., Тоётоми Хидэёси принуждает даймё к повиновению
1590 Иэясу превращает свои владения в область Канто и приступает к строительству замка Эдо
1592 Войска Хидэёси высаживаются в Пусане
1598 Умирает Хидэёси, после чего японская армия покидает Корею
1600 Токугава Иэясу побеждает в битве при Секигахаре
1603 Второй месяц, двенадцатый день. Небесный Владыка утверждает Токугава Иэясу в должности сёгуна
1604 Сёгунат признает клан Мацума в качестве даймё области на южном побережье Хоккайдо и подтверждает их право вести торговлю с айнами в Эзочи
1607 Иэясу нормализует отношения с Кореей
1611 Острова Рюкю, номинально сохраняя автономию, становятся частью домена Сацума
1615 Пятый месяц. Войска Токугава разбивают сторонников Тоётоми в битве при замке Осака Седьмой месяц, седьмой день. Иэясу издает Предписания, касающиеся военных домовладений Седьмой месяц, семнадцатый день. Иэясу и Хид этапа издают Предписания, касающиеся императорского двора и знати
1617 Останки Иэясу преданы земле в Никко, а сам он обожествлен под именем Тосо Дай Гонген — «Освещающий Восток, Царственное Воплощение Будды»
1622 Восьмой месяц, пятый день, С казни пятидесяти пяти верующих в Нагасаки начинаются гонения на христиан со стороны сёгуната
1623 Сёгунат начинает назначать союзных себе даймё на должности высших советников
1629 Внучка Иэясу вступает на трон под именем Небесной Владычицы Мейсо
1633–1639 Сёгунат издает так называемые «законы уединения», запрещающие христианство на территории Японии, запрещающие японцам предпринимать путешествия за пределы страны и регулирующие внешнюю торговлю
1634 Седьмой месяц, одиннадцатый день — восьмой месяц, пятый день, Иэмицу наносит торжественный визит в Киото
1635 Сёгунат подвергает генеральному пересмотру Предписания, касающиеся военных домовладений
1643 Опубликовано первое руководство по ежедневному питанию общинников, «Рьери моногатари» («Повествование о приготовлении пищи») Миямото Мусаси удаляется в пещеру, чтобы написать «Горин но со» («Книга пяти колец»)
1649 Второй месяц, двадцать шестой день. Сёгунат издает Руководства эры Кейян
1656 Ямага Соко излагает свою версию бусидо в своем труде «Бусидо йороку» («Сущность кодекса воина»)
1669 Вождь айнов Сакусайн атакует японские поселения в Эзочи
1673 Семья Мицуи открывает в Эдо магазин галантерейных товаров — «Эчигою»
1689 Басё завершает работу над своим сборником хайку «Оку но босомичи» («Прямая дорога далеко на север»)
1700 К этому времени Эдо становится, вероятно, крупнейшим городом в мире
1702 Появление первого учебника по шелководству
1716 Опубликована «Омна Дайгаку» («Высшее учение для женщин») Ямамото Цунетомо завершает работу над «Хагакурэ» («Сокрытое в листве»)
1724 В Осаке открывается Кайтокудо
1729 Исида Байган начинает выступать с публичными лекциями о «Сингаку» («учение, идущее от сердца»)
1785 Сёгунат основывает в Нагасаки Службу товаров
1802 Дзиппенса Икку начинает серию публикаций «Токайдочу хизакуриге» («На своих двоих»)
1832 Хиросигэ предпринимает путешествие из Эдо в Киото и обратно и начинает работу над серией гравюр по дереву, названной «Пятьдесят три станции Токайдо»
1839 К этому времени действуют по меньшей мере 300 частных академий и 3000 теракой
1842 Сёгунат использует Ниномийю Сонтоку для создания ряда проектов по оживлению деревни
ГЛАВА 1
Держава Токугавы
В двенадцатый день Второго месяца 1603 г., после полудня, Токугава Иэясу в церемониальной одежде алого цвета расположился на специальном помосте в замке Фусими — крепости клана Токугава к югу от Киото. Вскоре появился глашатай. Отвесив низкий поклон, он звуками деревянной трещетки возвестил о прибытии высокопоставленных послов, направленных сюда Небесным Владыкой, императором Японии. Посланники императора, спустившись со своих повозок, приблизились к помосту. Далее они в ходе пышной, сопровождаемой музыкой церемонии ознакомили Иэясу с Эдиктом о назначении его сёгуном Японии — военачальником, которому поручалось следить за порядком во всем государстве. Чтобы показать свою признательность, Иэясу устроил пир для посланников. И домой, в Киото, они отправились не с пустыми руками. Из Фусими они увозили мешки с серебром и золотом — такова была благодарность Иэясу. Кроме того, они вели с собой коня, золотое седло которого было украшено гербом Токугавы.
Назначение Токугавы Иэясу на должность сёгуна было, безусловно, положительным моментом в истории Японии. Помпа, с которой было обставлено это событие, отразила могущество и славу самурайского сословия в конце XVI — начале XVII столетия. По всей Японии в это время насчитывалось около 250 владетельных даймё, княжества которых были практически независимы от центральной власти. Их величественные замки (а многие из них по своим размерам превосходили крупнейшие средневековые замки Европы) возвышались над окрестными полями как устрашающие символы могущества их владельцев. Но ни один из родов даймё и близко нс стаи с домом Токугава. Замок этого клана в Фусими был одним из самых больших в стране. Возведенные между 1592 и 1596 гт неприступные каменные стены Фусими и широкие рвы, заполненные водой, защищали башню-донжон, в которой размещался гарнизон крепости, состоявший из двух тысяч самураев. Полдюжины обширных укрепленных построек, окружавших донжон, использовались для хранения продуктов питания и оружия. В них также располагались служебные помещения. Каждая такая постройка была защищена своей собственной стеной с укрепленными воротами.
Подобно другим крепостям, принадлежавшим даймё, замок Фусими был в большей степени дворцом, чем военным укреплением. Японские магнаты всегда имели в виду, что ритуалы и символы являются неотъемлемыми спутниками власти. Поэтому декор их «алькасаров» поражал своей пышностью и красотой не меньше, чем стены и башни поражали своей внушительной мощью. В Фусими Иэясу выставил напоказ свое богатство и культурные достижения, продемонстрировав тем самым способность дома Токугава управлять материальными и людскими ресурсами страны. Во время визитов союзных даймё, Иэясу встречал их в богато украшенном приемном зале, длина каждой стены которого достигала почти сотни футов. Там, обсуждая текущие дела, Иэясу мог представить изумленным взглядам гостей изящные деревянные балки, покрытые резными фигурами мудрых правителей прошлого, и складные ширмы с живописными изображениями птиц и цветов, выполненными лучшими художниками того времени. В свободное от дел время к услугам военной элиты был чудесный пейзажный сад, а также театр но, представлявший классические пьесы на собственной сцене замка.
Блеск и богатство замка Фусими напоминали прежнее великолепие Киото. Несколькими столетиями ранее, на заре нового тысячелетия, императорская столица входила в число крупнейших городов мира. В соответствии с восточноазиатским идеалом имперского города, улицы и проспекты располагались в строгом геометрическом порядке. Они образовывали прямоугольные кварталы, в которых проживало более 100 000 человек. Самый центр города пересекал широкий бульвар, обсаженный деревьями. Он протянулся на три мили с севера на юг, соединяя главные ворота города — знаменитый Расёмон — с дворцом императора. Иногда горожане могли увидеть Небесного Владыку, восседавшего на богато украшенной и запряженной волами колеснице. В сопровождении эскорта, состоявшего из сотен пышно одетых конников, он следовал по главной улице города, направляясь в знаменитые своей живописностью предместья столицы. Однако большую часть времени император оставался внутри обширного дворцового комплекса. Там он проводил священные ритуалы в честь богов — покровителей Японии. Тем самым он утверждал себя в роли носителя наивысшего морального и политического авторитета. В пределах этого святилища также находились личные покои императора. Они представляли собой незамысловатое строение, простота которого, впрочем, была обманчивой. Его лишенные росписей балки, приподнятые деревянные полы и изящная кровля являлись квинтэссенцией японской архитектуры, ненавязчиво свидетельствуя о величии Небесного Владыки.
В начале XII в., в момент наивысшего расцвета Киото, тысячи домов аристократов окружали, подобно ожерелью, императорский дворец с востока и юга. Самые крупные из этих резиденций занимали площадь в один акр или даже более. На этой территории размещались главный дом, шикарные сады, в которых произрастали тщательно отобранные деревья, искусственное озеро, помещения для слуг и многочисленные складские и служебные постройки. Придворные, одетые в одежды из тончайшего шелка, были окружены прекраснейшими предметами, произведенными в мастерских Киото. Древние свитки донесли до нас изображения сцен повседневной жизни. Судя по ним, уже в раннюю эпоху в японских домах появляются циновки-татами, на которых сидели, расстелив их поверх деревянных полов. Складные ширмы украшались росписями, изображавшими сменяющиеся сезоны года и возрастные периоды жизни человека. В этой рафинированной обстановке киотская знать воплотила изощренную культурную традицию, которая преодолела время и пространство. К этому времени относится и знаменитая «Повесть о блистательном принце Гэндзи» Мурасаки Сикибу — своеобразный фантастичный дневник придворной жизни, полной любовных переживаний и интриг. Она отразила эпоху высокомерных аристократов, считавших себя единственными законными покровителями и носителями поэзии танк, куртуазной музыки гагаку и в$ех остальных патрицианских искусств, составивших апогей японского культурного развития.
Посланники, передавшие в 1603 г. титул сёгуна Токугаве Иэясу, вернулись в столицу, где сам император и многие аристократические семейства проживали в крайней нужде. В течение столетий император и его придворные смотрели на постепенное увядание пышности двора. В 70-х гг. XV в. город был опустошен в ходе сражений долгой гражданской войны, развязка которой наступила лишь с утверждением Иэясу в должности сёгуна. Обветшавший дворец стал свидетелем того, как в начале XVI столетия один из императоров почти на два десятка лет был вынужден отложить свои коронационные церемонии. Многие аристократы, принадлежавшие к некогда славным фамилиям, были вынуждены переселиться в скромные жилища на городских задворках либо искали пристанища в храмах. Киотские торговцы и ремесленники также переживали тяжелые времена. Война разорила их кварталы, улицы кишели ворами, а в 1573 г. один из даймё вновь выжег огнем лучшую часть города. Это были десятилетия печали, когда и аристократ, и простой общинник часто припоминали начальные строки знаменитой поэмы о воинах древности:
Происхождение японского государства и возникновение самурайского сословия
Зарождение и эволюция военного сословия в Японии явились следствием формирования централизованного государства в конце VII — начале VIII вв. До этого времени в центральной и западной частях Хонсю, а также на островах Кюсю и Сикоку существовали многочисленные вождества. Они объединяли различные сельские поселения, а главную роль в них играли наиболее мощные родственные группы. Эти кланы ни от кого не зависели и действовали как полностью автономная сила. Они сами управляли своей территорией, определяли правила поведения, обороняли свои дома и поля от набегов алчных соседей и сами производили все необходимое для жизни и ведения хозяйства. Вдобавок верхушка каждого вождества проводила ритуалы в честь предполагаемого бога-прапредка данного клана, объединяя тем самым в своих руках как светскую власть, так исакральную. К концу V столетия один из могущественных родов утвердил свою гегемонию (хотя и довольно шаткую) над несколькими вождествами в области Ямато, расположенной на побережье Внутреннего моря[3]. Этот род был известен также как линия Ямато, или линия Солнца, поскольку его прапредком считалась Аматэрасу Омиками — богиня Солнца. Представители клана Ямато последовательно использовали дипломатию, брачные союзы, покровительство и грубую силу для того, чтобы утвердить свою власть в центральной части Японии, а затем распространить ее и на другие области — к югу и западу от Ямато. К началу VII в. линия Солнца превратилась в нечто вроде «старшего брата» среди других кланов, возглавляя своеобразную федерацию, состоящую из вассальных вождеств. Не довольствуясь тем количеством власти, которым они обладали, вожди Ямато искали новые возможности увеличить свою силу и влияние, в том числе самые дерзкие и бесчестные. В Шестом месяце 645 г. их наиболее опасные соперники были приглашены на пир, где и были перебиты поздним вечером, когда они опьянели и не могли оказать сопротивления. Несколькими месяцами позже, в первый день 646 г., в соответствии с традиционным календарем, глава клана Ямато объявил о проведении эпохальных реформ Тайка. На проведение реформ его вдохновила тщательно разработанная система государственной власти, которую японские посланники могли наблюдать в Танском Китае. Реформы проводились в несколько этапов на протяжении нескольких десятилетий. Их главной целью была ликвидация власти местных вождей, еще сохранивших свое влияние, и превращение линии Солнца в могущественную монархию, которая обладала бы всей полнотой власти над народом и ресурсами Японских островов. Симптоматичным моментом этих трансформаций было превращение лидера Ямато в тэнно. Историки обычно переводят этот термин как «император», подчеркивая тем самым претензии тэнно на абсолютную власть. Однако буквальный перевод будет звучать как «Небесный Владыка». Это более точно отражает ту идею, что клан Ямато использовал свое мифическое происхождение от богини Солнца с целью подтвердить свое право на власть в качестве «сакрального и неприкосновенного» правителя. Династия, к которой принадлежит этот правитель, должна была править вечно. В 712 г. по заказу авторов реформ Тайка был составлен сборник «Кодзики» — «Записи о деяниях древности». Легенды, содержащиеся в нем, изображали Аматэрасу самым влиятельным божеством японского пантеона. Согласно тексту «Кодзики», в глубинах далекого прошлого она передала три регалии — зеркало, ожерелье и меч — своему внуку Ниниги-но микото, когда посылала его с Великой Небесной Равнины на усмирение Японского архипелага. Праправнуком Ниниги был Дзимму, ведущий свое происхождение как от бессмертных богов, так и от людей. Именно он завершил завоевание Японии — «земли богатых рисовых полей» — и в 660 г. до н. э., согласно древней исторической традиции, стал первым правителем островов. Таким образом, правители Ямато связали древнюю религиозную традицию и свое предполагаемое божественное происхождение в целях обоснования своих претензий на мировое господство. Если говорить более конкретно, то реформы Тайка создали продуманную систему центрального и провинциального управления, которая находилась под контролем Небесного Владыки. На вершине новой административной иерархии находился Государственный совет, или дадзокан. Руководил им первый министр. Дадзокан наблюдал за деятельностью более чем семи тысяч чиновников, распределенных по восьми основным управлениям (центральное, подбора кадров, общественных работ, народа, военное, судебное, финансов и императорских владений). Чтобы распространить новую систему управления на все острова Японии, реформы Тайка также вводили новое административное деление страны. Япония была разделена на шестьдесят шесть провинций. В каждую из них назначался наместник, которому должен был помогать штат чиновников. Чтобы добиться лояльности от бывших местных лидеров и одновременно создать источник кадров для новых правительственных органов, дом Ямато превратил бывшие кланы в наследственную аристократию. Ее принадлежность к высшему слою общества делала возможным назначение ее представителей на высшие посты в государстве. Ряд правовых и административных эдиктов, наиболее известными из которых являются кодексы Тайхо и Йоро, принятые в 702 и 757 гг. соответственно, способствовали укреплению позиций новой монархии. Они утверждали Небесного Владыку в качестве единственного источника власти, а также педантично расписывали обязанности всех чиновников административного аппарата. Реформы Тайка дополнялись и другими мерами. Понимая необходимость сохранения прочной финансовой базы, юная монархическая власть объявила своей собственностью все сельскохозяйственные земли Японии. Были установлены правила раздачи крестьянским семьям наделов земли, которая подлежала периодическому перераспределению. Крестьяне, в свою очередь, были обязаны платить налоги правительству. Чтобы создать резиденцию для себя и для придворной аристократии, дом Ямато последовательно основывал столичные города. В 710 г. императорский двор обосновался в Хейдзо (совр. Нара), а в 794 г. монарх со своими приближенными переехал в специально для этого построенный Хэйан — «столицу мира и спокойствия», современный Киото. Механизмы государства работали без перебоев, и Небесные Владыки все менее должны были вмешиваться в рутинное течение дел. Теперь их основным занятием стало проведение священных ритуалов и прочих действий, которые, как считалось, способствовали процветанию страны. В частности, перед началом каждого посевного сезона тэнно поручал своим помощникам распределить подношения среди провинциальных священников, которые затем должны были произнести следующую молитву: «Перед могущественными предками — богами и богинями, живущими в величии на Высокой Небесной Равнине, смиренно произносим слова молитвы этой, принося избранные подношения божественного потомка, происходящего от сияющего проблеска утреннего света. Богов, урожаем правящих, смиренно мы молим, чтобы обеспечили они своевременное созревание зерна и жатвы»{3}. Таким образом, со временем Небесный Владыка стал рассматриваться как персонифицированная религиозная мораль и источник легитимизации политической власти. Он превратился в божественного правителя, который царствовал в то время, когда аристократы-чиновники правили от его имени. Реформы Тайка оставили заметный след в истории Японии. Они установили важные философские нормы, основы законодательства, а также создали фундаментальные институты государственного управления, которые продолжали оказывать свое влияние на структуру власти на протяжении всего средневекового периода японской истории. Они также возвестили приход эры стабильности и процветания императорского двора и аристократии. Получая государственные чиновничьи должности, знать приобретала также земельные владения и титул сеэнов. Все это приносило аристократам огромные доходы. Блистая властью и богатством киотская знать возводила шикарные особняки, покровительствовала искусствам и создавала то, что многие расценивают как золотой век японской культуры. Несмотря на все усилия новой монархии, не все попытки реформ достигали желаемых результатов. Характерным тому примером служит мертворожденная попытка создания постоянного войска. В начале VIII столетия новое правительство использовало свою власть для того, чтобы свести всех мужчин, за исключением сыновей аристократов, в местные военные формирования. Предполагалось, что император будет использовать их на основе ротации для охраны столиц провинций или Киото. Однако большинство молодых людей не горели желанием покидать свои семьи. Женщин также не очень радовала перспектива провожать своих сыновей и мужей на военную службу. В качестве иллюстрации можно привести два стихотворения, водящие в состав «Манъёсю» — древнейшей антологии японской поэзии:Токугава Иэясу и должность сёгуна
Во второй половине XII столетия враждебные отношения между двумя кланами, каждый из которых стремился установить свое влияние на трон, привели сначала к проникновению буси в Киото, а затем, в конечном счете, к превращению клана Минамото в правящую элиту страны. В 50-х гг. XII в., по мере возрастания напряженности между соперничающими семьями, в столице складываются две группировки. Одна группировка складывается из тех, кто ищет поддержки у Тайра. Другая обращается к клану Минамото с просьбой ввести в город своих самураев. В жестокой битве, произошедшей в 1160 г., отряды Тайра Киёмори одержали верх. Минамото отступили в восточную Японию. Двор рассчитывал, что Тайра вернется в свои владения на побережье Внутренего моря. Однако, к разочарованию столичных аристократов, Киёмори обосновался в Киото. Он сам и его родственники заняли высшие должности в государстве. Тайра сотнями раздавал титулы сеэнов, выдал свою дочь замуж за представителя царствующего дома, а в 1180 г. его малолетний внук вступил на трон в качестве Небесного Владыки. В придворной среде росло раздражение политической активностью Киёмори. В конце концов аристократы обратились к восстановившему свои силы клану Минамото, чтобы возобновить междоусобицу. В ходе кровавой Генпейской войны, длившейся с 1180 по 1185 г., Минамото Ёритомо нанес сокрушительное поражение своему старому сопернику. Клан Тайра был уничтожен практически полностью. Трон в этот момент как никогда ранее нуждался в вооруженной поддержке. Поэтому в 1192 г. император присвоил Минамото Ёритомо титул сеии таи согун («Великий полководец, покоряющий варваров»). Этот титул имел древнее происхождение. Впервые он появляется во второй половине VIII в. В то время народы, известные как эмису (это слово записывалось идеографическими знаками «восточные варвары»), продолжали сопротивляться распространению власти Ямато на северную часть острова Хонсю. Киотское правительство время от времени присваивало кому-нибудь из аристократов титул сеии таи согун, поручая ему собрать войска и сломить упорство обитателей границы. Титул вышел из употребления после того, как в начале IX в. Киото официально объявило северные территории замиренными. Однако после победы Минамото в Генпейской войне двор вспомнил об этой должности. Но на этот раз от Ёритомо не требовалось подчинять восточных варваров. Монархия поручала Ёритомо и его потомкам возглавлять бакуфу («шатровое правительство»), в руках которого была военная и полицейская власть, с помощью которых следовало распространить гражданское управление на всю территорию Японии. Среди других полномочий, переданных Небесным Владыкой режиму бакуфу (обычно его называют «сёгунат»), было право обращать оружие против всех, кто будет представлять угрозу для монархии. Вдобавок сёгунат Камакуры, названный так потому, что Минамото обосновался в этом прибрежном городке на востоке Японии, должен был поддерживать порядок в рядах самурайского сословия. Это подразумевало разрешение споров по вопросам земельных владений, а также обеспечение постоянного притока налогов и рентной платы сеэнов в государственную казну и в сундуки киотских аристократов. Чтобы помочь сёгуну эффективно выполнять его обязанности, двор ввел практику назначать высокопоставленных воинов на должности военных наместников. Эта должность была параллельной традиционной должности гражданских губернаторов провинций. Кроме того, сёгуну помогали его вассалы-самураи, которые были управляющими земельных владений по всей стране. На протяжении более ста лет сёгунат Камакуры, в тандеме с гражданской администрацией Киото обеспечивал стабильность в государстве. Однако определенные (и весьма могущественные) военные наместники постепенно укреплялись в мнении, что Камакура не может в полной мере вознаградить их за службу Все более возрастающую поддержку им оказывали и управляющие земельных владений. Ощущение несправедливости, совершенной по отношению к ним, усилилось среди членов военного сословия после столкновений с монгольскими войсками в 1274 и 1281 гг. Монголы направили к японским островам более 4000 кораблей, на которых находилось около 140 000 человек, входивших в состав экспедиционного корпуса. Их целью было заставить японцев подчиниться монгольскому хану. На пологих берегах Кюсю самураи смогли одолеть противника, однако за свой подвиг они получили слишком малую награду. Правда, следует отметить, что в обоих случаях на монголов, едва они только касались японского берега, обрушивался камикадзе — «божественный ветер», который, как предполагалось, насылался божествами — покровителями Японии. Потеряв значительную часть флота и личного состава, монголы оба раза были вынуждены вернуться к своим континентальным базам. Но несмотря на такую помощь, неожиданно полученную со стороны сил природы, японцам эти вторжения стоили довольно дорого. Им пришлось возводить защитные сооружения и на протяжении еще двадцати лет оставаться в состоянии постоянной боевой готовности. Это весьма печальным образом отразилось на экономическом благополучии военного сословия. Разочарование ситуацией в стране все более усиливалось, и в 1333 г. Асикага Такаудзи, военный наместник, принадлежавший к одной из боковых ветвей клана Минамото, поднял мятеж, в результате которого власть сёгуната Камакуры была ликвидирована. В 1338 г. Небесный Владыка утвердил Такаудзи в должности сёгуна. Свое «шатровое правительство» клан Асикага обосновал в Киото. Несмотря на свое высокое происхождение и полученные от императора полномочия, сёгуны Асикага никогда не располагали достаточными силами или авторитетом для того, чтобы держать в узде наиболее сильные воинские роды Японии. Постепенно военные наместники начали соединять земли, находившиеся в их подчинении, с титулами. Их поведение становилось все более независимым. Они уже сами решали, выполнять им приказы, поступающие из Киото, или не обращать на них никакого внимания. В середине XV столетия спор по поводу наследования должности сёгуна нарушил шаткое равновесие между кланом Асикага и военными наместниками. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, могущественные соперники начали борьбу за военную гегемонию, что вылилось в разрушительную и кровопролитную Онин-скую войну, длившуюся с 1467 по 1477 г. Война лишила власти практически всех военных наместников, превратила Киото в груду тлеющих развалин и положила начало периоду раздробленности, известному как «эпоха Сенгоку», когда Япония была «воюющей страной». Хотя и императорский двор, и сёгунат пережили Онинскую войну, из нее они вышли опустошенными, подобно морским ракушкам. Правительство было таковым лишь номинально: оно едва ли могло влиять на события, происходившие за пределами разоренной столицы. Вне Киото военные правители, называемые даймё, собирали вокруг себя самураев и устанавливали собственный контроль над хорошо организованными уделами, управляя ими как практически независимыми государствами. Даймё, настроенные весьма агрессивно, возводили сначала достаточно грубые укрепления, перейдя затем к постройке внушительных замков. Они собирали налоги с крестьян, населявших их владения, и отбивали нападения других даймё, жаждущих поживы. Да и сами они не прочь были расширить свои владения за счет соседей. Своего пика период децентрализации достиг в середине XVI в., когда сотни владений даймё лоскутным одеялом покрыли Японский архипелаг.
Несмотря на высокую степень раздробленности и хаоса эпохи Сенгоку, идеалом оставалось сильное, централизованное, суверенное государство. Во второй половине XVI в. трем влиятельным военачальникам удалось вновь объединить японские земли. Первым, кто начал воплощать в жизнь мечту о национальном воссоединении, был Ода Нобунага. Сын мелкого даймё из провинции Овари, Нобунага завоевал известность в 1560 г., когда его армии сокрушили значительно превосходящие силы соседнего властителя. Восемью годами позже он привел своих самураев в Киото, который являлся в то время резиденцией императорского двора, и официально ввел в должность Асикага Ёсияки в качестве марионеточного сёгуна. Когда обычно слабовольный Ёсияки опрометчиво осмелился возразить ему, Нобунага в 1573 г. сжег большую часть Киото и отправил несчастного Ёсияки в ссылку, положив таким образом конец формальному правлению Асикага. Блестящий тактик и неутомимый воин, Нобунага все время держал свои армии в боевой готовности, постоянно расширяя сферу своего влияния. Он был одним из первых, кто осознал потенциальные возможности огнестрельного оружия. Оно было завезено португальскими торговцами, высадившимися на маленьком острове Танегасима к югу от Кюсю в 1543 г. В течение нескольких лет японские купцы закупали новое оружие. В то же время ремесленники налаживали производство точных копий под названием «Танегасимский мушкет». В начале лета 1575 г. созданный Нобунага корпус из 3000 мушкетеров одержал эффектную победу в битве при Нагасино. После этой победы Нобунага распространил свой контроль к северу и востоку от Киото. 22 провинции в центральной и восточной Японии оказались под властью Нобунага к 1582 г., когда вероломные вассалы неожиданно напали на него в храме Хоннодзи в Киото. Будучи раненым, Нобунага отступил в глубину главного зала для богослужений. Здание уже пожирал огонь. Нобунага, оказавшись в безвыходном положении, успел вспороть себе живот, чтобы не подвергнуться унижению смерти от чужой руки. Тоётоми Хидэёси вскоре отомстил за смерть своего учителя, а затем вернулся к задаче приведения оставшихся даймё к общему знаменателю. Будучи скромного происхождения — он родился в семье пешего воина, состоявшего на службе у семьи Ода[4], — Хидэёси преодолел множество ступеней, поднявшись с самых низов и превратившись в одного из ведущих генералов Нобунага. Когда в 1582 г. Хидэёси взял на себя миссию объединителя земель, под его командой находилось более 250 000 самураев, мушкетеров, копьеносцев, лучников и пеших солдат. Это была одна из самых больших армий, существовавших в то время. Уверенно вел он свои отряды на Сикоку и Кюсю, уничтожив несколько даймё и захватив другие с помощью убеждения и запугивания. В 1587 г., после утверждения своей власти над этими двумя островами, Хидэёси повернул на север. Осенью 1590 г. он подчинил себе провинции области Канто. Вскоре после этого он принял капитуляцию даймё, находящихся на крайнем севере Хонсю. Военное воссоединение Японии было завершено: Хидэёси либо владел территорией напрямую, либо вверял ее оставшимся в живых даймё, принявших присягу верности новому властителю в обмен на право управления своими землями. Смерть Хидэёси в 1598 г. открыла дорогу для Токугава Иэясу. Решительный воин сам по себе, Иэясу принадлежал к военному клану, который в начале XVI в. боролся за право контролировать часть провинции Микава в Центральной Японии. Став главой клана, он продолжил войну против соседей, время от времени объединяясь с Нобунага, и к концу 1582 г. он был одним из крупнейших даймё, чьи земели охватывали, словно тисками, Микаву с четырьмя примыкающими к ней провинциями. В середине 80-х гг. Иэясу объединился с Хидэёси, и в 1590 г. примерно 30 000 воинов Токугава присоединились к вторжению в область Канто. Хидэёси щедро вознаградил своего союзника, более чем удвоив размеры владений Иэясу. Дому Токугава была передана большая часть богатой долины Канто, крупнейшего в Японии региона — производителя риса и исторической родины самурайского сословия. Иэясу быстро перевел своих самураев в новые владения, где в конце лета — начале осени 1590 г. в небольшой деревушке Эдо, расположенной на берегу одноименного залива, начал возводить огромный замок, которому предстояло стать штаб-квартирой Токугава. В 1598 г., незадолго до своей смерти, Хидэёси заставил пятерых главных даймё, и в их числе — Иэясу, дать клятву блюсти интересы дома Тоётоми, пока его малолетний сын Хидэёри, живущий в замке в Осаке, не достигнет совершеннолетия. Тем не менее амбиции и соблазн обрести господство над всей страной весьма быстро овладели всеми поклявшимися. В результате возникших склок и заговоров Токугава и его сторонники оказались перед лицом коалиции западных даймё. Враждующие стороны сошлись в решающей битве при Секигахаре, произошедшей в середине Девятого месяца 1600 г. Армия Иэясу, насчитывавшая в своих рядах 70 000 человек, сходу разгромила войско противника. Уже вечером того же дня триумфатор Иэясу, надев особый церемониальный шлем, созерцал отрубленные головы тысяч врагов, поверженных в битве. В следующем месяце даймё, прибывавшие со всех концов Японии, спешили уверить победоносного полководца в своей преданности. Менее чем три года спустя, во Втором месяце 1603 г., Божественный владыка отметил успехи Иэясу, возведя его в должность сёгуна.
На охране спокойствия державы
После утверждения Иэясу в должности сёгуна дом Токугава создал новый тип шатрового правительства — более могущественный, чем существовавшие в прошлом. Подобно своим предшественникам, сёгуны Токугава взяли на себя поддержание порядка внутри военного сословия и сохранение спокойствия в стране. Кроме этого, Иэясу и его ближайшие преемники — Хидэтада и Иэмицу — заявляли о своих исключительных правах на введение новых законов, взимание налогов и разрешение споров. Во второй половине XVII столетия, когда процесс государственного строительства был завершен, сёгунат Токугава обладал широчайшими полномочиями. Это сделало его центром управления страной. Два краеугольных камня были положены в основу властной структуры дома Токугава: непреодолимая военная мощь и бесспорное монопольное право на должность сёгуна. Чтобы закрепить это право за своей семьей, в 1605 г. Иэясу официально отказался от должности сёгуна, предварительно договорившись с Небесным Владыкой о том, что новым сёгуном будет назначен его сын Хидэтада. Десять лет спустя, в конце 1614 — начале 1615 г., Иэясу и Хидэтада повели свои войска в последний поход против Хидэёри, который еще имел в своем распоряжении около 100 000 приверженцев Тоётоми. Все они находились в замке Осака. В кровопролитнейшем сражении, выходящем за рамки даже той разнузданной жестокости, которая была присуща данной эпохе, отряды Токугава испепелили и огромную крепость, и торговый посад, ее окружавший. Защитники замка, носившие фамилию Тоётоми, были истреблены. Хидэёри, находясь в безвыходном положении, был вынужден совершить самоубийство. В следующем году сошел в могилу и Иэясу. В отличие от своего врага, он умер своей смертью, удовлетворенный сознанием того, что ему удалось заложить прочный фундамент существования нового режима.
Укреплению власти линии Токугава способствовало и накопление этим домом в своих руках огромных богатств. Победа на поле боя позволила дому Токугава конфисковать земли многих своих противников. Ко времени третьего сёгуна, Иэмицу, в собственности клана находилось около четверти всех обрабатываемых земель Японии. Ежегодное производство риса на землях сёгуната достигало приблизительно 6,8 млн коку (коку — мера сыпучих тел, равная приблизительно 5 бушелям, теоретически 1 коку хватало на то, чтобы прокормить одного взрослого мужчину на протяжении одного года). Собираемые налоги сёгунат также использовал для финансирования своих предприятий и выплату жалования своим непосредственным вассалам (которых насчитывалось около двадцати двух тысяч), пяти тысячам самураев «под знаменем»[5] и более чем семидесяти тысячам офицеров, которые осуществляли контроль за тысячами и тысячами воинов более низких рангов. Вдобавок сёгунские чиновники непосредственно управляли такими важными портами и зарождающимися городами, как Нагасаки и Осака. Они также контролировали золотые, серебряные и медные рудники, продукция которых использовалась в монетной системе Японии. Необходимым условием для выживания нового режима было сотрудничество с другими влиятельными и авторитетными институтами общества. Лишь хорошие отношения с представителями других японских элит — императором и придворными, буддийским духовенством, даймё — могли гарантировать господствующее положение дому Токугава. Несмотря на то что киотская знать испытывала страдания на протяжении долгих десятилетий, когда Япония была воюющей страной, полу-божественный Небесный Владыка продолжал оставаться единственным источником легитимизации политической власти. Соответственно, сёгуны Токугава понимали, что они могут упрочить свою собственную репутацию путем восстановления престижа трона и окружающей его аристократии. С этой целью сёгунат восстановил дворцы и особняки, давно находившиеся в запустении, и выделил императорской семье и придворным земли, необходимые для обеспечения их существования. Но если Иэясу давал средства к существованию, то он мог позволить себе и ограничивать самостоятельность облагодетельствованных им аристократов. В Седьмом месяце 1615 г., едва только нанеся поражение сторонникам Тоётоми в замке Осака, Иэясу издал Правила, касающиеся императорского двора и знати. Семнадцать статей этого документа представляли собой дерзкую попытку правящего военного сословия определить правила поведения Небесного Владыки и его двора и отделить их от остальных элит. В сущности, эти статьи предлагали придворным модель приличествующего им этикета. Стиль их жизни был регламентирован и сводился к проведению большого количества церемоний, и аристократы, таким образом, должны были превратиться в величавых хранителей традиционной культуры. Первая статья заходила так далеко, что указывала монарху, как ему следует проводить свое время: «Небесный Владыка должен заниматься искусствами, первым из которых является ученость»{4}. Чтобы не возникало никаких недоразумений по поводу подчиненного положения двора по отношению к военным правителям, в Киото всегда находился представитель военного правительства, а в центре города, в мощном, недавно построенном замке Нидзё, располагался самурайский гарнизон. Тот же оттенок покровительства и превосходства характеризовал отношение сёгуната Токугава к буддийской элите. Буддийское вероучение проникло на Японский архипелаг в VI в., проделав большой путь из Индии через Китай и Корею. В VII в. японские посольства, направляемые в танский Китай, могли воочию наблюдать физическое воплощение буддийской религии: сеть великолепных храмов и монастырей, покрывающая всю страну, тысячи рукописных томов, указывающих путь к спасению, и великолепные образцы живописи и иконографии. Кроме того, авторы реформы Тайка понимали, что китайские императоры использовали влияние буддийских священников, выстраивая свои отношения с правительством. С этой целью они оказывали покровительство различным сектам, а те, в свою очередь, своими молитвами и пышными ритуалами должны были способствовать укреплению императорской власти и росту ее могущества. Неудивительно, что когда в начале VIII столетия японские императоры обосновались в Нара, они активно способствовали строительству в этом городе пышных храмов, превращая тем самым новую столицу в главный центр мирового буддизма. После того, как двор переместился в Киото, масштабы покровительства, оказываемые императорами буддизму, начали неуклонно уменьшаться. Тем не менее две секты, основанные в начале IX в., превратились в центры религиозной и научной подготовки. Одной из них была секта Тэндай. Ее главным центром был монастырь Энрякудзи, расположенный к северо-востоку от Киото, на горе Хией. Центром другой секты, носившей название Сингон, был храм, находившийся в провинции Кии на горе Коя. Позднее сёгуны Камакура помогли обосноваться в Японии сектам дзэн. В XIII столетии из Киото в различные районы Японии направились проповедники, связанные с такими сектами дзэн, как Чистая Земля и Истинная Чистая Земля[6]. Обладая способностью воздействия на слушателей, эти проповедники вербовали новых приверженцев своего учения в деревнях и на сельских ярмарках. Приверженцами дзэн стали и многие воины. На них, как и на простых людей, огромное воздействие оказывал рассказ о милостях Амиды — Будды Западного рая, который принесет людям спасение. Со временем некоторые буддийские секты приобрели значительную политическую силу. Еще до того, как Минамото Ёритомо основал сёгунат Камакура, наставники секты Тэндай использовали свое влияние на двор для того, чтобы установить контроль над значительным количеством наделов-сёэяоя. Чтобы защитить свои экономические интересы, они организовывали милицейские отряды, состоявшие из «буйных монахов». В конце XV — начале XVI столетия приверженцы Хонгандзи — одного из ответвлений секты Истинной Чистой Земли — взяли под свой контроль несколько провинций, расположенных в центральной Японии и вдоль побережья Японского моря. Из своего огромного храма-крепости Исияма Хонгандзи, находящегося неподалеку от центра современного города Осака, верхушка секты управляла обширной религиозной конфедерацией, такой же мощной, как и владения наиболее могущественных даймё. Ода Нобунага видел в буддийских сектах значительное препятствие на пути к объединению Японии. Когда буддийские деятели из Энрякудзи выступили против его прибытия в Киото, этот полководец в 1571 г. отправил своих самураев в поход против монастыря секты Тэндай на горе Хией. В результате этой акции было сожжено около трех тысяч построек, в резне погибли тысячи монахов. Затем он повернул свои войска против Хонгандзи. Но потребовалось почти десять лет борьбы, зачастую принимавшей варварские формы и унесшей десятки тысяч жизней, чтобы крепость, в которой находилась штаб-квартира секты, капитулировала перед Нобунага. Это произошло в 1580 г. С ликвидацией политического влияния основных буддийских сект Токугава Иэясу и его преемники начали постепенно устанавливать свой политический и экономический контроль над буддийской верхушкой. С 1610 по 1614 г. был издан ряд указов, с помощью которых новый режим закрепил за собой право вмешиваться в управление основными сектами и ограничил деятельность священников только изучением религиозных доктрин и поддержанием дисциплины среди монахов. Основным храмам были выделены земельные наделы, но достаточные лишь для того, чтобы эти храмы могли поддерживать себя в качестве центров религиозного культа. Дом Токугава также стремился распространить свое влияние на даймё, которых насчитывалось в то время около двух сотен. Используя опыт Хидэёси, Токугава Хиэтада в 1617 г. ввел правило, согласно которому каждый даймё, получая этот титул, должен был приносить клятву верности дому Токугава. Взамен местный правитель получал от «национального гегемона» право на неприкосновенность своих владений и своей власти. Таким образом, несмотря на то что на бумаге продолжали существовать трдиционные провинции, реальными административными единицами страны становились наделы даймё. В то же время сёгунат закрепил за собой право переводить даймё на другую территорию, сокращать или даже конфисковывать владения тех даймё, которые представляли из себя угрозу для существующего режима либо просто не могли эффективно управлять вверенными им территориями. Те даймё. которые являлись верными сторонниками сёгуната, наоборот, получали щедрые земельные пожалования. Первые пять сёгунов Токугава были особенно активны в проведении подобной политики. Под теми или иными предлогами они полностью или частично лишили владений 213 даймё. В то же время титул даймё получили 172 их сторонника. 281 даймё был переведен из одного владения в другое. В итоге в начале Нового времени титулом даймё владели около 540 семей, принадлежавших к воинскому сословию. Одновременно в тот или иной момент существовали от 250 до 280 даймё. Сёгунат разбил всех даймё на категории в зависимости от их приближенности к семье Токугава. Ближе всех к главе дома Токугава стояли двадцать три даймё, которые являлись потомками Иэясу или людей, усыновленных им. Они обозначались термином синпан («семьи младших сыновей»). Трое из них, владельцы уделов Кии, Мито и Овари, составляли группу го-санке («три дома преемников»). Представители этих родов могли унаследовать титул сёгуна в том случае, если сёгун умрет, не оставив прямого наследника. Будучи абсолютно уверенным в лояльности этих двадцати трех домов, сёгунат раздавал им наделы в области Канто и в других стратегически важных районах страны. В среднем владение даймё, принадлежавшего к «семьям младших сыновей», производило около 50 000 коку риса ежегодно, в то время как владения «домов преемников», более крупные по размерам, производили 619 000 (в Овари), 555 000 (в Кии) и 350 000 (в Мито) коку риса соответственно. На ступеньку ниже стояли приблизительно 150 фудяи-даймё («союзные» князья). К ним относились те, кто получил этот титул из рук Токугава, а также те, кто сражался на стороне Иэясу в битве при Секигахара. Уделы фудаи приносили в основном от 10 000 до 100 000 коку риса. Сёгунат размещал их в тех районах страны, где существовала потенциальная угроза существующему режиму. В противоположность «союзным» даймё, яюдзаия-даймё («внешние») получили свой титул независимо от Токугава — еще во времена Ода Нобунага и Тоётоми Хи-дэёси. Их насчитывалось около сотни, и большинство из них заявили о своей верности дому Токугава только после 1600 г. От них в лучшем случае ожидали нейтралитета, но в худшем они могли выступить против власти Токугава, поэтому сёгунат стремился оставить этим князьям их старые владения, расположенные на периферии Японских островов. Независимо от своего статуса все даймё были так или иначе подчинены власти дома Токугава. Сёгунат не собирал с них налогов, но мог в случае необходимости призвать местных владык на воинскую службу. В любой момент сёгун мог обязать даймё предоставить в его распоряжение людскую силу, материалы и денежные средства для постройки и реконструкции замков Токугава, а также для проведения общественных работ, таких как сооружение и ремонт дорог. Параллельно с уставами, упорядочивающими жизнь аристократов и духовенства, сёгунат в 1615 г. издал Правила, касающиеся военных домовладений. «Закон, — утверждали Правила, — является основой общественного порядка». Согласно этому закону, вступать в браки, передавать имущество в наследство, а также строить и реконструировать замки даймё могли лишь с разрешения сёгуна{5}. Другие постановления приписывали каждого даймё к одному определенному замку и указывали то количество самураев и других солдат, которое мог иметь тот или иной военный правитель. Несмотря на то что сёгунат достаточно активно старался подчинить даймё своей власти, местные правители сохранили суверенитет в вопросах, касающихся внутренних дел своих доменов. Разумеется, большинство даймё предпочитали рассматривать свои владения в качестве автономных княжеств. В их пределах они командовали преданными им самураями, охраняли границы, присматривали за религиозными учреждениями и были вольны по своему собственному усмотрению устанавливать налоги для крестьян и торговцев. Они могли издавать законы, если видели в этом необходимость, и проводили их в жизнь настолько сурово, насколько считали нужным. Они поддерживали коммерческие предприятия, которые способствовали развитию местной экономики, и вмешивались в частную жизнь обитателей домена с целью сохранения мира и спокойствия. Кроме того, каждый даймё имел право запретить своим людям предпринимать путешествия за пределы домена, покидать свои родные деревни и даже устраивать праздники и религиозные церемонии, которые он по какой-либо причине считал неприемлемыми. Даймё были весьма значительными персонами, но, как заметил один ученый, их «самовластие было самовластным лишь до определенных границ»{6}. Даймё были обязаны давать клятву верности, их владения конфисковывались и перераспределялись, издаваемые центральной властью уставы предписывали им определенное поведение, размеры воинских отрядов и возможность их применения серьезно ограничивались. Этими мерами первые три сёгуна Токугава со всей очевидностью показали, что даймё существуют исключительно благодаря их, сёгунов, милости. Более того, чем более широкими полномочиями располагали даймё в управлении своими владениями, тем сильнее давил на них сёгунат, стремясь заставить их управлять в соответствии со своими желаниями. Местные князья, как указывалось во второй версии Правил, касающихся военных домовладений, вышедшей в 1635 г., должны были «следовать законам Эдо во всех вещах». Соответственно, если самостоятельность даймё была признанной и существенной частью политической системы в начале Нового времени, то к середине XVII в. князья «не были более абсолютными хозяевами в своем собственном доме». У даймё были веские основания прислушиваться к требованиям дома Токугава. Демонстрируя свою лояльность сёгуну и исполняя его распоряжения, местные правители могли более уверенно себя чувствовать в своих владениях. Токугава гарантировали даймё безопасность, что было немаловажным фактором — после непрерывной войны на протяжении жизни нескольких поколений князья наконец могли не опасаться нападения со стороны соседей. Кроме того, сёгунат обычно обеспечивал продовольствием, ссудами и другой помощью те княжества, которые пострадали от тайфунов, землетрясений или иных стихийных бедствий. Таким образом, сёгунат очевидно прогрессировал по сравнению с двойственной системой управления начала Нового времени. Тем не менее режим Эдо не мог эффективно управлять державой без взаимодействия с даймё, владения которых занимали приблизительно три четверти территории страны. Военная поддержка с их стороны позволяла сёгунату поддерживать мир, а финансовые выплаты делали возможными постройку замков и проведение общественных работ. В результате взаимная выгода и совместные интересы сплетались в сложные отношения между сёгуном и даймё. Подобное взаимодействие также являлось частью отношений сёгуната с двором и духовенством. Для любого сёгуна было слишком рискованно предпринимать какие-либо действия деспотического характера. Ему даже в голову не могла прийти идея столкнуть с политической сцены какую-либо из японских элит. При любой попытке уничтожить даймё как класс сёгунат неизбежно бы столкнулся с их моментальным объединением перед лицом этой угрозы. Равным образом потенциальный народный протест не позволял и далее осуществлять давление на буддийские секты, которые имели миллионы приверженцев во всех слоях общества. Кроме этого страха перед возможным сопротивлением, Иэясу и его преемники видели и выгоду от гармоничного сосуществования с национальными японскими элитами. Лишь Небесный Владыка обладал определенными властными привилегиями, вытекавшими из права назначать сёгуна на должность. Что же касается буддийских священников, то сёгунат, используя определенные стимулы, мог рассчитывать вернуть их к исполнению традиционной роли духовной опоры нации и ее лидеров.
Строительство вертикали власти
Взаимодополняющая и взаимозависимая природа власти сёгунов и даймё приобрела более определенную форму в первые десятилетия XVIII столетия. В это время источником законов для общества становятся обе составляющие части правительства, каждая из которых в своей сфере осуществляла контроль за людьми и ресурсами. Одной из главных забот верховных правителей было создание приемлемых форм налогообложения, которые позволяли бы центральной власти получать в свое распоряжение часть ежегодного урожая риса. Сёгунат и даймё постоянно оттачивали механизмы взимания налогов, что позволяло им увеличивать поступления в казну. С этой целью чиновники проводили переписи населения, измеряли земельные наделы и определяли оптимальный размер налога в каждом конкретном случае. В результате всех этих мер в руки правительства попадала третьурожая, а то и более. Кроме того, сёгунат и провинциальные даймё постоянно издавали постановления этического характера, практические советы и руководства, касающиеся повседневного поведения людей, населявших их владения. Одним из самых известных сборников подобных правил являются «Руководства эры Кейан». Этот кодекс был издан Иемицу в 1649 г. Он был адресован владельцам крестьянских хозяйств и состоял из тридцати двух параграфов. «Руководства» напоминали людям, что «закон сёгуна должен соблюдаться во всем». Они восхваляли такие достоинства, как бережливость и уверенность в своих силах, призывали крестьян работать старательно и ясно давали понять, что каждый должен выплачивать ежегодную сумму налогов полностью и без задержек. «Пока налоги уплачиваются, — гипнотизировал аудиторию документ, — никто не находится в большей безопасности, чем крестьянин»{7}. Власть нового режима покоилась, таким образом, на сочетании военной мощи с соответствующими законами. Но тем, кто стоял во главе государства, этого казалось мало. В дополнение они создали сложную бюрократическую систему, которая помогала им поддерживать мир и порядок, руководить развитием сельского хозяйства и другими формами экономической деятельности и вообще осуществлять управление более эффективно. При решении важных политических вопросов сёгуны опирались на два главных совещательных органа. Первый из них был создан в 1623 г. В его состав входили фудаи-даймё средних и высших рангов. Они считались старшими советниками. В качестве таковых они помогали даймё решать вопросы государственного уровня, включая защиту от внешних вторжений, а также осуществлять надзор за императорским двором в Киото, равно как и за людьми, землей, селами и городами, находящимися в пределах сёгунского домена. Заседания старших советников проходили в Эдо. Там же, начиная с 1633 г., собирались и младшие советники, в число которых входили (/>удяи-даймё более низких рангов. В их компетенцию входили вопросы, касающиеся более частных аспектов жизни сёгуната. В то же время они отвечали за подготовку и снабжение подразделений охраны, в чем можно убедиться, посмотрев на рис. 1.1.
В непосредственном подчинении у сёгуна находились и некоторые другие чиновники. Начиная с 30-х гг. XVII столетия из числа лояльных владетелей среднего уровня начали избираться уполномоченные по делам храмов и святилищ. Они регулировали деятельность религиозных учреждений и поддерживали мир и порядок в некоторых сёгунских владениях, расположенных за пределами региона Канто. Смотритель замка Осака, должность которого появилась в 1619 г, также выбирался из среднего слоя (jbydflw-даймё, размеры владения которых колебались от 50 до 60 тысяч коку. Резиденция смотрителя замка Осака находилась в мощной крепости, отстроенной сёгунами Токугава после их побед над войсками Тоётоми в 1614 и 1615 гг. Ему подчинялись все сёгунские войска в центральной Японии, а сам он присматривал за потенциально опасными даймё. В противоположность смотрителю замка Осака должность великого советника была номинальной и частенько оставалась вакантной. Из второстепенных должностей, входивших в систему сёгуната, наиболее значительными были должности магистратов различных городов и уполномоченных по делам финансов. Что касается магистратов, то они назначались сёгуном из числа (Дудяи-даймё или самураев «под знаменем». В их задачи входил контроль за деятельностью торговцев и ремесленников в тех крупных городах, которые находились под непосредственным управлением сёгуната. Уполномоченные по делам финансов, как и магистраты, были подчинены старшим советникам. Они следили за сбором налогов, а также за работой гражданской администрации в деревнях, находившихся на землях сёгуна. Им помогали десятки интендантов, которые набирались из числа сёгунских самураев «под знаменем». Большую часть времени они проводили в Эдо, предпринимая периодические вояжи в деревни, находившиеся под их юрисдикцией, дабы убедиться, что на местах все идет надлежащим образом. Несмотря на то что условия в различных регионах страны имели свои особенности, управленческие структуры, созданные даймё, по сути своей повторяли систему сёгуната. Там также можно было увидеть вассалов высокого ранга, являвшихся советниками князя, в то время как менее знатные слуги исполняли роль функционеров, следивших за сбором налогов, за порядком и вообще занимавшихся организацией повседневных дел. Всеобщий характер новой бюрократической традиции имел огромную важность. В начале XVII столетия, в течение одного или двух поколений самураи трансформировались из свирепых воинов в компетентных и умелых гражданских управленцев. Более того, сёгун и даймё, грубой силой и завоеваниями проложившие себе путь к власти, стали управлять, основываясь на законе, правиле, прецеденте, рациональности и, случалось, на интересах народа.
Легитимизация власти
Значительные усилия сёгуны Токугава направляли на создание новой идеологии, способной оправдать новую форму управления. Согласно «Токугава йикки» («Правдивые записи Токугава»), документальной компиляции, призванной возвеличить деяния первых десяти сёгунов, «Иэясу завоевал нацию, сидя на лошади. Однако, будучи просвещенным и мудрым человеком, он рано понял, что управлять страной, сидя на лошади, невозможно. С присущей ему мудростью он решил, что для того, чтобы управлять страной и следовать путем, достойным человека, он должен избрать путь учёности»{8}. Но Иэясу и его преемники не ограничивались следованием по этому пути. Они беспокоились и о своем социальном статусе, манипулировали религиозными образами и даже обратились к проникающим из-за рубежа этическим и философским учениям. Все это делалось для того, чтобы убедить даймё, самураев и простой народ принять — и принять безоговорочно — те механизмы контроля и инструменты управления, которые предлагались стране сёгунами. Дом Токугава начал плести сеть легитимизации с укрепления своих тесных связей с Небесным Владыкой. Первые три сёгуна лично прибывали в замок Фусими для получения инвеституры в качестве сеии таи сёгун. Кроме того, Хидэтада в сопровождении «многочисленных даймё» посетил Киото в 1617 г., а затем и осенью 1619 г., чтобы отдать дань уважения императору Го-Мидзуноо, занимавшему престол в то время. Менее чем через год после этого сёгун выдал свою дочь Кадзуко замуж за императора. Ребенок, родившийся от этого союза императорского двора и военного лагеря, занял престол в 1629 г., после отречения Го-Мидзуноо. Новым Небесным Владыкой стала Мейсо — первая женщина-император, занявшая японский трон после длительного перерыва. До этого женщина была императором Японии в VIII в. В Шестом месяце 1634 г. Иэмицу направился в Киото во главе огромной процессии, насчитывавшей около 40 000 человек. В город также явились многочисленные даймё в сопровождении собственных свит, состоявших из членов их семей и самураев. Таким образом, общее количество людей, находившихся в это время в Киото, перевалило за триста тысяч. Сёгун наслаждался той законностью своего статуса, которую принесла ему коронация Мейсё. С большой помпой и блеском он демонстрировал свое благосостояние, не упуская при этом и малейшей возможности продемонстрировать двору и собравшимся вместе даймё, что судьба нации отныне неотделима от судьбы семьи Токугава. Хотя незабываемое путешествие Иэмицу стало последним из традиционных личных визитов в Киото, все последующие сёгуны подкрепляли благородство своей крови браками с представителями императорской семьи и высшей аристократии Киото. Близость к императорской семье, однако, отнюдь не гарантировала того, что должность сёгуна закреплялась за родом Токугава навечно. Семьи Минамото и Асикага, утратив военное превосходство, теряли в конце концов и свое положение. И если Токугава где-то оступятся, то император легко может переключить свою благожелательность на другую воинственную семью, способную обеспечить стабильное правление. Осознавая свою уязвимость, Иэясу и его преемники облачались в религиозные одежды. Выйдя в отставку и поселившись в 1607 г. в своем замке Сунпу (современная Сидзуока), Иэясу начал проявлять повышенный интерес к буддизму, чему способствовал Тенкай, монах секты Тэндай, который был духовником бывшего сёгуна. Прогуливаясь однажды после обеда в близлежащих горах, Иэясу отстал от своих спутников. Уже начинало смеркаться, когда Иэясу вдруг услышал бормотание отшельника: «Этот день прошел. Моя жизнь стала короче. Мы как рыбы на мелководье. Какая от этого может быть радость?»{9}. Как свидетельствует Тенкай, Иэясу в этот момент осознал суетность жизни, и в 1614 г. монах дождался обращения военного правителя в веру секты Тэндай. Незадолго до своей смерти, последовавшей в Четвертый месяц 1616 г., Иэясу конфиденциально сказал своему духовнику: «После того как я умру, пусть меня сперва похоронят на горе около Сунпу, а затем, по прошествии года, мое тело следует перенести в Никко, где будет обитать мой дух, всегда готовый защитить мою страну и моих потомков»{10}. Местность Никко, расположенная в горной цепи приблизительно в 75 милях к северу от резиденции сёгуна в Эдо, считалась обиталищем многочисленных благожелательных божеств. Немного раньше Тенкай основал там небольшое святилище. В соответствии с желаниями Иэясу, весной 1617 г. его тело было извлечено из первоначальной могилы. Его торжественно пронесли по провинциям Канто, а затем поместили в мавзолей, построенный для него в Никко. В первую годовщину смерти великого правителя Тенкай провел торжественную освятительную церемонию, а Небесный Владыка объявил в Киото об обожествлении Иэясу, присвоив ему посмертный титул Тосо Дай Гонген («Освещающий Восток, Божественное воплощение Будды»). Как утверждалось в учении буддийских сект, Будда может принимать различные формы. Он был историческим лицом по имени Сиддхартха Гаутама (Шакьямуни), который жил предположительно в 563–483 гг. до н. э. и создал новую религию в своей родной Индии. Он же является вечным и всеобъемлющим Буддой, известным японцам как Дайничи. И он же является нёрай — трансцендентными персонажами, такими как Амида (Будда Западного рая) и Якуси (Будда Исцеления). Непосредственно вслед за Буддами следовали бодхисаттвы. Они представлялись персонажами, наделенными огромной духовной силой и безграничным состраданием. Они достигли просветления, но войти в рай отказались, желая помочь остальным найти спасение. Как Тосо Дай Гонген канонизированный Иэясу стал воплощением Якуси, способным осветить путь к просветлению для японского народа. Трансформация Иэясу в Тосо Дай Гонгена также позволяла его духу занять место и в синтоистском пантеоне. Синтоистские верования, которые зачастую считают местной японской религией, стали превращаться в организованный набор практик в VI–VII вв. — как раз тогда, когда в страну начал проникать буддизм. Однако основные ценности, вокруг которых формировался «Путь Богов», появились гораздо раньше. Они основывались на глубоком почитании ками — духов или божеств, которые наполняли своим присутствием природу. Термин ками записывался при помощи той же идеограммы, которая передавала син в слове Синто (вторая идеограмма которого означает «путь»). Один из наиболее выдающихся ученых XIX столетия давал этому понятию следующее объяснение: «Божества неба и земли, упоминания которых встречаются в древних текстах (таких как Кодзикй), а также духи, которым поклоняются в святилищах, и, кроме того, такие существа любого рода (не только люди, но и птицы, звери, деревья, трава, моря, горы и т. д.), которые обладают какими-либо выдающимися качествами и внушают благоговейный страх, именуются ками»{11}. Ками встречались на всех островах японского архипелага, и все они обладали способностью вмешиваться в ход событий в материальном мире. Масштабы подобного влияния, однако, могли варьироваться. Великая богиня, такая как Аматэрасу, могла повлиять на события в национальных масштабах, и от нее зависела судьба любого японца. Возможности менее значимых ками, связанных с небольшими святилищами в определенной местности, ограничивались пределами одной-единственной деревни или городом и его окрестностями. Более того, поскольку каждый ками мог проявить себя не только как благожелательное существо, но и как злонравное, в задачи людей входило проведение ритуалов и церемоний, которые должны были убедить ками применять свои способности исключительно во благо обществу. По этой причине Небесные Владыки предоставляли решение насущных политических вопросов другим людям, а сами сосредоточивали свои усилия на осуществлении сложных ритуалов в честь Аматэрасу и других важных божеств. Крестьянские семьи также должны были периодически проводить празднества в деревенских святилищах, принося туда специально приготовленные блюда и бочонки с саке и сопровождая все это музыкой и танцами. Все это делалось для того, чтобы убедить местное божество обеспечить обильный урожай, оградить общину от эпидемий и природных катаклизмов и всячески облегчать полное невзгод существование крестьянина. Синто основывалось на убеждении, что люди могут быть счастливы и даже достичь определенного благополучия в этой жизни путем поклонения ками. Буддийская доктрина утверждала, что мир наполнен страданиями и неизбежным горем. Общим в учениях всех буддийских сект было утверждение, что страдания человека происходят от его эмоциональных привязанностей к другим людям и к материальным благам. Но поскольку все это — эмоции, физический мир, само существование является преходящим и эфемерным, то становится очень трудно определить, чего же на самом деле желает человек: красота увядает; счастье рассеивается; смерть неизбежна. Более того, концепция кармы («идея и следствие») подразумевает, что поступки, совершенные в прошлых жизнях, прочно привязывают человека к желаниям и страданиям, вовлекая его тем самым в бесконечный круг подобных перерождений. Нарисовав столь печальную картину, буддизм предлагал людям последнюю надежду. Путем отречения от желаний и индивидуального сознания, принимая мимолетность и понимая единство универсума, человек может разорвать круг страданий, преодолеть карму и достигнуть вечного блаженства нирваны. Для адептов секты Тэндай главным ориентиром на пути к просветлению была Лотосовая сутра, которая считалась последней проповедью Гаутамы. Приверженцы дзэновских сект стремились преодолеть свое эго при помощи медитации и отказа от материальных благ. Народная вера, в свою очередь, призывала уповать на милость и сострадание будды Амиды. Несмотря на свои метафизические и космологические отличия, синто и буддизм мирно сосуществовали на протяжении средневековой истории Японии. Одной из причин тому была, вероятно, взаимодополняющая сущность обеих систем. Поскольку синтоистские ритуалы акцентировались в основном на обращениях к ками за помощью именно в земном существовании, а буддизм занимался судьбой души после смерти тела, человек мог практиковать оба эти вероучения. Более того, большинство японцев весьма терпимо относилось к различным версиям религиозной истины, что и обнаружилось в попытках гармонизировать обе эти традиции. На протяжении столетий, последовавших за появлением в Японии буддизма, ками в глазах как религиозных авторитетов, так и простых верующих превратились в воплощения будд и бодхисаттв. Таким образом Аматэрасу, богиня Солнца, занимавшая центральное место в синтоистском пантеоне, стала отождествляться с космическим Буддой, Дайничи, санскритское имя которого — Махаваирокана — означало «Великое Солнце». В итоге задолго до периода Токугава большинство религиозных институтов сочетало как синтоистские, так и буддийские черты. Захоронение Иэясу в Никко превратило его из смертного военачальника в могущественное божество, которое распространяло с востока свое сияние, простирая свою защитную ауру над всеми японскими островами. В качестве воплощения Якуси он становился главным буддой, усилия которого направлялись на спасение японцев. Место его окончательного упокоения перекликалось с этой новой функцией, поскольку Никко было именем важного бодхисаттвы, который часто появлялся подле Якуси. Согласно синтоистским представлениям, Иэясу также почитался как синкун — «божественный правитель». Этот термин, который записывался при помощи идеограмм ками (произносившейся в данном случае син, как и в слове синто) и «господин», или «правитель», подразумевал, что японские боги освящали светскую власть дома Токугава и что синтоистский дух Иэясу будет охранять его потомков, Небесного Владыку, императорский двор, самураев и всю нацию. Для культуры, придающей большое значение семантике имен, Тосо Дай Гонген сочетало в себе множество аспектов: Иэясу был «божественным правителем», воплощением Будды, великим светочем Востока. Написание его титула включало в себя также элемент сё, который присутствовал в виде тэрасу в имени Аматэрасу. Политическая элита державы с целью легитимизации своей власти обращалась также и к конфуцианству. Конфуций, современник Сиддхартхи Гаутамы, живший в Китае, создал этическую систему, которая, по его расчетам, могла обеспечить людям стабильность, порядок и благополучие в этом мире. Реинтерпретация и модификация первоначальной системы вывели на передний план два фундаментальных положения, которые впоследствии оказались в фокусе внимания японских ученых. Общество разделялось на иерархические сословия — правителей, крестьян, ремесленников и купцов. Каждый, в соответствии со своим статусом, был вовлечен в одно или более основных отношений. Всего было пять типов отношений: правитель и подданный; муж и жена; отец и сын; старший брат и младший брат; друг и друг. Более того, гармония в обществе могла быть достигнута только тогда, когда все его члены следовали предписанным им функциям (правитель управлял, крестьяне и ремесленники производили предметы потребления, а купцы доставляли товары на рынок) и честно исполняли свой долг, обозначенный в дуалистических сочетаниях (подданный подчинялся правителю, жена чтила своего мужа, сын боготворил отца и т. д.). Таким образом, каждый человек должен был развивать свои моральные и интеллектуальные качества путем изучения ритуалов, поэзии и музыки, превращаясь постепенно в «человека добродетели», который, понимая и исполняя свои обязанности, работал на повышение всеобщего благосостояния. В эпоху династии Сун (960—1279) китайские философы начали выделять определенные метафизические концепции, разработанные на основе традиционного внимания конфуцианцев к практической этике. Новая доктрина получила название «неоконфуцианство». Она отводила особую роль дуальности ри-ки. Ки означало «эфир» или «материальную силу». Это было нечто вроде пара, способного превращаться в пять основных элементов (дерево, огонь, земля, металл и вода). Ки могло также комбинироваться с ри, и в таком случае ки конденсировалось, образуя живые существа и предметы. И наоборот, при разделении ки ири вещи прекращали свое существование. В то время как ки выступало в роли дающей жизнь силы, ри всегда оставалось «принципом» — абстракцией, которая содержала в себе естественные законы и социальные нормы. Ри обеспечивало человека своей природой, определяло свойства вещей и направляло течение мировых событий. Постигая ри, люди могли воспроизвести на земле такую социальную иерархию и личные отношения, которые соответствовали совершенному моральному порядку. На заре нового времени японские интеллектуалы стали обращать на неоконфуцианство пристальное внимание. В частности, установление нового режима власти и объявление Великого Мира оживили интерес к природе общества и управления и к поискам наиболее гармоничных отношений между ними. Фудзивара Сеика, киотский монах и отшельник, обычно считается первым японцем, начавшим открыто учить конфуцианству как независимой философской системе, а его ученик — Хайяси Радзан — донес эту доктрину до Токугава Иэясу. На протяжении XVII и XIX вв. неоконфуцианство завоевало устойчивые позиции в среде японской политической элиты. Хайяси впервые познакомил Иэясу с его концепциями в 1605 г., а спустя два года он уже был постоянным советником сёгуната. По мере своего приближения к эпицентру политической жизни Хайяси занимался составлением официальных документов, консультировал сёгунов относительно проведения церемоний и ритуалов, участвовал в историографических проектах, а в 1635 г. стал автором новой редакции Правил, касающихся военных домовладений. В знак благодарности за верную службу Иэясу помог Хайяси создать в Эдо школу по изучению неоконфуцианства. В 1797 г. эта академия была реорганизована и, получив название Сёхейкё, превратилась в учебное заведение, в котором обучались сыновья самураев «под знаменем» и других непосредственных вассалов сёгуна. Большинство даймё также организовали домашние школы, чтобы дать своим самураям образование, основанное на конфуцианских принципах. К XIX столетию существовало более 200 подобных школ, имевших общенациональное значение. Практически все сыновья самураев проводили в них по нескольку лет, обучаясь конфуцианской грамоте, осваивая стрельбу из лука и искусство верховой езды. Привлекательность неоконфуцианства для японских сёгунов и даймё кажется очевидной. После столетия войны и хаоса эта доктрина, делавшая особый упор на порядок, послушание, обязанность и службу семье, обществу и государству, выглядела необходимой и желанной. То же самое можно сказать и о концепции мирового морального порядка, который требовал от всех подданных лояльности по отношению к своим суверенам. Более того, в Китае ученые-конфуцианцы были государственными чиновниками и принадлежали к категории «правителей» — высшему слою социальной иерархии. По мере того как воины превращались в бюрократов, новые самураи начала новой эпохи могли приравнивать себя к ученым-чиновникам, служившим государству в Китае. Таким образом они превращались в привилегированный социальный слой, призванный управлять по самой своей природе. Неоконфуцианство, однако, было палкой о двух концах. Оно не только обеспечивало хорошее управление, но и подразумевало ответственность. Если подданные должны были подчиняться, то они, в свою очередь, могли требовать от чиновников поддержания высокого морального уровня. Как говорил сам Конфуций, добродетельный человек не должен служить недобродетельному правителю. Соответственно, сёгунат и даймё должны были быть справедливыми, высокоморальными и благожелательными руководителями. Владения даймё, не выдержавшего экзамена на добродетельность, могли быть уменьшены, а то и вовсе конфискованы. И те сёгуны, правление которых не способствовало росту народного благосостояния, рисковали потерять свою должность. Круг, таким образом, замыкался: безусловной покорности заслуживал лишь образцовый правитель. И в этом отношении неоконфуцианство добавляло еще один камень в здание легитимизации власти Токугава. Сочетание морального авторитета, связанного с тем, что сёгун действовал по поручению Небесного Владыки, и религиозной санкции, обусловленной обожествлением Иэясу, создавало безупречную идеологическую структуру, которая в противном случае базировалась бы исключительно на концепции «прав тот, кто сильней».Символы и сущность власти
Одной из забот сёгунов Токугава было создание таких символов, которые сделали бы легитимность их власти осязаемой. С поразительной предусмотрительностью новый режим изобретал церемонии, прославляющие его основателей, создавал ритуалы, добавлявших прочности связям между Киото и Эдо, запускал в действие культурное движение, которое делало ведущую позицию дома Токугава очевидной для императорского двора и провинциальных правителей. Подобные проявления мощи придавали материальности, конкретности власти, которая в противном случае выглядела бы абстрактной и теоретической, и служили свидетельством прочности правления сёгуна. В данном контексте новые символы легитимности не были простой декорацией. Наоборот, ритуал и церемония превратились в неотъемлемую часть самой практики управления. Между 1634 и 1636 гг. Токугава Иэмицу перестроил и расширил мавзолей своего деда в Никко. Эта реконструкция, приуроченная к двадцатой годовщине смерти Иэясу, стала одним из наиболее дорогостоящих архитектурных проектов, осуществленных в начале новой эпохи. Затраты на нее были приблизительно равны стоимости золота и серебра, добываемых всеми рудниками страны за четырехлетний период. Только те, кто получил приглашение от дома Токугава, имели право посетить новый грандиозный комплекс в Никко. Путь к нему пролегал через синтоистское тори — арку-ворота, от которого начинался подъем на гору. Затем перед глазами возникали священная конюшня и три хранилища, в которых находились наиболее ценные сокровища этого святилища. Миновав их, посетитель проходил через второе тори, после чего попадал в Хончидо — зал для молитв, посвященный Якуси, буддийскому воплощению Иэясу. Но главной жемчужиной комплекса были богато декорированные ворота Ёмей. Их поверхность покрывали резные изображения птиц и цветов, грозных драконов и горгулий. Позолота и отполированные металлические детали довершали их облик. Именно ворота Ёмей породили знаменитую поговорку: «Не произноси слово «великолепно», пока не увидишь Никко». На притолоках ворот расположились двадцать две фигуры, прославляющие живопись, каллиграфию, музыку и другие достоинства, почитаемые конфуцианскими учеными. Их сопровождают тридцать сценок с играющими китайскими детьми. Эти сценки являются иллюстрациями к притчам, дающим пример моральных ценностей. Ни один посетитель — независимо от его ранга и знатности — не мог пройти дальше ворот Ёмей. Этой привилегией пользовались только священники, обслуживающие мавзолей, и члены семьи Токугава. Однако посетитель мог рассмотреть другие — внутренние — ворота, украшенные скульптурным изображением «Правителя Чжоу», которого Конфуций превозносил как образец добродетельного правления. Позади этих ворот находился синтоистский зал, посвященный духу-ками Иэясу, а направо уходила тропинка, ведущая на вершину горы, где находилась сама погребальная урна. Щедрость, продемонстрированная Иэмицу в Никко, была актом нарочитой набожности, которая поспособствовала дальнейшим политическим успехам. Начиная с освятительной церемонии, проведенной в 1636 г., сёгунат требовал от даймё участия в пышных процессиях, которые периодически устраивались в Никко. И провинциальные правители смиренно склонялись в почтительном поклоне перед воротами Ёмей. Более того, в 1645 г. императорский двор уравнял Никко в статусе со святилищем Исэ. Это святилище располагалось на юго-востоке от Киото, приблизительно на том же расстоянии, на котором к северу от Эдо располагалось Никко. Исэ считалось обиталищем Аматэрасу, и посланники сёгуна, направлявшиеся в Киото, каждый год останавливались там, чтобы поклониться богине Солнца. Начиная со второй половины 40-х гт. XVII столетия император платил ответной любезностью, направляя своих эмиссаров в Эдо и Никко. Ежегодно, когда делегация Небесного Владыки достигала Хончидо, а затем и ворот Ёмей, священники начинали читать сутры, жечь благовония и возносить молитвы. Это прославление Иэясу подтверждало также и сакральность правления Токугава. Ритуализация, подобная той, которая окружала паломничество в Никко, на заре новой эпохи играла в Японии важную роль. Еще большую значимость она приобрела после того, как Иэмицу упорядочил систему санкин кётай, или «чередующегося присутствия». Практически с первых дней существования сёгуната некоторые даймё время от времени посещали Эдо, чтобы засвидетельствовать свою покорность дому Токугава. К концу первого десятилетия XVII в. некоторые из них даже построили свои резиденции неподалеку от замка Эдо, где и останавливались на время этих визитов. Новая редакция Правил, касающихся военных домовладений, вышедшая в 1635 г., предписывала уже всем даймё-тиодзолга периодически проживать в Эдо, а в 1642 г. это правило было распространено на всех даймё. Соответственно, сёгунат разделил князей на различные группы, так чтобы приблизительно половина даймё из числа тодзама и пропорциональное ей количество дай-мё-фудаи постоянно находились в Эдо. Провинциальные правители наилучшим для себя образом использовали эту обязанность. Огромными кавалькадами кочевали они между своими резиденциями и Эдо, демонстрируя свое богатство и величие. Главные даймё путешествовали в сопровождении тысячи, а то и более воинов и слуг. Впереди колонны обычно шли самураи «под знаменем» и воины, вооруженные длинными алебардами, украшенными шкурами экзотических зверей. За ними верхом на лошадях следовали самураи, носильщики с изящными лакированными ларцами с изображением герба даймё на стенках, высокопоставленные местные чиновники. Сам даймё восседал в паланкине, окруженный слугами и охраной. Даймё-тодзама совершали свои путешествия в Эдо и обратно к своим резиденциям в Четвертом месяце, а различные группы других князей заполняли дороги страны во Втором и Восьмом месяцах. В эти периоды простые японцы имели возможность полюбоваться на процессии даймё, которые один из свидетелей назвал «помпезными и великолепными»{12}. Однако пышные парады, пересекающие всю Японию и подпитывающие гордость провинциальных правителей, были не чем иным, как периодическим подтверждением того, что Эдо занимает центральное место в политической системе. Каждый знал, что даймё совершают свои перемещения по той причине, что им приказал делать это сёгунат. Более того, сёгунат требовал от князей совершать в Эдо различные ритуализованные действия, такие как периодические посещения замка Эдо или мавзолея Хидэтады, расположенного в южной части города. К подобным действиям приравнивалось и подношение даров. По прибытии в Эдо князья преподносили сёгуну лучших лошадей, мечи исключительной работы, великолепно выполненные доспехи и другие знаки благодарности за полученные владения и за установленный по всей стране Великий Мир. Наконец, система чередующегося присутствия требовала от каждого провинциального правителя содержания пышной резиденции в Эдо, где он оставлял постоянный штат прислуги, а также свою старшую жену и наследников, которые должны были служить гарантией его хорошего поведения.Япония и внешний мир
Сёгуны Токугава закрепили за собой право определять отношения Японии с внешним миром. В этой сфере они также использовали сочетание символа и его наполнения для дальнейшего укрепления законности своей власти. Самые продолжительные и активные связи Япония имела со своими континентальными соседями — Китаем и Кореей. В эпоху реформ Тайка японцы переняли у Китая основные принципы государственного управления. Киотская аристократия приходила в умиление от китайской живописи и поэзии. Заимствования у корейцев были не менее значительны. Еще до переворота Тайка, произошедшего в 645 г., корейцы способствовали проникновению на Японские острова буддизма. Более того, на протяжении V и VI вв. в Японию с Корейского полуострова переселилось множество писцов, гончаров, ткачей и специалистов по обработке металлов. Мигранты привозили с собой передовые по тем временам технологии и новые знания. Некоторые из них возглавили могущественные вождества и помогли правителям Ямато возвыситься над другими кланами. О значительной роли мигрантов в деле формирования державы Тайка свидетельствует тот факт, что приблизительно треть семейств новой аристократии, населявших Нара и Киото, имели корни на Корейском полуострове. На протяжении тысячи лет Япония жила мирно со своими ближайшими соседями, пока Хидэёси не решил распространить свою власть за ее пределы. Его мотивация до сих пор остается непонятной. Вероятно, новые земли понадобились для того, чтобы вознаграждать ими верных ему даймё. А может, это была ненасытная жажда власти, беспредельная мания величия. По крайней мере, в одном из писем, адресованных правителю Кореи, Хидэёси говорит, что он был зачат в тот момент, когда солнечный диск коснулся лона его спящей матери. А это, по его мнению, является несомненным знаком того, что как лучи солнца освещают весь мир, так и лучи славы имени Тоётоми должны осветить Четыре моря. Он уже усмирил Японию и продемонстрировал там свою непобедимость, а теперь, продолжал Хидэёси, он завоюет Корею, Китай и даже Индию и распространит в этих странах японские обычаи и ценности. Для вторжения Хидэёси собрал армию в 160 000 человек. В двенадцатый день Четвертого месяца 1592 г. экспедиционный корпус высадился на юге полуострова, и в тот же день был захвачен корейский город Пусан. Японцы стремительно прокатились по Корее. Спустя всего три недели после высадки они стояли уже у ворот Сеула, а к концу лета достигли реки Тумен. Однако дальнейшее продвижение на север столкнулось с трудностями. Корейский флот не позволял японским судам осуществлять снабжение экспедиционного корпуса по Желтому морю. Это принудило Хидэёси организовать доставку снаряжения и продовольствия по суше. Японцы на своих собственных спинах были вынуждены тащить оружие и провиант через весь Корейский полуостров, дороги которого отнюдь не были безопасными для захватчиков и вели от одной враждебно настроенной деревни к другой. Партизаны подстерегали японцев на каждом шагу, нарушая их коммуникации и вытесняя их постепенно за стены укрепленных городов. К концу года войска Хидэёси увязли в борьбе с отрядами корейских патриотов. Укрепленные форты японцы отваживались покидать лишь в составе крупных подразделений, насчитывавших не менее трехсот солдат. А к северу от Сеула и этого количества было недостаточно. Там безопасность могли гарантировать только соединения, насчитывавшие пять сотен бойцов. В первом месяце 1593 г. на территорию Кореи вступили крупные силы китайцев. Японцы не выдержали их напора и обратились в бегство. В итоге они закрепились в районах, примыкающих к Пусану. Хидэёси попытался возобновить активные боевые действия в Седьмом месяце 1597 г. На этот раз японская армия приблизилась к Сеулу на расстояние в 45 миль. Однако после нескольких поражений, понесенных на суше и на море, деморализованные японские войска вновь вернулись в Пусан. После смерти Хидэёси, последовавшей в Восьмом месяце 1598 г., они окончательно покинули территорию полуострова. Этот конфликт не принес Японии практически никакой пользы. Разве что вывезенные из Кореи тексты стимулировали интерес к неоконфуцианству, а угнанные на архипелаг корейские мастера начали изготавливать керамику арита (имари) и хаги, знаменитую и в наши дни. Негативных последствий было значительно больше. Обе стороны понесли значительные людские потери. Примерно треть 150-тысячного японского экспедиционного корпуса погибла зимой 1592/93 гг. Японцы гибли от рук партизан, умирали от истощения, голода, холода, болезней. Страдания корейцев были еще страшнее. В 1593 г. японцы буквально сравняли Сеул с землей, а когда в 1597 г. Хидэёси возобновил агрессию, он приказал своим военачальникам убивать любого корейца, осмелившегося противостоять его войскам. Это касалось всех жителей полуострова — вооруженных и безоружных, мужчин и женщин, и даже детей. У убитых отрубали носы, которые засаливали и отправляли в Японию. Перед своим мавзолеем в Киото Хидэёси из десятков тысяч этих чудовищных трофеев сложил огромный холм. Теперь холм Ушей (со временем первоначальное название исказилось), засаженный вишневыми деревьями, является излюбленным местом для проведения весенних пикников. Свидетельства ужаса, творившегося в 90-е гг. XVI столетия, донес до нас Кейнен — буддийский монах и врач, который сопровождал своего даймё во время похода в Корею. Его записи «Чосон хиникки» («Корея день за днем») содержат потрясающее по своей силе описание солдат, зараженных, по словам Кейнена, тремя отравами: алчностью, гневом и потерей представления о добре и зле. «Были сожжены даже поля, — писал он в один из дней, — что уже говорить об укреплениях. Люди были преданы мечу. Тех, кто выжил, заковали в цепи. Их шеи были стиснуты колодками, сделанными из бамбуковых палок. Родители оплакивали своих детей, дети искали своих родителей — никогда ранее не видел я столь душераздирающей картины». К этому наблюдению Кейнен добавил следующие стихотворные строки:Возможность диктовать внешнюю политику пополнила и без того длинный список прерогатив сёгуната Токугава. За первую половину XVII в. новый режим в Эдо поставил Небесного Владыку и его двор в зависимость от своих желаний, подчинил буддийскую элиту светской дисциплине и приручил даймё. Принудив провинциальных владык участвовать в системе чередующегося присутствия и получив право говорить с внешним миром от имени всей нации, сёгунат превратился в центральный орган управления Японией. Более того, его способность доминировать над другими элитами и проводить политику, влияющую на судьбу нации, принесли ему такую власть, которой ранее располагал Небесный Владыка и Дадзокан в Киото или сёгунаты Камакура и Асикага. Первоначально дом Токугава опирался исключительно на грубую силу. Свои претензии на верховенство в стране он подкреплял воинской мощью и материальным богатством. Ко времени смерти Иэмицу в 1651 г. образ правителя, восседающего на спине лошади, уступил место новой идеологической концепции, в которой моральный аспект буддизма и синто сочетался с философией неоконфуцианства. В то же время появляются новые структуры и технологии власти. К середине столетия она воплощалась не в личности отдельного сёгуна, а, скорее, в сёгунате, под которым подразумевалась система, состоящая из хорошо подготовленных чиновников. Сёгунат управлял всеми делами и делал это в соответствии со сводами законов, записями прецедентов и строгой бюрократической регламентацией. В первой половине XVII в. провинциальные правители также стремились закрепиться в своих владениях. Даймё, разумеется, не обожествляли себя по примеру Иэясу, но они подкрепляли свой авторитет, оказывая покровительство местным религиозным организациям и помогая школам, занимавшимся распространением неоконфуцианской доктрины. Кроме того, они принимали участие в легитимизации власти дома Токугава, периодически появляясь в Эдо и принося клятву верности в обмен на право владения своим доменом. Таким образом они включались в общегосударственную систему, законность которой в конечном итоге проистекала от Небесного Владыки. Даймё, превращаясь в крепких гражданских правителей, начали все более открыто вмешиваться в жизнь обитателей их владений. Даймё по отношению к местному населению действовали так же, как сёгунат действовал по отношению к ним. Они издавали своды законов, устанавливали налоги и создавали такие системы администрирования, при помощи которых их власть могла достигнуть каждой деревни и каждого домовладения. С этой точки зрения XVII столетие было очень важной эпохой в японской истории. Государственный контроль, воплощенный как в способности центра в Эдо господствовать над другими элитами, так и в способности сёгуна и даймё подчинять своей воле подданных, впервые в истории страны стал настолько очевидным и всепроникающим. Несмотря на всю свою власть, ни сёгуны, ни провинциальные правители не были автократами. Несмотря на все свои претензии, японские «гегемоны» и их чиновники не располагали неограниченными ресурсами. Иногда они обнаруживали, что их желания не соответствуют их возможностям. А иногда, сколь бы невероятным это ни выглядело, сами самураи-чиновники не особо жаждали обременять своим диктаторским контролем экономические и социальные процессы. Ранний период нового времени в Японии можно обозначить как эпоху самураев. Но с равным успехом его можно назвать и эпохой общинников, временем, когда простые мужчины и женщины — крестьяне, торговцы, ремесленники — разнообразными способами определяли характер деловой, социальной и культурной жизни Японии.
ГЛАВА 2
Города, торговля и уровень жизни
Приблизительно в то время, как Токугава Иэясу стал сёгуном Японии, семья Мицуи решила спрятать подальше свои мечи и заняться торговлей. На протяжении нескольких поколений представители дома Мицуи верой и правдой служили даймё Сасаки, который управлял провинцией Оми. В середине XVI в. Мицуи Такаясу, известный также под почетным прозвищем Господин Эчиго, укрылся в родовом замке поблизости от озера Бива. Ода Нобунага, начавший в конце 60-х гг. борьбу за объединение центральной Японии под своим началом, вырезал весь род Сасаки. Такаясу пришлось спасаться бегством в небольшой торговый центр Мацусака, расположенный в провинции Исэ. Отсюда Сокубеи, сын Такаясу и его преемник на посту главы семьи, наблюдал, как род Токугава поднимался к вершине военного господства. Согласно официальной истории семьи, составленной значительно позже описываемых событий, Сокубеи вскоре пришел к заключению, что Япония стоит на пороге продолжительного мирного периода. Соответственно, решил он, семья Мицуи скорее достигнет успеха на стезе торговли, а не военного дела. Собрав необходимый капитал, он открыл дело по производству сакэ, дав ему название «Эчиго Доно но Сакая» («Лавка сакэ Господина Эчиго»).
Расчет Сокубеи был верным. Дело по производству сакэ принесло молодому человеку достаточно средств для удачной женитьбы и начала возвышения семьи. Женой Сокубеи стала Сухо — дочь его друга, который также был торговцем. Выйдя замуж в двенадцать лет, она не только подарила Сокубеи дюжину детей, но и находила время для занятия семейным бизнесом. Чутье на прибыль у нее было потрясающим. Она убедила мужа пустить часть сбережений на то, чтобы создать смешанный ломбардно-ростовщический бизнес. Доходы от этого предприятия превзошли даже прибыль, приносимую «Лавкой сакэ Господина Эчиго», и семья Мицуи превратилась в один из ведущих торговых домов провинции Исэ.
В 1633 г., после смерти Сокубеи, Сухо послала своего старшего сына в Эдо, дав ему поручение открыть там филиал лавки и снабдив его необходимым для этого капиталом. Через два года в помощь ему она послала своего младшего сына — Такатоси. Вскоре именно к нему перешла ведущая роль в работе филиала в Эдо. Будучи искусным дельцом, Такатоси также стал торговать рисом. В 1673 г., когда доходы от разнообразных предприятий семьи Мицуи достигли значительных сумм, он открыл в Эдо лавку мануфактурных товаров, назвав ее «Эчигоя» («Лавка Эчиго»). Сперва это было небольшое предприятие, в котором работали около дюжины клерков. Они развозили рулоны шелка по домам состоятельных самураев, варьируя цену на свой товар в зависимости от толщины кошелька потребителя, а также принимали новые заказы.
Когда в том же году лавка была уничтожена пожаром, Такатоси вновь открыл Эчигою, переместив ее в Нихобаси, где и поныне находится главный магазин Мицукоси. Там он произвел революцию в сфере розничной продажи, вывесив над прилавком ставший знаменитым лозунг: ГЕНКИН, КАКЕНЕ НАСИ («Только наличный расчет, фиксированные цены»). Эта вывеска до сих пор хранится в музее Мицуи. Таким образом, Эчигоя начал продавать ткани, которые могли приобретать не только богатые самураи, но и простые торговцы и ремесленники. Такатоси предлагал покупателям приходить непосредственно в свою лавку, где они платили за товары, стоимость которых указывалась открыто и была одинаковой для всех клиентов. По мере роста продаж Такатоси озаботился рекламой своей лавки. В дождливые дни он снабжал покупателей зонтиками из промасленной бумаги, на каждом из которых красовался значок лавки «Эчигоя», тогдашний логотип. Кроме того, он завел дружбу с авторами пьес и поэтами, которые своими произведениями увеличивали славу Мицуи. К 1700 г. Эчигоя превратился в крупнейший магазин Японии, и Такатоси открыл его отделения в Киото и Осаке.
Мицуи не были типичными торговцами. Лишь немногие могли сравниться с ними в успешности, и практически нет японских женщин, которые получили бы столько похвал в семейных хрониках, сколько досталось Сухо. Тем не менее Сокубеи был всего лишь одним из тысяч воинов, которые в начале Нового времени выбрали торговую стезю. И случаи, когда жены или матери разделяли ответственность за семейное дело, вовсе не были редкими, даже если их мужья были официальными главами домовладений. Вместе с домом Мицуи многие из этих семей приняли участие в трех великих революциях, которые прокатились по Японии на заре Нового времени. Когда Иэясу был утвержден в должности сёгуна, Япония была аграрной страной, большинство крестьянских семей которой вели натуральное хозяйство. Но уже через сто лет Япония достигает высокой степени урбанизации. Огромное количество сыновей крестьян, равно как и отпрысков бывших самурайских родов, хлынули в растущие города в поисках лучшей жизни в качестве торговцев и ремесленников. Там, стремясь прокормить себя, а в перспективе — достигнуть процветания, они создавали торговую экономику, примером чему служит история появления крупных магазинов, подобных Эчигойе. В свою очередь, многие семьи по всей стране повышали свой жизненный уровень, улучшая материальную базу: жилищные условия, питание и предметы обихода — по мере того, как городская экономика росла и предлагала рынку все новые и новые товары.
Урбанистическая революция
Появление десятков городов-замков в конце XVI — начале XVII вв. положило начало урбанистической революции в Японии. На протяжении этих десятилетий владения даймё увеличивались в размерах, и те возводили на их территории многочисленные крепости, обнесенные рвами и усиленные башнями. Строились они по образцу замка Фусими и служили в качестве военных и административных центров. Как правило, провинциальные правители размещали свои новые цитадели в стратегически выгодных пунктах, доминирующих над сельскими окрестностями. Расположенные вокруг деревни должны были выплачивать налоги и снабжать крепости продовольствием. Практически сразу вокруг замков начали возникать новые поселения, поскольку даймё требовал от своих самураев селиться вблизи каменных стен его резиденции. А вслед за самураями в эти городки потянулись и торговцы с ремесленниками, чтобы снабжать воинское сословие всем необходимым. С потрясающей быстротой Япония превращалась в урбанистическую страну. Практически половина крупных современных городов возникла в короткий промежуток времени между 1580 и 1610 гг. Все они развились из поселений вокруг замков — от Сендая и Фукусимы на севере до Канадзавы, Сидзуоки и Нагои в центре Японии и далее — до Хиросимы, Окаямы, Кочи и Кумамото на юге и западе. Размеры этих поселений были не менее впечатляющими, чем их количество. В общем около 10 % всего населения определенного домена в конце концов сосредоточивалось вокруг замков. Приблизительно 140 городов имели население в 5000 человек, а такие гиганты, как Канадзава и Нагоя, достигали стотысячной отметки. Зарождение городов вокруг замков подчинялось общей логике и было тесно связано с нуждами даймё и их слуг-самураев. Как правило, каждый даймё размещал свой замок в защищенном с военной точки зрения месте, например на берегу океана, как Кагосима, или на возвышении между руслами двух рек, как Канадзава или Хиросима. Сам господин со своей семьей жил внутри цитадели, надежно защищенный высокими стенами и концентрически расходящейся системой рвов и каналов. Своих основных вассалов даймё селил поблизости от замка. Это место было престижным и относительно безопасным, а также и удобным, поскольку высокопоставленные самураи основную часть своего служебного времени проводили в цитадели. Следующий пояс составляли жилища торговцев и ремесленников, которые составляли до 50 % населения большинства городов-замков. Солдаты-пехотинцы со своими семьями и другие второстепенные самураи жили в строениях барачного типа, которые образовывали внешнее кольцо города. Наконец, многие даймё заставляли буддийские секты располагать свои храмы на стратегических подступах к городу по его периметру. Даймё в случае нападения могли использовать храмы в качестве опорных пунктов, а кладбища создавали открытые пространства, которые атакующая армия могла пересечь только с риском для себя. Киото, Осака и Эдо — три города общенационального значения, управляемые непосредственно сёгунатом, — возвышались над сетью региональных городов-замков. Киото был городом императорским, городом аристократии. Однако к своим культурным достижениям, накопленным за сотни лет, в начале Нового времени он добавил новое измерение — коммерцию. Даймё, высшие самураи и другие состоятельные люди начали активно интересоваться предметами роскоши, создаваемыми местными ремесленниками. Перепись населения, датируемая 1685 г., демонстрирует профессиональное разнообразие и состоятельность жителей Киото. Кроме врачей, дантистов, поэтов, писателей и мастеров чайной церемонии, составителей букетов и актеров театра но, этот документ приводит перечень сотен владельцев магазинов, известных по всей стране как продавцы великолепных шелковых тканей, фарфора, складных вееров, писчей бумаги и утвари для домашних буддийских алтарей. Ко времени завершения переписи общее количество жителей Киото достигало 300 000 человек, многие из которых зарабатывали на жизнь производством и продажей по всей Японии высококачественных изделий. Разместившаяся неподалеку Осака имела легендарное прошлое, в котором встречались иногда и трагические эпизоды. Еще в VI и VII столетиях небольшое поселение, расположенное на берегах великолепной Осакской бухты, служило местом назначения для дипломатических и торговых миссий, прибывавших с континента через Внутреннее Японское море. Вскоре после переворота Тайка, произошедшего в 645 г., здесь обосновалась новая монархия. В последующие столетия порт и торжище постепенно разрастались в глубь континента вдоль русла реки Йодо, соединяющей Киото с океаном. Значительно более крупное торговое поселение возникает здесь в XVI в., когда секта Хонгандзи школы Истинной Чистой Земли основала в этом месте свой храм-крепость Исияма Хонгандзи. Населению города пришлось столкнуться с серьезными испытаниями в 70-х гг. XVI столетия, когда Ода Нобунага разрушил буддийскую твердыню. И хотя торговое поселение начало возрождаться после того, как Хидэёси возвел в 1584 г. великолепный Осакский замок, город был вновь практически уничтожен во время жестоких битв 1614 и 1615 гг. Учитывая военное и политическое значение региона Осаки, дом Токугава отстроил здесь замок, который должен был служить опорным пунктом в Западной Японии. К концу XVII столетия торговое и ремесленное население окружающего замок посада достигло приблизительно 365 000 человек. На фоне такого количества жителей практически теряются те 1000 или около того самураев, которые проживали в замке и которых обслуживали горожане. По мере того как Осака превращалась из военной крепости в бастион коммерческой деятельности, она становилась ведущим в стране центром по производству самых разнообразных предметов, предназначенных для повседневной жизни. К 1700 г. осакские ремесленники славились своим рапсовым маслом для ламп, пошивом готовой одежды из хлопковых тканей, а также мастерством восстановления отслуживших свое предметов для их последующей продажи в лавках подержанных товаров. К этому времени около 10 000 семей зависели от торговли медью, и среди наиболее крупных предпринимателей города была семья Сумитомо, владевшая медеплавильнями. Превращение Осаки, вместившей в себя многочисленные производства и расположенной вблизи Внутреннего моря, в главный портовый и распределяющий центр было неизбежно. К 1710 г. в городе проживало более 2000 корабельных плотников, а также тысячи и тысячи оптовых торговцев, распределителей и экспедиторов. Немного позже один уважаемый городской чиновник писал, что Осака «лежит на пересечении великих морских путей страны. Она переполнена товарами. Поэтому люди обычно говорят, что Осака является «кухней страны», хранилищем провианта для всей Японии. Облик городских улиц определяют изобилие и богатство купеческих семей, и в бухте всегда стоят корабли, прибывшие из различных провинций. Рис, бытовые предметы и даже заграничные товары — все это свозится в это место и выставляется на продажу. Люди ни в чем не испытывают недостатка»{19}. Двадцать тысяч непосредственных вассалов сёгуна, самураев «под знаменем» и всадников, определяли рост населения Эдо. Большей части их семей требовались помощники, пажи, домашние слуги, наемные работники, в результате чего в столицу сёгуната хлынули десятки тысяч мигрантов из сельских районов. После того как в 30-х гг. XVII в. Иэмицу установил систему чередующегося присутствия, члены семей даймё, постоянно проживавших в городе вместе с их многочисленными свитами, добавили еще треть миллиона человек к населению города. Таким образом, только воинов в Эдо насчитывалось 500 000. Подобно Риму, Эдо был возведен на семи холмах, и даймё, входившие в элиту, размещали свои резиденции на зеленых склонах к югу от замка. Доверенные самураи «под знаменем» сёгуната вместе со своими семьями селились на возвышенности Кодзимачи, расположенной от замка на запад. Этого требовала военная необходимость, поскольку с этой стороны находилась равнина Мусаси, которая представляла собой удобный подход к стенам замка в случае атаки. Кроме того, широкая и рельефная вершина холма позволяла большинству самураев найти солнечные места для расположения своих домов и садов. На протяжении XVII столетия в Эдо вливались строители, ремесленники, мастера по изготовлению любых видов товаров, которые удовлетворяли потребности проживавших в городе самураев-администраторов. Сердцем торгового Эдо был Нихонбаси — район, расположенный приблизительно на полпути между берегами залива Эдо и главными въездными воротами замка. Из этого центра в разные стороны разбегались торговые и ремесленные кварталы, змеившиеся между холмами, на вершинах которых размещались резиденции даймё и жилища самураев. К 20-м гг. XVIII столетия количество торговцев и ремесленников, проживавших в Эдо, сравнялось с количеством самураев. Таким образом, общее количество населения достигло одного миллиона, превратив Эдо в крупнейший город мира. Возглавляемая сёгунской столицей, Япония стала одной из самых урбанизированных стран в мире. В самом начале Нового времени лишь в Киото проживало более 100 000 человек. К 1700 г. население Эдо, Осаки, Нагойи и Канадзавы также достигло этой отметки. В этих «мегаполисах» сосредотачивалось от 5 до 7 % всего населения Японии. Для сравнения, в Европе городское население в то время составляло 2 %, и всего 14 городов могли сравниться своими размерами с японскими. Только Голландия и Англия с Уэльсом достигли большего уровня урбанизации. Это был период городского строительства, не имевший аналогов в истории, золотой век японской урбанизации, который значительно повлиял на экономическое и социальное развитие.Города и торговля
На редкость удачный пример, продемонстрированный тремя мегаполисами — Эдо, Осакой и Киото, способствовал распространению коммерческой революции по всей стране. Первоначально провинциальные города-замки, равно как и Эдо и Осака, задумывались как оборонительные укрепления. Однако массовая миграция торговцев и ремесленников превратила эти поселения в пульсирующие центры потребления и производства. И вскоре их торговое значение отодвинуло на задний план первоначальные военные цели. В свою очередь, растущие в геометрической прогрессии ремесленное производство и торговля попадали в зависимость от развития объединенной рыночной системы, носившей национальный характер. В это понятие входили складывание широкой сети приемлемых транспортных путей и создание инфраструктуры, состоящей из банковских учреждений, системы страхования и других служб, необходимых для обеспечения существования национального предпринимательства. Япония вступила в эпоху нового времени аграрной страной. Однако к началу XIX в. почти каждая японская семья в той или иной степени была вовлечена в коммерческую экономику, базирующуюся в городах, и каждый японец сталкивался с ее проявлениями. По иронии судьбы потрясающее по своим масштабам распространение коммерческих отношений, наблюдавшееся в эпоху Великого мира, корнями своими уходит в пожар жестоких сражений XVI столетия. Армии требовали провизии, и даже во времена самой жестокой разрухи и беспорядка крестьянам необходимо было заботиться об урожае, совершенствуя свои орудия труда, выводя новые сорта зерновых и добиваясь повышения плодородности почв. В то же время новые технологии позволили даймё и сельским общинам усовершенствовать ирригационную систему и освоить новые земли. Тем самым всего за сто лет, с 1550 по 1650 г., удалось практически удвоить площадь обрабатываемых земель. Увеличение продуктивности сельского хозяйства привело к росту населения. За полтора столетия — с середины XVI по начало XVIII в. — количество японцев выросло с десяти или двенадцати миллионов до тридцати одного миллиона. Соответственно, многие дети получили возможность покинуть деревню и направиться в город, чтобы стать там торговцами или ремесленниками. Растущее как грибы после дождя городское население в невероятных количествах требовало себе одежду, пищу, строительные материалы. Масштабы спроса способствовали быстрому росту межрегиональной торговли и развитию национальной системы рынков. Очевидно, что ни один домен не мог произвести все необходимые товары и продукты, которые требовались хотя бы для обеспечения обитателей местного города-замка. А для удовлетворения аппетитов мужчин, женщин и детей, населявших Эдо или Осаку, необходимы были усилия всей нации. Отвечая на запросы городского рынка, производители различных регионов создали нечто вроде системы специализаций. Камфорное масло и грибы шиитаке производились в южной части Кюсю, пиломатериалы и древесный уголь привозились из домена Тоса, Тояма специализировалась на лекарственных средствах, а Кофу — на выращивании винограда. И это — лишь короткий перечень того, что можно было встретить на рынках трех мегаполисов. Развитию торговли на национальном уровне способствовали и даймё. Они постоянно нуждались в определенных денежных суммах — для поддержания своего замка, проведения ирригационных работ, освоения целины, периодических выплат сёгунату, организации своих ежегодных вояжей в Эдо и обратно, поддержания там своих резиденций, а также для содержания родственников и слуг, постоянно живших в городе. Поскольку даймё львиную долю своих доходов получали в виде сельскохозяйственных налогов, которые выплачивались в рисе, им было необходимо перевести все это зерно в наличность, чтобы, в свою очередь, произвести все необходимые выплаты. Начиная с 20-х гг. XVII в. князья из центральных и западных областей Японии стали отправлять свой рис в Осаку. Там это зерно брали торговцы рисом, чтобы продать его в различных городских центрах. В результате через склады в Осаке ежегодно проходило около 1 000 000 коку риса. За следующие сто лет это количество выросло в четыре раза. Столь масштабные перемещения риса — основы национального рациона японцев — превратили Осаку по выражению того времени в «кухню страны», то есть в экономический центр Японии. В своем стремлении увеличить доходы даймё со временем стали предпринимать шаги, направленные на повышение урожаев риса и на создание местной специализации продуктов, которые можно было бы продать в таких центрах, как Эдо и Осака. Эти мероприятия принимали самые разнообразные формы. Даймё Маэда хорошо заплатил знаменитому гончару из Киото, чтобы тот в течение года обучал своему искусству людей из деревенек заснеженного домена Kara. Далее на север, в Ёнедзаве, даймё Уэсуги пригласил к себе специалистов со всей страны для того, чтобы те помогли ему создать плантации индиго, которое использовалось для производства одной из самых популярных красок в Японии, а также чтобы они обучили местных крестьян мастерству изготовления хлопковых тканей. В последние десятилетия XVIII в. местные чиновники вновь пригласили в Ёнедзаву специалистов. На этот раз они хотели, чтобы крестьяне научились разводить тутовые деревья, нежные молодые листья которых служили пищей для гусениц шелкопряда. Даймё прибегали к самым различным ухищрениям, чтобы получить прибыль из своих предприятий. В некоторых случаях местное руководство позволяло только определенным торговцам или деревням принимать участие в новых проектах, и за эту привилегию они должны были платить ежегодный взнос в пользу князя. Иным вариантом было обложение налогом каждого тутового дерева или всех керамических изделий, вывозимых за пределы домена. Наконец, чиновники могли принуждать производителей продавать свой товар строго определенным оптовикам, а те везли его на кораблях в Осаку тамошним агентам по продаже. Часть от полученных прибылей они передавали в казну домена. Кроме возрастающих доходов доменов большинство даймё надеялись, что новые предприятия способствуют и улучшению жизни крестьян. А это помогало создавать образ добродетельного правления. Как поясняло одно из руководств по шелководству, изданное в начале XIX в., «первой пользой, приносимой обществу производством шелка, является то, что тутовыми деревьями засаживаются ранее неиспользуемые земли вдоль рек, в горах и на морском побережье, а шелкопрядение начинает быстро развиваться. Излишне говорить, что когда товары одной местности продаются в других районах, домен богатеет и его население процветает»{20}. Сёгунат и в дальнейшем содействовал увеличению межрегиональных товарных потоков путем стандартизации системы мер и весов и установления национальной денежной системы. Имея под своим контролем большинство рудников в стране, сёгунат создал в нескольких городах монетные дворы. Монетный двор в Эдо, или гиндза, достиг такой известности, что в конце концов этим словом стали обозначать весь квартал, где тот располагался. Вскоре монеты сёгуна превратились в национальную валюту. В то время как даймё использовали бумажные деньги, хождение которых ограничивалось пределами того или иного домена, торговцы вели расчеты за товары, пересекающие эти пределы, а также при заключении сделок в Эдо, Осаке и других важнейших центрах в золотой, серебряной и медной монете, выпускаемой сёгунатом. Сёгунат также способствовал развитию транспортных путей. Поскольку почти вся территория Японии покрыта горами, то использование наземного транспорта было затруднено. Поэтому торговцы предпочитали доверять свои товары морским кораблям и грузовым лодкам. Чтобы помочь морской перевозке грузов, сёгунат поручил Кавамура Дзуикену, богатому торговцу лесоматериалами из Эдо, разработать и осуществить меры по уменьшению риска судоходства в прибрежных районах. Кавамура немедленно приступил к делу. Он обозначил бакенами и маяками опасные места и создал цепь спасательных пунктов между Эдо и портами, расположенными на северном тихоокеанском побережье. То же самое он сделал на береговой линии Японского моря, а затем, через Симоносекс-кий пролив, по побережью Внутреннего Японского моря до Осаки. В 70-х гг. был закончен остававшийся участок между Осакой и Эдо. В результате появились так называемые восточный и западный пути, связавшие основные центры страны с наиболее отдаленными регионами. Но и сухопутные пути не выпадали из поля зрения верховной власти. Сёгунат систематически проводил работы по улучшению дорог, уделяя особое внимание пяти трактам, которые веером расходились из Нихонбаси — торгового ядра Эдо. Наиболее сложной для путешествий была дорога Токай-до, которая почти 300 миль тянулась вдоль тихоокеанского побережья, связывая Эдо и Киото, и далее — до Осаки. Полотно дороги было тщательно выровнено. Оно состояло из толстого слоя мелкого гравия, покрытого сверху утрамбованным песком. Ширина ее достигала почти 20 футов. На холмах, засаженных соснами, размещались указатели, которые сообщали путешественникам, насколько они уже отдалились от Нихонбаси или какое расстояние им еще осталось пройти. На перекрестках находились указатели направлений, которые помогали не сбиться с пути. Пятьдесят три станции, расположенные на дороге Токайдо, предоставляли путникам возможность переменить сандалии, перекусить, выпить чашечку чая, а также пообедать и переночевать на постоялом дворе. Поскольку наиболее тяжелые грузы перевозились по морю, процессии даймё, которые следовали по Токайдо, сопровождались лишь несколькими вьючными лошадьми. Копыта их были обмотаны соломенными циновками, а их погонщики нередко были не менее упрямыми, чем их животные. По дороге в больших количествах сновали курьеры. С самого начала XVII в. сёгунат три раза в месяц отправлял своих посыльных из Эдо в Осаку и обратно. В 1664 г. торговцы из Эдо, Осаки и Киото создали курьерскую службу для частного сектора. После этого скороходы с небольшими посылками, деловыми документами и наличными деньгами покидали каждый из этих городов практически ежедневно. Сначала курьерам требовалось 6 дней для того, чтобы завершить маршрут между Эдо и Осакой, но в первой половине XIX столетия дорогие сверхскоростные операции могли укладываться в двухдневный срок. К этому времени в сеть коммерческой службы доставки были включены такие города, как Нагасаки, Канадзава и Сендай. Ведущие торговые дома Японии создали множество других служб, которые делали возможной дальнейшую экономическую экспансию. В Осаке семья Коноике совместно со своими деловыми партнерами создала прототип банковской системы. Так называемые Десять обменных домов начали выдавать даймё определенные денежные суммы, которые были им необходимы для покрытия дефицита бюджета, оплаты чередующегося присутствия и финансирования разнообразных проектов. Иногда финансисты давали ссуды отдельным оптовикам. А те, в свою очередь, предоставляли денежные средства сельским производителям, которым они были необходимы для покрытия расходов на выращивание урожая или на производство тканей и других товаров, предназначенных для продажи в городах. Кроме того, банкиры в Осаке и других крупных центрах страховали корабли, принимали деньги на хранение, выдавали суммы в долг под гарантии имущества, а также выдавали аккредитивы для обеспечения операций, производимых между торговцами, действовавшими в разных городах. Коммерческая революция изменила облик японского города. Если города-замки, равно как и мегаполисы Эдо и Осака. первоначально были городами правителей и самураев, то по завершении начального периода Нового времени главную роль в их жизни стали играть простые люди. Это превращение наиболее заметно на гравюрах, иллюстрирующих жизнь торговых кварталов. Хиросигэ, которого зачастую считают лучшим мастером японской гравюры, создал более тысячи видов Эдо. Свою самую известную серию «Токайдо годжусанцуги» («Пятьдесят три станции на дороге Токайдо») он начал с изображения Нихонбаси — торгового ядра Эдо. Подобным образом изображают магазины в Осаке и Эдо популярные путеводители, такие как «Нанива судзуме» («Нанивский воробей») и «Эдо мейсо дзуэ» («Иллюстрированный путеводитель по Эдо»). В этих изданиях приводятся изображения магазинов, заполненных покупателями, рассматривающими огромное богатство разнообразных товаров. Путеводители советуют посетить театры Кабуки, которые процветали в трех мегаполисах, а также кукольные театры[7]. Последние были особенно популярны в Осаке, с конца XVII в. и на протяжении почти всего XVIII столетия. Власти не разрешали организовывать подобные театры в кварталах самураев, поскольку считалось, что благородному сословию необходимы более утонченные развлечения, такие как драма но. По этой причине авторы пьес, предназначавшихся для народных театров, использовали сюжеты, рассчитанные на вкусы зажиточных торговцев и ремесленников. Одним из жанров народного театра был севамоно, или «мещанские драмы». Его истории носили полуфантастический характер и рассказывали об ужасных убийствах или других занимательных вещах, таких как двойное самоубийство проститутки и ее любовника-торговца, не имеющего достаточно денег на то, чтобы выкупить ее из борделя. Иными были сюжеты жанра «исторических драм», или джидаймоно. Они основывались на реальных исторических событиях, особенно относящихся к борьбе домов Тайра и Минамото, происходившей в XII в. Популярными были и примеры воинского мужества, относящиеся к более близкой эпохе объединения страны. В таких пьесах прославлялись такие качества, как верность и отвага, которые понятны всем зрителям, независимо от их культурного уровня и социальной принадлежности.Коммерциализация сельского хозяйства и протоиндустриализация
Коммерческая революция в Японии внесла изменения и в сельское хозяйство. Во всех регионах страны крестьяне переходили к выращиванию чая, табака и самых разнообразных овощей и фруктов, предназначенных для продажи в растущих городах. В некоторых случаях подобные коммерческие культуры выращивали на землях, не пригодных для культивации риса, либо их высаживали уже после того, как рис был убран с полей, освободив, таким образом, место для второго урожая. В начале XVII в., например, осакские торговцы изобрели дешевый способ получения масла для светильников из рапсовых семян. Благодаря этому горожане получили возможность повысить комфорт своего жилища, осветив их доступными масляными лампами, свет которых не только успокаивал и очаровывал, но и отпугивал воров и прочих злоумышленников. В результате всего этого крестьяне в окрестностях Осаки выращивали столько рапса в качестве второго урожая, что ранней весной поля выглядели покрытыми мириадами сверкающих желтых бриллиантов. В период правления Токугава сельское промышленное производство возрастало в геометрической прогрессии. К началу XIX в. деревенские мастерские могли предложить широкий выбор товаров — от шелка и хлопковых тканей до соломенных шляп, бумаги, татами, древесного угля, инструментов и гвоздей, лака и посуды, и это не говоря уже о продуктах питания, таких как соль, сахар, уксус, соевый соус и мисо. В некоторых местностях коммерческое сельское производство возглавляли провинциальные чиновники, как в случае производства керамики в домене Kara. Более часто, однако, подобные предприятия организовывали и возглавляли преуспевающие городские торговцы и крестьяне, которые сколотили капитал на сельском хозяйстве. В любом случае распространение коммерческого производства, базирующегося в сельской местности, свидетельствовало о протоиндустриализации японской экономики. Это значит, что зарождающиеся сельскохозяйственные предприятия отражали дух предпринимательства, заставлявший людей рисковать своим капиталом, вкладывая его в производство товаров, предназначенных для отдаленных рынков, в надежде получить прибыль от своих вложений. В этом отношении протоиндустриализация отличалась как от обычного домашнего производства, во время которого семьи сами себя обеспечивали одеждой, инструментами и всем необходимым для повседневной жизни, так и от традиционной торговли ремесленными товарами, когда ремесленники производили товары для продажи непосредственно в местепроизводства, не рассчитывая при этом выручить больше средств, чем необходимо для поддержания жизни их семей. Новые сельские предприятия значительно различались по своим размерам. На одном полюсе находились масштабные производства, которые объединяли усилия шести-семи сотен людей. Их продукцией был соевый соус или железные орудия. На другом полюсе располагались небольшие деревенские мастерские, в которых трудилось от 5 до 20 человек. Они специализировались на производстве посуды, сахара, соли, чая и тканей. Иногда это вообще не было централизованным производством. В различных регионах Японии женщины в деревнях прямо у себя на дому по вечерам ткали хлопок, который потом продавали оптовикам. На вырученные деньги они приобретали в том числе и новый материал для работы. Некоторые работники, такие как деревенские женщины, выделявшие несколько часов или дней из своих сельскохозяйственных занятий для ткачества, трудились нерегулярно. Другие проводили значительное количество времени вдали от дома. Жительницы деревень, разбросанных по гористому полуострову в домене Моею на западе Японии, в летние месяцы зачастую работали на прибрежных соляных полях. Только по окончании сезона соледобычи они возвращались домой, чтобы вновь выполнять роли жен и матерей. В Северной Японии для мужчин было обычным делом проводить снежные зимние месяцы вне своей деревни — на производстве сакэ или соевого соуса. Во всех этих разнообразных случаях работники продавали свой труд за заработную плату. Это было еще одним признаком протоиндустриализации. Производство шелка было особенно прибыльной формой протоиндустриальной деятельности на заре Нового времени. Процесс изготовления шелковых тканей достаточно сложен. Начинается он с выращивания личинок тутового шелкопряда. Крестьяне обычно разводили их на балках, расположенных под крышей дома. После вываривания полученных коконов работники разматывали тонкие паутинки шелка, свивали их в длинные волокна и наматывали на катушки. Затем несколько волокон переплетались между собой, причем формы плетения были самыми разнообразными. Это называлось «крутить шелк» и делалось для того, чтобы получить нити различных типов. После этого ткачи превращали шелковую нить в готовое полотно, из которого можно было шить кимоно и другие одеяния. В начале новой эпохи лишь немногие хозяйства занимались пошивом одежды из не очень качественного шелка. В основном они сами и являлись потребителями этой продукции или продавали ее на местных рынках. В стране был только один главный центр производства шелка, который размещался в Киото, в квартале Нисиджин. Тамошние ткачи выпускали высококачественный шелк, предназначавшийся для аристократов и зажиточных даймё. С середины XVII в. предприниматели, озабоченные поиском новых источников прибыли, начали обращать на шелководство более пристальное внимание. Они рационализировали процесс получения шелковых тканей, повысив тем самым и качество конечного материала, и стали выпускать продукцию для рынков национального масштаба. Новаторы в первую очередь сфокусировались на начальной стадии получения шелка, когда из яиц выводили личинок тутового шелкопряда. Эти создания беззащитны перед болезнями и очень чувствительны даже к малейшим изменениям температурного режима. После десятилетий экспериментов в области селекции в местности Фукусима, расположенной на севере Японии, удалось вывести менее прихотливую разновидность этих тварей. К началу XVIII в. личинки новой породы распространились по всей территории страны. В то же самое время другие селекционеры вывели гибридные типы, которые давали волокна определенного оттенка, что отвечало запросам тогдашней моды. Показателем напряженности, но и удачности экспериментов является тот факт, что первый учебник по шелководству, вышедший в 1702 г., описывал лишь пять разновидностей червей, в то время как в энциклопедии, изданной в середине 60-х гг. XIX в., их перечислялось уже около двух сотен. Более того, сравнение различных текстов, посвященных теме производства шелка, показывает, что количество волокон одного кокона, годных для дальнейшей обработки, увеличилось приблизительно на 25 %. Одним из наиболее значительных технических новшеств было изобретение крутильных машин, приводимых в действие силой воды. Во второй половине XVIII в., спустя пятьдесят лет после того, как первые шелкокрутильные мельницы появились в Англии, японский колесный мастер по имени Ивасе Кичибеи нашел способ использовать поток воды для того, чтобы заставить крутиться огромные колеса, свивающие шелковые нити. Несмотря на то что этим изобретением воспользовались лишь немногие, оно помогло родине Ивасе — городу Кирю, расположенному в провинции Кодзуке к северо-западу от Эдо, — превратиться в лидера по производству шелка. Был усовершенствован также процесс наматывания волокон. Первоначально мотальщики были вынуждены вручную свивать по две паутинки и наматывать их затем на деревянные катушки или рамы. В середине XIX в. в различных частях страны начали появляться передаточные механизмы и направляющие ремни, предназначенные для этих целей, и в движение они в большинстве случаев приводились водой, а не руками человека. Успехи в свивании и кручении подняли производительность до невероятных высот и дали путевку в жизнь крупным шелкопрядильням. В 60-х гг. XVIII столетия центром шелкопрядения национального масштаба стал город Кирю и окружающие его общины. Это произошло благодаря тому, что местные ткачи начали использовать технологии, которые ранее знаменитые текстильные дома в киотском квартале Нисиджин хранили как величайший секрет. После того как слава о высококачественном шелке из Кирю загремела по всей стране, сюда начали съезжаться ткачи со всей Японии. Они приобретали дополнительные ткацкие станки и нанимали по сотне рабочих. Согласно одному документу, датированному 1835 г., «приезжавшие ткачи нанимали женщин, чтобы те занимались кручением нитей и ткали полотно. Люди, в огромном количестве прибывавшие сюда из различных провинций, снимали себе жилье в городе и даже в окрестных поселках»{21}. Специализация производственного процесса способствовала росту товарооборота на региональных и общенациональных рынках, а использование наемного труда и примитивных механических приспособлений превратилось в неотъемлемую часть процесса изготовления хлопчатобумажных тканей. Несмотря на то что японцы выращивали хлопок еще с древних времен, одежду для простых мужчин и женщин шили из волокон конопли, льна или китайской крапивы. Это продолжалось до тех пор, пока японские солдаты, участвовавшие в экспедиции Хидэёси, не привезли из Кореи новый вид хлопкового растения, который можно было культивировать в районе Осаки. Прочная хлопковая ткань, прохладная летом и согревающая в зимнюю стужу, вскоре завоевала любовь со стороны простых японцев, превратившись в первой половине XVII в. в самый распространенный материал для пошива одежды. Она приобрела такую популярность, что крестьянские семьи в соседних с Осакой провинциях отводили под посевы хлопка до 70 % от общей площади их земельных наделов, чередуя их с рисом в одно- или двухлетнем цикле. Хотя хлопководство концентрировалось в Центральной Японии, предприниматели могли закупать хлопок-сырец или нити в весьма отдаленных регионах, передавая этот материал ткачам для того, чтобы те превратили его в полотно. Во многих местностях ткачество носило домашний характер. Им занимались женщины в свободное от сельскохозяйственного труда время, сдельно получая за выполненную работу. По мере роста потребительских запросов и масштабов производства стали появляться ткачи-профессионалы, посвящавшие этому занятию все свое время. Некоторые из них продолжали оставаться независимыми производителями, но другие объединялись в мастерские, включавшие в себя 20, 30 или даже более станков. Тут, как и в шелководстве, изобретатели смогли предложить несколько технических нововведений. Селекционная работа привела к появлению разнообразных видов хлопка, новые прядильные машины позволили получать более прочную нить, а новые станки увеличили производительность. В результате успешного развития ткачества на рынке появлялись ткани новых типов и расцветок. По мере того как в сельскую местность проникали зачатки коммерции и промышленного производства, деревни превращались в небольшие городки и начинали играть роль производственных, торговых и транспортных центров. Кирю, например, в период с 1757 по 1855 г. в три раза увеличил свои размеры, причем практически все домохозяйства, входившие в его состав, были заняты в торговле шелком. Подобным образом, в 1843 г. только 14 % из 277 домовладений деревни Удаоцу в окрестностях Осаки занимались сельским хозяйством, в то время как 46 % имели то или иное отношение к производству хлопковых тканей. Перепись, проведенная двумя годами позднее в деревне Окаси, расположенной в провинции Овари, выявила, что земледелие продолжало оставаться главным занятием лишь для 20 % семей из 262. 31 % занимался производством хлопковых тканей, а еще 22 % были связаны с транспортировкой товаров. Превращение скромных селений в процветающие населенные пункты, насчитывавшие по нескольку тысяч жителей, добавляло новый уровень в урбанистическую иерархию Японии. В результате складывалась новая производственно-распределительная сеть, связывавшая воедино внутренние сельские районы страны с портами, почтовыми станциями, городами-замками и «тремя мегаполисами».Внешняя торговля
В 30-х гг. XVII столетия сёгунат издал так называемые декреты о самоизоляции. При этом его целью было монополизировать внешние сношения Японии, распространить свой контроль на внешнюю торговлю и предотвратить проникновение в страну тех религиозных учений, которые сам сёгунат считал злонравными. Это вовсе не означало, что сёгунат стремился прервать все отношения с внешним миром. На заре Нового времени он продолжал принимать дипломатические миссии Кореи и островов Рюкю, а в Нагасаки прибывали китайские и голландские купцы, которые вели свои торговые дела под наблюдением местных чиновников. Кроме того, сёгунат позволял даймё и купцам провинций Сацума, Цусима и Мацумаэ вести торговлю с архипелагом Рюкю, Кореей и территориями, расположенными к северу от Японских островов. Организацией торговли в Нагасаки занималась так называемая служба встреч. Это была полуофициальная купеческая организация, находившаяся под контролем сёгуната. Она была создана в 1604 г. и получила монопольное право вести дела с иностранными купцами после выхода декретов о самоизоляции. Заморские торговцы передавали службе встреч свои заявки на приобретение тех или иных японских товаров, а та, в свою очередь, покупала товары, привозимые китайскими и голландскими кораблями на Дедзиму. Этот остров, искусственно созданный в заливе Нагасаки, служил резиденцией для чиновников голландской Ост-Индской компании, которые круглогодично находились в основанной здесь постоянной миссии. Самыми популярными предметами японского экспорта были шелковые нити и ткани, лекарственные травы, пряности, сахар. Иностранные корабли увозили из страны также медь, камфору, серу, мечи, керамику и лакированные изделия. Объемы продаж в Нагасаки в конце XVII в. были подвержены постоянным колебаниям, однако японцы, как правило, покупали больше, чем продавали. В 30-е гг. напряженность в отношениях с португальцами временно приостановила отток драгоценного металла, который столь тревожил Токугава Иэмицу и его советников. Однако его возобновление в конце XVII — начале XVIII столетия, вызванное необходимостью покрыть торговый дефицит, вновь вызвало беспокойство сёгуната. В результате в 1715 г. были изданы новые Правила для кораблей и торговли. Согласно положениям этого документа, порт Нагасаки в год могли посетить только 30 китайских кораблей и всего лишь 2 голландских. Были установлены лимиты для объемов торговли. Ежегодно на приобретение товаров у китайских купцов дозволялось тратить 22,5 тонны серебра, у голландских — 11,3 тонны. После того как в 1611 г. домен Сацума распространил свою власть на острова Рюкю, сёгунат позволил местному даймё осуществлять весьма выгодные торговые сношения с обитателями островов и через них — с купцами китайского побережья. Торговля между Сацумой и жителями архипелага Рюкю процветала на протяжении нескольких десятилетий — до 80-х гг XVII столетия, когда сёгунат ограничил количество серебра, которое Сацума мог вывозить на экспорт. После этого товарооборот резко сократился, однако острова продолжали оставаться важным источником сахарного тростника и сахара-рафинада, которые через Сацуму попадали на рынки Осаки и других крупных городов. На острове Цусима, расположенном в море между Кюсю и Кореей, правили даймё из клана Со. Они давно обосновались на этом острове и еще с XV столетия имели дружественные отношения с Кореей, периодически посылая на полуостров свои торговые миссии. После того как в 1607 г. Со Ёситомо выступил посредником при заключении мира между Эдо и Сеулом, сёгунат разрешил возобновить торговлю. Это позволило Со ежегодно снаряжать по двадцать кораблей, наполненных товарами, предназначенными для продажи корейскому правительству. Кроме того, японцы получили возможность иметь торговое представительство в Пусане, где они в частном порядке заключали соглашения с корейскими купцами. Вскоре объем торговли достиг значительных масштабов. Японцы обменивали свое серебро главным образом на шелк и женьшень, однако их также интересовали олово, рога буйволов, бумага, красильное дерево[8] и такие изделия, как керамика и картины, выполненные тушью. Однако в середине XVIII в. традиционная проблема оттока серебра заставила сёгунат ввести ограничения, нанесшие непоправимый урон торговым отношениям между Цусимой и Кореей. На севере японцы торговали с айнами. Происхождение этого народа, имевшего свой язык и свою культуру, теряется в глубине времен, однако к IX столетию на острове Хоккайдо существовали две отличные друг от друга культуры. Одна была создана народом сацумон, который населял большую часть острова. Носители второй, охотской, культуры обитали вдоль северо-восточного побережья Хоккайдо и на близлежащих островах Курильской гряды, а также на юге острова Сахалин. К XIII столетию на основе традиции сацумон сложилась новая культура, получившая название Айну. В ее состав вошли также народы эмиси, которые были вынуждены отойти на север под натиском японцев. Японцы называли эти народы также «эдзо», что является одним из прочтений идеограммы «восточные варвары». Поэтому территория айнов носила название Эдзочи, или «Земля Эдзо». Когда Токугава Иэясу был утвержден в должности сёгуна, айнов насчитывалось от 30 до 40 тысяч. Несмотря на существование разных диалектов и некоторых культурных вариаций, айны все же демонстрировали единство материальной культуры. Они жили в постоянных селениях, состоявших обычно из дюжины домов. Обитатели деревень занимались совместной охотой на оленей, медведей и прочих зверей, ловили рыбу в реках Эдзочи, собирали ламинарию и другие дары прибрежных вод. В садах, расположенных по берегам рек, они собирали фрукты и овощи, выращивали сорго, просо и другие съедобные растения. Богатая литературная культура айнов существовала в устной форме и передавалась из поколения в поколение в виде эпических поэм. Объектами их поклонения были проявления мира природы, которые они персонифицировали в качестве камуи («божеств»). Земли Эдзочи, богатые дичью и рыбой, приносили также меха и морские продукты, которые айны иногда продавали японцам, а также перевозили на континент через Сахалин и Курилы. В XVI столетии объемы торговли возросли, и японцы начали создавать свои торговые поселения вдоль берегов полуострова Осима, расположенного на крайнем юго-западе Хоккайдо. Постепенно главенство среди японцев Осимы захватила самурайская семья Какидзаки, которая в 1599 г. взяла себе фамилию Мацумаэ. Пять лет спустя сёгунат признал главу семьи Мацумаэ правителем домена, занимавшего южную половину полуострова, присвоив ему одновременно право контролировать всю торговлю с айнами. Самураи семьи Мацумаэ создали цепь торговых пунктов, связавших их замок, расположенный на полуострове Осима, с побережьем Эдзочи. В этих пунктах они продавали рис, сакэ, табак, одежду, изделия из железа и другие предметы домашнего обихода. Взамен они получали лососей, форель, ламинарию и такие экзотические товары, как медвежьи желчные пузыри, шкуры морских животных, а также живых соколов, которых использовали для спортивной охоты. Многие айны не были довольны присутствием японских самураев-торговцев, поскольку в результате аборигены теряли свою политическую самостоятельность, равно как и прежнюю возможность вести торговлю с кем угодно и где угодно. Это отношение к соседям было отражено в балладах. «Я слыхал, что японцев зовут честными людьми, людьми со справедливыми сердцами, — говорилось в одном из подобных произведений, — однако насколько злы эти ваши сердца!{22}». В конце концов это негодование вылилось в вооруженное столкновение. В 1669 г. местный предводитель Сакусайн атаковал японские поселения в Эдзочи и приготовился к нападению на домен Мацумаэ. Напуганный этими событиями сёгунат набрал в нескольких северных провинциях острова Хонсю войско из самураев и мушкетеров. Несколько сотен японских поселенцев было убито прежде, чем мятеж был подавлен. Айнов при этом погибло, вероятно, еще больше. После поражения в сакусайнской войне айны оказались под еще большим экономическим давлением. С 1717 г. торговцы из центральных японских провинций ежегодно выплачивали главе семьи Мацумаэ определенную сумму в обмен на право создавать особые торговые пункты. К концу столетия эти пункты присутствовали на Курильских островах и Сахалине. По мере их распространения на землях Эдзочи некоторые японские купцы создавали свои торговые империи, которые контролировали промысел рыбы в изобильных северных морях. Постепенно главным продуктом, производимым в регионе, стало удобрение из перемолотой в муку сельди. Рисковые предприниматели из числа японских торговцев прокладывали пути развития этого производства. Они вводили более продуктивные способы лова сельди, создавали предприятия для переработки рыбы в удобрение и строили бараки для работников из числа айнов (которые получали за свой труд мизерную плату и жили практически в нищете), а также переправляли готовый продукт в районы рисоводства, расположенные на основных японских островах. Сёгунат был вовлечен в северную торговлю в XVIII столетии. Чиновники в Нагасаки были озабочены поисками замены дня серебра и меди. И они с радостью для себя обнаружили наличие спроса в Китае на акульи плавники, сушеных морских улиток, морских слизней и другие морепродукты, используемые в кулинарии. Поскольку купцы, содержавшие свои торговые пункты в Эдзочи, упаковывали эти продукты в соломенные мешки, то подобные товары получили название «мешочные». В 1785 г., после нескольких экспериментальных попыток, сёгунат создал в Нагасаки службу мешочных товаров. Ее задачей было принимать морские деликатесы у торговцев из Эдзочи и с севера Хонсю и продавать их китайским купцам. Согласно большинству оценок, суммарный объем торговли с айнами, жителями Рюкю, корейцами, голландцами и китайцами в начале Нового времени был относительно небольшим и не играл значительной роли в японской экономике. Тем не менее потребности экспорта обеспечивали работой множество японцев. Среди них были и гончары с острова Кюсю, изделия которых хорошо продавались в Голландии, а также Сумитомо и другие торговцы медью и ремесленники Осаки, которые практически всю свою продукцию отправляли на кораблях в Нагасаки. Более того, некоторые товары, ввозимые из-за рубежа, способствовали увеличению производительности сельского хозяйства. К 1740 г. удобрение из сельди из Эзочи использовалось практически на каждом втором рисовом поле на западе Японии. Другие импортные товары служили повышению уровня жизни. Великолепно выполненные предметы искусства, привезенные из Кореи, и высококачественные китайские шелка способствовали этому. Кроме того, японцы получили возможность более успешно следить за своим здоровьем. Служба встреч в Нагасаки передавала все лекарства, полученные из азиатских стран, осакской ассоциации фармацевтов. Там их оценивали, присваивали им японские названия, расфасовывали в удобную упаковку и продавали готовую продукцию аптекарям по всей стране.Экономическое положение, социальный статус и уровень жизни
Кальмары, угри и осьминоги, сардины и макрель, рис и ячмень, сахар, соль, уксус и соевый соус, ревень, турнепс и корень лотоса, мандарины и хурма, чай и сакэ, тонкие шелка и прочные хлопковые ткани, обувь, зонтики, дождевики, заколки для волос и самые разнообразные аксессуары, инструменты и материалы для строительства новых домов и ремонта старых, книги и гравюры, сосуды, котлы, лакированные чашки и палочки для еды — даже беглый просмотр иллюстраций в путеводителях по крупнейшим японским городам и декоративных ширм с изображениями торговых кварталов в различных городах-замках позволяет оценить изобилие продуктов питания и других товаров, которыми были завалены городские рынки в конце XVII столетия. Семьи, принадлежавшие к различным имущественным группам, по-разному ощущали развитие экономики. В крупных городах часто можно было встретить слуг высокопоставленных самураев и торговых баронов, таких как Коноике, которые проверяли свежесть морских лещей, нюхали листья чая, желая удостовериться в их высоком качестве, и выбирали для своих господ только самые лучшие парчовые ткани. На другом полюсе находились неквалифицированные ремесленники, поденщики и крестьяне-арендаторы. Они жили в совсем ином мире, где источником протеина был сыр тофу, а не рыба, пища запивалась водой, а одежда шилась из дешевого хлопка, который зачастую уже бывал в употреблении до этого. Решающей была и принадлежность к определенному социальному слою. На протяжении XVII в. сёгунат и провинциальные администрации, возглавляемые даймё, искали новые способы сделать еще более ощутимыми различия между четырьмя социальными группами, созданными в соответствии с нео-конфуцианской концепцией. Стремление руководить людьми, исходя из их социального статуса, было порождено рядом причин. В том числе это была и вера чиновников в то, что народ, разделенный на четыре замкнутых группы, не сможет бросить вызов существующей системе правления. Более того, процесс углубления социальной дифференциации давал правительству возможность ввести определенный круг обязанностей для представителей каждого социального слоя. В этом отношении чиновники особое внимание проявляли к нижним слоям японского общества — крестьянам, ремесленникам и торговцам, которые должны были соблюдать законы, платить налоги и обогащать страну, производя много и получая мало. Наконец, превращая самураев в привилегированную элиту общества, руководители государства рассчитывали заручиться поддержкой со стороны воинов и превратить их в преданных и беспрекословных исполнителей воли правительства. Режим власти сёгуната и даймё самыми разнообразными способами поддерживал концепцию управления при помощи социального членения общества. Зарождение городов-замков в конце XVI — начале XVII столетия создало географическую дифференциацию. Крестьяне жили в сельской местности, в то время как самураи селились в новых урбанистических центрах, в окружении кварталов, населенных ремесленниками и торговцами. Кроме того, начиная с Хидэёси, сёгунат издал несколько декретов. Они предписывали людям в профессиональном отношении заниматься тем же, чем занимались их родители, самураям запрещалось вступать в браки с выходцами других социальных слоев, и только представителям воинского сословия разрешалось носить оружие. По мере того как новый режим обретал форму, сёгунат и даймё присвоили самураям прерогативу занимать важные посты в сфере управления государством. У самураев была еще одна исключительная привилегия — только им разрешалось иметь фамилии. У крестьян было только личное имя, а торговцы обычно были известны по своей специализации или по названию лавки (например, Табакоя Сичибеи, что значит «табачник Сичибеи»). Начиная с середины XVII столетия сёгун и некоторые даймё создавали законы, направленные на усиление социальных различий. Таким был декрет, изданный даймё Маэда в провинции Kara в 1660 г. Он позволял использовать для пошива одежды, предназначенной для самураев высших рангов, тринадцать сортов шелковых тканей, которые имели между собой незначительные различия. Для менее знатных самураев это количество ограничивалось четырьмя относительно недорогими сортами шелка, такими как эпонж. В этом же документе, согласно распространившейся в те времена практике, торговцы и ремесленники объединялись в одну категорию чонин («горожане»), и им разрешалось носить одежды из однотонных неокрашенных шелковых и хлопчатобумажных тканей. Подобным образом декрет, изданный сёгуном в 1683 г., предписывал нонинам, проживавшим в Эдо, шить свою одежду только из эпонжа, хлопка или китайской крапивы. Не были забыты чиновниками и крестьяне. Руководства эры Кейян, изданные в 1649 г., позволяли крестьянам носить только одежду из хлопка. Это требование было повторено в предписаниях, появившихся одиннадцать лет спустя в провинции Kara, а также в декретах, издаваемых даймё по всей Японии. Исторические документы по-разному описывают реакцию людей на эти нововведения. Разумеется, довольно распространенным явлением было неповиновение. Донесения из Канадзавы, города-замка, расположенного в провинции Kara, свидетельствуют, что зажиточные горожане предпочитали уплатить небольшой штраф или выслушать лекцию чиновника об ответственности перед обществом в обмен на возможность продемонстрировать своим соседям свое богатство, нарушив при этом правила ношения одежды. Даже в Эдо, по словам Буё Иней, проницательного наблюдателя за столичной жизнью начала XIX столетия, «постановления и декреты, издаваемые сёгуном, зовутся «трехдневными законами». Никто их не боится и никто не обращает на них внимания. Вскоре про них забывают. Поскольку каждый знает, что правительство просто издает законы всякий раз, когда ощущает в этом необходимость, то неудивительно, что никто не тратит время на изучение недавних постановлений и не подчиняется им»{23}. В противоположность довольно легкомысленному рассказу Буё другое свидетельство указывает, что сочетание социальных регламентаций и материального достатка в определенной степени влияло на стиль жизни отдельных семей. Богачи на обед ели не только морского леща. Они могли позволить себе такие деликатесы, как мясо журавля, гуся, фазана, дикого кабана или оленя. В Канадзаве некоторые самураи превратились в таких гурманов, что даймё всерьез стал опасаться того, что они утратят свой боевой дух. В результате в 1663 г. он издал постановление, которое начиналось со следующей фразы: «В последнее время стали поступать сообщения о том, что самураи устраивают расточительные пиршества». Далее устанавливалось ограничение на блюда, которые можно было подавать к столу. В праздничные дни обед должен был состоять не более чем из двух видов супа, рыбы, пяти овощных салатов, двух кувшинов сакэ, риса, маринованных овощей, пирожных и зеленого чая{24}. Семьи торговцев, продолжал господин Маэда, должны довольствоваться более скромной трапезой, соответствующей их статусу: один вид супа, три салата, два графина сакэ, рис, маринованные овощи и чай со сладостями. Как можно заключить по сообщениям из Канадзавы, в начале Нового времени обед многих японцев состоял из вареного риса, супа, салатов и чая. Для людей, принадлежавших к средним слоям общества, то есть для тех, которые не отличались богатством и не были при этом бедняками, дневной рацион мог сильно варьироваться в зависимости от региона, сезона и от состояния финансов в то или иное время. Записи в дневнике одного из самураев средней руки, сделанные в провинции Kara в 1837 г., свидетельствуют, что он каждый день ел рыбу и каждая его трапеза включала в себя вареный рис. Дневник другого самурая, жившего на западе Японии, указывает на то, что в 30-е и 40-е гг. XIX в. его семья обычно питалась рисом, смешанным с ячменем, овощами или тофу и супом мисо. Рыба на их обеденном столе появлялась лишь несколько раз в месяц. За несколько лет до этого, в Шестом месяце 1817 г., один ученый, путешествуя по дороге Токайдо, тщательно записывал в свой дневник все блюда, которые он съедал задень. В полдень XVII он остановился в харчевне с видом на озеро Бива и отведал супа, мелко нарезанной моркови с ревенем и ламинарией и клевер под кунжутным соусом. К вечеру пошел мелкий снежок, и наш путешественник завернул на постоялый двор, расположенный на станции Кусацу. Там он согрелся ужином, состоявшим из супа, дайкона, хурмы, зелени с уксусом, небольшого блюда овощей с рыбной пастой и жареной макрели. Для крестьян при выборе диеты решающую роль играли не их собственные предпочтения, а те ограничения и предписания, которые определяли, что представители этого сословия могли пить и употреблять в пищу. В 40-е гг. XVII в. сёгунат рядом указов запретил деревенским жителям пить сакэ и чай. Им также предписывалось есть меньше риса и больше пшеницы, проса и картофеля. Насколько действенными были эти законы, нам доподлинно не известно, однако многие крестьянские семьи и на самом деле были вынуждены обходиться грубой пищей. «Крестьяне, проживающие в районах рисовых полей, — писал один японский чиновник в 20-х гг. XVIII столетия, — иногда едят рис, но только в виде каши, смешанной с другими продуктами. Многие из тех, кто живет в мощных крепостях, призванных подчеркивать превосходство сёгуна и даймё и служить местом проживания самурайской элиты, — являлись материальным воплощением основных принципов управления через социальное разделение. То же самое можно сказать и о домах, архитектура и стиль которых варьировались в зависимости от статуса их владельцев. Зажиточные самураи использовали при постройке своих жилищ лучшие материалы и привлекали к работам самых искусных плотников. Дом такого самурая обычно был обнесен стеной с воротами. Размеры и декор этих ворот соответствовали положению хозяина дома в самурайской иерархии. Сам дом обычно включал в себя прихожую, где в горах или там, где выращивают иные злаки, не видят рис на своем столе даже во время трехдневных новогодних празднеств. Даже когда они готовят себе пшено или просо, они добавляют в них такое количество листьев турнепса, картофеля, фасоли и другой зелени, что крупу становится практически невозможно разглядеть. Более того, это блюдо они едят лишь один раз в день, да и то разводят его при этом водой»{25}. Как было сказано выше, планировка Эдо и японских городов-замков наглядно демонстрировала статус и жизненные принципы своих владельцев. Люди снимали обувь, входя в помещение; существовали специальные комнаты для гостей, ожидающих встречи с хозяином, и комнаты, в которых семья могла собраться для обсуждения текущих дел и которые одновременно служили спальнями. Пол большинства комнат покрывали татами. Помещения отделялись друг от друга перегородками-сёдуи[9] и раздвигающимися дверями фусума, которые состояли из деревянной рамы, на которую натягивалась тонкая бумага. В лучших домах фусума украшались росписями, а в гостиной находились встроенная доска для письма, полочки для демонстрации книг и керамических изделий и токонома — ниша, в которой мог висеть свиток, стоять искусно составленный букет цветов или ценный предмет искусства[10]. Дома семей самураев низших рангов были похожи на описанные выше, однако уступали им в размерах, а внутреннее убранство и декор комнат становились проще по мере уменьшения доходов и престижа самурая. Дома торговцев и ремесленников отличались от жилищ самураев. В передней части располагалась лавка, которая выходила на улицу. Жилые помещения для семьи и работников располагались позади лавки. Большинство подобных домов представляли собой простые, лишенные украшений постройки. Их внутренняя обстановка была весьма скромной. Например, в начале Нового времени большинство семей сидели и спали прямо на деревянном полу, подстелив для мягкости мешки, набитые соломой. Позднее горожане, подражая богатым самураям, стали использовать для этих целей татами. Они даже начали надстраивать над своими жилищами второй и третий этажи, если это не было запрещено местными законами. Со временем богатые торговцы поняли, что построить дом своей мечты можно только в обход инструкций. В Канадзаве и многих других городах существовали предписания, согласно которым высота фасадов домов ремесленников и торговцев не могла превышать полутора этажей. Это побудило некоторых горожан строить свои дома так, что крыша фасада действительно находилась на этой высоте. Однако затем она постепенно поднималась, в результате чего получался полноценный второй этаж. При решении вопроса декоративного убранства подобного дома, его хозяин мог пойти и на прямой обман. А что еще должен делать богатый купец, если ему очень хочется украсить свое жилище золотой или серебряной фольгой или, например, лаком золотого цвета, но людям его социального положения это строжайше запрещено? Ремесленники с невысоким доходом и поденщики в основном жили в нагайях («длинных домах»). Они были рассчитаны на несколько семей. Передняя дверь каждого отсека выходила в узкую кухоньку с земляным полом. В ней размещалась глиняная печь, место для дров, в стены были вколочены деревянные колышки, на которые вешались горшки и кувшины. Человек или целая семья жили и иногда даже работали в единственной комнате, размерами приблизительно три на три метра. Обитатели этих помещений страдали от духоты во время жаркого японского лета, а зимой они стремились согреться теплом печки, на которой готовилась пища. Разумеется, в таких жилищах и речи не шло о водопроводе. Всем жителям приходилось пользоваться общим колодцем и уборной, расположенной во дворе. Жилища крестьян значительно различались по размеру и оформлению, однако были у них и общие черты. В них, как правило, были отдельные помещения для проживания и для работы. Рабочие помещения с земляным полом использовались семьей для выполнения обычных сельскохозяйственных работ, а иногда и для содержания домашних животных. Как правило, здесь же находилась глиняная печь и сточная труба для уборки после приготовления пищи. В беднейших крестьянских домах земляные полы, выстланные мешками с соломой, были и в жилых помещениях, которые отделялись от рабочей зоны невысокими перегородками. Зажиточные крестьяне достраивали дополнительные комнаты, полы в которых были деревянными, а вдоль стен располагались очаги для приготовления еды и для отопления помещений в зимнее время. Можно предположить, что жилища деревенской элиты могли похвастаться большим количеством помещений, убранство которых не сильно отличалось от убранства домов богатых купцов и самураев. В целом за начальный период Нового времени благосостояние и уровень жизни японцев значительно возросли. Реальные статистические данные весьма скудны, однако мы располагаем надежными свидетельствами того, что семьи торговцев и ремесленников в начале XIX в. лучше одевались, употребляли более разнообразную пищу и жили в более просторных домах, чем их предки за две сотни лет до этого. Дома становились также более удобными. Их обитатели пересаживались с деревянных полов на татами, спать ложились на тюфяки, набитые хлопковой ватой, вместо уборных, расположенных во дворе, появлялись встроенные клозеты. Одежда, медикаменты, письменные принадлежности, косметика, деловые бумаги и наличные деньги находились в специальных ларцах, предназначенных для хранения одного определенного типа предметов. Значительным изменениям подвергался и рацион японцев. Проникавшие с Запада такие продукты, как сладкий и белый картофель, тыква, морковь, зеленая фасоль, арбузы, становились все более доступными для населения страны. В Эдо, Осаке и других основных центрах в XIX в. начали появляться рестораны, в которых подавали темпуру, жареных угрей и другие блюда японской кухни. Это был еще один признак повышения уровня жизни. Именно шеф-повар одного из таких ресторанов, расположенных в Эдо, в начале XIX столетия изобрел суши — блюдо, которое сразу же приобрело огромную популярность. Подобные тенденции присутствовали и в сельской местности. Если в начале XVII столетия крестьянские хозяйства могли обеспечить только себя и только самым необходимым, то к середине первого периода Нового времени жители даже самых отдаленных деревень могли себе позволить разнообразие в пище и одежде, а иногда даже и некоторые предметы роскоши. Первыми по сельской местности стали путешествовать коробейники, которые продавали вяленую рыбу, кухонную утварь, а также мотыги и другие сельскохозяйственные инструменты. Позднее ассортимент товаров настолько вырос, что во многих деревнях появились постоянные лавки, где местные жители могли приобрести все необходимое: фасолевую пасту и тофу, ламинарию, лапшу, сенбеи («рисовое печенье»), масло для светильников, свечи, нитки и иголки, дзори, геты, соломенные сандалии, табак и курительные трубки, бумагу, тушь, кисточки для письма. Как отметил в начале XIX столетия один очевидец, «год за годом растет розничная торговля в сельских районах. Сакэ, красители, галантерейные товары, туалетные принадлежности, металлические и лакированные изделия — все, что можно себе вообразить, — все продается в деревнях»{26}. Разумеется, не каждый индивид или семья процветали. Торговцы и ремесленники, не обладавшие необходимыми навыками, а также те, кого преследовали неудачи, быстро скатывались вниз. В то же время крестьяне, которые не были готовы воспользоваться возможностями, открывающимися перед ними благодаря коммерциализации сельского хозяйства, продолжали жить в стандартном доме и из поколения в поколение питаться жидкой рисовой кашей. Перед самураями стояла другая проблема. Они получали фиксированную ежегодную плату от своих господ, и размер этой платы не увеличивался с момента ее установления в начале XVII в. Поскольку представителям воинского сословия по закону запрещалось заниматься коммерческой деятельностью, повышение уровня жизни затронуло самураев не так сильно, как представителей других сословий. Как и большинство исключений, эти негативные моменты лишь подтверждали общее правило: с 1600 по 1850 г. уровень и качество жизни большинства японцев значительно возросли. Разумеется, условия жизни многих японских семей в середине XIX в., вероятно, были сравнимы с условиями жизни в Англии и Соединенных Штатах накануне индустриальных революций в этих странах. В этом контексте следует отметить, что продолжительность жизни японцев, рожденных в конце начального периода Нового времени, практически совпадает с продолжительностью жизни западных европейцев, родившихся в 1840 г. (39,6 лет у мужчин, 42,5 года у женщин), и слегка превосходит этот показатель у американцев, рожденных в 1850 г. (37 лет у мужчин, 39 лет у женщин). В 1878 г. Японию посетила путешественница Изабелла Люси Бёрд. Проехав верхом на лошади более 1500 километров, отделяющих Токио от северных районов Хонсю, она описала свои впечатления в книге «Неизведанные области Японии». Следует отметить, что они выгодно отличаются оттого опыта, который получила эта женщина в Соединенных Штатах за двадцать лет до этого. Когда англичанка приехала в Чикаго в 50-е гг. XIX столетия, хозяин гостиницы попытался поселить ее в комнате, где стояло четыре кровати и уже проживало пять женщин и один больной ребенок. После того как Бёрд проявила твердость, отказавшись от проживания в таких условиях, ее переселили в крошечную каморку, где она с ужасом обнаружила, что единственная узкая кровать была покрыл «грязной бизоньей шкурой», служившей пристанищем для «сонмов живых существ». Следующее потрясение ожидало ее в заваленной нечистотами столовой. Там ей предложили «вареные бараньи ноги, которые оставались практически сырыми», «антикварных кур, голени которых напоминали струны гитары», и печеную свинину, «плавающую в растопленном жире»{27}, от чего отважная женщина окончательно утратила аппетит. В противоположность этому, во время посещения Никко Бёрд остановилась в среднем деревенском доме, который «доставил ей удовольствие». «Я даже не знаю, что сказать о моем жилище, — писала она. — Это — японская идиллия. Здесь не существует ничего, что не радовало бы глаз». Насладившись полированными ступенями, циновками-татами («такими тонкими и белыми, что я почти боялась ходить по ним») и висевшей в токонома картиной, изображавшей «на белом шелку цветущую ветку вишни», она призналась: «Я почти хочу, чтобы комнаты были хоть немного менее утонченными, поскольку я постоянно боюсь пролить чернила, повредить циновки или порвать бумажные окна». Трапезу ее составили форель, яйца, рис и чай, причем все это подавалось на «тонком фарфоре из Каги».1 James L. McClain, Space, Power, Wealth, and Slalus in Sevenleenth-Century Osaka, в кн. McClain and Wakita Osamu, eds., Osaka: The Merchants' Capital of Early Modem Japan (Ithaca: Cornell University Press, 1999), cc. 55–56. 2 Tessa Morris-Suzuki, The Technological Transformation of Japan: From the Seventeenth to the Twenty-first Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), c. 29. 3 Thomas С. Smith, Premodem Economic Growth: Japan and the West, в кн.: Smith, Native Sources of Japanese Industrialization, 1750–1920 (Berkeley: University of California Press, 1988), c. 29. 4 Tessa Morris-Suzuki, Re-Inventing Japan: Time, Space, Nation (Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1998), c. 13. 5 Takeuchi Makoto, Festivals and Fights: The Law and the People of Edo, в кн.: James L. McClain, John M. Merriman, and Ugawa Kaoru, eds., Edo and Paris: Urban Life and the State in the Early Modem Era (Ithaca: Cornell University Press, 1994), cc. 404–405. 6 James L. McClain, Kanazawa: A Seventeenth-Century Japanese Castle Town (New Haven: Yale University Press, 1982), c. 94. 7 NishiyamaMatsunosuke, Edo Culture: Daily Life and Diversions in Urban Japan, 1600–1868, tr. and ed. Gerald Groemer (Honolulu: University of Hawai’i Press, 1997), c. 160. 8 Smith, Premodern Economic Growth, c. 27. 9 Цитаты из книги Бёрд взяты из изданий: Susan В. Hanley, Everyday Things in Premodem Japan: The Hidden Legacy of Material Culture (Berkeley: University of California Press, 1997), c. 188; Isabella Lucy Bird, Unbeaten Tracks in Japan (Rutland, Vt.: Charles E. Tuttle, 1973, reprint edition), cc. 49–53; Bird, The Englishwoman in America (Madison: University of Wisconsin Press, 1966, rep. ed.), cc. 148–149.
ГЛАВА 3 Личность и общество
В популярном романе «На своих двоих» (Токайдочу хидзакуригэ), издававшемся частями, начиная с 1802 г., рассказывается о том, как два ремесленника Ядзи и Кита отправились из родного Эдо в путешествие по дороге Токайдо. Оба они вполне соответствовали стереотипному представлению о горожанах Эдо как о людях беззаботных, которые не задумываясь тратят деньги и редко планируют свое будущее. Беспечные холостяки Ядзи и Кита были поражены бесконечным разнообразием людей, которых они встречали на своем пути, хотя некоторые из них и вызывали раздражение у двух плутов. Во время своих веселых приключений Ядзи и Кита подшучивали над напыщенным самураем, высмеивали священников, которые за деньги освобождали от данных обетов, подтрунивали над грубыми диалектами, на которых говорили жители провинции, и смотрели на деревенских девушек, работавших в харчевнях и на постоялых дворах, как на свою потенциальную добычу. Описание встреч Ядзи и Кита со своими соотечественниками хоть и носит комичный и даже гротескный характер, тем не менее базируется на реалиях того времени. Многие японцы отождествляли себя прежде всего с той деревней, городом и провинцией, откуда они были родом. Кроме того, японское общество было строго разделено на самураев, горожан и крестьян, которые жили своими сообществами и даже носили одежду из разных материалов, что было предписано им законами в точном соответствии с их статусом. На заре Нового времени подобные законы и декреты создали для каждого сословия свой особый Путь, то есть этические правила, определявшие поведение. В основном эти правила были одинаковы для всего населения, однако в некоторых моментах они разнились довольно значительно. В этих кодексах прослеживалась тенденция определить положение женщин как подчиненное по отношению к мужчинам, поэтому на потребительское отношение Ядзи и Кита к девушкам общество смотрело сквозь пальцы. В продолжениях романа, выходивших на протяжении двух десятилетий, описывались посещения теми же героями других частей Японии, добравшихся даже до такого отдаленного места, как святилище Конпира на острове Сикоку. Во время своих путешествий они все лучше узнавали своих соотечественников. Среди прочего они хоть и с великим трудом, но осознали, что у женщин есть собственное мнение и что настоящее романтическое приключение должно основываться на выборе, а не на принуждении. Помимо выработки в себе терпимого отношения к чему-то непонятному и непохожему на привычные для них явления, два путешественника открыли для себя сущность японской нации. «Это естественно, — отмечали они, — что нам интересно узнать больше о тех людях, с которыми мы ходим по одним и тем же дорогам». Люди, странствующие по миру, «не связаны теми условностями, которые сдерживают тех, кто живет на одном месте, в окружении соседей. Поэтому они легко открывают свои сердца другим, и такое общение длится до тех пор, пока собеседники не устают»{28}. Разговаривая на постоялых дворах, в харчевнях и чайных домиках, люди приходили к пониманию, что в их жизнях происходили похожие события, что им знакомы одни и те же легенды и предания, что они поклоняются одним и тем же богам, имеют одинаковые представления о добре и зле, одинаковые чувства и эмоции, что они читают одни и те же книги, любуются одними и теми же гравюрами, что, в конце концов, у них общая история. Из этого рождаются дружеские отношения и ощущение себя единой нацией — японцами; по удачному выражению Ядзи и Кита, «у уроженца Эдо не может быть предубеждения против сладкого картофеля из Сацума». Ощущение принадлежности к единой японской нации порождало согласие с самим собой, со своими соотечественниками и с тем природным окружением, которое делили они между собой. «Ты можешь путешествовать так, как будто принимаешь участие в пикнике, — говорили Ядзи и Кита, — получая наслаждение от своих странствий. Ты можешь присесть в тени деревьев и откупорить небольшой кувшинчик сакэ, наблюдая за паломниками, бредущими под звон своих колокольчиков. Настоящее путешествие означает освобождение своей жизни от хлопот. Что тебе нужно для того, чтобы бродить там, где тебе вздумается, и наслаждаться неописуемой красотой моря и небес? Только твои ноги да пара соломенных сандалий».Бусидо и самурайская этика
Впервые идеализированные правила поведения для самураев появляются в средневековых воинских преданиях. В истории Японии было немало периодов, таких, например, как эпоха Генпейской войны в конце XII столетия или бурная эпоха Сэнгоку, когда самураи должны были демонстрировать отвагу и несгибаемость, быть искусными наездниками и мастерски владеть мечом. От них требовалось сохранять честь своей семьи и верность своему господину, а также быть готовыми в любой момент встретить смерть. Наиболее красноречивые примеры, иллюстрирующие самурайскую этику, содержатся в «Хэйкэ моногатари» («Сказание о Хэйкэ»[11]) — эпическом повествовании о борьбе между домами Тайра и Минамото, происходившей в конце XII в. В одном из наиболее известных эпизодов этого произведения рассказывается о том, как Кумагаи Наодзанэ, самурай, находившийся на службе у семьи Минамото, встретил одинокого всадника. «Бесчестно демонстрировать свою спину противнику! — крикнул ему Кумагаи. — Повернись ко мне». Воин, которым был Тайра Ацумори, повернул свою лошадь, и враги бросились друг на друга. Кумагаи быстро поверг своего противника на землю и, обездвижив его, «скинул с него шлем, намереваясь отсечь ему голову. Тут он увидел, что его врагу было всего лишь шестнадцать или семнадцать лет». Пораженный сходством Ацумори с его сыном, Кумагаи решил отпустить юношу, не причиняя ему вреда. Однако в тот же момент на горизонте появились пятьдесят самураев Минамото. «Я хотел бы пощадить тебя, — воскликнул Наодзанэ, — но здесь повсюду воины Минамото. У тебя нет возможности спастись. Будет лучше, если я один тебя убью, потому что потом я буду возносить за тебя молитвы». Ацумори на это ответил: «Просто возьми мою голову, не трать времени понапрасну»[12]{29}. В реальной жизни, разумеется, самураи не всегда придерживались подобных возвышенных идеалов. Некоторые могли позволить себе обратиться в бегство, если битва складывалась не в их пользу. Другие оставались верными своему господину только до тех пор, пока он мог защищать их и поощрять материально. В иных случаях самураи продавали свои услуги тому, кто больше заплатит, а иногда даже перебегали на сторону противника в самый разгар битвы, заботясь при этом исключительно о своей собственной выгоде. Тем не менее большинство самураев старались следовать тому идеальному образу, который был нарисован кодексом поведения. При этом в качестве своего символа самураи выбрали цветущую сакуру, поскольку как прекрасный цветок может быть внезапно сорван и унесен порывом ветра, так и самурай может потерять свою жизнь в расцвете славы. Для самураев XVII столетия легендарные подвиги на полях кровавых сражений остались в далеком прошлом. По мере того как буси превращались из свирепых воинов в бесцветных бюрократов, проживавших в процветающих городах в окружении урбанистической роскоши, многие из них начали всерьез задумываться над тем, что значит быть самураем в эру всеобщего спокойствия. Неоконфуцианство с его особым упором на долг и ответственность давало некоторые ориентиры для подобающего поведения. Кроме того, Предписания, касающиеся домовладений воинов, изданные сёгунатом в 1615 г., обращали внимание на двойственную природу предназначения самураев при новом режиме. «Самым прилежным образом, — говорилось в начале этого документа, — следует изучать книги и боевые искусства, в том числе такие, как стрельба из лука и верховая езда». Однако вопрос о том, как можно исполнять новые гражданские обязанности, продолжая почитать старые культурные традиции, породил оживленные споры, в результате которых появилась концепция Бусидо, или Путь воина. Одним из первых новую концепцию изложил Миямото Мусаси в своем трактате Горин но сё («Книга пяти колец»). Миямото родился в Центральной Японии в 1584 г. Позднее он говорил, что впервые убил человека в тринадцатилетнем возрасте. Всего лишь три года спустя он сопровождал своего господина во время битвы при Сэкигахара. Как и другие воины, господа которых сражались на стороне проигравших и погибли, Миямото стал ронином (самураем без господина). Во время своих странствий по Японии он всерьез увлекся дзэн и овладел мастерством каллиграфии и живописи. Он также разработал новый стиль фехтования двумя мечами[13]. По его собственным подсчетам, он вышел победителем из более чем шестидесяти поединков на мечах. В 1640 г. Миямото получил должность инструктора по фехтованию даймё домена Кумамото, расположенного в Юго-Восточной Японии. В 1643 г. он удалился в пещеру в горах, где написал «Книгу пяти колец». При всей своей напускной храбрости Миямото в самом начале своего трактата отвергает культ смерти и объявляет, что воин всегда должен стремиться к успеху. «Зачастую говорят, что Путь воина заключается в решительном принятии смерти, — говорит Миямото. — Однако, — продолжает он, — у воинов нет исключительного права на эту доблесть. Монахи, женщины и крестьяне также могут отважно встретить смерть, повинуясь чувству долга или стремясь избежать позора. Подлинное отличие самурая заключается в том, что он использует военную стратегию для победы над другими людьми, добывая таким образом славу для своего господина и для себя»{30}. Сформулировав этот общий принцип, Миямото переходит к объяснению, каким образом воин может взять верх над своими врагами. Многие из его советов носят чисто технический характер — как держать меч, насколько важна работа ног во время отражения ударов и атаки и так далее. Однако значительное внимание он уделяет также и психологической подготовке. В одной из глав он советует «изучать традиции противников, обращать внимание на характер и личные качества врагов, искать слабые и сильные стороны людей, действовать вопреки ожиданиям противника, настраиваться на общий ритм и делать первое движение — все это является весьма существенным». «Взяв верх, — продолжает он, — развивай свое преимущество». «Главное — увидеть, что ощущение поражения проникло в самые глубины души противника. До тех пор, пока у врагов есть надежда, их трудно сломить. Но если ты отобрал ее у них, то можешь больше не обращать на них никакого внимания»{31}. Таким образом, хотя речь в «Книге пяти колец» все время идет об искусстве фехтования на мечах, Миямото стремится донести до читателя более глубокую идею: Путь воина заключается в стремлении к успеху, и любой человек должен строить свою жизнь так, чтобы быть в состоянии выполнить поставленные перед собой цели. Для Миямото это и было сердцем Бусидо: стремиться следует не к смерти, а наоборот — к завоеванию славы в этом мире и в это время, полностью выполняя, таким образом, свою задачу в жизни. Эта цель, в свою очередь, требует от воина пребывания в постоянной готовности, знания своего врага, понимания себя и, когда наступит наиболее благоприятный момент, решительных действий. Ямага Соке имел иной взгляд на те этические стандарты, которых должны были придерживаться самураи. Ямага родился в Северной Японии в 1622 г. В юношеском возрасте он направился в Эдо, где стал учеником известного конфуцианского ученого Хаяси Радзан. После службы в домене Ако, расположенного возле Хиросимы, в качестве ученого советника и военного инструктора местного даймё, Ямага вернулся в Эдо и в 1660 г. открыл свою школу по изучению конфуцианства и боевых искусств. Ему принадлежат несколько трактатов по конфуцианству, военной науке и японской истории. Однако его главной заслугой была разработка концепций, которые помогли более точно определить Путь воина. В своих трудах Букё ёроку («Сущность учения воина») и Си-до («Путь самурая») Ямага искал ответ на вопрос, что должен делать самурай, чтобы оправдать свое существование в мире, в котором больше не надо сражаться, но при этом нельзя участвовать в процессе производства товаров и их распределения. Как человек образованный, Ямага опирался на древние китайские конфуцианские трактаты, такие как «Книга перемен» (Ицзин) и «Летописи весны и осени» (Чуньцю[14]). В этих трудах приводится описание идеального человека-ученого, достаточно образованного для того, чтобы служить китайскому государству, и столь добродетельного, что он мог бы своим примером поднимать уровень общественной морали. Как считал Ямага, с приходом в страну эпохи Великого спокойствия японские буси должны стремиться превзойти конфуцианских мудрецов древности и стать лидерами нации в области морали и политики. Чтобы осуществить эту миссию, продолжает Ямага, самураи должны посвятить себя «изучению книг» (то же самое говорилось в Предписаниях, касающихся домовладений воинов), а также заниматься музыкой, поэзией и другими искусствами, как это делали древние китайские ученые. Кроме того, Ямага считал, что самураи должны воспитывать в себе такую добродетель, как макото («искренность»). В китайском конфуцианстве «искренность» считалась как основой добродетели, на которой она, собственно, и держалась, так и главным принципом, на котором должны строиться отношения между людьми. В традиции синто макото приобрел свой набор оттенков и стал обозначать такие понятия, как правда, подлинность, чистота и истинность. Наиболее благородным проявлением сущности воина, по мнению Ямага, было высокоморальное поведение во время службы своему господину в качестве воина и в качестве чиновника. «Занятие самурая, — писал он в Сидо, — это подвергать сомнению свое положение в жизни, служить своему господину, если тот у него есть, и превыше всего ставить выполнение долга»{32}. Ямага не забывал, что служение даймё и сёгуну имеет и воинский компонент. В конце концов, буси начала Нового времени были наследниками героев легенд о кровавых битвах, да и Небесный Владыка по-прежнему доверял им право охранять покой в стране. Таким образом, они должны были изучать боевые искусства, тактику и стратегию. Но при этом Ямага напоминал им, что времена все-таки изменились и в новую эпоху, когда на первый план вышли гражданские обязанности самураев, у них должны быть другие приоритеты. Прежде всего, самурай должен наполнить свою службу принципом макото. Это значит, что самураям-чиновникам ни при каких условиях нельзя руководствоваться своими личными интересами. Наоборот, им должны двигать только «искренние» и «чистые» намерения. И тогда он сможет управлять добродетельно, в соответствии с моральными идеалами и общественными ценностями. Более того, логика Ямага призывает буси переосмыслить объект своего служения. Прежде воины клялись в личной преданности исключительно своему господину. В XVII столетии, однако, даймё уже не были просто предводителями отрядов вооруженных воинов. Они превратились в правителей доменов, в задачу которых входило руководство людьми, живущими на данной территории. Соответственно, самурай также оказался в менее персонифицированном, если так можно выразиться, мире. Поскольку в начале новой эпохи его ранг носил постоянный характер, самурай служил скорее клану своего господина, а не тому, кто в то или иное время занимал должность даймё. Можно сказать, что служба самурая носила даже более абстрактный характер, поскольку в конечном итоге он выполнял свои обязанности в пользу всего населения домена. Следует также учитывать и то, что глава самурайской семьи обычно передавал свою должность по наследству, и так происходило из поколения в поколение. А это значит, что верность должна была быть абсолютной и безусловной. В 1700 г., через несколько лет после того, как Ямага переработал кодекс поведения буси, самурай Ямамото Цунэтомо заявил о своем почти непреодолимом желании совершить ритуальное самоубийство после того, как в семидесятитрехлетнем возрасте умер его господин, Набэсима Мицусигэ, даймё домена Сага в провинции Хидзэн. В общем, самоубийство после смерти господина, известное как дзунси, никогда не было очень распространенным явлением. В средневековый период воины иногда кончали с собой прямо на поле боя, чтобы последовать за своим господином, или вспарывали себе живот после того, как их господин попадал в руки врага. Некоторые вассалы были готовы совершить акт высшей преданности и в мирное время, когда их господин умирал естественной смертью. Однако в середине XVII столетия самоубийство приобрело большую популярность. Самураи, которые пользовались особым расположением своего господина, считали дзунси вполне приемлемым способом окончить свою жизнь. Некоторые из этих вассалов и вправду руководствовались традиционным принципом преданности. «В современном обществе вошло в моду вспарывать себе брюхо после смерти господина, — отмечал один даймё в 30-х гг. XVII в. — Они считают подобный поступок достойным похвалы»{33}. Другие были более расчетливы. Они совершали самоубийство только тогда, когда твердо знали, что их наследники будут за это щедро вознаграждены. Были и такие, которые кончали с собой от горя. Любовная гомосексуальная связь между даймё и молодыми вассалами была вполне нормальной составляющей стиля жизни воинов, и бывшие возлюбленные господина часто следовали за ним в мир иной именно по причине личного горя. По мере увеличения числа дзунси в середине XVII столетия возрастала и критика этого обычая. Ямага Соко считал его эмоциональным, эгоистичным актом, который подрывает усилия по введению новых норм рациональной, институализированной преданности по отношению к домену и клану господина. Сёгунат и многие даймё сожалели об этой неоправданной потере самых лучших людей. И когда в 1661 г. с собой покончили сразу 26 самураев, последовав за своим отцом, Набэсима Мицусигэ запретил этот обычай в домене Сага[15]. Три года спустя этому примеру последовал и сёгунат, добавив запрет на совершение дзунси к Предписаниям, касающимся домовладений воинов[16]. Поэтому, когда умер Мицусигэ, Ямамото пришлось оставить свою идею совершить самоубийство. Отказавшись от своих самурайских обязанностей, он поселился в маленькой уединенной хижине в нескольких милях к северу от замка Сага. Начиная с 1710 и до самой своей смерти от болезни в 1716 г.[17], Ямамото записывал свои рассуждения по поводу жизни и долга[18]. В итоге получилось около 1300 коротких историй, которые он собрал в одну книгу под названием Хагакурэ («Сокрытое в листве»). Без всякого страха и смущения в Хагакурэ отвергаются попытки властей и таких интеллектуалов, как Ямага, приручить самураев. Ямамото был весьма далек от стремления навязать самураям «изучение словесности», как то предлагалось в Предписаниях, касающихся домовладений воинов. «Образованность — это хорошая вещь», — соглашался Ямамото в одном месте. Но тут же добавлял: «Однако чаще оно ведет к ошибкам…» и «…в основном нам доставляет удовольствие наше собственное мнение и возможность спорить». К своему неприятию интеллектуальности Ямамото добавлял и презрение к искусствам. «Человек, заявляющий о своих успехах в искусстве, подобен глупцу, — заявлял он. — Слова «Искусство помогает телу» недостойны самураев нашей области. Для самураев из клана Набэсима искусство — это гибель для тела. В любом случае, человек, занимающийся искусством, является художником, а не самураем»{34}. В противоположность выхолощенности современного ему общества, Ямамото превозносил старый идеал личной преданности. «Если кто-нибудь пожелает передать словами, что значит быть самураем, — начинал он одну из своих историй, — то он должен сказать, что прежде всего это значит посвятить свое тело и душу своему господину». В подтверждение наличия глубоких связей между господином и вассалом Ямамото приводит следующий пример. Однажды Мицусигэ дал высокую оценку поведению Ямамото и подарил ему свой собственный тюфяк и ночную рубашку. «О, — восклицал Ямамото, — если бы сейчас были старые времена, я бы вспорол себе живот рядом с этим тюфяком, укрылся бы рубашкой и последовал за своим господином»{35}. Наряду с прославлением абсолютной верности вассала, Хагакурэ содержит много эпизодов, прославляющих смерть. Книга начинается со слов: «Путь самурая состоит в стремлении к смерти». Для Ямамото быть настоящим самураем — это значит искать способ достойно умереть:«Смерть следует ожидать ежедневно, и в таком случае, когда придет время, можно будет умереть спокойно. Несчастие, когда оно происходит, не так страшно, как его ожидание. Глупо заранее изводить себя напрасными измышлениями. Успокаивай свой разум каждое утро и представляй себе момент, когда твое тело может оказаться пронзенным и изрубленным стрелами, пулями, копьями и мечами, унесено гигантскими волнами, испепелено огнем или молниями, погребено под обломками землетрясением, сорвется в пропасть, падет жертвой эпидемии или неожиданного несчастного случая: умирай каждое утро в своем сознании, и тогда ты не будешь бояться смерти»{36}.«Хагакурэ» не проникало далеко за пределы домена Сага, и навязчивая одержимость Ямамото смертью несильно затронула сознание большинства воинов. Тем не менее его установки нашли отклик в сердцах достаточного количества самураев, которые поверили, что они являются частью древнего кодекса чести военного сословия. Впервые самураи использовали слово бусидо в XVII столетии, когда они пытались найти смысл своего существования в стремительно меняющемся обществе. В начале Нового времени самураи цеплялись за традиционное представление о том, что отвага, преданность и готовность взглянуть в лицо смерти по-прежнему имеют смысл. Однако к старым идеалам они добавили новые, создав новый «путь воина». Согласно новым представлениям, успех стал считаться доблестью, и каждый должен был быть готовым использовать те возможности, которые встретятся на его пути. В качестве одной из наивысших добродетелей стала считаться чистота помыслов. Гордиться отныне можно было выполнением тех обязанностей, которые предусматривал статус самурая, то есть служением правительству домена и способствованием процветанию его жителей.
Торговцы и неоконфуцианство
В начале новой эпохи не только самураи, но и простые люди задумывались над тем, какие ценности будут иметь для них значение в новых условиях, как определить и занять свое место в обществе. В конце концов горожане и крестьяне выработали этические каноны, которые определяли их жизнь и взаимоотношения с тем обществом, которое их окружало. Как и в случае с самураями, на осмысление торговцами, ремесленниками и крестьянами своего «я» и места в жизни влияли как собственный опыт и современные тенденции, так и концепции, заимствованные из буддийской и синтоистской религиозных традиций. Далеко не последнюю роль играло при этом и неоконфуцианство. Простые японцы узнавали об этом философско-этическом учении из различных источников, и к середине XVIII в. большинство жителей страны имели по крайней мере поверхностное представление о его базовых принципах. К этому времени конфуцианская доктрина подверглась переосмыслению со стороны моралистов и ученых, вышедших из торговой среды. Их задачей были поиски новых норм поведения, которые отвечали бы потребностям горожан. С середины XVII столетия известные ученые начали открывать в Трех столицах и провинциальных городах-замках частные академии. В них стационарно обучались отпрыски влиятельных горожан и зажиточных крестьян из окрестных деревень. Другой тип учебных заведений, известный как теракоя («храмовые школы»), предназначался для обучения детей определенной местности или деревни. Некоторые теракоя действительно создавались буддийскими или синтоистскими священниками. Чаще, однако, так называемую храмовую школу создавал один-единственный наставник или семейная пара непосредственно у себя на дому. Учителя жили за счет платы, получаемой от своих учеников, с которыми они занимались по часу или около того в день. В конце XVIII — начале XIX вв. количество частных академий и местных теракоя резко возросло. Еще в 1750 г. в Эдо, согласно одному отчету, «плата за обучение стала крайне низкой, а процесс поступления в школу упростился. Это приводит к удешевлению образования, и теперь даже люди низкого происхождения идут в теракоя. В результате мухицу, «люди без кисточки», которые не умеют писать, стали совсем редким явлением»{37}. К 30-м гг. XIX столетия существовали по меньшей мере три сотни частных академий и около трех тысяч теракоя. По некоторым подсчетам, к концу периода сёгуната практически каждый взрослый житель Эдо и других главных городов умел читать и писать. Другие источники, правда, утверждают, что в 1850 г. от 40 до 50 % всех мальчиков и от 10 до 15 процентов всех девочек в Японии получили образование в том или ином типе учебного заведения. В целом уровень грамотности в Японии в середине XIX столетия был, вероятно, выше, чем в любой другой стране мира, за исключением Англии и Нидерландов. Типичная программа обучения в частной академии включала в себя знакомство начинающих учеников с классическими конфуцианскими трудами, с углублением этих знаний на последующих этапах. Учеба, таким образом, растягивалась на несколько лет. Наставники в теракоя использовали более широкий набор текстов. В их число входили Сёбаи ёрай («Пособие по торговле») и Хякусё ёрай («Учебник для крестьян»). Целью обучения в храмовых школах было знакомство с письмом и математикой, чтобы их выпускники могли читать официальные постановления, выписывать счета, вести бухгалтерию, читать книги по сельскому хозяйству, правильно платить налоги и так далее. Однако главный акцент при обучении в теракоя делался на долге, обязанности, сыновней почтительности и ответственности перед обществом, то есть на тех ценностях, которые составляли ядро конфуцианских этических норм. По мере того как дети простолюдинов усваивали основы неоконфуцианства, они сталкивались с текстами, которые отказывали им в тех достоинствах, которые приписывались привилегированной самурайской элите. В 1719 г. Нисикава Дзокэн, конфуцианский ученый и астроном, обучавший сёгуна, опубликовал свою ставшую весьма популярной работу Чонин букуро («Книжная сумка торговца»). Заглавие свидетельствует, что Нисикава мог предложить горожанам целый мешок советов. Обращаясь к ним, он говорил: «Чонин среди четырех сословий занимают низшее место. И находясь в самом низу, они не должны превосходить тех, кто стоит выше них. Они не должны испытывать зависть от того, что другие обладают большим величием. Им следует придерживаться простоты и не роптать на свое положение. Если они будут вести себя подобающим образом, подобно корове, которая получает удовольствие, находясь среди другой скотины, они будут испытывать удовлетворение от своей жизни»{38}. По мере того как торговцы становились богаче и образованнее, некоторые из них начали переосмысливать определенные неоконфуцианские нормы и бросать вызов интеллектуальным предубеждениям, которые ассоциировали их с тягловыми животными и помещали на самый низкий уровень социально-профессиональной иерархии. Важную роль в поиске новых формулировок для старых идей играли ученые из Кайтокудо, частной академии в Осаке. Эта академия была основана в 1724 г. пятью осакскими предпринимателями. В ней обучались и самураи, однако основной контингент студентов составляли отпрыски богатых купеческих семей города. Китайское классическое образование, к которому они стремились, могло облегчить им доступ в верхние слои самых богатых людей Осаки. Там знакомство с мудростью древних и способность писать стихи на китайском языке считались важными качествами и способствовали продвижению по социальной лестнице. Более того, существовала некоторая надежда, что обучение в Кайтокудо даст и некоторые практические знания, в том числе и знакомство с моралью и нормами поведения, что может пригодиться в дальнейшем при ведении дел. Первоначально программа обучения в Кайтокудо соответствовала классическим неоконфуцианским стандартам. Однако по мере того как студенты прилежно изучали тексты, их наставники, в основном выходцы из торговой среды, перерабатывали конфуцианское учение, чтобы доказать, что торговцам добродетель присуща не в меньшей степени, чем самураям. Венцом долгого процесса адаптации стал трактат Юмэ но сиро («В месте мечтаний»), написанный в первом десятилетии XIX в. Автор этой книги, Ямагата Банто, родился в провинции Харима. В тринадцатилетнем возрасте он попал в Осаку и стал служить приказчиком в доме своего дяди, известного купца Масуя Кюбеи. В молодости Банто некоторое время учился в академии Кайтокудо, пока не сменил своего дядю на посту главы клана. Будучи великолепным финансистом, Ямагата поднял семейный бизнес Масуя на новый уровень процветания. Уже в конце своей жизни он написал свой замечательный труд, Юмэ но сиро. В нем он изложил свои идеи по поводу того, как понимать наследие прошлого и как помочь простым людям, живущим в этом мире. В своих философских исканиях Ямагата исходил из предположения, что все объективное знание и человеческие ценности происходят из одной универсальной науки. В частности, он увлекался астрономией, которую изучал по китайским переводам западных книг, и свой труд «В месте мечтаний» он начал со следующего наблюдения: «Вселенная существовала прежде, чем все остальное. Затем появилась земля, и уже после этого — человеческие существа и моральные нормы. Сострадание, добродетельность, пристойность, сыновняя почтительность и преданность были частью того способа, которым люди упорядочивали общество, и они не существовали до возникновения вселенной»{39}. Далее Ямагата переходит к описанию географии, людей и животных в доисторические времена, зарождения японской письменной истории, формирования политического строя в рамках этой истории и текущего состояния японской политической экономии. Наконец, в заключении к «Юмэ но сиро», он вновь утверждает постулат о рациональности всех явлений. При этом он отвергает суеверия, под которыми он понимал религию, веру в божественное происхождение японского народа и разнообразные оккультные истории, и именует все это «мечтаниями». Две основополагающие идеи красной нитью проходят через весь трактат Ямагата. Первая состояла в том, что знание является объективным и поддающимся проверке. Таким образом, оно может быть доступным для любого человека, взвалившего на себя труд изучить окружающий его мир. Вторая заключалась в постулате, что «способ, которым люди упорядочивают общество», как и весь человеческий опыт, базируется на природе вселенной. Это утверждение, в свою очередь, порождало серию аксиом. Если Коперник учил, что земля не является центром вселенной, рассуждал Ямагата, то и на земном шаре невозможно найти его географического центра. Из этого вытекает, что культура человека, которая неотделима от физического и космического порядка, не является привилегией членов отдельной социальной группы. Из идеи, что никакое социальное положение не дает права господства над остальными, Ямагата выводил положение, что любой индивид получает знания, исследуя вещи, расположенные в среде его непосредственного обитания. А на основании этого торговец-ученый делал заключение, что каждая социальная группа обладает своим собственным практическим опытом и применяет этот опыт для пользы всего общества. Так, например, самураи обладают знаниями в области политики, что делает их способными управлять страной. Крестьяне постигли все сложности сельскохозяйственного производства, поэтому они могут накормить страну. Торговцы разбираются в экономике, только им постижима природа денег, реалии рынка и универсальный закон спроса и предложения. Следовательно, знание, которым располагают купцы, является достоинством. Эта мудрость торговцев в области экономики, по мнению Ямагата, не в меньшей степени служит делу процветания нации, чем политическая прозорливость, присущая самураям, стоящим во главе Японии. Немалый вклад в создание этических норм, приписывавших горожанам различные добродетели, внес Исида Байган. Он был сыном крестьянина из провинции Танба. В юности он отправился в Киото, где сам пошел в ученики к одной купеческой семье. Позднее он стал изучать неоконфуцианство, и в 1729 г., вскоре после основания Кайтокудо, сорокапятилетний Исида начал читать лекции по моральной философии, известной как Сингаку («Учение, идущее из сердца»). Его идеи немедленно завоевали популярность среди торговцев и ремесленников Киото, а затем стремительно распространились по всей стране. В начале XIX столетия залы, где изучалось Сингаку, существовали в десятках городов, а в более чем сотне школ Сингаку обучались в общей сложности более 30 000 студентов. В центре учения Сингаку находится вера в моральное совершенство человеческих существ. Исида и его последователи принимали конфуцианское положение о том, что если человек желает стать нравственным и способствовать правильному функционированию общества, то ему необходимо постигнуть ри, неуловимый «принцип», который является воплощением естественного закона и социальных норм. Но если большинство японских ученых-неоконфуцианцев рассматривали ри как неизменное собрание постулатов, зафиксированное в начале времен, то Исида считал, что моральная добродетель является чем-то сокровенным, обитающим в сердце каждого человека. Исходя из этого, он не видел особой пользы в объективном изучении, подобном тому, что предлагал Ямагата. Основатель Сингаку считал, что наиболее эффективным способом вникнуть в природу космоса является постижение внутренней духовной природы. Исида утверждал, что активное общение с внешним миром, в особенности через свою профессиональную деятельность, является наиболее приемлемым и простым путем к пониманию своего внутреннего мира и высвобождает добродетель, которая делает поведение человека высокоморальным и пристойным. Позднее ученики Исида в поисках способов раскрытия знания об «истинном сердце» стали больше внимания обращать на религиозные традиции Японии. Из дзэн-буддизма они позаимствовали технику медитации, с помощью которой хотели заглянуть в центр своего духовного мира. Другим способом достижения этой цели они считали аскетизм, который ассоциировался с некоторыми известными деятелями буддизма и синтоизма. Духовные лидеры Сингаку не призывали при этом обыкновенных людей покинуть человеческое общество и коротать время, сидя под струями водопада. Они лишь пропагандировали умеренность в повседневной жизни. Разумеется, пища самого Исида была весьма скудной. Он постоянно уменьшал свой рацион, стремясь таким образом достигнуть просветления, которое помогло бы ему постичь сущность своего внутреннего мира. Торговцы и ремесленники с удовольствием посещали залы для изучения Сингаку, поскольку Учение, идущее из сердца, решительно настаивало на наличии у них достоинства и добродетели. Для Исида, как и для Ямагата Банто, небо наделило каждую социальную группу уникальными и почетными обязанностями, которые служат процветанию каждого. «Если бы не было торговли, — писал Исида в защиту купцов, — покупатель не мог бы ничего покупать, а продавец — ничего продавать. Если бы было так, то торговцы не имели бы средств к существованию, и им пришлось бы становиться крестьянами или ремесленниками. А если бы они все превратились в крестьян и ремесленников, то перемещение материальных ценностей совсем прекратилось бы, заставив страдать всех людей»{40}. Кроме того, социальные группы имели и дополнительные функции. «Самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы все вместе приносят стране счастье, — заявлял Исида. — Если одно из четырех сословий прекратит свое существование, то исчезнет всякая надежда увидеть страну процветающей». Далее Исида переходил к рассмотрению этих специфических функций. «Управление государством является обязанностью сёгуна и даймё». Правителям, продолжал он, должны помогать все четыре сословия. «Самурай является слугой старших рангов. Крестьянин является слугой, трудящимся в поле. Купец и ремесленник являются слугами, трудящимися в городе. Все эти сословия связаны между собой обязанностью помогать правителям. Своей деятельностью, — вновь повторяет Исида, — торговцы помогают обществу». Вдобавок, поскольку все социальные группы содействуют всеобщему благосостоянию, они заслуживают и соответствующих поощрений. Каждая самурайская семья получает ежегодную плату за свою службу господину. Подобным образом, делает вывод Исида, «стоимость произведенной вещи является платой ремесленнику. Урожай для крестьянина также является чем-то вроде платы, подобной самурайской. Тем же можно считать и прибыль торговца».Параллельные пути: купеческие законы чести и крестьянская мудрость
По мере того как ученые, подобные Исида и Ямагата, переосмысливали неоконфуцианство, приписывая добродетельность и торговцам, они способствовали выработке свода практических этических норм, известного как чониндо. Это понятие, означающее «Путь горожанина», применялось как по отношению к семьям торговцев, так и к семьям ремесленников. Однако по причине того, что именно торговцы сыграли ведущую роль в составлении чониндо. его зачастую переводили как «Путь торговца». Сам Исида определил основные ценности чониндо, когда написал, что познание сердца человека должно породить определенную модель поведения, которая основывается на уважении к целостности Пяти Отношений и безмерной преданности своим обязанностям и профессиональным занятиям. «Во-первых, — говорил он, — веди себя благоразумно, служи своему господину с прилежанием, а своим родителям — с любовью, обходись со своими друзьями с искренностью, люби людей и имей сострадание к бедным. Имея заслуги, не будь гордым. Будь бережливым, обращая внимание на одежду, домашнюю обстановку и тому подобное, и не стремись к щегольству. Не пренебрегай семейным делом, и что касается богатства, подсчитывай все, что приходит, и отдавай себе отчет в том, что уходит»{41}. Кодексы, составленные в купеческих семьях, более подробно говорят об этих идеалах. На протяжении XVIII столетия все больше японских зажиточных торговцев, имевших подчас хорошее образование, полученное у наставников Сингаку и Кайтокудо, описывали на бумаге свой жизненный опыт, раскрывая секреты своего успеха. Некоторые подобные записи были относительно короткими, в то время как, например, Мицуи Такафуса в конце 20-х гг. XVIII в. изложил свой вариант купеческого кодекса чести на нескольких десятках страниц. Цель подобных записей состояла в том, чтобы познакомить последующие поколения с практическими знаниями о правильном ведении дел. Однако в них также содержались весьма мудрые профессиональные советы, а также зачастую комментировались обязанности делового человека и его ответственность перед обществом. В итоге домашние записи оказываются богатым источником, содержащим сведения о понятии купеческого достоинства и описывающим этические нормы чониндо. Согласно большинству домашних кодексов, упорный труд является обязательным условием для достижения успеха. «Вставай рано, — советовал Симаи Сосицу, успешный производитель сакэ из Хакаты (нынешняя Фукуока) и один из первых, кто оставил свои записи потомкам, — и в интересах своего дела работай более упорно, чем кто-либо иной»{42}. Ито Чодзиро, чья семейная лавка мануфактурных товаров в Нагое к нашему времени превратилась в сеть магазинов Мацудзакая, призывал своих работников «вставать раньше, чем кто бы то ни было в мире». Далее он предостерегал, что «медлительность до добра не доводит», поэтому «даже если твоим семейным делом является замешивание коровьего или конского навоза, то исполняй его энергично». Менее образный и более лаконичный Мицуи Такафуса говорил своей семье и работникам: «Тот, кто трудится, никогда не станет бедняком»{43}. Успех в земной жизни зависел от завоевания расположения покупателей. Одним из способов достичь этого, согласно домашнему кодексу одного известного производителя сакэ, было «сделать очевидным, что ты честен в любом отношении». В том же духе пишет и другой торговец: «Назначай за товар цену, обычную на этом рынке, и никогда не повышай ее в погоне за нечестной прибылью». Значительная роль отводилась вежливости. «Веди себя учтиво с любым, кто заходит в твою лавку или покидает ее, — наставлял один из опытнейших купцов, — будь то старик или юноша, мужчина или женщина». Того же мнения придерживался глава торговцев мануфактурой из Сирокия, который был конкурентом Мицуи в Эдо: «Учтивость по отношению к тому, кто делает большие покупки, естественна». Однако, продолжал он, самым надежным способомсохранить своего клиента является «учтивость по отношению ко всем покупателям, независимо от размеров их приобретений». Авторы домашних кодексов подчеркивали, что целью упорного труда и верности этическим принципам торговцев является не обогащение одного человека, а процветание из. Под этим понятием в начале Нового времени понималось домохозяйство, объединявшее несколько поколений, в том числе непосредственных предков, а также тех потомков, которые еще даже не родились. Члены такого домовладения стремились сохранить наследство, полученное от предыдущих поколений, и увеличить его для тех членов семьи, которые появятся в будущем. «Каждый, — писал Ито Чодзиро, — наследует свое имя от родителей, и каждый будет иметь потомков. Дом — и никто не может этого отрицать — существует вечно». Поэтому, предостерегает он, «если ты обеднеешь по своей собственной вине, это будет значить, что твои предки трудились напрасно, а твои отпрыски, твоя жена и ты сам будете страдать, превратившись в посмешище для людей». Подобное мнение можно встретить и в кодексе семьи Коноикэ, которая была одной из самых богатых торговых семей Осаки: «Не сохранить то состояние, которое было унаследовано от предков — это значит вести себя непочтительно по отношению к этим предкам, а также подвергать риску благосостояние своих потомков». Многие главы домовладений по своему опыту знали, что деньги трудно зарабатывать, но легко тратить. Соответственно, они призывали всех членов своей семьи и работников своей лавки быть благоразумными и бережливыми, чтобы сохранить дело и состояние для грядущих поколений. «Всегда будьте осторожными и предусмотрительными в своей работе, иначе ваше дело ожидает крах», — предупреждает кодекс Мицуи. Экономный Симаи Сёсицу предостерегал своих наследников от увлечения цветами и чайными церемониями, но всячески советовал находить применение для обрывков бумаги и поношенной одежды. Мицуи Такафуса приводил в качестве примера неких торговцев из Эдо, которые «носили элегантные одежды», когда они «отправлялись на прогулку или в паломничество по храмам. Их жены и дочери, — зловеще сообщал он, — путешествовали в паланкинах, и даже их слуги и служанки были одеты по последней моде, представляя собой яркую толпу. Прежде чем они опомнились, их дома и лавки были разорены и проданы, и бывшие хозяева оказались без слуг, их жены стали ходить пешком, и все их имущество ушло к другим». В конце концов, не без злорадства отмечал Мицуи, им пришлось «зарабатывать на жизнь изготовлением жалких бумажных фонариков». Наконец, многие домашние кодексы поддерживали законность сёгунской власти. Кодекс семьи Мицуи содержал следующий пассаж: «Все законы и постановления, изданные правительством, должны исполняться всеми, от хозяина до последнего поденщика». Другой известный купец писал: «В точности придерживайтесь всех правил, установленных властями». Естественным последствием признания законности власти Токугава было то, что торговцы безоговорочно приняли свою роль в системе социального деления японского общества. По этому поводу Мицуи Такафуса приводит в своем сочинении несколько историй, речь в которых идет о том, что торговцев, стремящихся превзойти самураев или живущих не в соответствии с их статусом, ожидает печальная участь. И это были не просто слова, не имеющие под собой реального основания. В начале XIX в. власти осудили наиболее успешного осакского купца Ёдоя Тацугорё за слишком расточительный образ жизни. Он был изгнан из города, а имущество его семьи конфисковано. Если торговцы придерживались основных принципов чониндо, то есть были честными, сохраняли наследие прошлого и приумножали его для будущих поколений, жили в гармонии с властями и с остальными членами общества, они могли заслужить славу и улучшить свое социальное положение. «Самураи изучают боевые искусства и работают в правительстве, — говорится в одном домашнем кодексе, автор которого находился под сильным влиянием этики Сингаку. — Крестьяне обрабатывают свои земли и платят налоги. Ремесленники работают в своих семейных мастерских и передают детям свои семейные традиции. Долгом купцов является торговля. Каждое из четырех сословий имеет свой собственный Путь, и этот Путь является истинным». Мицуи Такафуса описывает этот Путь следующим образом: «делать дом процветающим, воспитывать членов своей семьи подобающим образом, жить долго и уйти в ясном сознании — это значит быть живым Буддой». Судя по мемуарам самураев и домашним кодексам торговцев, крестьяне также располагали набором обязанностей, которые составляли свой Путь. Согласно Миямото Мусаси, этот Путь был достаточно простым: «проводить годы, отслеживая смену четырех сезонов»{44}. Исида Байган, который называл крестьян «слугами, трудящимися в поле», рисовал более романтичный образ трудолюбивого японского земледельца: «Утром он идет на поле еще до рассвета и вечером возвращается домой при свете звезд. Весной он пашет, летом он пропалывает, осенью жнет, стремясь собрать с полей как можно больше, вплоть до последнего зернышка риса»{45}. Таким образом, согласно Исида, крестьянин, подобно самураю и горожанину, «истощает» себя ради других, демонстрируя свою добродетельность и заслуживая уважение. Ниномия Сонтоку является живой иллюстрацией этих идеалов. Он родился в богатой крестьянской семье в провинции Сагами. В 1802 г. в результате наводнения он осиротел, кроме того, стихия уничтожила поля его семьи. В это время ему было всего пятнадцать лет, однако, взяв под свою опеку двух младших братьев, он ценой неимоверных усилий возродил семейное хозяйство. Местный даймё, впечатленный деятельностью молодого человека, предложил ему разработать меры по повышению урожайности в деревнях домена, пострадавших от голода. Ниномия справился с этим заданием, и его начали приглашать в другие домены Северной Японии. В этом регионе, сильно пострадавшем в 30-е гг. XIX в. от стихийных бедствий и вызванного ими голода, Ниномия руководил строительством ирригационных сооружений, дорог и жилищ. В конце концов слава о нем разнеслась по всей стране, и в 1 842 г. сёгунат поручил ему разработать меры по оживлению деревень. К концу своей долгой карьеры Ниномия написал 36 томов, в которых содержались практические и этические советы по достижению успеха. Его рецепт успешной жизни, по его собственным словам, содержит «ложку синтоизма и по пол-ложки буддизма и неоконфуцианства»{46}. Однако основой его жизненного кредо является простой и хорошо известный принцип: «Корни добродетельности находятся в труде, а утрата достоинства порождается праздностью». Ниномия верил, что синтоистские божества наделили природу огромным потенциалом, и труд является самой достойной деятельностью человека, поскольку именно он позволяет человеку воспользоваться этим изобилием. При этом не имеет значения, насколько плодородной является природа, поскольку, по словам Ниномия, «рисовые поля и пашни без крестьянина не могут принести никакой пользы. Именно усилия человека порождают урожай». Ниномия также настаивал на необходимости составления планов. Если природа может быть доброй, то она может приносить и несчастья. Голод и неурожай являются плодами неумолимого ритма земли. И если люди хотят процветать в обычные годы и пережить катаклизмы, которые неизбежно будут возникать время от времени, им необходимо быть готовыми к этому всему. Поэтому Ниномия уделяет особое внимание зачаткам научного подхода к земледелию. Он заявляет, что крестьяне должны высчитать такое количество воды для полива, которое максимально увеличит урожай. Им также необходимо изучать разные сорта семян, чтобы узнать, какие из них наиболее подходят к тем или иным условиям земледелия. Чтобы проверить полученные выводы, крестьянину следует вести записи урожаев по десятилетним циклам. Семьи должны так вести хозяйство, чтобы расходы не превысили доходов. Ниномия при помощи диаграмм даже показал крестьянам, как им распределить свое время между различными работами в зависимости от сезона. Мудрец японских крестьян, как стали называть Ниномия, призывал крестьян трудиться совместно и оказывать помощь друг другу. Согласно его концепции, благосостояние индивида и благосостояние общины находятся во взаимосвязи. Если на кого-то обрушились невзгоды, то, в конце концов, все ощутят негативное воздействие, а если каждое хозяйство богатеет, то выгоды от этого ощутят все члены общины. Идеи, распространяемые Ниномия и его учениками, принесли свои плоды. В 40-х гг. XIX столетия жители некоторых деревень начали объединяться в коммуны, внутри которых они помогали своим больным или нетрудоспособным соседям, проводили ежемесячно собрания для обсуждения способов ведения сельского хозяйства, в свободное от полевых работ время года ремонтировали дороги и оросительные каналы. Иногда они даже создавали совместные денежные фонды, из которых выделяли беспроцентные или почти беспроцентные кредиты тем членам коммуны, которые оказались в данный момент в сложном положении. Понятно, что в конечном итоге главным получателем выгоды от тяжелого труда, планирования и коммунального взаимодействия являлось домовладение, в состав которого входило несколько поколений. «Благосостояние наших родителей зависит от деятельности их предков», — заявляет Ниномия. И так же как «наше благосостояние зависит от накопления богатств нашими родителями», так и «благосостояние наших детей и внуков зависит от наших усилий». Кроме того, Ниномия верил, что каждый человек должен «платить добродетельностью». То есть каждый индивид, каждая семья получают милость богов и природы. Поэтому у всех есть моральная обязанность отплачивать за это упорным трудом, своей честностью и справедливостью и помощью другим. Ниномия использовал для обозначения понятия ответной добродетельности термин хотоку, и эта идея настолько укоренилась в сознании крестьян, что деревенские кассы взаимопомощи обычно именовались обществами Хотоку.Пол и реальность
Большинство самурайских идеологов и авторов домашних кодексов писали с расчетом на мужскую аудиторию, поскольку именно отцы и сыновья возглавляли из, занимали ответственные государственные посты, содержали лавки и обрабатывали семейные поля. Показательным моментом отношения к женщине является комментарий в Хагакурэ, где говорится, что дочери «пятнают имя семьи и являются позором для родителей. Исключением является старшая дочь, а остальными можно пренебречь». Несмотря на подобное отношение со стороны Ямамото, другие авторы уделяют больше внимания той роли, исполнение которой они ожидают от женщины в доме и семье. Нет никакого сомнения, что моралисты смотрели на жизнь преимущественно с позиций мужчин, поэтому женщинам отводилось место лишь во внутренних покоях дома, хотя это не всегда соответствовало реальности. Одним из самых популярных подобных трактатов, касающихся воспитания женщин, был Онна даигаку («Великое учение для женщин»), опубликованный в 1716 г. Автор этого текста неизвестен. Обычно исследователи приписывают его Каибара Эккен, выдающемуся конфуцианскому ученому, который был автором известных медицинских трактатов. Его перу также принадлежат несколько десятков сочинений этического характера, адресованных различным социальным группам. Бытует, правда, и другое мнение, согласно которому Онна даигаку был написан женой Каибара. Как бы то ни было, но девятнадцать глав, составляющих этот трактат, написаны человеком, считающим, что женщина должна подчиняться мужчине, а ее деятельность не должна выходить за пределы дома. Мир женщины, таким образом, замыкается на домашних работах, а также на рождении и выращивании детей. Онна даигаку постоянно повторяет, что женщина на протяжении своей жизни должна все время выполнять обязанности по дому. Что касается юных лет, то «главной обязанностью девочки в доме родителей является проявление почтительности к своим отцу и матери». Выйдя замуж, молодая жена «должна смотреть на мужа как на своего господина и служить ему со всей учтивостью. Когда муж что-то приказывает, жена не может ослушаться его»{47}. В одном месте автор текста поднимает мужчину еще выше: «Женщина должна смотреть на своего мужа так, будто он является самим Небом». Появление детей увеличивает количество обязанностей. Мать должна «кормить, стирать и зашивать одежду, подметать полы» и при этом «неустанно ткать, шить и прясть». В то же время идеальная жена должна «почитать свекра и свекровь сильнее своих родителей» и «выполнять любое задание, которое они ей дадут». Исполняя свои обязанности, продолжает автор текста, женщина должна «избегать расточительности» и «не предаваться роскоши». Жены и невестки должны были держаться подобающим образом, то есть вести себя «учтиво, скромно, должны располагать к себе, не впадать в раздражение и не выказывать непокорства, никогда не допускать грубость и высокомерие». Несмотря на надежду, что из девочек получатся добродетельные женщины, автор Онна даигаку с горечью отмечает, что «семь или восемь из десяти» будут склонны «к непослушанию, злобе, клевете, зависти или глупости». Эти врожденные «недостатки их натуры» ставят женщин «ниже мужчин» и могут разрушить брак. Соответственно, «Великое учение для женщин» предоставляет мужчинам моральное право развестись со своими женами в семи случаях: если они не подчиняются родителям мужа; если не могут выносить ребенка; ведут себя распутно; если они ревнивы; болеют проказой или «любой подобной грязной болезнью»; разрушают гармонию в доме; склонны к воровству. Подобные идеи распространяли и некоторые другие теоретики. Одним из них был известный ученый Хосои Хейсу. Он преподавал в собственной школе в Эдо, затем обучал самураев доменов Овари и Ёнедзава. Всем своим ученикам он повторял слова, сказанные им перед горожанами Нагои в 1783 г.: «В юности девушка должна подчиняться своим родителям. Выйдя замуж, она должна подчиняться своему мужу. В старости она должна подчиняться своим сыновьям»{48}. Приверженцы Сингаку также игнорировали социальные различия и рассматривали всех женщин — из самурайского, городского или крестьянского сословия — как однородную массу, нуждающуюся в моральном руководстве. На своих занятиях, особенно проводимых для женщин, наставники Сингаку критиковали их за то, что у них «сжатые сердца, что делает их легко уязвимыми и тщеславными»{49}. Поэтому каждая женщина должна искать свое подлинное сердце, чтобы раскрыть «шесть конфуцианских добродетелей для женщин» — послушание, чистоту, доброжелательность, бережливость, скромность и усердие, — каждую из которых она наилучшим образом может реализовать во время замужества. Подобные проповеди производили определенный эффект. Из поколения в поколение дочери торговцев и крестьян становились послушными долгу женами, и когда даймё начали объявлять жизнь той или иной женщины примером достойного поведения, у них было из чего выбрать. Подобным этическим образцом могла служить жизнь молодой женщины, которая отложила свое замужество, чтобы присматривать за больным овдовевшим отцом. Однажды она спасла семейные сбережения, столкнув забравшегося к ним вора в отхожее место. Незадолго до смерти отца она вышла замуж за человека, которого сам отец выбрал в качестве своего приемного сына и наследника в качестве главы семьи. В начале XX столетия Ямакава Кикуэ, выдающаяся социалистка и феминистка, составила историю женщин своей семьи, мужья и отцы которых были самураями на службе у правителя домена Мито. При этом о женщинах 40—50-х гг. XIX в. она писала, что «их непримечательные жизни были ограничены сферой домашнего хозяйства», где они, «сталкиваясь с проблемами, молча выполняли свой долг по поддержанию семьи и выращиванию детей»{50}. Далеко не все женщины, разумеется, находили такой стиль жизни недостойным. У писателя Судзуки Бокуси можно найти такие строки: «Моя горячо любимая мать была очень честным человеком и никогда ни с кем не ссорилась. Она никогда не гневалась, но посвятила себя служению моему отцу. Они шли по жизни вместе, подобно двум колесам одной повозки»{51}. Однако жизненный опыт женщин в семьях торговцев и крестьян значительно чаще расходился с идеализированными кодексами поведения, чем об этом свидетельствуют тома ученого теоретизирования. Во-первых, женщины не были настолько привязаны к домашнему хозяйству, как об этом говорится в Онна даигаку и других текстах. Горожанки помогали своим мужьям содержать лавку и вести деловые записи. Более того, в Осаке и некоторых других городах западной Японии женщина могла даже исполнять обязанности главы домовладения, хотя обычно этим занимались мужчины. В сельской местности мужчины и женщины работали сообща. Жены и дочери ухаживали за огородами, собирали и сушили фрукты и даже занимались вместе с мужчинами обработкой рисовых полей. Весной они помогали высаживать рассаду на основные поля, а осенью прочесывали рис, протягивая срезанные стебли через специальную гребенку, в результате чего зерна выскакивали из своих гнезд. Многие женщины, не принадлежавшие к самурайскому сословию, работали вне дома, особенно до замужества. Энциклопедии, составленные в конце XVII и начале XVIII столетия, перечисляли более сотни типов работ, которые могли выполнять женщины. Женщины могли быть швеями, ныряльщицами за жемчугом, прачками, плотниками, книгоношами, прислугой в чайных домиках, банщицами, проститутками, монахинями, массажистками, кормилицами, поварихами, могли продавать с лотков ароматические палочки, соломенные сандалии, цветущие растения и тофу. Большое количество женщин работали в качестве служанок в домах богатых самураев и купцов. Женщины также шли в зарождающиеся текстильные предприятия в качестве швей, ткачих и красильщиц. Сейчас невозможно с точностью сказать, сколько женщин было занято работой вне дома. Однако подсчеты свидетельствуют, что от четверти до половины всех женщин в окрестностях Киото и Осаки в начале XIX столетия работало в качестве служанок. Кроме того, женщины не всегда были «покорными, кроткими, целомудренными и спокойными» особами, каковыми их желал видеть автор Онна даигаку. Как свидетельствует одна поговорка, «самым скверным характером обладают погонщики вьючных животных, капитаны кораблей и няньки»{52}. Служанки, которые не жили в доме своих хозяев, пользовались дурной славой. Считалось, что они охотно обсуждали на публике внутренние дела и проблемы семьи, в которой они работали, и распространяли о ней всяческие сплетни. Они могли потихоньку воровать или просто скрывались, прихватив из дома хозяев самые ценные вещи. Бывало, что служанки нападали на работодателей, а сведениями о поджогах, совершенных ими, содержатся в полицейских записях многих городов. В Канадзаве в 60-е гг. XVII в. одна женщина поочередно работала в шести самурайских домах. Всякий раз она воровала семейные сбережения, а затем поджигала дом, чтобы скрыть свое преступление. Власти наконец схватили ее, и за совершенные преступления она была сварена в котле с кипятком. Женщины, которые не были счастливы в браке, старались найти способы выжить в неблагоприятных для себя условиях. Некоторые продолжали жить со своими мужьями, но при этом старались сделать их жизнь невыносимой постоянным брюзжанием и оскорблениями. Другие отгораживались стеной молчания и отказывали мужьям в сексуальных удовольствиях. Другими способами борьбы женщина в самурайской семье не располагала, поскольку правом инициировать развод пользовались только мужчины. Воин, желающий разойтись со своей супругой, должен был просто написать ей об этом письмо. Обычно это был документ стандартной формы. Он получил название «три с половиной строки», и этим популярным термином стали обозначать сам развод. Вслед за этим письмом женщина получала обратно свое приданое и возвращалась в дом родителей. Дети в любом случае оставались с отцом. Ортодоксальное конфуцианство всегда неодобрительно смотрело на повторные браки разведенных женщин, равно как и на повторные замужества вдов. «Женщина, вышедшая однажды замуж, а затем получившая развод, — утверждал автор Онна да-игаку, — утратила свой «путь», и имя ее покрылось великим позором». Женщины из крестьянского и торгового сословий располагали большим выбором. Некоторые прерывали нежелательные замужества, удаляясь в энкиридэра, или «храм развода». После того как женщина прослужит в подобном храме два полных года, правительственные чиновники объявляли ее свободной от всех брачных обязательств. Сейчас невозможно сказать, сколько всего отчаявшихся жен нашло свое спасение в эникридэра, однако в самом известном подобном храме — Токэйдзи в Камакура, — начиная с 20-х гг. XVIII в. и до конца первого периода Нового времени, побывало около 2000 женщин. Однако большинство крестьянских и городских жен предпочитали более легкий способ. Они просто уходили из дома своего мужа, причем зачастую забирали с собой и детей. Например, в некоторых деревнях в окрестностях Осаки в начале XIX столетия около 15 % браков заканчивались подобным образом. Более того, разведенные женщины из низших сословий довольно часто вступали в повторный брак, и факт предыдущего развода не оставлял на них такого пятна, как на женщинах из самурайских семей. После того как писатель Судзуки Бокуси отослал свою молодую жену, Минз, обратно к ее родителям (за то, что она не умела вести домашнее хозяйство), она вышла замуж во второй раз, а затем и в третий. Судзуки, надо отметить, не утратил интереса к Минз. Он произнес пылкую речь в ее честь во время ее второй свадьбы и даже подумывал вновь взять ее себе в жены после того, как закончилась провалом и ее третья попытка найти счастье в браке. Некоторые женщины предпочитали замужеству самостоятельную жизнь. Ямакава Кикуэ рассказывала, что жена ее прапрадеда, Ичиносина, никак не могла родить ребенка. Тогда Ичиносин обратил внимание на дочку богатого торговца из близлежащего порта Минато и пригласил ее переехать в город-замок Мито, где он проживал, в качестве его «второй жены». Минато был процветающим перевалочным пунктом, который играл важную роль в транзитной торговле между Эдо и Эдзочи. Люди даже называли его маленьким Эдо. Родив Ичиносину сына (прадеда Ямакава), молодая женщина сразу же поспешила вернуться в свою семью в Минато. Там она «вернулась к беззаботной жизни дочери горожанина», для которой «считалось само собой разумеющимся ходить в театры или обучаться хорошим манерам»{53}. Когда посланцы из Мито явились к ней с просьбой вернуться обратно, она просто ответила: «Большое вам спасибо, но я уже достаточно пожила в самурайском доме. Я покинула его с намерением никогда туда не возвращаться. Поэтому, пожалуйста, оставьте меня. Даже несмотря на моего сына, я бы предпочла остаться здесь, в Минато». Жизненный выбор молодой женщины из Минато служит хорошим напоминанием, что все Пути были описаниями идеального поведения и не отражали реальность. Как в прежние времена одни самураи были свирепыми воинами, другие — жалкими трусами, так и в начале Нового времени некоторые показывали себя выдающимися администраторами, в то время как их соседей по конторе хватало только на то, чтобы шлепнуть печать на документ, прежде чем переложить его из одной стопки в другую. Подобным образом, некоторые крестьяне превращали свои земли в прах, тогда как их односельчане процветали и накапливали достаточно капитала, чтобы организовать собственное предприятие, которое делало их еще более богатыми. Хорошую прибыль получали и лавочники, однако не все — довольно много владельцев лавок разорялось, так что преуспевающие торговцы сочли необходимым оставить своим потомкам инструкции, в виде домашних кодексов, о способах достижения успеха. А если детки не желали подчиняться советам родителей, то последние могли утешиться тем фактом, что если большая часть молодых людей пытается придерживаться подобающего Пути, то огромное количество других просто выбирали свой собственный путь.Личность и общество
Кроме того, что иэ была основой социальной организации, она также связывала простых людей с местным политическим сообществом, а также с более высокими уровнями власти. В японских деревнях и городах наиболее влиятельные семьи были обладателями собственности. То есть эти домовладения получали от даймё или сёгуната право владеть, сдавать в аренду, продавать и передавать в наследство определенные поля или участки обрабатываемой и застроенной жильем земли. В обмен на признание их прав собственности, эти семьи платили разнообразные налоги, а также выполняли многие важные функции, связанные с социальным контролем. Они должны были обеспечивать порядок и спокойствие в своих городских кварталах или деревенских общинах. В пределах каждого городского квартала правительственные чиновники распределяли подобные семьи по группам, которые получили название гонингуми («пятерки»). Эти группы состояли из глав домовладений, и в реальности количество семей, входивших в гонингуми, могло быть и меньше пяти, а могло превышать десяток. Независимо от их количества, члены пятерок выполняли различные задачи, которые ставили перед ними власти. В первую очередь правительственные чиновники поручали представителям домовладений в обязательном порядке доводить до каждого члена семьи и работника, равно как и до каждого арендатора, все официальные постановления, законы и декреты, а также следить за их неукоснительным выполнением. При этом ответственность за любой проступок, совершенный внутри этих групп, возлагалась на каждое домовладение, входящее в ее состав. Пятерки на уровне квартала выполняли и ряд других важных гражданских функций. Их набор варьировался, однако в целом семьи, входившие в их состав, должны были помогать друг другу в трудные времена, заботиться об уборке снега, поддерживать в хорошем состоянии местные улицы и мосты, содержать оборудование для тушения пожаров и быть готовыми к борьбе с огнем, а также разрешать мелкие конфликты, нарушающие общее спокойствие. Кроме того, семьи, обладавшие собственностью, были обязаны за свой счет строить и укомплектовывать караульные помещения на границах с соседними кварталами. Каждый вечер охранники закрывали ворота, отделявшие один квартал от другого. Это делалось для того, чтобы помешать ночным грабителям и другим злоумышленникам свободно передвигаться по городу. Затем охранники приступали к патрулированию улиц, высматривая чужаков. Стуком деревянных колотушек в зимние месяцы они напоминали обитателям домов о необходимости поддерживать огонь в очагах. На должности квартальных и городских старшин даймё и сёгунат назначали авторитетных торговцев, которые исполняли роль промежуточного звена между группами домовладений и самураями-чиновниками городского уровня. Городские старшины (в Эдо их было три) передавали законы и постановления, полученные от правительственных чиновников, квартальным старшинам (в Эдо их было приблизительно 260). Каждый из них, соответственно, осуществлял надзор за десятками гонингуми. Городские и квартальные старшины следили за тем, чтобы люди вовремя уплачивали налоги, определяли тех примерных жителей, которые демонстрировали исключительную сыновнюю почтительность, удостоверяли переход права собственности и хранили списки горожан и другие важные документы. Они также занимались разрешением споров, возникавших между жителями города и не носивших уголовного характера, таких как имущественные споры, жалобы на качество товара и невозвращение долга. Подобные коллективные органы существовали и в сельской местности. В начале Нового времени в Японии насчитывалось огромное количество деревень — более 20 000, поэтому функции, исполняемые этими органами, имели значительные отличия в разных регионах. Но, как и в городах, существовала общая тенденция создания такой системы, при которой домовладения объединялись в группы разных уровней, чтобы совместно выполнять свои обязанности, определенные высшей властью, а за это, до известной степени, пользоваться правом на самоуправление. Таким образом, обладавшие собственностью жители деревень объединялись в гонингуми. Их главы следили за тем, чтобы все члены семей и арендаторы выполняли законы и постановления местного правителя. Члены этих групп оказывали помощь заболевшим соседям, поддерживали в надлежащем порядке дороги и мосты, помогали друг другу крыть крыши и восстанавливали дамбы вокруг рисовых полей после бурь и землетрясений. Должность деревенского старосты иногда носила наследственный характер, а иногда на нее, на основе консенсуса между всеми семьями, обладающими собственностью, выбирался представитель одной из этих семей. Староста был связующим звеном административной системы между группами домовладений и самураями-чиновниками местного правительства или сёгуната. Староста, которому помогали немногочисленные деревенские старейшины, хранил списки местных жителей, разрешал мелкие конфликты и т. д. В отличие от своего городского коллеги, он активно участвовал в распределении налогов. В городах каждый владелец собственности платил в основном годовой налог, который рассчитывался исходя из длины выходящего на улицу фасада его магазина. В сельских регионах сёгунат и даймё назначали определенную сумму налогов не для отдельной семьи, а для всей деревни. Как эту сумму распределить между домовладениями, староста решал либо самостоятельно, либо посоветовавшись со старейшинами и с теми семьями, которые владели собственностью. В начале Нового времени правительства даймё распространили свою власть также на объединения людей, которые стояли вне городских и сельских общин и считались изгоями. При этом, правда, за ними оставалось право на некоторое самоуправление. Эта категория жителей Японии подвергалась дискриминации с самых ранних этапов существования японского государства. В официальных документах, составленных вскоре после реформы Тайка, она уничижительно обозначалась фразой «низкие люди пяти типов». Обычно эти люди были связаны с «нечистыми» занятиями. Синтоистские верования ассоциировали добродетельность и благочестие с чистотой, а нечистые вещи, по их представлениям, могли испачкать вещи и людей, сделав их грязными и грешными. Разумеется, некоторое количество крови и других нечистых веществ могут попасть на кожу или одежду человека во время ежедневных занятий. Поэтому каждый должен периодически совершать акт ритуального очищения. Но человек может получить и более серьезное «загрязнение», если он занимается забоем животных или совершил какой-нибудь отвратительный поступок, представляющий собой угрозу общественному строю, такой, например, как инцест или скотоложство. Такие личности, по обычаю, изгонялись из общества и были вынуждены скитаться по всей стране. Жили они за счет подаяний, либо становились бродячими певцами, танцорами, мимами и акробатами. В первый период Нового времени дискриминация стала частью государственной политики. Сёгунат и даймё определяли изгоев как эта («обильная грязь») или хинин («нелюди»). Эта (или кавата, «кожевенники», как они сами предпочитали себя называть) были специалистами по свежеванию животных, из шкур которых они шили седла, сбрую, ремни для доспехов и другие изделия, используемые самураями. Даймё впервые установили связи с эта в эпоху великих войн. Когда князья в конце XVI — начале XVII столетия осели в своих доменах, они начали сводить кожевенников в особые сообщества, которые зачастую располагались в сельских предместьях городов-замков. Эта занимались земледелием, кроме того, правительство признавало монопольное право эта на выделку кож и продажу кожаных изделий князю и его воинам. Как и в прочих сельских общинах, в большинстве поселков эта были свои старосты, и обитатели этих поселков имели право на определенное самоуправление. Однако существовало несколько ограничений, которые отделяли их от остальных японцев. В XVII в. сёгунат и даймё сделали статус изгоев наследственным и запретили эта, количество которых к середине XIX столетия достигло, вероятно, четверти миллиона, покидать пределы своих родных поселков. Другие группы изгоев правители начала Нового времени определяли как хинин. Эта категория не была однородной. В нее входили попрошайки, уличные артисты и другие маргинальные личности. В разряд хинин попадали люди, получившие этот статус по наследству, а также те, кто изгонялся из общины за совершенное преступление или по причине полного обнищания. В обоих случаях чиновники запрещали хинин участвовать в торговых или ремесленных предприятиях и даже просто заниматься физическим трудом. Правительство предназначало для них такие работы, как уборка площадей после казней или уход за инфекционными больными. Хинин могли также просить милостыню или развлекать людей уличными представлениями, получая за это несколько монет от зрителей. Сёгунат и правительства даймё позволяли «нелюдям» пользоваться определенной автономией при решении внутренних вопросов их сообществ. В Эдо, например, хинин селились на день или на месяц в одном из сотен домов для изгоев, разбросанных в окрестностях города. Во главе каждого из таких домов стоял «староста изгоев». За определенную плату, которая обычно составляла часть дневной выручки, он распределял между своими подопечными места для сбора милостыни. В свою очередь, староста был обязан следить за тем, чтобы «нелюди», проживавшие в его доме, не нарушали законов и, через старост районов, передавать сведения о деятельности всех изгоев в Эдо Дандзаэмону. Это имя последовательно носили главы семьи, которой сёгунат поручил наблюдать за теми, кого отвергло общество. Система ответственности, которая связывала индивида и иэ с сёгунатом и правительствами доменов, имела двойственную природу. Распоряжения передавались по цепочке, которая начиналась с чиновников, определявших политику, и шла через чиновников городского уровня и сельских интендантов к городским старшинам и деревенским старостам и, наконец, к гонингуми и обладавшим собственностью семьям. Благодаря ей сёгун и даймё могли доводить свои решения до деревни, квартала и даже семьи и каждого индивида с большей эффективностью, чем любой из предыдущих режимов, господствовавших в Японии. Если на организацию системы власти посмотреть с другой стороны, то можно заметить, что простые люди играли значительную роль в управлении своими общинами. По мере того как на протяжении XVII в. для горожан и жителей деревень постоянно возрастали обязанности и уровень ответственности, они приходили к пониманию, что общественный договор связывает воедино всех членов социума. Эта идея была тесно связана с неоконфуцианским принципом, что руководство должно быть добродетельным и что оно обязано принимать такие решения, которые ведут к всеобщему процветанию. Взгляд на общество как на органическое целое, наилучшее функционирование которого достигается при гармоничном взаимодействии всех его частей, подкреплял мысль о том, что, во-первых, простые люди имеют право участвовать в управлении, а во-вторых, что они могут требовать от чиновников высокоморального поведения. По мере того как обыкновенные люди принимали новые идеи относительно природы и целей управления, они начали без колебаний высказывать свое несогласие в тех случаях, когда правительственные чиновники вели себя неподобающим образом. На протяжении XVII и XVIII столетий общинники часто выражали свое негодование в связи с должностными преступлениями чиновников, введением новых или повышением старых налогов или резкими скачками цен на рис — главный японский продукт. Обычной формой выражения недовольства была подача письменной жалобы старосте своей деревни или квартальным или городским старейшинам. Эти должностные лица проверяли факты и, если они находили достаточно оснований поддержать жалобу, передавали ее чиновникам-самураям, таким как сельские интенданты или городские управляющие. Они проводили дальнейшее расследование и выносили соответствующее решение. Власти обладали возможностью отреагировать на жалобы в установленном порядке, но если они этого не делали, то обычно мирные мужчины и женщины устраивали массовые демонстрации. Приблизительно в трех сотнях случаев на протяжении раннего периода Нового времени жители различных регионов страны откладывали в сторону свои инструменты и покидали свои жилища для того, чтобы присоединиться к движениям протеста. Например, в 1686 г. 2000 крестьян домена Мацумото, расположенного в Центральной Японии, в течение пяти дней, сойдясь в город-замок, выражали свое недовольство по поводу введения местным даймё новых методов обложения налогами. Подобным образом, когда летом 1736 г. цены на рис достигли неприемлемых величин, старшины кварталов в Осаке забросали канцелярию городских чиновников огромным количеством петиций, написанных от имени местных торговцев. Наконец, в шестой день Шестого месяца более тысячи квартальных старшин и представителей от каждого квартала города собрались около канцелярий городских чиновников, чтобы высказать свое недовольство политикой правительства, приведшей к росту цен на рис. Чиновники в Осаке еще легко отделались. Когда в 1783 г. неурожай вновь привел к росту цен, а сёгунат и даймё не приняли никаких действенных мер против этого, взбунтовались жители более тридцати крупнейших городов, в том числе Кофу, Сунпу, Нара, Хиросимы, Нагасаки и Эдо, где были разгромлены лавки более тысячи торговцев рисом. Но даже во время подобных демонстраций недовольства люди никогда не ставили под сомнение легитимность власти ceгyна и даймё. Протестующие критиковали лишь правительственных чиновников, требуя от них исполнения своих обязанностей в соответствии с общественным договором. В соответствии с особенностями жанра подобных документов, жалобы, направлявшиеся городским чиновникам Осаки, начинались с выражения почтения («С должным почтением мы представляем на рассмотрение это письмо»). Затем говорилось, что неправильные действия принесли горе простым людям («в это время жители города страдают от невзгод и крайней бедности»), высказывалась надежда, что для решения проблем будут приняты особые меры, и завершались эти послания высказыванием уверенности, что князь и чиновники исправят нынешнее положение («мы будем счастливы, узрев ваши благодеяния»){54}. В течение XVII столетия сёгуны и даймё прилагали значительные усилия к тому, чтобы убедить людей в том, что они управляют страной не как завоеватели, сидящие верхом на лошади, а что целью их правления является справедливость и общественный порядок. Параллельно с этим горожане и крестьяне приходили к принятию этой власти, принятию своего места в политической системе, базирующейся на господстве дома Токугава, и формулированию и осознанию своих Путей. В обратном направлении шло складывание системы общественного договора с упором на неоконфуцианскую концепцию добродетельности властей. Перед своей смертью в 1785 г. Уэсуги Харунори, даймё Ёнэдзавы, оставил своему наследнику короткую записку об искусстве управления государством. «Домен, — писал Уэсуги, — переходит от предков к потомкам. Им нельзя управлять исходя только из своих собственных интересов. Люди, — продолжает он, — принадлежат домену, к управлению ими также нельзя подходить эгоистично. Господин, — завершает свою записку Уэсуги, — существует ради домена и людей, а вовсе не домен и люди существуют ради господина»{55}.Осознание себя единой нацией
Правитель и подданный, богач и бедняк, мужчина и женщина, торговец и крестьянин — японцы сильно отличались друг от друга и осознавали эти различия. Они жили в начале Нового времени в своих доменах и деревушках, а также в городских кварталах, и судьбы их были совершенно разными. Это дробление общества было настолько очевидным, что один выдающийся исследователь истории страны впоследствии отмечал: «Миллионы японцев в это время были замкнуты в миллионы индивидуальных коконов. Каждый, находясь в своей маленькой комнатке, был отделен от других высокими стенами. Раздел общества на воинское, крестьянское, ремесленное и торговое сословие сдерживало общение людей в предписанных рамках»{56}. Различия, которые обуславливались профессиональными занятиями, полом, имущественным и социальным положением, создавали совершенно разные стили жизни. Тем не менее существовали и общие черты, объединявшие людей и порождавшие культурное единство, что приводило к осознанию себя одной нацией. В начальный этап Нового времени политическое объединение страны создало благоприятные условия для культурного синтеза. Политика Токугава привела к возникновению границ, которые отделяли японцев от тех, кто ими не являлся. Независимо от того, насколько сильно они отличались друг от друга, японцы проживали на территориях, подчиненных сёгуну или даймё. Этот факт коренным образом отличал их от их соседей в Китае или Корее, которые были подданными других правителей, от населения островов Рюкю, которое имело определенное культурное сходство с японцами, но предпочитало заявлять о своей политической самостоятельности, а также от туземцев Эдзочи, которые не признавали никакой власти над собой. Люди, находившиеся под властью сёгуна и даймё, принадлежали одной религии, язык, которым они пользовались, был понятен всему населению страны. По сельским районам были разбросаны тысячи небольших святилищ, посвященных мириадам божеств. Однако все японцы черпали религиозное вдохновение в буддийских и синтоистских верованиях и верили, что они живут в стране богов.Кроме того, они довольно легко преодолевали различие диалектов, существовавших в разных частях страны. «Я с трудом разбираю диалект Эдо», — жаловался один самурай из домена Тоса, прибывший в столицу вместе со своим господином и поучаствовавший в ученой беседе{57}. Тем не менее он быстро приспособился к своей новой языковой среде. Помощь в этом ему оказали, в том числе, и словарики трудностей диалекта Эдо, в большом количестве существовавшие к этому времени. Так что через месяц он уже «хорошо понимал» научные лекции, которые он продолжал посещать. Подобным образом, когда встречались люди, разговаривавшие на разных диалектах, как это описано в романах из серии «На своих двоих», они могли «легко открывать свои сердца другим, и такое общение длится до тех пор, пока собеседники не устают», и «уроженец Эдо» не найдет особых барьеров при «знакомстве со сладким картофелем из Сацума». Пища и материальная культура усиливали ощущение культурного единства. Некоторые особенности присутствовали в кухнях различных регионов, однако в целом меню японцев состояло из вареного риса, супов, особых гарниров и рыбы. Особенно сильно это единство проявилось после того, как в середине XVII в. начали появляться поваренные книги. В 1643 г. были опубликованы Рьёри моногатари («Рассказы о приготовлении пищи»). Это была первая книга кулинарных рецептов, предназначенная для простых японцев. В ней рассказывалось, как приготовить около двадцати различных супов, различные овощные гарниры, вареную рыбу, а также многое другое. В 1674 г. были опубликованы шесть томов Эдоръёри-шу («Собрание рецептов из Эдо»), которые представили столичное кулинарное искусство всей стране. Мода также способствовала единству нации, поскольку люди одевались в одном стиле. В архитектуре домов существовали региональные черты, однако в целом люди жили в одинаковых каркасных домах с перегородками-сёдз, устланными циновками полами и нишами токонома. Концепцию существования единой японской нации поддерживали и путешествия по стране. В начальный период Нового времени постоянно возрастало количество путешествий, совершаемых даймё и правительственными чиновниками по Токайдо и другим дорогам. Рядом с ними путешествовали торговцы, труппы бродячих актеров, одинокие поэты, процессии паломников, бредущих в святилище Исэ и буддийские храмы Западной Японии, богатые дамы, желающие посетить знаменитые горячие источники, эдосцы. направляющиеся в отдаленные уголки страны, чтобы полюбоваться красотами тамошней природы, и спешащие им навстречу жители сельских районов, которых тянуло к соблазнам и наслаждениям Трех мегаполисов. К началу XVIII столетия путешествия превратились в национальную манию. Каждый год, когда весеннее тепло согревало землю, миллионы японцев отправлялись в путь. Развитие транспортной системы с многочисленными станциями, на которых располагались постоялые дворы, трактиры, чайные домики, способствовало появлению путешествий ради удовольствия. К началу XIX в. путешественник мог заранее оплатить пищу и отдых на постоялых дворах, где впоследствии он просто показывал нечто вроде идентификационно-кредитной карточки, на основании которой ему оказывались услуги. Появление культуры путешествий имело важные последствия для осознания национального единства. Мужчины и женщины плыли к туманным островам Внутреннего моря, взбирались на заснеженную вершину горы Фудзи, любовались соснами в Аманохасидатэ, прогуливались по дюнам, где Кумагаи Наодзанэ с печалью в сердце взял голову Ацумори, пересекали поля прежних битв, на которых сходились армии даймё в эпоху великих войн, собирались в святилище в Исэ, чтобы поклониться солнечной богине Аматэрасу, или преодолевали тысячу ступеней, ведущих к святилищу Конпира на острове Сикоку. И при этом складывался набор достопримечательностей, которые иллюстрировали традиции, легенды и исторические события, наполнявшие национальное самосознание. Путешественники распространяли национальную культуру и другими способами. На протяжении XVIII в. бродячие актеры странствовали от города к городу и от деревни к деревне, показывая краткие версии спектаклей кабуки и театра марионеток, которые уже завоевали популярность в Трех мегаполисах. Крестьяне, посетившие Эдо или Осаку, привозили домой тексты драм и костюмы, с помощью которых они ставили в своих деревнях любительские спектакли. Путешествующие горожане, в свою очередь, покупали местную продукцию: керамику Канадзавы, чай Удзи, рисовое печенье из Аманохасидатэ, культовую утварь из Исэ. Радуясь, что им удалось приобрести подобные сувениры, путешественники привозили их домой и, таким образом, добавляли их к списку общеяпонской материальной культуры. Наконец, Ядзи, Кита и другие путешественники почти все свое время проводили в общении, открывая при этом общность ценностей и переживая опыт, снимающий барьеры между регионами, сословиями и полами. Наконец, не было необходимости покидать свой дом, чтобы насладиться видом различных уголков страны. В 30-е гг. XIX столетия известный художник Хокусай закончил свою знаменитую серию гравюр «Тридцать шесть видов горы Фудзи», а Хиросигэ, вероятно, самый знаменитый художник, работавший в жанре гравюры, предложил своим соотечественникам серию «Пятьдесят три станции дороги Токайдо». Гравюры Хиросигэ были настолько популярны у любителей путешествовать не выходя из своего дома, что он создал двадцать дополнительных серий видов Токайдо, более тысячи изображений знаменитых мест в Эдо, а также серии изображений достопримечательностей Осаки, Киото и Оми. Производство гравюр было лишь одной стороной печатной культуры. К началу XIX в. в Эдо и Осаке существовали сотни книжных магазинов и библиотек. Значительное их количество было и в провинциальных городах. Чтобы удовлетворить растущий спрос, издатели ежегодно выпускали в продажу тысячи новых наименований — от серьезных трактатов научного или религиозного содержания до антологий поэзии, рецензий на театральные спектакли, исторических романов, путеводителей и разнообразного легкого чтива. Книги и гравюры стоили относительно дешево, поэтому они были доступны не только самураям, но и горожанам и крестьянам. Печатная культура создавала мир образов и тем, героев и негодяев, этических дилемм и душевных решений, ценностей и верований, которые в начальный период Нового времени были обычными и близкими японцам, представлявшим все слои общества. Письменные отчеты о встречах с иностранцами открывают еще одну сторону зарождения самосознания японской нации. В записях часто обращается внимание на экзотический вид прибывающих из-за моря визитеров. «Во время правления Го-H. ра [1526–1557] торговое судно южных варваров прибыло к нашим берегам, — говорится в анонимном сборнике преданий, составленном в 1639 г. — С борта этого корабля спустилось непонятное существо, напоминающее по форме человека, но скорее похожее на длинноносого гоблина. При ближайшем рассмотрении было выяснено, что это создание именовалось «Падре». Основное внимание притягивал длинный нос. Он был похож на коническую ракушку, присосавшуюся к его лицу. Голова его была маленькой, на руках и ногах — длинные когти, а зубы были длиннее лошадиных. Его речь была совершенно непонятной: его голос был похож на крик совы. Все как один пришли посмотреть на него, толпами собираясь вдоль дорог»{58}. Корейцы и жители архипелага Рюкю также вызывали любопытство. Прибытие каждого иностранного посольства было значительным событием, привлекавшим массы любопытствующих японцев. «Миллионы зрителей, подобно муравьям, карабкались на склоны речных берегов, — писал один кореец, проезжавший через Осаку в 1682 г. — Понтонные мосты перекрывали русло, и неисчислимые тысячи людей выстроились на них, наблюдая за нами»{59}. Японские художники, которые фиксировали прибытие и отъезд дипломатических миссий, особое внимание уделяли особенностям физического облика и одежды, которые и отличали чужеземцев от японцев. Корейцы, например, обычно носили бороды, шапки с плюмажами из перьев, воротники в складку, штаны и ботинки. Это отличало их от сопровождавших их японцев, которые были чисто выбриты, носили юбки или одеяния, похожие на кимоно, и ходили либо босиком, либо надевали дзори. Изображения айнов отмечали те особенности, которые подчеркивали более продвинутый, даже рафинированный по сравнению с северными аборигенами образ жизни японцев. Описания восточных варваров зачастую начинались с комментариев по поводу длинных волос и бород мужчин, а также татуированных лиц женщин. Затем следовали шутки относительно диеты, которая состояла из большого количества рыбы и дичи, и в которой почти отсутствовал рис. Подобные описания создавали впечатление, что айны не только не достигли высот японского социального порядка, но и вообще еще находятся на уровне варварства. «Им неизвестна мораль, — писал один японец в 1710 г., — поэтому родители без всяких ограничений вступают в браки со своими детьми. У них нет и пяти разновидностей зерна, в пищу они употребляют сырое мясо птиц и рыб. Они скачут галопом вокруг холмов, ныряют в море и напоминают скорее каких-то животных, а не людей»{60}. Японцы не просто «проглатывали» те образы, которые содержала новая печатная культура. Мужчины и женщины, принадлежавшие к самым разным социальным слоям, объединялись для того, чтобы развивать новые литературные формы. И в этих формах звучало осознание принадлежности к единой японской нации и культуре. Мацуо Басё, сын небогатого самурая из Центральной Японии, превратил в высокую поэзию стиль хайкай, положив таким образом начало всемирно известному стилю хайку[19]. Переехав в 1672 г. в Эдо, Басё опубликовал несколько поэтических дневников. В них содержались мысли и чувства поэта, посещавшие его во время путешествия по достопримечательностям японской провинции. Наибольшую популярность приобрел дневник под названием Оку но хосомичи («Тропа, ведущая далеко на север»). Он был написан в 1689 г., после пятимесячного путешествия, во время которого Басё отправился на север, к Сендай, затем повернул на запад, через горы вышел к Японскому морю. Оттуда он направился на юг, в Канадзава, а затем, через горы, вернулся в Эдо, посетив по дороге озеро Бива. В Оку но хосомичи можно найти, пожалуй, самые запоминающиеся хайкай Басё{61}. Когда он посетил руины замка, расположенные на севере страны, он написал:Когда во второй половине XVI столетия европейцы впервые высадились на побережье Японии, они увидели воюющую страну. Но даже среди кровавых битв и политической раздробленности они обнаружили зачатки обновления и роста. Где бы западные купцы и миссионеры ни оказались, они встречали «культурных» людей. Они расточали похвалы «красивым сельским пейзажам», восхищались обилием «риса, овощей и фруктов». В начале XVII в. сёгуны Токугава, пытаясь сохранить внутреннюю стабильность, изгнали из страны всех европейцев, за исключением голландцев. В результате большинство жителей западных стран имели лишь поверхностное представление о тех изменениях, которые происходили в Японии на протяжении последующих двух веков. В XVII в., по мере того как Тайхей, Великий мир, укреплялся в Японии, мужчины и женщины всех социальных слоев прикладывали все свои усилия для достижения порядка и благополучия в стране. На протяжении большей части раннего периода Нового времени в Японии существовала эффективная система управления, сельское хозяйство процветало, города росли, а бурно развивающаяся торговля приводила к повышению уровня жизни во всех уголках страны. В то же самое время неоконфуцианские ученые, мыслители из самурайской среды, торговцы-философы и крестьянские мудрецы разрабатывали этические кодексы и правила поведения в обществе, которые в значительной степени изменили самосознание японцев, их занятия, их семьи и их сообщества. Новые идеи наполнили новым содержанием политические взаимоотношения, потребовав от правителей добродетельности и предложив простым людям справедливость в обмен на подчинение. С другой стороны, новые культурные явления, от народного театра до поэзии хайкай и путешествий по стране, породили ощущение культурной сплоченности, осознание себя единой японской нацией, что помогало преодолевать региональные, половые и социальные различия. В первые десятилетия XIX в. европейцы вернулись в японские воды. Военные офицеры, торговцы и правительственные чиновники вновь хлынули в Азию. Но они уже отличались от тех, кто впервые посетил Японию в XVI столетии. Западный человек, за плечами которого были научные и индустриальные революции, приобрел самоуверенность, граничащую с наглостью. Он был убежден, что его военная и экономическая мощь была следствием превосходства европейских политических систем и религиозных ценностей над всем, что было тогда в Азии. Располагавшие минимальными знаниями о Японии и еще меньшим уважением к ней, американцы, британцы и русские подвергали грубой критике «отсталых» азиатов, агрессивно демонстрируя желание донести «блага» своей цивилизации до этой замершей в своем развитии, варварской части земного шара. Воинственное настроение американцев и европейцев вселило тревогу в сердца многих японцев. Они боялись, что такие мощные державы, как Соединенные Штаты, Британия и Россия, обладают достаточной силой, чтобы уничтожить их островную страну, и не только в военном отношении, но и в экономическом и культурном. Положение осложнялось еще и тем обстоятельством, что западные державы появились на пороге Японии как раз в тот момент, когда сёгунат и даймё бились над разрешением внутренних проблем, вызванных экономическими и социальными переменами. К середине XIX в. сочетание внешней угрозы и внутренних трудностей породило кризис доверия. Испугавшись уже за само свое существование, многие японцы пришли к мысли, что теперь необходимо отбросить прошлое и переходить на западные образцы политики, экономики и социальных отношений. Этот поиск современности обещал, казалось, жизнь в совершенно ином мире, где все будет новым и непохожим на прежнее. Однако по мере продвижения страны в будущее, японцы осознавали, что наследие раннего периода Нового времени — от создания централизованного государства и зарождения профессиональной бюрократии до появления высокоразвитой экономики, основанной на торговле, и оформления культурных ценностей — должно и впредь определять их жизненный путь.
ЧАСТЬ II
Япония
в революционные времена
Хронология
1774 Сугита Генпаку вместе со своими коллегами завершает труд Каитаи шиншо («Новый текст по анатомии человека»)
1792 Девятый месяц, третий день Лейтенант российского флота Адам Лаксман входит в бухту Немуро
1798 Мотоори Норинага заканчивает работу над Кодзики дэн («Комментарии к «Кодзики»)
1804 Девятый месяц, шестой день Директор-распорядитель Российско-американской компании прибывает в Нагасаки
1808 Восьмой месяц, дни пятнадцатый и шестнадцатый Капитан английского фрегата «Фаэтон» угрожает Нагасаки
1814 Одиннадцатый месяц, одиннадцатый день Курозуми Мунетада переживает «божественное соединение» с богиней Солнца и начинает свою пастырскую деятельность
1823 Пятый месяц Более тысячи деревень в окрестностях Осаки выступили против свободной торговли хлопком и растительным маслом
1825 Второй месяц, восьмой день Сёгунат издает «Постановление об отпоре иностранным кораблям» Аидзава Сэйсисай завершает свой труд Синрон (Новые положения)
1833 Начало голода Тэнпо, который продолжался до 1838 г. и явился причиной массовых волнений в 1836 г.
1837 Второй месяц, девятнадцатый день Ёсио Хэйхачиро поднимает восстание в Осаке
1838 Десятый месяц, двадцать шестой день Накаяма Мики получает божественное откровение и начинает пастырскую деятельность, приведшую к возникновению секты Тэнри
1841 Пятый месяц, пятнадцатый день Сёгунат начинает осуществлять программу реформ Тэнпо
1842 Седьмой месяц, двадцать четвертый день Окончание Опиумной войны между Китаем и Великобританией, завершившейся подписанием мирного договора, предусматривавшего создание системы портов, открытых для внешней торговли
1844 Девятый месяц, двадцать второй день Сёгунат получает письмо от короля Голландии Вильгельма II, в котором предупреждалось о возможном возникновении проблем с внешним миром
1853 Шестой месяц, третий день (8 июля) Коммодор Мэттью К. Перри достигает входа в бухту Эдо и через шесть дней сходит на берег, чтобы передать японским властям письмо президента Филлмора
1854 Первый месяц, семнадцатый день (14 февраля) Перри возвращается в Японию Третий месяц, третий день (31 марта) Перри и представители сёгуната подписывают Договор о мире и дружбе между Соединенными Штатами и Японией
1858 Шестой месяц, девятнадцатый день (29 июля) Харрис и Ии Наосукэ подписывают американо-японский Договор о дружбе и торговле Седьмой месяц, пятый день Ии начинает политическую чистку, поместив под домашний арест Токугава Нариаки и некоторых даймё
1859 Десятый месяц, двадцать седьмой день Казнь Ёсида Сёин
1860 Второй месяц, двадцать шестой день Первое японское посольство отправляется в Соединенные Штаты Третий месяц, третий день Сиси убивают Ии Наосукэ
1862 Второй месяц, одиннадцатый день Принцесса Кадзу в замке Эдо выходит замуж за Измочи Восьмой месяц, двадцать первый день Самураи из домена Сацума убивают Ричардсона Добавочный Восьмой месяц, двадцать второй день Сёгунат ослабляет требования постоянного присутствия даймё в Эдо
1863 Второй месяц, двадцать пятый день Сиси в Киото оскверняют статуи сёгунов Асикага Третий месяц, четвертый день Процессия сёгуна Измочи вступает в Киото Пятый месяц Активисты в Моею обстреливают из береговых батарей корабли западных держав Седьмой месяц, второй — четвертый дни Британские корабли подвергают бомбардировке Кагосиму Восьмой месяц, девятнадцатый день Сиси изгоняются из Киото после раскрытия их заговора
1864 Седьмой месяц, одиннадцатый день Сиси убивают Сакума Содзана Седьмой месяц, девятнадцатый день Разгром войсками сёгуната мятежников сиси в битве у ворот Хамагури Седьмой месяц, двадцать третий день Чосю объявляется врагом императорского двора Восьмой месяц, пятый-шестой дни Корабли западных держав обстреливают береговые батареи в домене Чосю и высаживают десант на японское побережье Одиннадцатый месяц Сёгунат направляет против Чосю карательную экспедицию
1866 Первый месяц, двадцать первый день Сацума и Чосю заключают тайный союз Пятый месяц, двадцать девятый день Восстание горожан в Эдо, вызванное повышением цен на продукты питания Шестой месяц, седьмой день Сёгунат направляет в Чосю вторую карательную экспедицию Шестой месяц По стране прокатывается волна мятежей под лозунгом «обновления мира»
1867 Первый месяц, девятый день Принц Муцухито, несовершеннолетний сын Комеи, вступает на престол Седьмой месяц Около Нагойи возникает явление ээ я наи кА
1868 3 января (Двенадцатый месяц, девятый день предыдущего лунного года) Мятежники окружают дворец, и император объявляет о реставрации императорского правления Третий месяц, четырнадцатый день Новое правительство издает Хартию клятвенных обещаний Третий месяц, двадцать восьмой день Правительство издает указ об отделении синтоизма от буддизма Четвертый месяц Фукудзава Юкичи переименовывает свою школу Голландского учения в академию Кейо Четвертый месяц, второй день Эдо взят войсками сторонников императора Добавочный Четвертый месяц, двадцать первый день Правительство провозглашает Конституцию 1868 года Седьмой месяц, семнадцатый день Эдо переименовывают в Токио Девятый месяц, восьмой день Объявлено название нового правления — Мэйдзи
1869 Третий месяц, двадцать восьмой день Токио становится столицей Японии Пятый месяц, восемнадцатый день Капитуляция последних сторонников Токугава. Конец гражданской войны Босин Шестой месяц, семнадцатый день Император объявляет о том, что все даймё должны вернуть ему документы, дающее право на управление доменами и что отныне даймё будут именоваться «имперскими губернаторами» Шестой месяц, семнадцатый день Правительство отменяет традиционные сословия и разделяет японское общество на нобилитет, бывших самураев и простолюдинов Седьмой месяц, восьмой день Правительство создает Службу колонизации Хоккайдо
1870 24 января (Двенадцатый месяц, двадцать пятый день предыдущего лунного года) Открытие телеграфной линии между Токио и Иокогамой Добавочный десятый месяц, двадцатый день Создано Министерство общественных работ Фукудзава Юкичи завершает свой труд Сейёдзидзё («Обстановка на Западе»)
1871 Третий месяц, первый день Открыто почтовое сообщение между Токио и Осакой Пятый месяц, десятый день Постановление о новом денежном обращении вводит йену в качестве национальной денежной единицы Седьмой месяц, четырнадцатый день Правительство ликвидирует домены и создает префектуры Седьмой месяц, восемнадцатый день Правительство создает Министерство образования Восьмой месяц, двадцать восьмой день Правительство издает Прокламацию об эмансипации, согласно которой изгои приравнивались к обычным гражданам Одиннадцатый месяц, двенадцатый день Посольство Ива-кура отправляется в Соединенные Штаты Накамура Масанао публикует свой перевод книги Сэмюеля Смайлза Помоги себе сам
1872 Второй месяц, двадцать шестой день Пожар уничтожает район Гиндза, и правительство поручает британскому инженеру-архитектору построить квартал кирпичных домов европейского типа Восьмой месяц, третий день Правительство издает Основной кодекс образования, согласно которому территория страны разделялась на школьные округа и для всех детей вводится обязательное четырехлетнее образование Девятый месяц, тринадцатый день Пышная церемония сопровождает открытие железнодорожной линии, проложенной от вокзала Синбаси в Токио до Иокогамы Десятый месяц, четвертый день Шелкопрядильная фабрика Тамиока начинает выпуск продукции Одиннадцатый месяц, пятнадцатый день Издается указ о Национальном банке Япония переходит на григорианский календарь. Третий день Двенадцатого месяца становится 1 января 1873 г.
1873 10 января Издается Указ о воинской повинности 28 июля Правительство издает Закон о реформе системы налогообложения 1 августа Правительство открывает Первый национальный банк 13 сентября Посольство Ива-кура возвращается в Японию 24–25 октября Император Мэйдзи выступает против предложений завоевать Корею. Сайго Такамори и другие сторонники войны выходят из правительства 10 ноября Создается Министерство внутренних дел
1874 Январь Итагаки Тайсукэ создает Народную партию патриотов и издает меморандум Тоса, в котором содержалось требование немедленного созыва национального собрания I февраля Это Синпеи начинает мятеж Сага Февраль Основание Меирокуса 10 апреля Итагаки и его последователи основывают Общество самопомощи
1875 11 февраля Кидо и Окубо созывают Осакскую конференцию для обсуждения создания представительного правительства 22 февраля Члены Общества самопомощи Итагаки Таисукэ создают Общество патриотов 14 апреля Императорский рескрипт объявляет о создании Палаты Старейшин и обещает «постепенное» создание конституционного правительства 28июня Правительство издает Положение о прессе 1875 г. 29 ноября Ниидзима Дзё открывает двери своей новой школы Досиса
1876 28 марта Самураи лишаются права носить мечи 31 марта Банк Мицуи становится первым коммерческим банком в Японии 29 июля Создается торговая компания Мицуи 5 августа Правительство заявляет о своем намерении заменить выплаты самураям облигациями Фукудзава Юкичи завершает Гакумон но сусуме («Поощрение учения»)
1877 4 января Правительство объявляет о снижении налогов с 1 июля Февраль Начинается восстание в Сацума Март Фурукава Ичибеи приобретает медный рудник Асио 12 апреля Основан Токийский университет 18 августа В Токио открыта Первая национальная промышленная выставка 24 сентября Смерть Сайго Та-камори
1878 14 мая Убийство Окубо Тоси-мичи 1880 17 марта Общество патриотов реорганизуется в Лигу за создание Национального собрания Апрель Правительство издает Постановление о народном собрании
1881 7 апреля Правительство создает Министерство сельского хозяйства и торговли 1–2 октября Итагаки преобразовывает Лигу за создание Национального собрания в Либеральную партию 11 октября Руководители правительства приостанавливают продажу имущества Службы колонизации Хоккайдо и снимают Окума с должности 12 октября Императорский рескрипт объявляет о том, что Национальное собрание будет созвано в ближайшие десять лет 21 октября Мацуката Масаеси становится министром финансов и начинает проводить дефляционную политику 11 ноября Частные инвесторы создают железнодорожную компанию Ниппон
1882 4 января Император издает Императорский рескрипт к солдатам и матросам 14 марта Ито отправляется в Европу для консультаций по поводу конституции. Окума заявляет о желании создать партию Конституционной реформы 18 марта Фукучи Генъичиро и другие ведущие журналисты создают партию Конституционного имперского правления Змая Сибусава Эиичи создает Осакскую прядильную фабрику 28 ноября Более тысячи протестующих прошли маршем к полицейскому участку в связи с Фукусимским инцидентом
1884 7 июля Правительство издает Акт о нобилитете 23–24 сентября Полиция подавляет восстание на горе Киба 29 октября Либеральная партия объявляет о самороспуске 31 октября — 10 ноября Крестьяне громят дома ростовщиков и штурмуют правительственные учреждения во время инцидента Чичибу
1885 Июль Выходит первый номер Дзогаку дзасси («Журнал женского обучения») 29 сентября «Мицубиси» поглощает конкурирующие корабельные фирмы и создает НЮК 22 декабря Ликвидация Дадзокана и введение кабинетной системы
1887 26 декабря Правительство издает Закон о сохранении мира, и двумя днями позже начальник токийской полиции изгоняет из столицы более пятисот человек, которые считаются политическими активистами
1888 30 апреля Создается Тайный совет, первым председателем которого становится Ито
1889 11 февраля Император провозглашает Конституцию Японской империи 1 июля Завершено строительство магистрали Токайдо, обеспечившей железнодорожное сообщение между Токио и Кобэ
1890 30 октября Император издает Императорский рескрипт об образовании 26 декабря В Токио и Иокогаме создаются телефонные службы К этому году медный рудник Асио становится крупнейшим подобным предприятием в Азии, и его отходы загрязняют долину реки Ватарасэ
1896 12–16 июня Работницы шелкопрядильной фабрики в Ко-фу проводят первую в Японии забастовку
1897 Май Правительство создает на руднике Асио службу контроля загрязнения окружающей среды
1898 16 июля Гражданский кодекс Мэйдзи становится законом
1899 Август Кикучи Юхо начал публиковать Оно га цуми («Мой грех»)
1903 13 апреля Министерство образования обязало все начальные школы использовать тексты, составляемые и распространяемые министерством
ГЛАВА 4 Реставрация Мэйдзи
Утром третьего дня Третьего месяца 1860 г. паланкин, в котором находился Ии Наосукэ, определявший в то время политику сёгуната, появился из ворот своего дома. Путь ему предстоял недалекий — к замку Эдо, где располагался служебный кабинет Ии. Когда он со своей свитой достиг ворот Поля Вишневых Деревьев — главного входа в цитадель, — из пелены снега перед ним выросла группа молодых самураев. Семнадцать из них были из провинции Мито, один — из Сацума. Выглядели они совершенно мирно, и ничто не указывало на враждебные намерения. Но, поравнявшись с паланкином, они внезапно выхватили мечи и набросились на свиту Ии. Воспользовавшись тем преимуществом, которое дала им неожиданность нападения, они пробились к паланкину и распахнули дверцу. Выстрелив в Ии и ударив мечом, они швырнули его на землю и отсекли ему голову. Убийцы были убеждены, что политика Ии и его непосредственных предшественников явилась причиной ряда проблем, возникших как во внутренних делах страны, так и во внешних отношениях. Наию гаикан («беды внутри и снаружи») — это древнее восточноазиатское выражение означало времена хаоса, когда течение истории было бурным, будто проходило пороги. Упадок самурайского боевого духа, заносчивость торговцев, живущих «не по статусу и не по средствам», голод, бунты и мятежи в городе и деревне, брожение идей и мистические вероучения, провалившиеся реформы — в первой половине XIX в. внутренние проблемы, казалось бы, охватили все стороны японской жизни. Что касается «бед снаружи», то они проявились в полной мере в 1853 г., когда коммодор Метью К. Перри вошел в бухту Эдо и потребовал от японского правительства открыть свою страну западному миру. Ии, с одной стороны, считал, что торговля с Западом могла бы оказаться выгодной. С другой стороны, он был уверен, что Япония не имеет достаточно сил, чтобы противостоять ультиматуму Перри. Поэтому он пошел на нарушение прежних традиций. В 1858 г. он подписал договоры об установлении дипломатических и торговых отношений с Соединенными Штатами и рядом стран Западной Европы. Для молодых самураев из Мито и Сацума Ии был трусом и предателем, малодушно поддавшимся внешнему давлению. Появление «чужеземных варваров» на земле Японии, на их взгляд, предвещало закат традиционной японской культуры. Жесткое подавление оппонентов со стороны Ии (он поместил под домашний арест их лидера — бывшего правителя провинции Мито) заставило их обратиться к такому крайнему методу политической борьбы, как убийство. Как они и сами, видимо, предполагали, почти все участники нападения на Ии нашли свою смерть. Некоторые из них погибли от полученных ран, других схватили и казнили позже. Их поступок, однако, явился поворотным пунктом в японской истории. В годы, последовавшие за убийством Ии, другие молодые самураи, «люди высоких намерений» (как они сами себя называли), начали совершать подобные акты насилия по отношению к иностранцам и тем чиновникам сёгуната, которые терпимо относились к присутствию чужеземцев. По мере того как в стране накалялась обстановка, сёгунат все более терял уверенность в себе и способность отстаивать свои интересы. Количество его оппонентов росло как снежный ком, равно как и недовольство сёгунатом, пока наконец они не решили свергнуть режим, правивший страной почти два с половиной столетия.Беды в экономике, раскол в обществе
В начале XIX в. многие самурайские семьи в Канадзаве (относительно процветающем городе-замке, являвшемся резиденцией Маэда — владельцев провинции Kara) занялись вырубкой кустарников в своих садах. На освободившихся землях они сажали сливовые, яблочные и абрикосовые деревья, чтобы продавать урожай на городских рынках. Другие представители воинского сословия повышали свое благосостояние путем организации домашних ремесленных мастерских. В них производились соломенные сандалии, зонтики, декоративные ленты для волос, масляные лампы, а также разнообразные предметы, использовавшиеся при праздновании Нового года: глиняные куклы, бумажные тигры и неваляшки. Воинские роды Канадзавы обратились к коммерческой деятельности по той причине, что их уровень жизни, на их взгляд, начал падать. К подобному решению экономических проблем прибегали не только канадзавские самураи. В большинстве японских городов-замков все больше самурайских семей (в некоторых провинциях их количество достигало 70 и более процентов от общего числа местных самураев) посвящали все свое время либо часть его работе в торговых лавках или ремесленных мастерских. Все чаще некогда горделивые воины закладывали свои мечи и доспехи, посылали своих дочерей работать в качестве домашней прислуги или даже убивали своих детей, чтобы хоть как-то остановить неуклонное соскальзывание к нищете. До некоторой степени обнищание самураев имело психологические причины. Даймё и сёгун установили фиксированную плату своим вассалам еще в начале XVII в. С тех пор она почти не повышалась. Поскольку оплата обычно производилась рисом, то тот доход, который самураи получали от его продажи, несколько повышался на протяжении XVII и XVIII вв. Это происходило благодаря некоторому росту цен на зерно. Но эта прибыль, если верить современным расчетам, не могла обеспечить средней самурайской семье уровень жизни, сравнимый с уровнем жизни торговцев и ремесленников, доходы которых росли значительно быстрее. Более того, торговая революция эпохи Токугава сделала доступными разнообразные новые потребительские товары. Однако наиболее желанными из них были как раз те, стоимость которых значительно превышала возможности самурайского кармана. Это порождало мнение, что самурайские семьи не могут более поддерживать тот уровень жизни, который бы соответствовал их высокому статусу. У многих воинов недовольство выливалось в ненависть к зажиточным торговцам и крестьянам. «Среди владельцев городских домов, — писал один высокопоставленный самурай из Канадзавы, — есть много таких, кто не обращает более внимания на сословные правила. Они тратят много денег и не имеют понятия об уважении к воинам». Эти «дерзкие» торговцы, продолжает он, одеваются в яркие одежды, «претендуют на дома семей более высокого социального положения» и позволяют себе устраивать «дорогостоящие свадебные пиршества, не соответствующие им ни по статусу, ни по средствам»{63}. Обиды и ревность самураев усугубились и тем, что в начале XIX в. их собственные доходы упали. Это произошло потому, что сёгун и даймё урезали плату самураям. В Канадзаве даймё Мазда дважды проводил сокращение выплат: в 1820-х гг. — на 10 %, а в 1830-х — на 50 %. Даймё в других провинциях также потребовали от своих вассалов потуже затянуть пояса, поскольку они, как и Мазда, пытались справиться с все возрастающим дефицитом бюджета. К первым десятилетиям XIX столетия большинство даймё тратили три четверти (или даже более) от своего годового дохода на выполнение своих обязанностей в соответствии с системой периодического присутствия. В то же время они столкнулись с увеличением стоимости социальных услуг — таких как свадьбы и похороны. Сёгунат также требовал у них средств на поддержание дорог, мостов, на обновление городов после частых пожаров. Поэтому неудивительно, что бюджеты большинства провинций оказались на опасно низком уровне. Располагая крайне ограниченными возможностями для их пополнения, многие даймё просто урезали выплаты своим вассалам. Самураи были не в восторге от подобного обращения. В Канадзаве один из чиновников высказывал сожаление по поводу того, что «в последние годы практика урезания выплат привела к значительному ухудшению положения вассалов, особенно низших рангов. Многие отказываются вести себя подобающим образом и не признают местных законов»{64}. Эти горестные мысли разделяет и один из высших чиновников провинции Хосю: «Уже на протяжении нескольких лет самураи испытывают крайнюю нужду. Мысли «купить то, продать это» или «отдать в залог это, чтобы заплатить за то» становятся содержанием их жизни. Даже те, кто продолжает исполнять свои обязанности, опустились и ведут себя неподобающим образом. Утром и вечером они едят лишь рисовую кашу. И так — изо дня в день. Их жизнь становится распутной, их душевное состояние и манеры — позорными и недостойными. Они превратились в лгунов и мошенников»{65}. Жесткость политической системы только усиливала недовольство, царившее в нижних слоях самурайского сословия. Уже никто не верил искренне в то, что личные заслуги являются самым важным фактором при назначении на должность. В реальности дело обстояло иначе. Какую должность получит (если вообще получит) тот или иной самурай, определял социальный ранг его семьи внутри воинского сословия. В итоге к XIX столетию все более или менее значимые посты были заняты самураями, имевшими высокое происхождение. Во многих провинциях семьи, принадлежавшие к элите самурайского сословия, на протяжении нескольких поколений монополизировали право на занятие ключевых должностей. Разница между идеалом и действительностью сильно раздражала молодых, амбициозных самураев невысокого происхождения. В школах эти отпрыски бедных семей зачастую сидели рядом со своими более удачливыми сверстниками. При этом они прекрасно понимали, что именно рождение позволяет тупому, как мул, быть спесивым, как павлин. Некоторые самураи отвечали презрительным отношением к тем, кто мог кичиться своим происхождением, но при этом не отличался ни умом, ни силой. Про таких в те времена говорили, что они «неспособны быть даже судьей на соревнованиях лучников». Другие отчаивались добиться хорошего назначения и пытались самостоятельно найти выход из экономических проблем, постигших их семьи. Они стремились попасть в число «людей, обладавших талантом». Это былаключевая фраза, обозначавшая интеллектуально развитых и политически сознательных молодых людей, не согласных со своим социальным положением внутри военного сословия. В начале XIX в. неуважение к прежним авторитетам проявлялось и среди простых крестьян и горожан. Особенно заметным это стало после ряда неурожайных лет. Вызванный ими голод продлился с 1833 по 1838 г. В истории он остался как «голод Тэнпо» — по названию календарной эры, шедшей в то время. Сейчас уже невозможно с точностью сказать, сколько людей умерло в те годы от голода и болезней, но чиновники из Северной Японии докладывали, что только в 1836 г. у них умерло 100 000 человек. По их словам, с опустевшими деревнями, неубранными трупами и даже со случаями людоедства можно столкнуться в любом уголке региона. «Трупы сбрасывались в колодцы, и сообщали о женщине, которая съела своих детей, — писал в своем дневнике один из современников. — Повсюду царили голод и смерть. Некоторые предпочитали забить своих детей камнями, чтобы не подвергать их мучительной смерти от голода. Грабежи, взломы домов и воровство превратились в норму жизни. Самураи, оставшиеся без господина, нападали на стариков и детей. В мире не стало порядка»{66}. Отдельные проявления спонтанной жестокости по отношению к слабым были частью порожденного голодом хаоса. Однако случаи протеста указывали на достаточно высокий уровень политической сознательности у людей, занимавшихся поисками выхода из кризиса. Простые люди в своих бедах обвиняли не только природные катаклизмы. Они организовывали движения протеста, требуя от властей проведения мероприятий, которые могли бы уменьшить страдания. В частности, крестьяне упрашивали чиновников временно отказаться от взимания налогов рисом, открыть принадлежащие даймё зернохранилища и запретить отправку зерна в города. Страдающие от голода горожане, в свою очередь, ожидали от сёгуната или от местного даймё раздач зерна с правительственных складов, прекращения манипуляций с ценами. Они также требовали принудить торговцев рисом продавать «по разумной цене» все то зерно, которое они припрятали в ожидании роста цен по мере углубления кризиса. Если чиновники не спешили с ответом, то демонстранты могли разграбить господские хранилища риса, чтобы продавать его на улицах всем желающим по ценам, которые они сами считали честными и справедливыми. Более того, к началу XIX в. люди, исходя из своего предыдущего опыта, поняли, что организованная коллективная акция оказывает значительно более сильное воздействие на чиновников. Открытое неповиновение заставило правительство осуществлять действенные мероприятия во время предыдущих кризисов. А в 1830-х гг. в городах и деревнях Японии было отмечено около четырех сотен бунтов и мятежей, что превышает количество выступлений, произошедших за все XVII столетие. Вдобавок эффект от акций протестов усиливался беспрецедентным уровнем их организованности. В 1836 г. 10 000 демонстрантов приняли участие в беспорядках в провинции Микава. К северу от горы Фудзи 30 000 голодных людей выражали властям свой гневный протест. Наиболее существенную акцию неповиновения, произошедшую в 1830-х гг., возглавил Ёсио Хэихачиро — самураи и бывший правительственный чиновник. Он убедил крестьян, проживавших в окрестностях Осаки, разграбить этот город. Бунт Ёсио был отражением требования народной справедливости. «Сначала мы должны покарать чиновников, которые столь жестоко издевались над народом, — написал он в манифесте, изданном в 1837 г., — затем мы должны казнить надменных и богатых осакских купцов. После этого мы разделим золото, серебро и медь из их подвалов и мешки с рисом, спрятанные в их хранилищах»{67}. В девятнадцатый день Второго месяца 1837 г. Ёсио совершил нападение на правительственные учреждения и поджег некоторые районы города, надеясь таким образом вызвать масштабный крестьянский бунт. После двухдневного сражения властям удалось рассеять нападавших. Ёсио покончил с собой, а беднякам Осаки осталось только оплакивать потерю более чем 3000 их домов и почти 5000 коку риса, исчезнувших в пламени раздутого им пожара. В первые десятилетия XIX в. происходили и другие выступления, многие из которых были связаны с процессами протоиндустриализации. Во многих регионах крестьяне, разбогатевшие благодаря предпринимательству, выступали против представителей деревенской верхушки, в семьях которых руководящие должности передавались по наследству из поколения в поколение. Иногда, как это произошло, например, в Хосю в 30-х гг. XIX столетия, несогласные даже проводили демонстрации, требуя от чиновников запрещения передачи должностей по наследству и введения новых правил, которые могли бы обеспечить возможность и другим подняться по социальной лестнице. Другие коллективные акции объединяли жителей многих населенных пунктов. В 1823 г. крестьяне и торговцы из 1007 деревень, расположенных вокруг Осаки, занимавшиеся производством хлопка и растительного масла, использовали все возможные методы легального протеста, чтобы изменить давнюю политику правительства, согласно которой оптовую и розничную продажу этих товаров могла осуществлять только определенная группа осакских купцов. Такие монополии, утверждали производители, противоречили законам морали, поскольку политика контроля над рынком отстаивала интересы привилегированного меньшинства, подвергая опасности благополучное существование большинства. «Торговля, — заявляли они, — не должна иметь ограничений»{68}. Как и в других местах, голос протеста достиг ушей чиновников, осознавших свою уязвимость. В Осаке была разрешена свободная торговля.Новые искания, новые религии…
На рубеже XVIII–XIX вв. атмосфера Японии была буквально наполнена новыми интеллектуальными и религиозными исканиями. В некоторых случаях мыслители, связанные с Кокугаку, или школой Национальной учености, в своих поисках характерных черт японской культуры обращались к ранним японским текстам. На основе их исследований в рамках школы возникло представление о далеком прошлом как о золотом веке в истории нации. На древность стали смотреть как на источник моральных уроков и ценностей, которые могли бы решить проблемы современного общества. На середину XVIII в. приходится деятельность одного из наиболее выдающихся представителей школы Национальной учености — Камо-но Мабучи. Свое внимание он сконцентрировал на Манъёсю — антологии японской поэзии, составленной приблизительно за тысячу лет до этого. Мабучи благоговел перед этими стихами, поскольку считал, что именно в них заключена квинтэссенция «изначальной» японской души, которая впоследствии была замутнена и даже искажена «искусственностью» таких чужеземных доктрин, как буддизм и неоконфуцианство. Согласно Мабучи, в Манъёсю перечисляются те добродетели, которые отличают японцев от остальных народов. Это — «искренность (макото), прямота, жизненная энергия, мужественность и душевная тонкость»{69}. Мотоори Норинага, преемник Мабучи в качестве лидера движения Кокугаку, пошел еще дальше своего учителя. Он не ограничился констатацией того факта, что японцы обладали достоинствами, отличавшими их от других народов. Он заявлял, что эти достоинства по сути своей были выше тех, которые ценились представителями остальных наций. Норинага десятилетиями занимался изучением «Повести о блистательном принце Гэндзи и Кодзики». Из своих исследований он вынес представление о том, что древние японцы жили счастливо под управлением Небесных Владык. Более того, эти Владыки вдохновлялись богиней Солнца Аматэрасу и другими синтоистскими божествами. Эту мысль Норинага приводит в Кодзики дэн («Комментарий к Кодзики») — главном труде своей жизни. Эту книгу, состоявшую из 44 томов, он закончил в 1798 г. Согласно Норинага, связь с богами являлась ключом к пониманию неподражаемой природы японского общества. «Эта грандиозная страна нашего Небесного Владыки является домом величественного и внушающего трепет божественного предка — великой богини Аматэрасу, — пишет он в одном месте, — и это является главной причиной того, почему наша страна превосходит все остальные». И наоборот, отмечал он, «другие земли не являются домом великой богини Аматэрасу, поэтому они и не установили принципов управления. Людские сердца в них наполнены злом, и нрав у них отличается буйством». Последователи школы Голландского учения, или Рангаку, направляли свои пытливые взоры за пределы страны. В 1720 г. сёгунат отменил прежние запреты на ввоз западных книг, за исключением христианской религиозной литературы. Японское правительство надеялось, что западные научные и технические инновации помогут развитию местного сельского хозяйства и товарного производства. После этого в Японию начали поступать китайские переводы западных книг, а также относительно небольшое количество голландских изданий наиболее важных работ по математике, астрономии и ботанике. У японских врачей наибольший интерес вызывали книги, посвященные анатомии и фармакологии. И это неудивительно, учитывая состояние японской медицины. Правительство запрещало вскрывать человеческие тела, а знания о воздействии традиционных лекарственных средств растительного происхождения на тот или иной орган человеческого тела не отличались определенностью. Но большинство врачей были воспитаны в конфуцианских традициях, и их поиск новой информации соответствовал конфуцианскому идеалу, требующему использования знаний для оказания помощи тем, кто страдает от разрушительного воздействия этого мира. Как писал один из интеллектуалов, «работа врача состоит лишь в том, чтобы помочь другим человеческим существам, а не для собственного продвижения. Не стремясь к праздности и не думая о славе, он должен просто забыть о себе и посвятить свою жизнь спасению других»{70}. Уважение к западной медицине особенно возросло после 1771 г., когда Сугита Генпаку вместе с группой заинтересованных врачей-ученых произвел нелегальное вскрытие тела преступницы, казненной в Эдо. Кружок Сугита провел сравнение увиденного со схемами и анатомическими рисунками, которые содержались в голландском переводе труда Tabulae anatomicae: in quibus corporis humani…, написанного немецким врачом Иоганном Адамом Кульмом в 1722 г. Оказавшись под сильным впечатлением от точности иностранного текста, Сугита и его коллеги решили перевести голландскую версию этой классической работы на японский язык. К несчастью, они не знали голландского, и в то время не существовало словарей или пособий для начинающих, которые могли бы им помочь. Вооруженные лишь наставлением, в котором излагались основные принципы перевода с китайского на японский, члены кружка Сугита кропотливо, слово за словом и предложение за предложением, дешифровали голландский текст. «Иногда мы таращились друг на друга с утра до вечера, не будучи в состоянии перевести единственную строку, — вспоминал позднее Сугита, — а однажды мы провели долгий весенний день, ломая головы над такой простой фразой как «бровь — это волосы, растущие над глазом»{71}. После года работы, продолжал он, «наш словарный запас постепенно возрос», и в 1774 г. Сугита и его коллеги завершили свой труд Каитаи синсо («Новый текст по человеческой анатомии»). Это был один из величайших триумфов в интеллектуальной истории Японии. В дополнение к пробуждению интереса к западной медицинской науке, появление Каитаи синсо стимулировало и подготовку голландско-японских словарей и других пособий для переводчиков. В результате японские ученые начали более широко знакомиться с западными искусствами и науками, особенно после того, как в 1811 г. сёгунат открыл переводческую контору, а некоторые даймё создали академии Голландского учения. Были основаны хранилища научных переводов трудов западных ученых по географии, картографии, медицине, химии, естествознанию и военному искусству. В своих мемуарах, написанных в 1815 г., Сугита высказывал удовлетворение по поводу того, что каждый год появляются новые переводы и что интерес к достижениям Запада растет, подобно «капле масла, которая, попав в обширный пруд, распространяется почти на всю его поверхность». Представители школ Национальной учености и Голландского учения не предполагали, что их работа может быть разрушительной в политическом или социальном аспекте. Сугита и другие, кто изучал секреты западной медицины, не отвергали свое собственное общество. Наоборот, они считали себя последователями традиционной этики, согласно которой следует всемерно углублять свои знания, чтобы способствовать процветанию своих соотечественников. Даже Ямагата Банто, чей анализ человеческого сообщества Юмэ но сиро основывался на понимании автором теории Коперника в астрономии, подтверждал законность власти, признававшей за торговцами наличие добродетелей. Подобным образом рассуждал и Норинага, хотя он рассматривал скорее императора, а не сёгуна в качестве воплощения добродетельного правления. Он был ученым, поглощенным академическими исследованиями происхождения японской культуры. Тем не менее к середине XIX в. интеллектуальные поиски ученых двух школ должны были привести к появлению нового поколения японцев. И у этого поколения неизбежно должны были возникнуть следующие вопросы: какова роль сёгуната в стране, в которой столько «проблем», и сможет ли непосредственное правление Небесного Владыки предложить альтернативный путь политического развития. Кроме того, представители нового поколения должны были тщательно изучить все возможные опасности, равно как и выгоды, которые могли быть порождены тесным контактом с чужими культурами. Однако более реальную угрозу существующему политическому и социальному порядку представляли религиозные движения, история которых насчитывала тысячу лет. Куродзуми Мунэтада, синтоистский священник из провинции Бидзэн, был создателем одной из самых ранних из так называемых «новых религий». Это произошло после того, как он пережил «божественное соединение» с богиней Аматэрасу Омиками во время наблюдения восходящего солнца в день зимнего солнцестояния 1814 г. Вскоре Куродзуми излечился от туберкулеза, который свел в могилу его родителей. Считая, что он получил благословение, он начал пастырскую деятельность, призванную облегчить участь больных и угнетенных людей. Центральным догматом новой секты, созданной Куродзуми, была вера в богиню Солнца. Она, будучи богом-творцом, могла гарантировать вечное блаженство или освободить людей от бед здесь и сейчас. Поклонение Аматэрасу, согласно Куродзуми, могло высвободить добродетельность, заключавшуюся в каждом человеке, обеспечить мир и процветание государству и спасти верующих от болезней, увеличить срок жизни, дать детей, обильные урожаи и успех в торговле и других делах. Секта Тэнри также обещала создание нового морального порядка, который освободит людей от временных проблем, вызванных некомпетентностью чиновников, несправедливостью властей и безжалостной политической экономикой. Создателем этой секты была Накаяма Мики. В тринадцатилетнем возрасте она вышла замуж за крестьянина, который ею помыкал и всячески унижал ее. В 1838 г. она, впав в транс, получила откровение от божества Тэнри О но Микото, который определил себя как «истинный и изначальный бог, спустившийся с неба, чтобы спасти человечество»{72}. Придя в себя, Накаяма ушла из семьи и начала поклоняться «божественной мудрости» (тэнри) этого божества. Вера, как говорила она, должна очистить людей от «восьми загрязнений», которые порождают эгоистичное поведение. Вместо них должна появиться новая этика самоотверженности и взаимопомощи. Подобно другим новым религиям, учения сект Куродзуми и Тэнри помещали в центр внимания экономический и социальный разлад первой половины XIX столетия. Своих приверженцев они находили в тех местностях, где голод и экономические неурядицы, связываемые с протоиндустриализацией, проявлялись с наибольшей силой. Вера, по их мнению, предлагает простые способы избежать смерти и земных невзгод. Поскольку, по словам основателя новой религии, «божество и человек суть одно и то же», вера позволяет людям вести себя так, будто они сами являются богами на земле{73}. В конце концов, общины верующих были убеждены: приверженцы новых религий победят социальные трудности текущего времени и «обновят мир». В итоге будет создан рай на земле, в котором не будет ни боли, ни страдания, ни страха.Крах реформы, крах надежд
Власти вовсе не были сторонними наблюдателями тех катаклизмов, которые потрясали социальную и экономическую сферы. В 30-е и 40-е гг. XIX в. сёгунат и ряд даймё выступили с программами реформ. К 1841 г. ведущую роль в определении политики страны стал играть Мидзуно Тадакуни. Он выступил с рядом предложений, которые основывались на традиционных рецептах морального перевооружения, бережливости и сельского фундаментализма. Действуя стремительно, он подверг наказанию подозреваемых в злоупотреблениях чиновников, упорядочил траты правительства, потребовал от самураев более строгой дисциплины, высказался по поводу привычной темы расходов, приказал торговцам понизить цены и запретил некоторые купеческие объединения, монополистские действия которых, как полагали, вызывали рост инфляции. В сельских районах Мидзуно выступает против коммерциализации сельского хозяйства и создания домашних производств. Крестьяне, по его мнению, должны были заниматься исключительно выращиванием урожая. Чтобы увеличить доходы сёгуната, он вытягивал деньги из торговцев, планировал ввести новые налоги на сельское хозяйство и предлагал новую схему землепользования, согласно которой земли вокруг Эдо и Осаки, которые в текущий момент находились во владении даймё или сёгунских самураев «под знаменем», переходили в распоряжение сёгуната. В многочисленных доменах с 1830 по 1840 г., в период Тэнпо, также осуществлялись реформы. Эти попытки были по своему характеру весьма разнообразными. Некоторые вслед за Мидзуно делали упор на экономию средств и возвращение к моральной чистоте. Другие были ориентированы на создание под патронажем даймё новых предприятий и введение монополий на те товары, которые можно было продать на рынках Эдо и Осаки, чтобы, благодаря полученным средствам, ликвидировать достигший огромных размеров дефицит бюджета. И некоторые домены добились успеха, хоть и скромного. В Чосю, где реформы начались в 1838 г., властям удавалось сбалансировать местный бюджет за несколько лет. Это было достигнуто путем уменьшения чиновничьих расходов, списания долгов даймё местным торговцам и передачи монопольных прав торговли такими товарами, как соль, сакэ и хлопок, заново созданным организациям торговцев. Домен Сацума избрал совершенно иную тактику, однако его успехи были даже более значительными, чем у Чосю. В нем власти не только сбалансировали бюджет, но и смогли создать резервы. Чиновники Сацума разрешили кризис задолженностей одним решительным ударом. Они объявили, что выплаты торговцам по просроченным долговым обязательствам будут осуществляться в течение 250 лет при 0,5 % годовых. Чиновники также оказывали поддержку местному производству сахара и обязали крестьян продавать часть урожая властям домена, чтобы впоследствии сбыть эти продукты на рынках японских урбанистических центров. В противоположность Чосю и Сацума большинство реформ в других доменах завершились провалом. Одной из причин этого явилось то, что даймё, осуществлявшие реформы, боролись со следствием, а не с причиной. Слишком многие из них прибегли к традиционным мерам — регулированию расходов, урезанию выплат самураям и отказу от возвращения долгов. Все это могло, в лучшем случае, лишь временно помочь в решении налогового кризиса доменов. Более того, тем реформаторам, которые грубо вмешивались в политическую экономию и создавали новые монополии, обычно не хватало опыта и знаний. Как следствие, их новаторские эксперименты довольно часто заканчивались хаосом, дефицитом, взлетом цен, короче говоря, всем тем, чего они как раз стремились избежать. На национальном уровне попытки Мидзуно были не более успешны. Его действия не остановили инфляции и роста дефицита бюджета, не обеспечили процветания экономике. Его план по конфискации земель даймё вокруг Эдо и Осаки вызвал беспорядки, приведшие к отставке Мидзуно с должности осенью 1843 г. Реформы эры Тэнпо имели два долгосрочных следствия. Многие даймё утратили веру в сёгунат, который с настойчивостью, достойной лучшего применения, пытался навязать свою волю правителям доменов, угрожая конфискацией их владений. В народном сознании глубоко укоренилось ощущение «краха надежд». Это свидетельствовало о начале утраты простыми людьми доверия к правительству. Горожане и крестьяне уже не считали сёгунат или даймё способными найти выход из катастрофической ситуации, сложившейся в социальной и экономической сферах жизни. Со временем эти «беды изнутри» усугубились «бедами снаружи», породив, с одной стороны, отчаяние, а с другой — поиски более радикальных путей решения тех проблем, которые навалились на страну в XIX в.Беды снаружи
С севера пришли русские. На протяжении XVIII столетия российские исследователи и правительственные чиновники двигались на восток, заполучив богатства Сибири, высадившись на островах Курильской гряды и осваивая североамериканское побережье в поисках мехов, торговли и приключений. По мере расширения российского присутствия на тихоокеанском побережье, чиновники в Санкт-Петербурге решили создать Российско-Американскую компанию, что и было сделано в 1799 г. В ее функции входило как управление этими территориями, так и эксплуатация ресурсов региона. К этому времени в умах многих россиян засела мысль, что открытие торговли с Японией должно принести огромную выгоду. В связи с этим Екатерина Великая поручила лейтенанту Адаму Лаксману возглавить морскую экспедицию и попытаться установить официальные торговые отношения с этой страной. В Шестом месяце 1792 г. Лаксман вошел в бухту Немуро. Однако Мацудайра Саданобу, главный советник и регент при сёгуне, до осени 1793 г. не давал никакого ответа. В письме, наконец полученном российскими моряками, Мацудайра писал, что обычной японской практикой является уничтожение или захват судов, прибывших из тех стран, с которыми у Японии нет дружественных отношений, а экипажи кораблей должны отправиться в тюрьму. Однако, поскольку Лаксман «не знал японских законов», продолжал Мацудайра, он принял решение разрешить русским вернуться домой. Вероятно, чтобы смягчить жесткость своего ответа и избежать излишней конфронтации, главный советник пошел на еще одну уступку. Он заявил, что один российский корабль сможет через некоторое время зайти в гавань Нагасаки. Таким образом он дал понять, что установление торговых отношений вполне возможно. Россия, озабоченная революционными событиями, происходящими во Франции, на некоторое время забыла об этой возможности. Вспомнила она о ней лишь осенью 1804 г., когда Николай Петрович Резанов, директор-распорядитель Российско-Американской компании, прибыл в Нагасаки для формального открытия торговли. Шесть месяцев ожидал он, находясь либо на корабле, либо в крохотной резиденции на берегу, ответа японских властей. Наконец ему было сообщено, что единственными чужеземцами, которым позволено ступать на землю Японии, являются китайские и голландские купцы, а также посланники Кореи и островов Рюкю. «Это древний закон, призванный защищать границы нашей страны, — говорилось в послании. — Как может наше правительство изменить древний закон ради вашей страны?»{74} Письмо резко обрывалось фразой: «Вам следует немедленно плыть домой». Резанов, возмущенный до крайности, отправился на север, к ближайшему российскому поселению. Однако затем он резко изменил курс и в конце 1806 — начале 1807 гг. совершил несколько нападений на японские поселения на Сахалине и Южных Курилах. На дымящихся развалинах одной из рыбацких деревушек русские оставили медную табличку с надписью следующего содержания: «Если японцы и далее будут сопротивляться справедливому требованию начала торговли, то русские опустошат север Японии». Красноволосые угрожали тем же, только на юге. После заключения союза между Голландией и наполеоновской Францией Британия начала охоту за голландскими судами. В 1808 г. британский фрегат «Фаэтон» ворвался в гавань Нагасаки в поисках голландских торговцев. В гавани голландских кораблей не оказалось. Тогда матросы «Фаэтона» насильно затащили на свой фрегат голландских чиновников. В ответ на приказ сёгунатского начальника городской администрации немедленно покинуть воды Японии девятнадцатилетний капитан британского корабля нагло потребовал воды, провизии и корабельных снастей. Понимая, что маньяку-англичанину хватит ума повернуть все свои пятьдесят пушек против японских и китайских судов, стоявших в гавани, японский чиновник обеспечил «Фаэтон» всем необходимым, а затем совершил самоубийство, поскольку он не смог защитить Нагасаки от чужеземцев. Та легкость, с которой «Фаэтон» прошел сквозь оборонительные сооружения порта, показалась чиновникам из Эдо унизительной. И еще более напугали их слухи о том, что англичане могут надавить на Японию с целью добиться разрешения на торговлю. Благодаря информации, полученной от голландцев, сёгунат был полностью в курсе насчет того, как Британия взяла под свой контроль большую часть северной Индии. Опиум, выращиваемый там, англичане сбывали в китайском Кантоне, а на вырученные деньги приобретали чай, шелка и фарфор. Торговля через Кантон развивалась стремительными темпами, и с 1800 по 1832 г. объем продажи опиума англичанами увеличился в пять раз. Многие торговцы при этом разделяли экспансионистские устремления британского Министерства иностранных дел, которое в 1834 г. громко высказало мысль: «А что, если установление торговых связей с Японией вовсе не невозможно?»{75}. С 1839 по 1842 г. Британия воевала с Китаем. Это была так называемая Опиумная война, вызванная попыткой китайских властей пресечь распространение наркотиков. Победа Британии в этой войне явилась дополнительным поводом для волнения японских чиновников относительно намерений красноволосых. Договор, подведший черту под конфликтом, предусматривал передачу Британии Гонконга, а также установление системы открытых портов. По его условиям, пять китайских портов объявлялись открытыми городами, в которых британские подданные могли селиться, торговать и пользоваться правом экстерриториальности, то есть вести себя в соответствии с британскими законами и отвечать перед английским консульским судом, а не перед китайскими судьями. Вскоре подобные договора заключили с Китаем и другие державы. Причем в каждом из них содержался пункт, согласно которому любая уступка, сделанная Китаем одной из этих держав, автоматически распространялась и на другие державы. Голландские сообщения о результатах Опиумной войны содержали печальные новости для Эдо. Индустриальный прогресс на Западе породил ненасытную страсть к наживе с помощью торговли. И теперь установление Британией или другой могущественной державой системы открытых портов по всей Восточной Азии при помощи дипломатии канонерок было лишь вопросом времени. Проникновение западных стран в Азию побудило многих японских интеллектуалов обратиться к сёгунату с настоятельными советами держать чужестранцев на расстоянии вытянутой руки. Наиболее содержательные и убедительные аргументы приводил Аидзава Сэйсисай. Родившись в домене Мито, со временем он стал одним из лидеров так называемой школы Мито. Она представляла собой группу ученых, которые в первые десятилетия XIX в. исследовали философское и религиозное пространство Японии в поисках путей решения внутренних и внешних кризисов. В серии политических трактатов, написанных в 20-е гг., Аидзава обрисовал внешнюю угрозу с помощью культурных и религиозных категорий. По его мнению, сила Запада вытекает из духовного источника. Он рассматривал христианство как государственную религию, которой манипулировали умные западные лидеры для достижения лояльности со стороны своих собственных народов, и со стороны тех, кого они собирались колонизировать. Аидзава считал, что европейские силы «ныне стремятся атаковать все нации в мире. Нечестивая вера в Иисуса способствует этим устремлениям. Под предлогом торговли или еще чего-либо они втираются в доверие к местным жителям, разведывая потихоньку, какие из этих стран могут оказать мощное сопротивление, а какие — нет. Если крепость обороны недостаточна, они разрушают ее силой. Но если они не могут найти слабых мест, то они подчиняют эту страну, отравляя умы людей нечестивой религией [христианством]{76}. Япония уязвима, продолжал Аидзава, по причине своего долгого культурного упадка. Проживая в городах, самураи стали мягкотелыми, купцы стремятся лишь к роскоши. Рост торговли породил несправедливость внутри социальных слоев. Власти страны и отдельных доменов ведут себя безответственно. Люди потеряли свои моральные качества, развращаемые на протяжении столетий такими дурными явлениями, как «буддизм, конфуцианство, мелкая схоластика». Положение весьма ненадежно, предупреждал Аидзава. «Япония сейчас подобна больному, который едва избежал гибели от обычно смертельной болезни. Поскольку страна ослабла и лишена внутренних сил, то она легко поддастся внешнему воздействию»{77}. Аидзава предлагал и меры для предотвращения печальных для страны последствий. Самураи, по его мнению, должны были вернуться к земле, политические институты следовало реформировать, оборону побережья усилить, а чужестранцев удалить с территории Японии. Однако в первую очередь японцы должны были вернуться к своей собственной «национальной сущности», к кокутай. В том смысле, в каком его употреблял Аидзава, этот термин перекликался с идеологией движения Национальной учености. По его мнению, кокутай означал гармоничное соединение управления и религии, которое, как полагали, присутствовало в политической жизни Японии в золотые времена древности, пока не появились вырожденческие чужеземные верования. По утверждениям Аидзава, Небесные Владыки прошлого, благословляемые местными божествами, осуществляли ритуал управления, обеспечивали людей едой и всем необходимым для жизни и давали им моральные и этические установления. В свою очередь, писал он, «все люди в государстве дышали и мыслили как один. Они были столь любимы своими правителями, что разделение было бы непереносимым». Чтобы обновить это единство и усилить его результаты, сёгунат должен обновить роль монарха в качестве лидера основанных на религии государственных ритуалов. Таким способом Япония может создать такой синтез государства и религии, который превзойдет западные образцы, а правящий режим завоюет преданность всех японцев. В итоге страна сможет противостоять европейской угрозе. В заключение к своей работе Синрон («Новые положения»), завершенной в 1825 г., Аидзава писал, что «усвоение кокутай. усиление национальной обороны и создание нацеленной в будущее политики — это и есть лучшие проявления преданности, лучший способ отблагодарить царственных предков и лучший путь для сёгуната и даймё спасти свой народ и навечно установить добродетельное правление». Сёгунатские власти всерьез восприняли свою ответственность за защиту Японии от жестоких нашествий. Согласно некоторым наблюдателям, необходимость обороны против русского вторжения требует от Японии усиления своей власти в земле Эдзо. Один известный географ и ученый, принадлежавший Голландскому учению, суммировал подобные взгляды, посетив северные острова в самом конце XVIII в.: «Мы должны установить границы между Японией и другими странами и возвести крепости, чтобы противостоять врагам»{78}. Ведущие политики сёгуната, в общем, и не нуждались в подсказках. Вслед за визитом Лаксмана Эдо направило в Эдзочи экспедиционный корпус, состоявший из тысячи самураев, и к 1807 г. сёгунат взял обширную северную территорию под свою юрисдикцию. В портовом поселке Хакодатэ была размещена администрация, а вдоль берега цепью были размещены гарнизоны, призванные противостоять русским мародерам, державшим в страхе деревни на Сахалине и Курильских островах. Поскольку территория Эдзочи должна была стать неотъемлемой частью Японии, перед чиновниками встал вопрос о японизации восточных варваров. Согласно одной директиве, «причиной распространения на Эдзочи управления центральных властей является то, что остров не исследован, а варвары не имеют достаточной одежды, пищи и жилищ, а также у них нет моральных установлений. Чиновники, посланные туда, должны просвещать и обучать их, постепенно подводя их к принятию японских обычаев, и заставить их с благодарностью принять наше правление и не дать завоевать их другими странами»{79}. Японское появление в Эдзочи имело и положительную сторону — администрация Хакодатэ направляла во внутренние области врачей для лечения айнов. Однако в основном методы ассимиляции носили принудительный характер. Сёгунатские чиновники несли цивилизацию на северную границу путем запрета местных праздников, приучением айнов поклоняться японским ками, принуждая их носить японскую одежду и заставляя отказываться от «варварского» обычая употреблять в пищу мясо. Айны, подобно японским простолюдинам, должны были брить бороды и стричь волосы. Чтобы поощрить уступчивость, чиновники приглашали сотрудничавших с ними айнов на церемониальные пиры и награждали их специальными «медалями ассимиляции». Чтобы усилить свои позиции, сёгунат также перешел к усилению изоляции от внешнего мира. Ужесточение политики началось с письма Мацудайра Саданобу Лаксману в 1793 г. в котором Россия ставилась в известность о том, что Япония обычно уничтожает корабли тех стран, которые не являются ее признанными торговыми партнерами. Однако главный советник не был абсолютно точным с исторической точки зрения. Эдикты о самоизоляции, принятые в 30-х гг. XVII столетия, касались лишь католических миссионеров и торговцев с Пиренейского полуострова. Более того, японцы ни в конце XVII, ни в XVIII вв. практически никогда не атаковали иностранные корабли, подошедшие к их берегам. Они либо выпроваживали их из своих вод дипломатическими способами, либо сопровождали до Нагасаки, откуда экипажи депортировались в свои страны. Цель Мацудайра была ясна. Он стремился пересмотреть традицию, чтобы распространить изоляционные правила на остальные страны и узаконить применение силы. Ответ сёгуната Резанову подтвердил новую позицию, и в 1825 г., после вооруженного рейда британской фуражирной партии против небольшого островка, расположенного к югу от Сацума, чиновники в Эдо издали Постановление об отпоре иностранным кораблям. Это было фактически указанием даймё открывать огонь по любому кораблю, приближавшемуся к берегам Японии без права на это, и арестовывать любые партии, высадившиеся на берег. Хотя в 1842 г. сёгунат ослабил жесткость закона, позволив кораблям запасаться провизией на условиях немедленного отбытия из страны после этого, двери Японии оставались для западного мира плотно закрытыми. В 1844 г. голландский король Вильгельм II написал сёгуну, что «Японской империи ныне угрожает опасность»{80}. По всей Европе, пояснял монарх, торговля и промышленность процветают, а изобретение паровых кораблей сделало мир более тесным. Страны желают вести торговлю друг с другом, указывал он, и любая «нация, предпочитающая оставаться в изоляции во время возрастающих взаимных контактов, не может избежать враждебного отношения со стороны остальных государств». В заключение Вильгельм II обещал помочь Японии приспособиться к новым условиям взамен на расширение отношений между двумя странами. Вежливо, но твердо советники сёгуна отклонили предложения короля. «Закон предков», ответили они, запрещает установление договорных отношений, и «поскольку закон предков был некогда установлен, потомки должны ему повиноваться»{81}.Америка усугубляет кризис
Изменить это мнение предстояло американцам. В 20-е гг. XIX в. в водах Японии начали появляться американские китобои из Нантукита, Нью-Бедфорда и других портов Новой Англии. Десятью годами позже в северной части Тихого океана действовало уже более 200 судов. В качестве своей базы они использовали Сандвичевы (Гавайские) острова. Обычно их экспедиция длилась год или более, поэтому капитаны кораблей хотели иметь возможность запасаться водой и продовольствием в японских портах, которые были ближе к огромным охотничьим полям Берингова и Охотского морей. В 40-е гг. растущее негодование по поводу неудобств, порожденных изоляционной политикой сёгуната, равно как и дурное обращение с потерпевшими кораблекрушение моряками, выброшенными на японский берег, побудило некоторых американских политиков выступить с предложением об установлении официальных отношений с Японией. Соблазнительные перспективы торговли служили дополнительной мотивацией для заключения договора. Приобретение Калифорнии и Орегона, произошедшее в те же 40-е гг., усилило стремление к расширению торговли с Азией. Хотя американские предприниматели вели торговлю с Кантоном, но их суда, отплывавшие с Восточного побережья, должны были совершать долгое путешествие через Атлантический и Индийский океаны. В 1849 г. в Калифорнии было найдено золото, что обусловило бурный экономический рост в этом регионе. Местный бизнес был заинтересован в широкомасштабных торговых отношениях с Китаем и Японией. В то же время, в связи с перспективой постройки трансконтинентальной железнодорожной магистрали, Сан-Франциско обещал превратиться в крупный порт, позволяющий американским кораблям добираться до Азии более коротким путем. В этом контексте Япония рассматривалась и в качестве потенциального торгового партнера, и как перевалочный пункт для кораблей, направляющихся в Китай, где они могли бы пополнить припасы, а недавно появившиеся пароходы — запастись углем. Многие американцы надеялись на большее, чем просто получение выгоды от торговли с Азией. Они также хотели распространить достижения своей, как им казалось, более высокоразвитой цивилизации на те народы мира, которые, по их мнению, находились на более низком уровне развития. Поэтому торговля является хорошим делом с моральной точки зрения, утверждали предприниматели, обратившиеся с петицией к американскому правительству, требуя установления отношений с Японией. Америка может поделиться всеми выгодами индустриальной эры с несчастными японцами, которые изолированы на своих узких островах. Миссионеры имели подобный взгляд на Азию. Они считали, что свет христианской веры является тем даром, который благочестивый Запад должен принести языческому Востоку. Словами, от которых у Аидзава мурашки бы побежали по коже, Сэмьюэль Уэллс Уильямс, выдающийся миссионер и один из первых американцев, в совершенстве овладевший японским языком, писал, что открытая Япония обнаружит «цели Бога распространить Благую Весть на все народы. Я полностью убежден, что политика самоизоляции наций Восточной Азии не соответствует Божественному плану спасения этих народов, и их правительство должно изменить их при помощи страха или силы, чтобы народы могли быть свободными»{82}. Корни подобных взглядов бизнесменов и религиозных деятелей уходили в представления американцев об их «ясном предназначении»[21]. В первые десятилетия XIX в., когда Соединенные Штаты триумфально шагали по континенту, эта концепция оправдывала приобретение новых территорий. Достигнув Западного побережья, многие американцы в 40-х гг. XIX в. ощутили желание двинуться дальше — за Тихий океан, и при этом не имело значения в каком аспекте — культурном, коммерческом или территориальном. У подобных личностей в избытке было энергии и самоуверенности. И, несмотря на то что никто из них никогда не слышал об Аидзава, они разделяли его мнение, что исключительное положение Америки базируется на превосходстве ее политических, экономических, научных и религиозных институтов. Они считали, что Соединенные Штаты продвинулись в своем развитии гораздо дальше, чем такие страны, как Япония. И у них не было абсолютно никакого сомнения в том, что американская культура должна быть распространена по всему свету. «Коммерция играет огромную роль в цивилизации и христианизации мира, — этими словами начиналась передовица одной из калифорнийских газет. — Совершенная цивилизация не может существовать при отсутствии подлинной свободы. Самым свободным правительством на земле является правительство Соединенных Штатов — поэтому здесь существует самая развитая цивилизация. Помимо материальных выгод, которые явятся неизбежным результатом установления торговых связей через Тихий океан, коммерция представляет собой единственное средство, при помощи которого мы можем исполнить свое наивысшее предназначение — распространение принципов американской свободы по всему миру. Коммерция не только цивилизует, христианизует и обогащает, но она также при помощи американских принципов расширяет «территорию свободы»{83}. В 1852 г. американский президент Миллард Филлмор распорядился отправить к берегам Японии морскую экспедицию. Она должна была доставить японским властям письмо, в котором излагалась позиция Соединенных Штатов. Несмотря на страстное желание выполнить цивилизующую миссию Америки, Филлмор сформулировал целисвоей страны в умеренных, даже невинных, выражениях. Его главная надежда, начинал он, состояла просто в том, чтобы «Соединенные Штаты и Япония жили в дружбе и имели торговые отношения друг с другом»{84}. В данном контексте, продолжал президент, Америка обращается к Японии с тремя специальными предложениями. Первое, писал он, состоит в том, для обеих стран «было бы в высшей степени полезно», если Япония «изменит древние законы и позволит свободную торговлю между двумя странами». Во-вторых, он просил японцев обращаться с потерпевшими кораблекрушение моряками «по-доброму». Наконец, поскольку очень много американских кораблей совершают плавание через Тихий океан, президент высказывал надежду, «что нашим пароходам и другим судам будет позволено останавливаться в Японии и пополнять запасы угля, провианта и воды». Во главе американской миссии стоял горделивый, настойчивый, даже упрямый, коммодор Мэттью К. Перри, закаленный ветеран войны с Мексикой[22], отпрыск одной из самых знаменитых морских семей Америки. Старый Медведь, как называли Перри, отплыл из Ньюпорта, расположенного на Род-Айленде, имея под своим началом четыре лучших военных корабля американского флота. В его кармане лежали письмо Филлмора и приказ Госдепартамента проявлять сдержанность и терпеливость во время переговоров с японцами. В нем также выражалась надежда, что все пройдет гладко. Однако в документах миссии говорилось и о возможном упорстве со стороны японцев: «Если, исчерпав все аргументы и способы убеждения, коммодор все же не добьется от правительства ослабления их системы изоляции или хотя бы уверений в гуманном обхождении с потерпевшими крушение моряками, то он должен изменить свой тон и сообщить им самым недвусмысленным образом, что они будут сурово наказаны»{85}. Совершенно понятно, что Соединенные Штаты были готовы развязать войну, чтобы убедиться, что их предложения о мире и дружбе приняты. Перри прибыл ко входу в бухту Эдо 8 июля 1853 г., или в третий день Шестого месяца, согласно японскому календарю. Через шесть дней с большой помпой Старый Медведь сошел на берег, чтобы передать письмо Филлмора представителям сёгуната. Кроме того, Перри передал японцам два письма собственного сочинения. В них он характеризовал политику изоляции как «немудрую и непрактичную»{86}. Соответственно, он надеялся, «что японское правительство увидит необходимость избегания недружественных столкновений между двумя нациями и с пониманием отнесется к предложениям дружбы, которые ныне делаются ему со всей искренностью». В любом случае, заключал он, ему придется покинуть воды Японии, однако следующей весной он вернется «с большими силами», если будет необходимо, чтобы выслушать ответ сёгуна на предложения президента Филлмора.1854–1860: Уступки иностранцам, жесткий курс внутри страны
Визит Перри поставил перед сёгунатом неразрешимую дилемму. Человеком, ответственным за преодоление кризиса, был назначен прагматик Абэ Масахиро. Будучи с 1843 г. старшим советником, Абэ наблюдал за усилением японской береговой обороны. И он прекрасно понимал, что все эти приготовления совершенно неадекватны. Это, по его мнению, не оставляло Японии выбора. Она должна была согласиться на требования американцев. Он также понимал, что если сёгунат откажется от политики самоизоляции, то на его голову обрушатся потоки критики. Стремясь выйти из затруднительного положения, Абэ попытался достигнуть консенсуса. Он разослал переводы писем Филлмора и Перри всем даймё и поинтересовался их мнением по поводу того, следует ли Японии подписать договор или нет, воевать или искать мира. Их ответы мало помогли Абэ. Некоторые из князей выступали за открытие страны, другие были готовы пойти на риск возникновения конфликта и сохранить изоляцию. Большинство, однако, так и не смогли предложить ничего конкретного, советуя сёгунату отвергнуть предложение о торговле, но постараться при этом избегнуть тяжелых последствий этого отказа. Верный своему слову, Перри вновь появился в гавани Эдо 14 февраля 1854 г., а Абэ все еще не нашел решения проблемы. Тем не менее он быстро прибыл на переговоры к коммодору, флотилия которого на этот раз состояла из восьми лучших боевых кораблей мира. Перри преподнес японцам подарки, призванные продемонстрировать достижения современной промышленности. В их числе был телеграфный аппарат Морзе и уменьшенная в четыре раза модель паровоза, способного тащить за собой несколько небольших повозок с сидящими на них людьми по железнодорожной колее, длина которой составляла приблизительно 112 м. Японцы продемонстрировали членам экспедиции Перри борьбу сумо, американцы в ответ устроили «шоу менестрелей»[23]. Наконец, 31 марта 1854 г. представители двух наций поставили свои подписи под Договором о мире и дружбе между Соединенными Штатами и Японией. Соглашение, подписанное в Канагава (позднее переименованном в Иокогаму), начиналось с обещания вечного мира. Затем следовали уточнения: американские корабли получали возможность заходить в порты Симода и Хакодатэ, где они могли пополнить запасы провизии; потерпевшие кораблекрушение моряки могли рассчитывать на теплый прием; американцам разрешалось предпринимать прогулки в радиусе восьми миль вокруг двух портов; наконец, в Симода размещалось американское консульство. Перри, отправляясь домой, мог быть доволен. Он добился от японцев большинства тех уступок, которых требовал Филлмор, обеспечил привилегию свободной торговли и покончил с японской политикой самоизоляции. Абэ в Эдо мог передохнуть, поскольку он разрешил кризис и избежал войны. Однако совсем скоро на горизонте показались новые грозовые тучи. К концу 1856 г. Россия, Франция и Англия потребовали (и получили) договора, аналогичные Канагавскому соглашению. В августе 1856 г. в Симода в качестве первого американского генерального консула прибыл Таунсенд Харрис. Буйный и к тому же пьющий купец из Нью-Йорка, занимавшийся торговлей с Китаем, решил добиваться дипломатического поста в Азии после того, как его бизнес полностью развалился. Несмотря на личные неудачи, он был твердым приверженцем международной торговли. Оказавшись в Симода, он тут же начал агитировать японских чиновников подписать торговый договор, недвусмысленно намекая, что лучше решить все дела с ним, чем дожидаться нового появления канонерских лодок. Начальная стадия заключения договора и последовавшие за этим слухи, что Эдо уступит агрессивной тактике Харриса, разожгли жаркие дебаты по поводу политики сёгуната. На одном фланге находились настроенные враждебно к иностранцам даймё, такие как Токугава Нариаки из Мито, влиятельный правитель этого второстепенного домена. В 1853 г., в ответ на обращение Абэ, не склонный к компромиссам старый политик прогремел, что самым лучшим выбором в условиях требований чужеземцев будет война. После того как Абэ подписал Канагавский договор, Нариаки предложил всем участникам переговоров совершить самоубийство, а условия самого договора изменить на более выгодные для Японии. Более того, он был абсолютно не согласен с тем, что торговля принесет Японии пользу. «Обмен таких никчемных товаров, как их шерстяные ткани и изделия из стекла, на наши золото, медь и железо, — писал он, — принесет нам многочисленные убытки и никакой прибыли»{87}. В душе Нариаки был националистом, считавшим, что открытие Японии поставит под угрозу не только культуру и образ жизни, но и территорию и нацию, равно как и политический и экономический порядок. Среди интеллектуалов не было большего критика сёгуната, чем Ёсида Сёин. Будучи молодым самураем невысокого ранга в домене Чосю, Ёсида изучал боевые искусства, а в начале 50-х гг. он отправился в Нагасаки и Эдо, чтобы изучить страну и встретиться с другими учеными. Бесконечно любопытный и склонный к авантюрам, Ёсида в 1854 г. попытался пробраться на борт флагманского корабля флотилии Перри, чтобы добраться до Америки и на месте изучить секреты могущества Запада. Однако он был обнаружен и передан японским властям. Вернувшись в Чосю, Ёсида получил разрешение преподавать в местной школе. Там он передал свои идеи относительно японской политики нескольким молодым людям, среди которых были Ито Хиробуми и Ямагата Аритомо, сыгравшие ключевые роли во время реставрации Мэйдзи. Ёсида был убежденным противником договоров, поскольку они шли вразрез с основополагающими принципами японского государства, или кокутай, выраженные во фразе сонно дзои («Почитай Небесного Владыку, изгоняй варваров»). Ранее объяснением этих понятий занимались Аидзава и другие члены школы Мито. Под сонно они понимали должную признательность со стороны сёгуна по отношению к Небесному Владыке, а с дзои связывали запрещение христианства. Ёсида интерпретировал эти понятия более радикально. В его понимании сонно означало то, что монарх должен непосредственно участвовать в политическом процессе, высказывая свое мнение по тем проблемам, которые встают перед нацией, а все остальные должны беспрекословно подчиняться трону. Дзои, в свою очередь, подразумевал разрыв договоров и физическое изгнание чужеземцев с японской земли. Таким образом, рассуждал Ёсида, Абэ поступил неправильно в двух аспектах: он не только подписал договора, которые нарушали культурную и территориальную чистоту Японии, но, кроме того, его решение заключить соглашение с чужеземцами нарушало прерогативу Небесного Владыки. С целью исправить положение Ёсида призвал молодых людей, обладавших чистыми намерениями, предпринять «непосредственные действия» против недостойных чиновников. Другие японцы стремились найти более гибкое решение для выхода из кризиса. Многие интеллектуалы в памфлетах и меморандумах, адресованных сёгуну и даймё, выступали в поддержку принципу кайкоку («открыть страну для сношений с чужеземцами»). Одним из самых влиятельных среди них был Сакума Содзан — самурай из центральной Японии, который учился вместе с некоторыми учеными школы Голландского учения и служил своему даймё в качестве военного советника. После Опиумной войны Сакума сформулировал для себя мучительный вопрос, занимавший в то время умы многих японцев: каким образом Китай, этот оплот культуры, могущественный гигант, который, как казалось, никаким варварам не дано было победить, вообще мог проиграть такому тщедушному выскочке, как Британия? Причиной тому, объяснял Сакума, является культурная самонадеянность. Китай потерпел поражение, потому что его правители были убеждены в своем безусловном превосходстве над остальными цивилизациями. Поэтому они не обратили внимания на успехи западной науки. В ряде эссе, написанных в 50-е гг., Сакума выступил с пропагандой лозунга «Восточная этика, западная наука». По мнению Сакума, мораль, основанная на конфуцианстве, со-храняет свою ценность для организации личной жизни, однако она не дает действенных ответов на вызов Запада. Он считал, что если Япония желает успешно противостоять агрессивным варварам, она обязана воспринять полезные элементы западной технологии, сочетая их с восточной моралью. Подобным образом мыслили и даймё ряда больших и влиятельных доменов. Они были настроены враждебно по отношению к иностранцам и разделяли националистические чувства Токугава Нариаки. Но они также понимали, что нет никакого смысла и дальше продолжать сопротивление попыткам Запада заключить договора и установить торговые отношения. Упрямство могло лишь привести к нападению на Японские острова и в конце концов к такому же поражению, какое потерпел Китай. «Никто не может себе представить», писал в 1853 г. Ии Наосукэ, еще в бытность свою правителем домена Хиконэ, что «на земле сохранится мир и что наша империя спасется, если мы и дальше будем придерживаться политики самоизоляции». Было бы полезным, продолжал он, открыть страну, увеличить богатства с помощью торговли, а затем «подготовить мощное вооружение, повысив наш военный престиж даже в глазах заморских стран»{88}. Хотта Масаеси, который стал принимать важнейшие политические решения вместо заболевшего Абэ, был сторонником открытия страны. Он продолжил переговоры с Харрисом относительно заключения торгового договора. К февралю 1858 г. обе стороны достигли принципиального соглашения по основным пунктам и были готовы заключать пакт. Хотта болезненно воспринимал критику относительно того, что сёгунат не уделяет должного внимания мнению монарха. Он попытался выбить этот козырь из рук оппонентов и обратился за утверждением его решения в Киото. Это было серьезной ошибкой. Двор, дремавший с самого начала XVII столетия, сразу понял, какую роль он может сыграть в разрешении охватившего страну кризиса. А настроения при дворе царили ксенофобские. В конце Третьего месяца Небесный Владыка Комеи сообщил Хотта, что представленный ему план неприемлем, поскольку «изменение исконных законов, существовавших со времен Иэясу, взбудоражит умы наших людей и сделает невозможным сохранение спокойствия»{89}. Не зная, как разрешить противоречия с Киото, главный советник подал в отставку. Место Хотта занял решительный Ии Наосуке. Он был уже шестым представителем своей семьи, служившим главным политическим советником сёгуна. Не успел Ии отправиться в Эдо, как Таунсенд Харрис принес новости о Китае, который, потерпев второе поражение, заключил новый договор с Англией. Более того, продолжал запугивать Харрис, красноволосые готовы послать свои боевые корабли к берегам Японии, чтобы принудить ее к подписанию торгового договора. Будучи абсолютно уверенным в реальности и непосредственной близости угрозы, 29 июля 1858 г. Ии подписал американо-японский Договор о дружбе и торговле. Договор Харриса, как обычно называют это соглашение, предусматривал обмен дипломатическими представительствами и определял, что в будущем должны быть открыты Эдо, Канагава, Осака, Хиого (Кобэ), Нагасаки и Ниигата. Они должны были быть открыты не только как порты, но и как города. Иностранные торговцы могли создавать в них свои представительства и пользоваться правом экстерриториальности. Вдобавок пакт ставил японские тарифы под международный контроль и устанавливал пошлины на импортные товары на выгодном для иностранных торговцев уровне. В последующие недели Ии подписал торговые договора с Нидерландами, Великобританией, Францией и Россией. В каждом случае в тексте договора указывалось, что любая уступка, сделанная Японией в пользу одной из держав, автоматически распространяется на все западные страны, вступившие с ней в договорные отношения. Ии ожидал сопротивление своим действиям, особенно после того, как он не обратился за императорской санкцией перед подписанием новой порции договоров. Поэтому он первым нанес жестокий удар, не дожидаясь, пока его оппоненты соберутся с силами. Летом 1858 г. сёгунат отправил в отставку или посадил под домашний арест Токугава Нариаки и других даймё, выступавших против договоров. В Эдо Ии провел чистку среди мелких чиновников, придерживавшихся примиренческой позиции по отношению к оппозиционным даймё. Придворные, выступавшие против контактов с чужеземцами, в приказном порядке должны были пересмотреть свои взгляды. Сёгунат арестовал более ста человек, находившихся на службе у оппозиционных даймё и придворных. Восемь из них были казнены. Такая судьба постигла и Ёсида Сёина, который, верный своему идеалу непосредственного действия, составил план убийства ведущего политика сёгуната. Когда сёгунатская полиция раскрыла заговор, Ёсида был арестован и доставлен в Эдо. Там он был обезглавлен в Десятом месяце 1859 г.1860–1864: Союз двора и шатра
Ии заплатил за свою жестокость по отношению к несогласным в то снежное утро в Третьем месяце 1860 г., когда молодые самураи из доменов Мито и Сацума последовали совету Ёсида предпринимать непосредственные действия против злонамеренных чиновников. Шокированный этим событием[24], сёгунат оставил свою жесткую линию и попробовал получить поддержку даймё и самураев, взяв курс на более мягкое отношение к Киото и крупным даймё. Под лозунгом ко-бу гаттаи («Союз двора и шатра») чиновники предложили новому сёгуну, Измочи, жениться на принцессе Кадзу, сестре Небесного Владыки Комеи. Измочи не только принял это предложение, но и согласился лично явиться в Киото, чтобы обсудить с двором положение в стране. Грандиозная процессия, состоявшая из 3000 его вассалов, отправившаяся из Эдо весной 1863 г., была первым визитом сёгуна в Киото за более чем двухсотлетний период. Символично, что путешествие по дороге Токайдо подчеркивало утверждения таких людей, как Аидзава и Ёсида, о том, что сёгунат не может далее доминировать над двором в политическом отношении, как это было во времена Иэясу и Иэмицу. Сёгуны более не могли надеяться на эффективное управление без публичного одобрения со стороны освященного культурным и религиозным авторитетом императора. Курс на примирение касался не только императорского двора. Эдо, с оливковой ветвью в руках, сделал шаг навстречу крупным даймё. Те, кто подвергся наказанию по приказу Ии, были прощены. Некоторым правителям отдаленных доменов и главам второстепенных кланов, которые ранее не могли претендовать на должность в системе сёгуната, было позволено выступать в роли советников. Реакция даймё на эти инициативы сёгуната была в целом положительной. Они надеялись, что призывы к политическому единству будут способствовать как их процветанию, так и процветанию всей страны. Вероятно, наибольшую поддержку оказывали «способные даймё». Это неофициальное определение получили те правители доменов, которые после прибытия Перри предложили свои программы самоусиления. Среди наиболее влиятельных «способных даймё» был Симадзу Нариакира из домена Сацума. Сторонник Голландского учения, Симадзу послал своих вассалов в Нагасаки и Эдо, чтобы те познакомились с научными достижениями западных специалистов. Он оплачивал переводы западных работ по точным наукам и навигации, чтобы использовать их в школах домена. В 1856 г. он писал, что «главнейшей обязанностью каждого самурая является изучение состояния заморских земель для того, чтобы мы могли воспринять их полезные достижения и с их помощью удовлетворить наши нужды, увеличить военную мощь нашей нации и держать варварские народы под контролем»{90}. Основываясь на этих принципах, Нариакира начал обучать свои артиллерийские подразделения по западному образцу, сформировал новые стрелковые роты и основал морскую академию. Находясь под сильным впечатлением от западных технологий, он сам увлекся фотографией и установил в своем замке газовые фонари. Однако более амбициозными его проектами были сооружение верфи в гавани Кагосима, главного города-замка домена, предназначенной для постройки пароходов, постройка арсенала, где рабочие производили современные пушки и ружья, и основание фабрики западного образца для производства пороха, стекла, керамических изделий и сельскохозяйственного инвентаря. Правители влиятельных доменов, таких как Эчидзэн, Хидзэн и Тоса, осуществляли похожие программы реформ, хотя и в более скромных масштабах. На основании своего собственного опыта эти даймё пришли к заключению, что такие реформы следует провести в масштабах всей нации, что увеличит силы и богатство Японии перед лицом чужеземной угрозы. В 1858 г. Мацудайра Сунгаку из Эчидзэна направил сёгунату свой меморандум, который содержал список типичных предложений: «По всей стране следует провести перепись людей, способных нести службу. Расточительность мирного времени должна быть сокращена, военная система пересмотрена. Следует прекратить порочные практики, из-за которых происходит обнищание даймё. Должны быть проведены приготовления к обороне. Необходимо заботиться о том, чтобы у всех было достаточно средств к существованию. Должны быть созданы школы для обучения различным наукам и ремеслам»{91}. К осуществлению этой программы Мацудайра приступил после того, как получил приглашение на должность советника режима Эдо. Чтобы освободить даймё от излишних трат и позволить им выделять больше средств на осуществление программ самоусиления, Мацудайра в 1862 г. убедил сёгунат ослабить систему постоянного присутствия, позволив заложникам покинуть столицу сёгуната, а большинству даймё — проводить в Эдо только сто дней на протяжении трех лет. Существовали и противники «Союза двора и шатра». Среди них были несколько сотен сиси, или, как они сами себя называли, «людей высоких намерений». Подавляющее большинство сиси происходило из самурайских семей низких и средних рангов западной Японии. Они были подростками или совсем молодыми людьми, когда флотилия Перри появилась под стенами Эдо. Недовольство сложившейся ситуацией объединило сиси. Их семьи первыми ощутили трудности, связанные с уменьшением выплат самураям и ростом инфляции. Многие молодые люди испытали разочарование, обнаружив, что их низкий статус не позволяет надеяться на получение ответственной должности в правительстве, несмотря на образование, полученное в школах доменов, и успешную деятельность по улучшению ситуации на местах. Дипломатия канонерок, проводимая Перри, и подписание неравноправных договоров также способствовали сплачиванию сиси. По мере того как на протяжении 50-х гг. возрастало давление со стороны Запада, молодые самураи, испытывавшие беспокойство по поводу будущего Японии, начали концентрироваться в Киото и Эдо. В этих огромных мегаполисах, в которых жизнь била ключом, молодые люди шли в частные академии и школы фехтования. Там они знакомились с концепцией сонно дзои, которую популяризовали Аидзава Сэйсисай и Ёсида Сёин, и укрепляли в себе «высокие намерения», чтобы впоследствии перейти к непосредственным действиям против врагов Японии. Решение Ии Наосукэ подписать торговые соглашения с западными державами и жесткие меры, предпринятые им против внутренней оппозиции, произвели на сиси сильное впечатление. Молодые люди «высоких намерений» были подвержены определенному романтизму и идеализму в первую очередь потому, что они испытывали абсолютную преданность по отношению к Небесному Владыке. Они действовали с редкой отвагой и полным безразличием к своей собственной безопасности, и были большими любителями сакэ, женщин и полуночных приключений. Бравада могла бы стать их основной чертой, если бы не их серьезное отношение к политике и стремление сохранить культурную целостность Японии. Стремясь изгнать варваров, сиси в Иокогаме в 1859 и 1860 гг. провели серию террористических акций, направленных против иностранцев. Они убивали европейских торговцев и российских моряков. Их жертвами стали слуга-китаец португальского купца и капитан голландского судна. В 1861 г. экстремист из Сацума убил Генри Хьюскена, переводчика и секретаря Таусенда Харриса. В Эдо группа сиси осуществила нападение на британскую дипломатическую миссию. Два сотрудника консульства при этом погибли, несколько человек получили серьезные ранения. Наиболее существенные акты, направленные против иностранцев, были осуществлены на протяжении девяти месяцев 1862–1863 гг. В Восьмом месяце 1862 г. четыре англичанина отправились на загородную прогулку в окрестностях Иокогамы. По той же дороге в это время следовала процессия Симадзу Хисамицу, ставшего фактическим правителем Сацума после того, как в 1858 г. умер Нариакира. Он направлялся из Эдо в Киото, чтобы поспособствовать закреплению союза двора и шатра. Лошади англичан оказались среди этой процессии. Сопровождавшие Симадзу вассалы расценили это как наглую выходку со стороны чужеземцев и выхватили свои мечи. В одно мгновение двое англичан были ранены, а торговец Чарльз Ричардсон остался лежать на дороге мертвым. В начале Пятого месяца следующего года молодые радикалы домена Чосю развернули орудия своих береговых батарей против торгового судна, которое, направляясь в Шанхай, оказалось на траверзе пролива Симоносеки. В том же месяце они обстреляли голландский и французский военные корабли, шедшие вдоль побережья. Молодые сиси не забывали и о своих внутренних врагах, которые осуществляли чистки в конце 50-х гг., при принятии политических решений полностью игнорировали желания императора и открывали Японию чужеземным влияниям. Ии Наосукэ был лишь первой жертвой. За два года, с осени 1862 по осень 1864, сиси, многие из которых были родом из Чосю, Сацума, Тоса и Хидзэн, осуществили более семидесяти убийств. В первую очередь их целями были ненавистные полицейские чины и их информаторы в Киото и Эдо. Но от их рук погиб и Сакума Содзан, выступавший за использование западных технологий. Они даже снесли головы каменным изваяниям трех сёгунов Асикага, которые стояли на входе в храм Киото. Несмотря на то что последняя акция могла бы показаться эксцентричной, она представляла собой на самом деле символическое послание. Активисты, осуществившие ее, подчеркнули схожесть нынешнего сёгуната со средневековыми сёгунами, которые были тиранами и деспотами. Акция была проведена в 1863 г., за несколько дней до прибытия в Киото Измочи. Отсеченные головы статуй положили около главного моста, через который должен был проследовать Измочи. Рядом были развернуты плакаты с текстами, оскорблявшими режим сёгуната. «Сегодня многие люди в своей подлости превосходят этих изменников, — начиналась одна из этих надписей. — Если они не раскаются немедленно в своих преступлениях и не предложат свое содействие двору, то все преданные трону люди поднимутся как один и покарают их за их преступления»{92}. В 1863 г. активисты сонно дзои составили дерзкий план государственного переворота. Они предполагали штурмом взять императорский дворец и освободить Небесного Владыку от давления со стороны сёгуната. После этого они планировали поставить его во главе армии сторонников трона, или лоялистов, которая изгонит чужеземцев и отберет все земельные владения дома Токугава в Западной Японии. Мятежники предполагали выступить в середине Восьмого месяца. Однако в последний момент по ним нанесла удар охрана сёгуна. Многие из них отступили на территорию домена Чосю, который превратился в оплот всех антисёгуновских сил. Во второй раз сиси попытались выступить летом следующего года. Их поддержали недавно сформированные в Чосю отряды милиции и лоялисты из других доменов. Однако и эта попытка провалилась. Мятежники вошли в Киото на рассвете девятнадцатого дня Седьмого месяца 1864 г., однако около императорского дворца они были разбиты войсками сёгуната. В битве у ворот Хамагури, как ее стали называть, погибло большое количество сиси. Пожар, начавшийся во время боя, уничтожил в Киото около 30 000 домов. Сиси переоценили свои силы, вызвав в 1863 и 1864 гг. ответные действия как со стороны сёгуната, так и со стороны западных держав. Первыми с проявлением растущего негодования западного сообщества столкнулись правители домена Сацума. В Седьмом месяце 1863 г. британские корабли, в отместку за убийство Ричардсона, подвергли бомбардировке город-замок Кагосима. В результате обстрела огнем была уничтожена большая часть города, а также промышленные предприятия западного типа, на которые столько надежд возлагал Симадзу Нариакира. В конце следующего года флотилия, состоявшая из 17 кораблей западных держав, уничтожила береговые укрепления на побережье Чосю, а затем высадила десант, приведший в негодность артиллерийские орудия около Симоносеки. Чтобы вернуть себе главный порт домена, местным властям пришлось заплатить огромный выкуп. Всего за несколько дней до этих событий, в двадцать третий день Седьмого месяца 1864 г., сторонники сёгуната добились объявления Чосю «врагом двора» за то, что на его территории нашли пристанище мятежники, штурмовавшие дворец в Киото. Сёгунат призвал 21 домен предоставить самураев для карательной экспедиции. К началу Одиннадцатого года у границ Чосю было сконцентрировано около 150 000 воинов. И только после того как высокопоставленные чиновники Чосю согласились принести формальные извинения, подавить партизанское движение приверженцев сонно дзои, покарать трех человек, входивших в узкий круг правителей домена и оказавших поддержку мятежникам, и выдать придворных, бежавших из Киото, сёгунат констатировал свою победу и распустил армию. Атаки на сиси и их убежище в Чосю, предпринятые в 1864 г., нанесли ощутимый удар по их движению. Лоялисты рассеялись по своим родным доменам. Хотя сиси иногда называют иррациональными экстремистами, жестокость, с которой они действовали, помогла изменить историю Японии. Молодые радикалы поспособствовали политизации императора и его придворных, а их здоровый национализм и прославление Небесного Владыки определили темы для обсуждения в 60-х гг. XIX в. Поскольку сиси концентрировались в Киото и других крупных городах, статус и географическое разделение начали размываться, приводя к появлению среди самураев из различных регионов Японии нового ощущения единства и общности целей. Совершенные ими убийства, нападения на иностранные корабли и попытки переворотов настроили сёгуна против даймё, поссорили «двор и шатер» и подорвали политику коду гаттай. Возможно, еще более значительным следствием их действий было то, что многие люди «высоких намерений», выжившие в битвах 1864 г., продолжили свою политическую деятельность в своих родных доменах, укрепляя союз между воинами и даймё, которые спустя всего четыре года уничтожат систему сёгуната.1864–1868: Последнее противостояние
Воспрянувшие после поражения Чосю ведущие политики сёгуната, включая Огури Тадамаса, являвшегося с 1862 г. уполномоченным по финансам, начали подготовку к реформам. Эти реформы должны были усилить сёгунат в военном плане, 8- Япония вернуть Киото под влияние сёгуната и дать возможность ликвидировать домены тех даймё, которые враждебно настроены по отношению к правительству в Эдо. За помощью сёгунат обратился к французскому министру Леону Роше, прибывшему в столицу сёгуната в 1864 г. Стремясь установить связи с режимом, который, какой считал, останется национальным правительством Японии, Роше в 1865 г. согласился выделить средства на строительство чугунолитейных мастерских в Иокогаме и современной корабельной верфи в Екосука, к югу от Эдо. К этому времени сёгунат закупил более 10 000 ружей, которые были ввезены через Иокогаму, и начал преобразовывать отряды самураев в кавалерийские, артиллерийские и пехотные подразделения. Конечной целью этих нововведений был переход к профессиональной армии, снабженной современными образцами оружия. Поверив в успех своих действий, направленных на самоусиление, в девятый день Четвертого месяца 1864 г. сёгунат объявил об организации второй карательной экспедиции против Чосю, поскольку после гражданской войны многие активисты движения сонно дзои оказались на ведущих позициях в этом домене. Наращивание военной мощи Эдо не могло мирно сосуществовать с новыми лидерами Чосю или с их товарищами из Сацума. В первом после гражданской войны ключевые позиции занимали Ито Хиробуми, Ямагата Аритомо и другие бывшие сиси, которые давно считали режим сёгуната неуместным. Во втором Симадзу Хисамицу, бывший защитник союза двора и шатра, сильно деморализованный событиями 1864 и 1865 гг., все больше доверия выказывал Сайго Такамори, Окубо Тосимичи и другим самураям низких и средних рангов, принадлежавших к молодому поколению и не испытывавших почтения к правительству Эдо. Эту враждебность не уменьшал тот факт, что все эти люди давно считали дзои пустым звуком. Ито и несколько его товарищей в 1863 г. тайно предприняли путешествие в Англию, где их поразила мощь западной цивилизации. Бомбардировка Сацума и Чосю убедила всех в военном превосходстве иностранцев. Напуганные агрессивной позицией сёгуната и ощущавшие близость последнего противостояния, Сацума и Чосю сами начали увеличивать свои «богатство и мощь». Каждый из этих доменов заказал через купцов Нагасаки тысячи ружей и пушек. Чосю собирался открыть порт для иностранных торговцев, а Сацума заказал в Англии оборудование для ткацкой фабрики и паровые машины для очистки сахара. Но наряду с обострением конфронтации между сёгунатом и юго-восточными доменами, страна столкнулась и с экономическими проблемами, связанными с появлением внешней торговли. Эти проблемы усиливали то недоверие, которое многие простые люди испытывали к политике Эдо. В умах японцев остро встал вопрос о законности власти сёгуната. Япония открыла свои порты в тот момент, когда внешняя торговля переживала бурный рост по всему земному шару. Запад очень быстро ощутил интерес к японскому чаю и шелковой нити. В целом развитие японской внешней торговли превзошло самые оптимистичные прогнозы. За период с 1860 по 1865 г. экспорт возрос в четыре, импорт — в девять раз. Спрос на Западе сделал богатыми те семьи, которые занимались выращиванием чая или разведением личинок шелкопряда. Однако для огромного количества других семей открытие внешней торговли имело негативные последствия. По мере роста цен на шелковую нить, ткачи в Киото и Кирю столкнулись с безработицей, поскольку им приходилось поднимать цены на готовую ткань, которую они продавали потребителям внутри страны. В некоторых частях Японии горожанам вдруг пришлось платить больше за продукты питания, поскольку крестьяне превратили рисовые поля в чайные плантации и посадки тутовых деревьев. В результате с 1863 по 1867 г. цена на рис выросла более чем на семьсот процентов. Кризис денежного обращения породил рост инфляции. На заключительном этапе существования режима Токугава сёгунат чеканил монету, в которой содержание золота и серебра имело соотношение 1:5. В западных монетах это соотношение было 1:15. Эта разница породила зимой 1859/60 г. «золотую лихорадку». Иностранцы везли в Японию серебро и обменивали его на японские золотые монеты, которые впоследствии переводили в еще большее количество серебра. Сёгунат остановил отток золота, перечеканив старые монеты в новые. В них соотношение между золотом и серебром соответствовало мировым стандартам. Этот шаг, однако, дестабилизировал денежное обращение и вызвал стремительную инфляцию, которая, в свою очередь, привела к росту цен на все основные продукты, и, прежде всего, на рис. В годы, последовавшие за визитом Перри, к экономическим проблемам добавились и другие беды. В 1854 г. Эдо был разрушен катастрофическим землетрясением, унесшим около 100 000 жизней. В 1861 г. иностранные корабли завезли в японские порты холеру. В 1866 г. случился страшный неурожай. Первоначально японские простолюдины демонстрировали по отношению к иностранцам наивное любопытство, нервозную подозрительность и даже грубость, связанную с националистическими эмоциями. В тот год, который последовал за прибытием Перри, уличные торговцы продали в Эдо более миллиона копий приблизительно пяти сотен различных кава-рабан — грубых печатных листков, которые были очень дешевы и в забавной форме преподносили новости дня. Многие из этих листков содержали портреты коммодора, рисунки миниатюрного локомотива и других американских подарков. Они знакомили японцев с ходом переговоров с чужеземцами, содержали карты далеких стран и рассказы об обычаях и образе жизни народов Европы, России, Америки, а также о фантастических странах, таких как Страна гигантов, расположенная в Южной Америке, и Страна женщин в Северной Европе. Тон других каварабан был более злобным. В их интерпретации Перри имел образ буддистского дьявола. Согласно тексту одного из листков, сердце Старого Медведя было переполнено ненавистью. Злобный коммодор стремился уничтожить самураев, разрушить бизнес торговцев и принести крестьянам многочисленные беды и страдания. В других листках содержались возможные методы изгнания «чужеземных собак». В частности, предлагалось призвать японских богов «убить варваров, используя в качестве оружия лучи яркого света»{93}. По мере того как экономические проблемы, которые ассоциировались с пришельцами с Запада, возрастали, простые японцы изменили объект критики, перенеся ее на сёгунат. Каварабан начали сообщать, как трудно сводить концы с концами в условиях, когда инфляция и безработица приобретают характер эпидемии. Плакат, конфискованный в Эдо в 1865 г., обвинял внешнюю торговлю в том, что она принесла беды японскому народу, и требовал замены подчинившегося варварам сёгуна, который не справлялся со своими обязанностями. Когда неурожай привел в 1866 г. к нехватке продуктов, горожане в Эдо взбунтовались, в третий раз за историю города. Они обвиняли власти в том, что те не предприняли необходимых мер и позволили торговцам рисом прятать зерно. «Среди правительственных чиновников много плохих людей, — так начинался текст одной из прокламаций, — уполномоченный по финансам Огури и его товарищи считают такие цены на рис вполне приемлемыми. Поскольку у нас нет иного способа спасти наши жизни, мы должны напасть на канцелярию Огури. Затем мы перебьем его приспешников и спасем народ от бедствия»{94}. Так получилось, что Огури вышел сухим из воды, однако полученный урок он усвоил. «Невозможно сказать, когда нижние сословия восстанут, — писал один чиновник высшего ранга, — но их недовольство растет изо дня в день. И это вызывает настоящий страх». Волнения в сельской местности усиливали социальный хаос. В 1866 г. их произошло столько, сколько не происходило ни за один другой год периода сёгуната Токугава. Летом 1866 г. десятки тысяч бедных крестьян, арендаторов и сельскохозяйственных поденщиков взбунтовались на равнине Мусаси, лежащей к северо-востоку от Эдо, в местности Синдацу, расположенной в провинции Муцу, и в более чем сотне других сельских районов. Повод для обид у всех был один и тот же. «Вглядываясь внимательно в причины этих волнений, — писал один наблюдатель в Синдацу, — мы можем разглядеть среди них новые налоги на шелк-сырец и яйца шелкопряда, рост ставок по кредитам до 30 % и невероятное повышение цен, особенно на рис и другие злаки»{95}. Разъяренные крестьяне шли к налоговым конторам и домам богатых землевладельцев и ростовщиков, которые эксплуатировали деревенскую бедноту. Они требовали снижения цен на рис, уменьшения налогов и возвращения отданных в залог вещей и земель. Получив отказ, восставшие сжигали налоговые записи, подвергали разграблению склады и частные дома, уносили сумки с рисом и бочонки с мисо, уничтожали мебель и топтали одежды. Они даже раскапывали семейные кладбища тех, кого ненавидели более всего. Ожесточенные трудностями настоящего, многие участники выступлений середины шестидесятых считали, что их действия являются шагом на пути к лучшему будущему. По всей Японии бунтовщики говорили о ёнаоси («обновлении мира»). Для большинства крестьян этот термин означал неудовлетворенность правящей элитой и обращение к сельской общине, свободной от несправедливости, в которой крестьянские семьи упорно работают, помогают друг другу и собирают обильные урожаи. Летом 1866 г., на фоне растущего народного недовольства напряженность между правительством Эдо и могущественными доменами западной Японии достигла своего пика. Это случилось, когда Иэмочи приказал нескольким даймё выделить ему войска для второго похода против Чосю. В глазах его критиков попытка сёгуната покарать такой уважаемый домен, как Чосю, была опрометчивым предприятием. На протяжении более десяти лет, рассуждали они, правительство в Эдо не смогло найти адекватного ответа на «беды внутри и снаружи». Он провалил внешнюю политику, утратил доверие внутри страны, а теперь больше озабочен своими «эгоистичными» интересами, чем решением проблем национального масштаба. Как писал Симадзу Хисамицу в своем меморандуме, адресованном двору, внешняя политика сёгуната «повсюду вызывает критику и отвращение»{96}. Вдобавок к этому «торговцы и люди низкого сословия попирают закон», бунтуя даже в тех городах, которые управляются непосредственно сёгунатом. Такие масштабные народные волнения, продолжал Симадзу, угрожают расколом страны и демонстрируют неспособность Эдо удовлетворительно осуществлять руководство. И на фоне этих бед нанесение удара по Чосю, утверждал он, подвергает Японию риску «быть разбитой на части растущей волной споров» и создает условия, при которых чужеземные силы могут попытаться расширить свои империалистические привилегии. Иэмочи разместил штаб-квартиру кампании в осакском замке. Однако все пошло не так, как он задумывал. Сацума отказался выделить войска для карательной экспедиции, выполнив, таким образом, условия тайного договора, заключенного с Чосю в Первом месяце 1866 г. Этот договор предусматривал взаимную поддержку в случае нападения сёгуната на один из этих доменов. Ряд других даймё также проигнорировали требования Измочи, а волнения в Эдо и Осаке заставили его оставить в этих городах самые боеспособные подразделения в качестве гарнизонов. Трудности, с которыми столкнулся Измочи, собирая войска, предопределили будущее Сайго Такамори, принимавшего активное участие в заключении союза между Сацума и Чосю. Присутствие сёгуна в качестве главы карательной экспедиции, писал воин из Сацума, «означает лишь то, что он желает лично участвовать в наказании. Эта кампания не пойдет сёгунату впрок»{97}. Сайго был прав. Войска Чосю, защищавшие свой родной домен, с легкостью опрокинули подразделения сёгуната, которым не хватало ни мотивации, ни хорошего командования. После неожиданной смерти Измочи, наступившей в Седьмом месяце 1866 г., карательные войска вернулись в Эдо. Осенью 1867 г., к ужасу оппозиционных доменов, новый сёгун провозгласил очередную программу самоусиления. Она подразумевалареконструкцию административной системы, повышение налогов и использование французских ссуд и военных советников для обновления военной мощи Токугава. На юго-западе начали созревать планы свержения режима, который, как казалось, вышел из-под контроля и намеревается уничтожить противостоящих ему даймё. Центральной фигурой в Чосю был Кидо Такаёси. Ему удалось спастись во время битвы у ворот Хамагури, спрятавшись у своей подруги-гейши. Действия нового сёгуна вызвали у него впечатление «как будто на земле вновь появился Иэясу». Он писал, что Япония «окажется в рабстве у сёгуната и Франции, если только власть в скорейшем времени не перейдет к императорскому двору»{98}. В Киото придворные, настроенные против сёгуната, такие как Ивакура Томоми, открыто готовили мятеж. «На небесах, — писал Ивакура летом 1867 г., — не может быть двух солнц. На земле не может быть двух монархов. Ни одна страна не может выжить, если правительственные указы не исходят из одного источника. Поэтому я желаю, чтобы мы, действуя решительно, уничтожили сёгунат». Подобные чувства разделяли и многие простые японцы. В начале осени 1867 г. жители окрестностей Нагои стали утверждать, что с неба упали амулеты с названием святилища Исэ, что было расценено как хорошее предзнаменование. В течение последующих нескольких недель дождь из подобных талисманов пролился на головы жителей деревень, расположенных вдоль тихоокеанского побережья от Хиросимы до Эдо. Сотни тысяч людей высыпали на улицы, радостно празднуя это событие. Мужчины и женщины наряжались в диковинные костюмы, обменивались одеждой между собой, забывали о своих печалях, ели и пили без меры, танцевали на улицах, занимались любовью на аллеях, вламывались в рестораны и принуждали посетителей присоединяться к их веселью. Воздух был наполнен шумом и грохотом, производимыми барабанами и гонгами, колокольчиками и свистками. И повсюду осенью 1867 г. веселящийся народ распевал песню, состоявшую из одной, повторявшейся бесконечное количество раз, вызывающей фразы: «Ээ дза най каа, ээ дза най ка» («Почему нет? Все хорошо! Разве это не великолепно? Что за черт!»). С одной стороны, безумные танцы и буйное, распутное поведение веселящихся людей символизировали отчаяние, причиной которого были быстро меняющаяся и непредсказуемая экономическая ситуация и беспорядочная политика государства. Однако толпы, заполонившие улицы, не только демонстрировали свое разочарование. Их песни являлись злой сатирой на сёгунат. Они высмеивали его политику, подвергали сомнению законность и способствовали его скорейшей гибели. «С запада, — говорилось в одной пародии, — прилетели мотыльки Чосю, порхая/ В то время как поток монет льется через порт Кобэ/ Почему нет? Все хорошо! Разве это не великолепно? Что за черт!»{99} В Фудзисава, городке, располагавшемся на дороге Токайдо к западу от Иокогамы, в Одиннадцатом месяце 1867 г. народ высыпал на улицы. Люди плясали, пировали, нападали на дома богачей, чтобы завладеть хранившейся там провизией, а затем все вместе ели, пили и занимались любовью. Когда наступили сумерки последнего дня разгула, согласно изображению на свитке, отображавшему события, из города вышла молчаливая процессия. Над гробом, который несли на руках, развивались черные флаги. На одном из знамен была надпись: «Гора Никко, святилище Тосо Дай Гонген». Остроумные горожане хоронили сёгунат Токугава. Не за горами были и настоящие похороны дома Токугава. В конце 1867 г. отряды вооруженных повстанцев из доменов Чосю и Сацума направились к Киото. Утром 3 января 1868 г. воины из Сацума штурмом овладели императорским дворцом, где их радостно встретил Ивакура и другие придворные, настроенные против сёгуната. В тот же день пятнадцатилетний сын императора Комеи, взошедший на престол в прошлом году после смерти своего отца и который вскоре станет известен всему миру как император Мэйдзи, подписал постановление, которым отменялась должность сёгуна, восстанавливалась власть Небесного Владыки, создавались новые должности в правительстве, предназначенные для придворных, даймё и других «талантливых людей», а также обещалось «обновление всех дел», которое должно было прекратить страдания людей. Лоялисты столкнулись с некоторым сопротивлением, однако Сайго Такамори создал из добровольцев, прибывших из Сацума, Чосю, Тоса, Хидзэн, Эчидзэн и ряда других доменов, боеспособную «императорскую армию», которая отогнала батальоны сёгуната обратно к Эдо. Столица сёгуната была взята в Четвертом месяце 1868 г. Хотя новое правительство гарантировало амнистию сёгуну и его сторонникам, на северо-востоке сопротивление продолжалось до осени. Некоторые даймё этого региона боялись и не доверяли новым могущественным лидерам, появившимся с противоположного конца Японии. Гражданская война Босин завершилась лишь весной 1869 г., когда в Хакодатэ капитулировали остатки флота Токугава.Концепция Мэйдзи исин
Сайго, Ито, Кидо и других людей, уничтоживших режим Токугава, обычно не рассматривают в качестве героев одной из величайший революций в истории. Они не выдвигали новых ценностей, которые бы вдохновили все человечество, подобно знаменитому лозунгу «свобода, равенство и братство», рожденному во Франции в предыдущем столетии. Они не стремились защитить интересы угнетенных классов, как то произошло в России и Китае в веке грядущем. И другие аспекты захвата власти не позволяют событиям 1868 г. в Японии встать в один ряд с другими революционными потрясениями. Люди, предпринявшие атаку на сёгунат, придали своим действиям традиционную форму обращения к Небесному Владыке с целью реставрации его власти. Их победа была относительно скорой, ее не сопровождали террор или особая жестокость. Однако замыслы молодых людей 1868 г. шли значительно дальше простого государственного переворота, призванного восстановить ценности прошлого и спасти их родные домены от угасания. В первые десятилетия XIX в. в связи с «бедами изнутри» возникли серьезные вопросы относительно способности традиционной политической системы решать проблемы материальной и моральной адаптации самураев к экономическим изменениям, вызванным протоиндустриализацией и коммерциализацией сельского хозяйства, усугубившимся социальным хаосом, отвечать на критику со стороны интеллектуалов и дать место новому типу мышления, проявившемуся в инакомыслии. «Беды извне», начавшие всерьез беспокоить нацию с момента визита Перри, обнажили структурную слабость сёгуната и обусловили его идеологическое банкротство. Капитуляция режима перед лицом требований западных держав навлекла на него ненависть со стороны «людей высоких намерений» и вызвала волнения среди крестьян и горожан, страдавших от последствий открытия страны внешней торговле. Люди, захватившие власть в 1868 г., были националистами, которых возмущал полуколониальный статус Японии. Кроме того, они были озабочены, как свидетельствуют меморандумы Мацудайра Сунгаку и Симадзу Хисамицу, проблемами, с которыми сталкивались их соотечественники. События 50-х и 60-х гг. привели к усилению радикальных настроений, наполнили их возмущением и ненавистью. Их не устраивал тот мир, в котором они жили, и они желали его изменить. Ито, Сайго, Ивакура и другие не обладали особым чутьем относительно будущего, когда в 1868 г. они брали власть в стране в свои руки. Однако у них было представление о тех путях, которыми им хотелось бы следовать. Споры, проходившие в среде оппозиционеров в 1867 г., когда они собирались с силами перед выступлением против сёгуна, заострили внимание на необходимости создания более гибких институтов управления, в которых будут востребованы талантливые люди, объединения нации под эгидой Небесного Владыки и улучшения условий жизни каждого японца. Программы самоусиления, которые осуществлялись в некоторых доменах юго-западной Японии, продемонстрировали, что индустриализация и внешняя торговля могут способствовать усилению нации и росту благосостояния жителей страны. Экономический и социальный хаос 60-х гг. убедил многих радикалов в том, что лишь самые крутые меры позволят достичь новой эры стабильности и процветания. Это заставило их отказаться от философии прошлого и начать экспериментировать с новыми идеями о пересмотре социального порядка и политической идеологии. Страх и злость, стремление и ожидание, невозможность поверить в то, что некогда мощная держава оказалась в таком плачевном состоянии — все это в 1868 г. привело народ Японии к пониманию, что только кардинальные изменения могут исправить ситуацию и дать надежду на будущее. Люди, шедшие на Киото в январе 1868 г., использовали древний символ для того, чтобы уничтожить прежний режим и узаконить те революционные нововведения, которые они собирались предложить стране. В середине 60-х в разговорах между собой многие радикалы загадочно говорили о «похищении сокровища», имея при этом в виду, что они вовсе не намерены и на самом деле передавать прямое правление в руки Небесного Владыки. Это было так, хотя приведенное выше выражение вовсе не было проявлением цинизма. Ощущение преданности, которое Ито, Сайго и их товарищи испытывали по отношению к трону, было неподдельным. Они лишь желали, чтобы монарх вернул себе традиционную роль проводника государственных ритуалов и утверждал решения тех, кто будет править от его имени. Преданность императору, в этом смысле, объясняла японскому народу, почему оппозиционеры хотели избавиться от сёгуната, превратившего Киото в политическом отношении в задний двор. Она также санкционировала будущий эксперимент по изменению политических, экономических и социальных институтов Японии. Немного позднее японцы позаимствовали из классической китайской философии редко употребляемый термин исин, которым они стали обозначать захват власти и ту политику, которую стали осуществлять после 1868 г. В переводе этот термин означает «реставрация». Однако графемы, которые используются для его записи, означают нечто иное: «обновление», «новое начало всех вещей», «совершать при помощи аккумуляции энергии всех сегментов общества». Это была подходящая трактовка, поскольку на протяжении 70-х и 80-х гг. XIX столетия политические, экономические и социальные изменения в Японии должны были принять не менее революционный характер, чем те, которые происходили в других странах на протяжении трех последних веков.
ГЛАВА 5
«Новые начинания»
В четырнадцатый день Третьего месяца 1868 г. несовершеннолетний император Японии (словом «император» обычно переводится термин тэнно) вызвал в императорский дворец в Киото около четырехсот чиновников, где им были зачитаны новые принципы национальной политики. Этот документ, известный как Хартия клятвенных обещаний, содержал следующие положения:
1. должны быть созваны совещательные собрания, и все государственные вопросы будут выноситься на народное обсуждение; 2. все социальные классы, высокие и низкие, объединятся для того, чтобы всеми силами развивать экономику и благосостояние народа; 3. все военные и гражданские чиновники, равно как и простые люди, будут иметь возможность исполнять свои желания, чтобы никто не ощущал неудовлетворенности; 4. основополагающие обычаи прошлого будут забыты, все действия будут соответствовать принципам международного права; 5. знания будут приобретаться по всему миру, способствуя, таким образом, упрочению фундамента государства{100}.
Символическое подтверждение тех надежд, которые были высказаны в Хартии клятвенных обещаний, было получено в восьмой день Девятого месяца 1868 г., когда оракулы сообщили, что правление юного императора будет носить название Мэйдзи, или эра «Просвещенного правления». Кидо Такаёси и другие молодые революционеры, бывшие авторами Хартии клятвенных обещаний, руководствовались при ее составлении насущными потребностями и прагматическими интересами. Весной 1868 г. новое правительство было скорее мечтой, чем реальностью. Императорская армия все еще пробивалась к Эдо, и гражданская война с северными доменами грозила расколом страны. Молодой режим не имел казны и тратил деньги быстрее, чем мог их получать. Западные державы давали понять, что они ожидают от нового руководства полного прекращения антизападных акций и обеспечения политической стабильности. На этом фоне составители Хартии обращались к своим непосредственным проблемам. Первый пункт был сконцентрирован на стремлении сохранить единство нации. Он подразумевал, что небольшая группа революционеров вовсе не собирается монополизировать право принятия решений. Наоборот, к формированию политики государства предполагалось привлекать и других влиятельных людей. Следующие два пункта развивали эту идею, обещая, что любой человек, невзирая на его положение, будет иметь возможность «исполнять свои желания». Два последних пункта сигнализировали западным наблюдателям, что Япония намеревается стать стабильным, ответственным членом международного сообщества. На протяжении 1870-х новый режим Мэйдзи одолел своих оппонентов и распространил революционный порядок по всей стране, закрепив за собой административную, полицейскую и налоговую власть. По мере того как люди 1868 г. брали власть в свои руки и добивались признания законности своего правительства, они поставили перед собой ряд дополнительных целей. Одной из них, которую вспоминали весьма часто, было обеспечение национальной безопасности и суверенитета Японии и прекращение дальнейшего роста иностранного влияния. Ямагата Аритомо из Чосю сформулировал ее однажды следующим образом: «Установить независимость нашей страны и сохранить права и преимущества нашей нации среди других народов»{101}. Однако более популярным было простое и недвусмысленное определение, что Япония должна стать великой и авторитетной страной, равной наиболее развитым державам мира. Ито Хиробуми озвучил эту мысль в 1872 г во время своего визита в калифорнийский город Сакраменто, где пообещал «отцам города», что он вместе со своими товарищами будет «работать на то, чтобы в будущем Япония встала на одну ступень с теми странами, современная цивилизация которых в настоящий момент является нашим поводырем»{102}. Эти идеи национальной независимости и будущего величия вели за собой ряд менее глобальных задач, таких как пересмотр неравноправных договоров и снятие с Японии статуса полуколонии. Кроме того, следовало укрепить национальное единство и справиться с проблемами прошлого, чтобы построить мощную и процветающую державу. Этот набор целей обусловил новое понимание тех обещаний, которые содержались в Хартии. За три первых десятилетия существования режима Мэйдзи руководители Японии создали конституционный строй, созвали национальное собрание, провели индустриализацию и внедрили капиталистические отношения, наконец, реорганизовали социальную структуру страны. В своих мемуарах Ито гордится этими достижениями. При этом он отмечает, что Япония осуществила Хартию клятвенных обещаний благодаря заботе о сохранении «процветания, силы и культуры страны, а также благодаря последовательному стремлению к равноправному членству в семье наиболее мощных и цивилизованных наций мира»{103}.
Строительство нового государства
Одной из основных задач для молодых людей, выбивших власть из рук Токугава, было создание централизованной политической структуры, которая могла бы им позволить эффективно управлять всей страной. Соответственно, вскоре после провозглашения Хартии клятвенных обещаний, лоялисты условились провозгласить Сейтайсо. Это было установление, которое зачастую называют Конституцией 1868 г. Согласно ему вся власть передавалась Дадзокану, или Большому государственному совету. Впервые этот орган появился в ходе реформ VII–VIII столетий, положивших начало японскому государству. На ранних этапах истории Дадзокан выполнял функции главного законодательного и исполнительного органа, пока его значение не уменьшилось. В 1868 г. его роль в государстве была восстановлена. В руководство Дадзокана входили главный государственный министр, два его заместителя и несколько советников, возглавлявших различные ведомства. Без излишних раздумий, революционеры из Сацума и Чосю, вместе со своими союзниками-радикалами из числа придворных, начали добиваться монополии на занятие ведущих позиций в этом органе. В конце 60-х и в 70-х гг. такие люди, как Ивакура Томоми, Окубо Тосимичи, Кидо Такаёси, Ито Хиробуми и Ивакура Аритомо, редко отдалялись от эпицентра событий. Встречи министров и советников проходили часто. На них вырабатывались коллективные решения по поводу важных вопросов государственной политики, издавались декреты и законы, которые затем шли на подпись к императору. Дадзокан доказал свою эффективность в качестве формы революционного правительства. Он соответствовал и прежней традиции, позволяя небольшой группе людей концентрировать в своих руках всю власть, быстро принимать решения, а затем проводить их в жизнь через своих же министров. Вероятно, именно по этой причине он оставался центральным исполнительным органом нового режима до середины 1880-х, когда была введена новая, кабинетная система. Люди из революционного центра также искали возможность распространить свою власть на почти 280 даймё, домены которых до сих пор оставались практически независимыми. Ито и Кидо были одними из первых, кому в голову пришла мысль заменить домены новой системой современных префектур. Контроль за ними, осуществляемый непосредственно Дадзоканом, мог обеспечить надежное решение проблемы политической раздробленности. Однако они также осознавали тот риск, с которым было связано подобное предприятие. Поэтому они продвигались постепенно, используя на своем пути сочетание принудительных мер и положительных стимулов. Первый свой шаг новый режим предпринял летом и осенью 1868 г., направив во все замковые города чиновников, которые исполняли функции координаторов при решении проблем с местной администрацией. В начале следующего года лидеры нового режима, которые были выходцами из Сацума, Чосю, Тоса и Хидзэн, принудили своих даймё сдать документы на право владения этими доменами императору Этому примеру последовали и многие другие местные правители. В конце концов, в Шестом месяце 1869 г. имперское правительство, переехавшее к тому времени в Эдо, переименованный в Токио, потребовало возврата подобных документов от всех даймё. Таким образом, новое правительство лишило даймё их традиционной автономии и значительно повысило свою возможность контролировать управление на местах. Даймё тем не менее сохранили статус «имперских губернаторов». К 1871 г. Кидо, Окубо и их коллеги по Дадзокану подготовили окончательную ликвидацию доменов. Прекрасно помня, с какой ненавистью и враждебностью они сами встречали попытки сёгуна сделать то же самое, Кидо и другие весьма опасались возможного сопротивления. Поэтому они сконцентрировали в Токио десять тысяч солдат под командованием Сайго Такамори. В то лето император собрал в новой столице десятки имперских губернаторов, и в четырнадцатый день Седьмого месяца зачитал им короткий и предельно понятный эдикт, отменявший домены и вводивший вместо них 302 префектуры (количество которых вскоре было сокращено до 72, а позднее — до 48) и три города. Возглавлять каждое из этих образований должен был новый губернатор, утверждаемый Дадзоканом. Эта новость, по выражению одного из иностранных наблюдателей, поразила страну «подобно грому». Британский посланник в Японии высказывал удивление по поводу того, сколь стремительно японское руководство смогло централизовать власть. По его словам, это «практически выходило за грань человеческих возможностей», и в Европе на осуществление подобного шага потребовались бы многие годы и море крови{104}. Успеху нового государства способствовал ряд обстоятельств. Некоторые даймё испытывали сильную усталость от попыток управлять своими доменами во времена хаоса. Другим войско Сайго показалось чересчур грозным. Многих привлекли крупные пенсии и аристократические титулы, которые были обещаны всем бывшим правителям. Наконец, подавляющее большинство бывших даймё осознавало необходимость централизации власти для сохранения единства Японии. Режиму Мэйдзи необходимо было подчеркнуть, что он полон решимости уничтожить «обычаи прошлого» и дать всем людям возможность «исполнить их желания» и «объединиться для развития экономики и повышения благосостояния нации». С этой целью он ликвидировал старый социальный порядок, основанный на конфуцианстве, равно как и те привилегии, которые обусловливали различия между самурайским, крестьянским, ремесленным и торговым сословиями. Летом 1869 г., когда правительство Токио изъяло у даймё документы на право владения доменом, оно также ввело новую формальную классификацию населения. Отныне общество подразделялось на знатных людей, бывших самураев и простолюдинов. С этого времени приблизительно 427 семей бывших даймё и старой придворной аристократии стали именоваться знатью, или кадзоку. Бывшие самураи высших рангов получили название сидзоку, менее высокопоставленные самурайские семьи превратились в соцу. Эти две категории вместе составляли около 6 % от всего населения Японии, которое в то время равнялось 30 000 000. Крестьяне, торговцы и ремесленники объединялись под одним термином беймин, или простолюдины, составлявшие 90 % населения. Вне новой классификации оказались изгои и духовенство, приблизительно 1,75 и 1,25 % населения соответственно. На протяжении последующих нескольких лет правительство сняло ограничения, которые прежде практически исключали возможность профессиональной и социальной мобильности. Так, например, в 1871 г. режим присоединил изгоев к простолюдинам и позволил всем им брать себе фамилии. Приблизительно в то же время он разрешил отчуждение пахотной земли, ликвидировал существовавшую со времен Токугава систему гильдий и привилегированных товариществ и снял запрет на браки и усыновление представителей разных классов. Большие группы населения восприняли социальные изменения как освобождение, однако последствия этих действий властей тяжело отразились на некоторых самураях. Бывшие представители воинского сословия потеряли не только исключительную привилегию на обладание фамилиями. В 1876 г. правительство лишило их права на ношение мечей. Но наиболее серьезной потерей была отмена тех выплат, которые самураи получали из поколения в поколение только за принадлежность к воинскому сословию. После ликвидации системы доменов правительство в Токио взяло на себя осуществление этих выплат. Это немедленно увеличило его расходы почти на треть. Обеспокоенные размерами трат, Окубо и другие стали добиваться отмены субсидий. Не все новые лидеры, однако, были убеждены в разумности этого плана. Кидо, например, считал неправильным с моральной точки зрения лишать средств тех, кто на протяжении многих сотен лет защищал страну. Кроме того, и он, и Ивакура опасались возможного контрреволюционного мятежа. Однако основанные на финансовых соображениях аргументы Окубо в конце концов взяли верх. В конце 1873 г. Дадзокан приказал тем бывшим самураям, которые отказались от своих стипендий, предоставить государственный заем, который должен был выплачиваться постепенно на протяжении определенного времени. Тремя годами позже это правило было распространено на всех. Сделав это, правительство подстелило себе соломки в бюджетной сфере. В совокупности, ежегодные выплаты по займу составляли около половины той суммы, которую надо было выплачивать в качестве стипендий, а инфляция потихоньку съедала стоимость будущих выплат. Реализация отмены стипендий была облегчена другой экстраординарной инициативой, а именно переходом к формированию армии на призывной основе. Это ликвидировало необходимость содержания военного сословия. Среди руководства режима Мэйдзи были и такие, кто предлагал превратить бывших самураев в профессиональное войско, однако Ямагата Аритомо представил убедительные аргументы в пользу создания армии, службу в которой проходили бы представители всех слоев населения. Частично его аргументация базировалась на его личном опыте. В бытность свою одним из лидеров движения сонно дзои в Чосю, Ямагата в 1863 г. участвовал в организации добровольческой милиции, Кихейтай, в которую входили около 400 человек, представлявших разные социальные классы. Кихейтай получила боевое крещение во время бомбардировки Симоносеки. В 1866 г., во время гражданской войны Босин, ее члены храбро сражались с экспедиционными силами сёгуната. Их успешные действия натолкнули Ямагата на идею создания современной армии, основанной на всеобщем призыве. Посещение в 1869 и 1870 гг. Европы, где он воочию убедился в силе и эффективности прусской и французской армий, которые формировались на принципах всеобщей воинской повинности, еще более укрепило его в этом мнении. Еще более существенным аргументом было то, как объяснили Ямагата лидеры европейских стран, что подобная система комплектации войска открывает новые возможности для мобилизации усилий всего народа на пользу государства, а также укрепляет связь между правительством и населением страны. После своего возвращения в Японию Ямагата получил назначение на должность заместителя военного министра и приступил к работе над подготовкой Указа о воинской повинности. Этот документ был издан 10 января 1873 г. В нем были отражены надежды Ямагата: «Этим нововведением управляющие и управляемые будут поставлены на одну основу, права людей будут равными и будет проложен путь к единству солдата и крестьянина»{105}. В частности, новый закон предусматривал, что все мужчины по достижении двадцатилетнего возраста будут призываться на три года на действительную воинскую службу, а затем еще четыре года будут находиться в резерве. Подобно французской модели, которая была взята в качестве образца, указ делал исключение для глав семей и единственных наследников в семьях крестьян и предпринимателей, а также предусматривал замену службы денежными выплатами. Поскольку в армию и на флот продолжали приходить добровольцы из числа бывших самураев, немедленный переход к формированию войска на основе всеобщей воинской повинности был невозможен. Кроме того, введение призыва было поворотной вехой в истории. В социальном отношении оно являлось еще одним шагом на пути ликвидации самурайского сословия и создания общества, базирующегося на принципах равных возможностей. С военной точки зрения оно способствовало усилению власти правящего режима, создав силу, способную поддерживать внутреннюю стабильность. С нововведениями в сфере администрации, выплат бывшим самураям и военной были связаны и изменения налоговой системы. Основным источником поступлений оставались налоги на производство риса и других злаков. Однако Окубо Тосимичи, бывший министром финансов в начале 1870-х, был озабочен поисками новых принципов налогообложения. В частности, он стремился избавиться от проблемы ежегодных колебаний суммы налоговых сборов, которые представляли собой значительную проблему для сёгуната и даймё в эпоху Токугава. Для этого Окубо предполагал заменить натуральный налог фиксированными денежными выплатами и при их расчете исходить не из предполагаемого урожая всей деревни, а из качества той земли, которая находилась в распоряжении того или иного индивидуального хозяйства. Мацуката Масаёси, бывший самурай из Сацума, был взят в Министерство финансов с поста главы одной из префектур острова Кюсю. Ему налоговая реформа представлялась в несколько ином свете. В своем меморандуме, циркулировавшем среди членов Дадзокана, Мацуката указывал, что налоговые ставки сильно отличаются друг от друга в зависимости от региона. Поэтому, по его мнению, необходимо стандартизировать процедуру сбора налогов и унифицировать их размер. Это позволит избежать социальной напряженности, сотрясавшей страну в последние десятилетия эпохи Токугава. 28 июля 1873 г. император издал Закон о реформе налогообложения, в котором подчеркивалось его желание о том, чтобы «налоги собирались беспристрастно, поскольку выплаты должны касаться всех в равной степени»{106}. Соответственно, правительство приступило к выдаче сертификатов на право владения землей тем, кто занимался сельским хозяйством, и каждому из таких наделов была присвоена определенная денежная стоимость. Ставка налога составляла 3 % от этой стоимости. Владелец земли должен был ежегодно выплачивать эту сумму деньгами. Последствием реформы было то, что сложная и пристрастная практика взимания налогов эпохи Токугава была заменена эффективной системой, обеспечивавшей правительство стабильным ежегодным доходом. В результате режим Мэйдзи собирал налоги на сумму, приблизительно равную всем выплатам, получаемым ранее сёгунатом и даймё. Эта победа, однако, повлекла за собой еще одно последствие, неожиданное, но весьма неблагоприятное. Унификация системы налогообложения была с восторгом воспринята некоторыми крестьянскими семьями, однако для других она обернулась новым бременем, возложенным правительством на плечи японцев. В середине 70-х в некоторых областях тлевшее до этого недовольство по поводу налоговой политики вылилось в открытые выступления. Они явились частью мощного противодействия действиям нового режима, стремившегося к достижению полного контроля над административной, законодательной, налоговой и военной сферами.Борьба с оппозицией
В начале 70-х гг. XIX столетия Япония по-прежнему находилась на распутье. Революционные нововведения, насаждаемые режимом Мэйдзи, расшатывали традиционный политический и социальный порядок и давали контроль над судьбами нации в руки нового правительства. В то же самое время обещание Хартии отказаться от «основополагающих обычаев прошлого» и обратиться к мировому опыту свидетельствовало о том, что нацию ожидают новые перемены глобального характера. Для всех японцев эти события означали тот рубеж, на котором следует сделать свой выбор. Народ мог либо оказывать сопротивление попыткам режима взять всю власть в свои руки и проведению реформ, либо согласиться с уходом от прошлого, оказать поддержку новому правительству и принять новые условия своего существования. К концу десятилетия подавляющее большинство простых японцев решили следовать за Мечтой Мэйдзи по пути к светлому будущему. Однако прежде чем прийти к согласию с правящим режимом, некоторые люди пережили период, когда они колебались — следует ли отдавать свои судьбы в руки каких-то неизвестных большинству населения деятелей. Кроме того, их беспокоило то направление, в котором должны были идти реформы. И это порождало у них нежелание подчиняться законам нового режима, платить ему налоги и сражаться за него на поле боя. В некоторых, довольно малочисленных, регионах крестьяне упорно противостояли попыткам властей заменить старых местных чиновников новыми, пересмотреть систему налогообложения и ввести воинскую повинность. В Окаяма, например, в 1871 г. более тысячи крестьян прошли маршем к замковому городу, требуя снижения налогов и возвращения их прежнего правителя, который хорошо заботился о них в прошлом. В префектуре Ямагата люди участвовали в массовых демонстрациях, составляли петиции, предпринимали походы на Токио и нападали на представителей правительства Мэйдзи, возмущенные назначением нового губернатора и его попытками ввести дополнительные налоги. Сопротивление крестьян новому поземельному налогу достигло своего пика в период между 1873 и 1876 гг. Причиной тому послужило стремление Токио ликвидировать региональную разницу в размерах налогов, что привело к увеличению налогового бремени для некоторых крестьянских семей. Других сельских жителей более всего возмутил введенный новым режимом «налог кровью». Именно этим термином в правительственном эдикте была обозначена действительная воинская служба. Таким образом подчеркивалось, что жители страны должны быть готовы пожертвовать своей жизнью ради безопасности страны. Некоторые крестьянские семьи, однако, восприняли эти слова буквально. Более шестнадцати случаев выступлений были отмечены весной и летом 1873 г. Они были вызваны распространявшимися слухами, что по деревням ходят люди с большими стеклянными бутылями и выкачивают кровь из призывников. В конце концов режиму Мэйдзи пришлось прибегнуть к политике кнута и пряника. Он в более ясных выражениях объяснил свои цели, почти на 20 % снизил в 1877 г. налоги и направил полицейские силы в те места, где необходимо было убавить пыл протестующих. Большую опасность для режима представляла оппозиция со стороны сидзоку. Планы правительства, связанные с ликвидацией привилегий самурайского сословия, наталкивались на сопротивление по разным поводам. Однако тем катализатором, который заставил многих представителей бывшего воинского сословия примкнуть к антиправительственным заговорам, явился отказ Дадзокана санкционировать безумный проект вторжения в Корею в 1873 г. В ряде случаев, между 1869 и 1873 гг. Япония предлагала Корее формально признать правительство Мэйдзи. Однако корейский двор игнорировал эти предложения, в основном по той причине, что это замкнутое государство не желало рисковать своими традиционными данническими отношениями с Китаем. Древние дипломатические протоколы требовали от Кореи периодической отправки в Пекин своих представителей. Это было выражением верноподданнических чувств по отношению к императору Поднебесной и демонстрацией культурного и политического доминирования Китая. В свою очередь, китайское правительство присваивало корейскому королю почетные титулы, обещало военную поддержку и позволяло корейским купцам вести ограниченную, но весьма прибыльную торговлю, идущую в связке с ритуальным обменом корейской дани на ответные китайские дары. В свете этой традиции, Корея в 1873 г. не была готова резко перестроить свои отношения с Японией. Однако Китай уже не мог отстаивать свои интересы на азиатском континенте. Он убрал свой защитный зонтик, оставив Корею один на один с проблемами 1870-х и последующих годов. Сайго Такамори, обладавший высочайшим авторитетом как один из «героев 1868», воспринимал отказы как смертельное оскорбление японского императора и его министров. В 1873 г. он возглавил группу членов Дадзокана, требовавших организации карательной экспедиции против Кореи. По письмам Сайго и другим записям можно составить представление об этом человеке. Он представляется молчаливым человеком, с простым и категоричным взглядом на мир. Весьма категоричный в суждениях, он обвинял корейский двор в отсутствии «достоинства». Равным образом, он называл своих коллег в Токио «морально испорченными» после того, как те отважились высказать мысль, что самураи должны быть лишены своих привилегий и избавлены от ответственности за оборону страны. Воин из Сацума рисковал всем, когда в 1860-х вступил в борьбу с режимом Токугава. Однако он и представить себе не мог, что новый режим Мэйдзи будет рассматривать самураев как исторический шлак, от которого следует освободить государство. Обмозговав эту проблему, Сайго пришел к заключению, что вторжение на Корейский полуостров может сыграть роль выпускного клапана для бурлящего негодования воинов и дискредитировать Окубо и других лидеров, считавших необходимой ликвидацию самурайского сословия. Кроме того, эта операция могла возродить роль самураев в новом государстве эпохи Мэйдзи. Будучи импульсивным и весьма деятельным человеком, он зашел так далеко, что даже выступил с инициативой лично отправиться в Корею, чтобы возобновить переговоры. При этом он рассчитывал на то, что его непременно там убьют, дав, таким образом, повод для организации военной экспедиции против Кореи. Для ряда ключевых фигур правительства поведение Сайго переходило все границы. В Токио Окубо упорно обрабатывал членов Дадзокана, убеждая их, что Японии, прежде чем ввязываться в международные авантюры, следует сначала заложить основы своей военной и финансовой мощи. Подобные аргументы содержались и в меморандумах, которые писал Ки-до Такаёси, прикованный к постели тяжелой болезнью (от которой и скончался четырьмя годами позже). Япония еще «не достигла необходимого уровня мощи и богатства», — писал он, а также, по его мнению, стране «не хватало цивилизации»{107}. Учитывая плачевное положение страны, ее лидеры отдавали предпочтение «руководству нашими финансами и экономикой». Предусмотрительность требовала от японцев «заниматься нашими внутренними делами» и строить революционную модель государства, а не рисковать своим будущим, вступая в опасные заморские игры. Вопрос был разрешен только в октябре 1873 г., когда молодой император, после аудиенции с Ивакура Томоми, принял сторону «партии мира». Корейский вопрос расколол руководившую страной коалицию. В течение нескольких дней после решения императора Сайго и другие сторонники войны покинули свои посты в правительстве и удалились в свои родные провинции. Это привело к сужению правящего круга. Лидерами страны стали Ивакура, Окубо, Ито, Ямагата, Кидо и Мацуката, которые отныне и до конца своих жизней оказывали решающее влияние на японскую политику. Все вместе эти люди на протяжении 70-х и 80-х гг. определяли пути изменений, проходивших в стране, концентрируя усилия на проведении внутренних реформ. Их целью при этом было достижение процветания и могущества, равенство с Западом и безопасность перед лицом империалистической угрозы. Однако, прежде чем им удалось до конца довести реформы Мэйдзи и перевернуть очередную страницу своей программы будущих изменений, Окубо и его товарищам пришлось подавить сопротивление тех, кто в гневе покинул Токио в 1873 г. Первым поднял оружие Это Синпей, игравший ключевую роль в Дадзокане и занимавшийся реформированием японской системы законов. Когда Окубо и его союзники отвергли предложение о вторжении в Корею, Это покинул свой пост министра юстиции и вернулся в свою родную префектуру Сага, в которую частично вошла территория бывшего домена Хидзэн. Выпускной клапан для гнева бывших самураев был сломан, когда Дадзокан, стремившийся ликвидировать их как класс, избрал мирный путь развития. И Это первым поставил вопрос о замене руководства страны национальным представительным органом. Когда его попытки добиться этого провалились, он собрал вокруг себя около 3000 самураев и в феврале 1874 г. атаковал банки и правительственные учреждения. Окубо лично возглавил экспедиционный корпус и достаточно быстро подавил мятеж Сага. Это удалось бежать, однако войска Окубо схватили его и вернули в префектуру. Двумя месяцами позже он был казнен по приказу правительства. Его отрубленная голова была насажена на кол и выставлена на всеобщее обозрение в качестве грозного предупреждения всем потенциальным бунтовщикам. Вслед за серией жестоких, но изолированных друг от друга восстаний сидзоку, произошедших в Западной Японии в 1876 г. и безжалостно подавленных правительством Мэйдзи, новому правительству пришлось столкнуться с более серьезным вызовом, брошенным ему Сайго Такамори. В 1873 г. Сайго, в сопровождении нескольких сот императорских гвардейцев и столичных полицейских, оставивших свою службу, отправился в родные места, оказавшиеся на территории префектуры Кагосима. Дома, в бывшем домене Сацума, он жил на пенсию, которую получал за свою прежнюю службу трону. Он полностью забросил политику и наслаждался счастливой жизнью жителя сельской местности. Он работал на земле, охотился, ловил рыбу, бродил по окрестностям со своими любимыми собаками. Сельская жизнь, далекая от того, что он афористически называл развращенной токийской политикой, доставляла ему огромную радость, которую он выразил в поэтических строках:Изучение Запада
Как только в 70-х гг. XIX столетия лидеры Мэйдзи утвердили свою власть, провели первую серию реформ и разгромили оппозицию, они начали искать идеи и образцы, которые позволили бы им найти путь к осуществлению Мечты Мэйдзи о национальной независимости, пересмотре договоров, равенстве с Западом и мире и процветании страны. Обдумывая будущее, многие лидеры Мэйдзи обратили свои взоры на Запад, надеясь у него научиться, как организовать политические институты, обеспечить экономическую стабильность и достичь гармонии в обществе. И другие японцы, не входившие в правительство, также были очарованы эффективностью политики, военной мощью и удивительными научными знаниями западных стран. Возросший интерес к Западу, который руководство страны разделяло с наиболее влиятельными частными лицами, положил начало эре бунмэй каика («цивилизация и просвещенность»). Эта фраза в 1870-х крутилась на языках японцев, когда они обдумывали способы устранения «основополагающих обычаев прошлого» и реализации своих мечтаний о лучшей и более безопасной жизни. Обращение к Западу было обусловлено и быстрым распространением Голландского учения, наблюдавшимся в конце XVIII — начале XIX столетия. Однако после визита Перри многие японцы не желали более ограничиваться изучением заморских стран по завезенным в страну книгам. Теперь они были охвачены, по выражению одного молодого японца, «желанием устремиться за океан и посвятить себя великой задаче изучения далеких стран»{109}. Первая волна любопытных хлынула за границу в 1860-х. Некоторые отправлялись в путешествие тайком. Среди последних был Ниидзима Дзо. В 1864 г. он упросил американского торговца взять его с собой за границу. Позднее он вернулся в Японию, став первым протестантским священником в этой стране. Другие отправлялись в далекие края в составе дипломатических миссий. В 1862 г. сёгунат послал нескольких молодых самураев на учебу в Лейденский университет — первое западное учебное заведение, принявшее в свои стены японцев. В 1863 г. домен Чосю тайно послал в Англию нескольких молодых людей, среди которых были Ито Хиробуми и Иноуэ Каору, а в 1866 г. правительство Токугава направило в Лондон группу студентов, которую возглавлял Накамура Масанао. Большинство японцев, посетивших Запад в 60-е гг. XIX столетия, совершали это в качестве членов дипломатических миссий сёгуната. Выдающийся финансист Огури Тадамаса и Фукудзава Юкичи, молодые самураи, владевшие голландским и английским языками, отправились в 1860 г. в Соединенные Штаты на борту корабля «Канрин Мару». Они были в составе первой официальной японской миссии, в задачи которой входила ратификация Договора о дружбе и торговле. Интерес к этой миссии в Америке был чрезвычайно высок. Уолт Уитмен в своем стихотворении «Шествие по Бродвею» передал то впечатление, которое произвела на американцев восточная процессия на улицах Нью-Йорка:Миссия Ивакура
Одним из самых замечательных эпизодов истории изучения западных культур был связан с делегацией, во главе которой стоял Ивакура Томоми. В 1871 г. правительство послало ее в Соединенные Штаты и Европу. Миссия должна была нанести визиты вежливости главам 15 государств, установивших официальные отношения с Японией. В ее задачи входило также попытаться убедить правительства этих стран пересмотреть заключенные ранее неравноправные договоры, которые ущемляли суверенитет Японии. Однако размеры и состав делегации были подобраны таким образом, что ее третья цель — изучение западной цивилизации и поиск ключей к раскрытию секретов ее успеха — представлялась первоочередной. В двенадцатый день Одиннадцатого месяца 41 чиновник, среди которых были и представители «узкого круга», такие как Ито Хиробуми, Окубо Тосимичи и Кидо Такаёси, отплыли из Иокогамы. Вся делегация была разделена на группы, у каждой из которых была своя задача: изучение конституций и политических систем западных стран; сбор информации экономического характера относительно торговли, промышленности, банковской, денежной и налоговой систем; исследование систем образования и науки. Делегацию сопровождали 58 студентов, среди которых были и пять девочек в возрасте от 6 до 15 лет. Они должны были остаться за океаном на несколько лет, чтобы пройти обучение в западных образовательных учреждениях. Сойдя с корабля в Сан-Франциско, посольство направилось в Вашингтон, где состоялась встреча с президентом Улиссом С. Грантом и госсекретарем Гамильтоном Фишем. На ней они получили ответ на интересующий их вопрос: ведущие мировые державы не пересмотрят договоры до тех пор, пока Япония не докажет свою состоятельность. Для этого ей следует осуществить реформу национальных законов и институтов, максимально приблизив их к западным образцам. После этого делегация задвинула дипломатические дискуссии на второй план, сфокусировав свое внимание на постижении Запада. Разделившись на группы, ее члены постарались побывать в самых разнообразных местах: в школах и музеях, тюрьмах и полицейских участках, монетных дворах и торговых палатах, верфях и ткацких фабриках и фабриках по производству сахара-рафинада. Работа делегации проходила в бешеном темпе, о чем свидетельствуют записи, сделанные официальным историографом миссии:Как только наш поезд прибыл на станцию назначения, мы, разместив в гостинице багаж, приступили к делу. В течение дня мы ходили от одного места к другому, осматривая машины для очистки семян и издававшие страшный шум локомотивы. Дым, клубившийся вокруг нас, обдавал нас едким запахом стали и покрывал копотью и грязью. Вернувшись в гостиницу в сумерках, мы едва успели почистить нашу одежду за время, остававшееся до культурной программы. Во время этой программы мы должны были вести себя с достоинством. Если нас приглашали в театр, то мы должны были напрягать зрение и слух, чтобы уследить за событиями, разворачивавшимися на сцене, что доводило нас до изнеможения. Мы не успевали добраться до своих постелей, как утро уже приветствовало нас и сопровождающие вели нас на экскурсию на фабрику{111}.Члены миссии Ивакура должны были испытывать крайнюю усталость, но то, что они видели, было слишком увлекательным. Первоначально планировалось, что делегация пробудет за океаном семь месяцев, однако путешествие растянулось на год. За это время она посетила девять городов в Соединенных Штатах и провела почти год в Европе, проехав от Ливерпуля до Рима, Марселя и Парижа, а затем — до Санкт-Петербурга и Стокгольма. Родные берега ее члены увидели только осенью 1873 г., когда основное внимание было уделено спорам вокруг Кореи. Во время путешествия по Европе и Америке перед миссией Ивакура встали два вопроса. Во-первых, японцам очень хотелось узнать, каким образом Запад достиг современного уровня развития? То есть благодаря чему возникли богатство, мощь, высокая культура, которые казались столь очевидными в тех странах, которые они посещали? А во-вторых, как мог японский народ, этот проживающий на островах «антипод» из стихотворения Уитмена, сильно удаленный от Запада в географическом плане, достигнуть такой же степени модернизации и войти в число наиболее развитых наций мира? Простые ответы на эти вопросы отыскать было сложно, однако некоторые выводы приходили в голову сами собой. В первую очередь это касалось неоспоримого превосходства западной науки и технологии. В январе 1872 г. Кидо писал из Америки, что раньше он не представлял, насколько далеко ушел Запад в своем развитии. Японская «современная цивилизация, — делал он вывод, — не является подлинной цивилизацией, наша современная просвещенность не является подлинной просвещенностью»{112}. Более того, члены миссии пришли к заключению, что современность является неизбежным следствием прошлого. Совокупность всего исторического опыта Запада — его культурных ценностей, социальной организации и системы образования, эволюционировавших с течением времени, — явилась причиной современного превосходства Соединенных Штатов и стран Западной Европы и дала им возможность взять верх над традиционными культурами Азии. Вдобавок, используя понятие «Запад» в качестве удобного обобщающего термина, спутники Ивакура начали осознавать, что Евро-Америка не представляет из себя единого целого. Некоторые страны развиваются быстрее, чем другие, или, по словам историографа миссии, Англия «задирает нос перед всем миром», и «отправляясь из Парижа на восток, чем дальше едешь, тем меньше цивилизации видишь вокруг себя»{113}. Эти различия были крайне важны для понимания японцами, почему нации Запада вступают в борьбу между собой за богатство и могущество. Пользуясь категориями эволюционной теории Дарвина, столь популярной в середине XIX столетия, те нации, которые наиболее успешно осваивали новые технологии, гражданские институты и либеральные ценности, начинали доминировать в международном сообществе. Те, кто не сумел этого всего добиться, сталкивались с колонизацией и даже могли оказаться на грани исчезновения. Мнение о том, что внешний мир представляет собой опасность и что современное состояние Запада основывалось на его собственном неповторимом опыте, было достаточно тревожным сигналом. Однако путешествие в Соединенные Штаты и Европу привнесло и обнадеживающий момент. Не один член миссии Ивакура с удивлением отметил, что блестящие успехи в области технологии и промышленности были достигнуты Западом в относительно недавнее время. «Большинство европейских стран излучают свет цивилизации и обладают несметными богатствами, — писал историограф миссии. — Торговля процветает, их технические достижения превосходны, их жизнь полна комфорта и наслаждений. Наблюдая все это, можно подумать, что эти страны всегда жили подобным образом. Однако это не так. Та степень богатства и процветания, которая наблюдается ныне в Европе, была достигнута лишь после 1800 г. По меньшей мере, сорок лет потребовалось для того, чтобы произвести все это. Те, кто будет читать эти строки, должны использовать этот урок на благо Японии»{114}. Эта новизна западных достижений, как предполагал историограф, подразумевала, что Япония могла преодолеть отставания от ведущих западных держав, если только лидеры страны будут вести себя мудро и рассудительно и позаимствуют иностранные технологии, принципы промышленного производства и научные знания. На этом фоне наивысшим приоритетом становились политическая реформа и индустриализация. Для Кидо критериями «наивысшей цивилизации» были институты парламентаризма, которые представляли собой наиболее перспективный способ рационализации политического порядка и обеспечивали единство цели для управляющих и управляемых. Окубо, наоборот, был очарован промышленным производством. «Наши нынешние путешествия, — писал он из Лондона, — познакомили нас со многими весьма интересными местами. Мы побывали буквально повсюду. И везде, где мы появлялись, мы видели, что земля не порождает ничего, кроме угля и железа. Фабрики разрослись до неслыханных размеров, так что черный дым поднимается к небу по всей линии горизонта. Это — самое разумное объяснение происхождения богатства и мощи Англии»{115}.
Интеллектуалы и просветители
Многие японцы не в меньшей степени, чем лидеры нации, желали изучать внешний мир и нести в Японию преимущества модернизации. Ниидзима Дзо отправился в Соединенные Штаты в 1864 г., а в 1870-м, закончив Амхерстский колледж, стал первым японцем, получившим высшее образование в западном учебном заведении. Приняв христианство, Ниидзима продолжил свою учебу в Андоверской семинарии. Во время пребывания в США миссии Ивакура, он исполнял при ней обязанности переводчика. После своего возвращения в Японию, он получил разрешение от Кидо и других лидеров Мэйдзи на создание в Киото христианской академии. Это учебное заведение, получившее наименование Досиса, открылось в ноябре 1875 г. В то время в его стенах обучались лишь восемь студентов, однако вскоре их количество значительно увеличилось за счет молодых людей, которые разделяли точку зрения Ниидзима, что вестернизация, цивилизация и христианство составляют неразрывную триаду, необходимую для будущего развития. По его собственным словам, «именно дух свободы, развитие науки и христианская мораль породили цивилизации Европы… Мы не можем ожидать от Японии приобщения к этой цивилизации, пока образование не будет основано на тех же принципах»{116}. Другие интеллектуалы считали переводы лучшим способом распространения идеалов цивилизации и просвещенности. Одна за другой, на протяжении 70-х гг. XIX столетия, идеи Милля, Бентама, Спенсера, Токвиля, Гизо и Руссо, касающиеся гражданских свобод, естественного права, утилитаризма и рационального позитивизма, становились доступными японцам благодаря работе переводчиков. Вероятно, из всех иностранных книг наибольшее влияние в эпоху бунмей каика оказала работа Сэмюэля Смайлза Помоги себе сам. Согласно отчетам, в Японии было продано более миллиона экземпляров этой книги — в четыре раза больше, чем в США и Британии. Переводчиком ее был Накамура Масанао, который познакомился с творчеством Смайлза во время своего пребывания в Лондоне. Он достаточно вольно изложил содержание книги, а некоторые ее части полностью переписал. В итоге японская версия этого бестселлера безоговорочно осуждала иерархическую структуру общества эпохи Токугава и всячески поддерживала постулат Смайлза о «достижении успеха в этом мире». На протяжении всей книги Накамура подчеркивал свой основной тезис: каждый индивидуум обязан упорно трудиться и развивать свои таланты, чтобы достичь успеха в этом мире и превратить Японию в сильную державу. Целое поколение молодежи, выросшее в эпоху Мэйдзи, вдохновлялось начальными строками книги Смайлза, пересказанными Накамура: «Пословица «Небеса помогают тем, кто помогает себе сам» — это аксиома, которая подтверждается опытом. В этом изречении заключены успех или неудача любого начинания человека. В более общем смысле, когда большинство жителей страны «помогают себе», то сама страна наполняется энергией, и дух ее укрепляется»{117}. Самым неутомимым и наиболее заметным пропагандистом западного учения в 1870-е гг. был Фукудзава Юкичи. Родился он на острове Кюсю, в домене Накацу, в обедневшей самурайской семье. С юных лет он презирал, по его собственному выражению, «тупую окостенелость» социальной структуры эпохи Токугава. Чтобы избежать унылой предопределенности своего будущего, он в 1854 г. отправился в Нагасаки, а затем — в Осаку. Его целью было изучение голландского языка и постижение западных наук. Четырьмя годами позже он пред принял путешествие в Эдо, где, к своему разочарованию, узнал, что не голландский, а английский язык является средством международного общения. Не утратив от этой новости своего энтузиазма, он приступает к изучению английского и в 1860 г. отправляется на борту Канрин Маару в Соединенные Штаты в качестве переводчика первого японского посольства. Два года спустя, в составе другой миссии сёгуната, он предпринял путешествие в Англию, Голландию, Португалию и Россию, где постарался узнать как можно больше о западной цивилизации. Наблюдения, сделанные во время путешествий, привели его к тому же заключению, которое было сделано и другими деятелями просвещения. Япония была слабой и отсталой потому, что ее традиционная культура не способствовала развитию научной любознательности, самоуверенной независимости и стремления к личному успеху, что было характерным для западных народов. Чтобы поспособствовать внедрению в Японии тех ценностей, с которыми он познакомился на Западе, Фукудзава становится просветителем, публицистом и писателем. В 1868 г. он переименовал школу Голландской учености, основанную им же десятью годами ранее, в Кейо Гидзуку (академия Кейо, с 1910 г. — университет Кейо). Он превратил академию в ведущий центр, где обучались молодые люди, интересовавшиеся западной наукой. Через шесть лет, в феврале 1874 г., Фукудзава, вместе с Накамура, стал одним из основателей Мейрокуса («Общество шести эпохи Мэйдзи»). Оно было создано для того, чтобы «продвигать «цивилизацию и просвещенность»» посредством публичных лекций, а также публикаций в журнале Мейроку дзасси. Этот печатный орган общества Мейрокуса вскоре превратился в важное средство представления новых идей по таким разнообразным направлениям, как этика и религия, политика и природа правительства, международные отношения и внешняя торговля, положение женщины и роль семьи в обществе. Немного позже Фукудзава начал публикацию своего собственного журнала, а в 1882 г. он основал одну из первых японских газет. Фукудзава оставил богатое письменное наследие. Современное издание его трудов насчитывает 24 тома. В своих работах он ясно и доходчиво объясняет необходимость просвещения, размышляет по поводу негативного влияния прошлого Японии и о путеводной звезде западной культуры. В его труде Гакумон но сусуме («В поддержку учености», 1872–1876) он открыто обвиняет Японию в отсталости: «Если мы сравним знания японцев и знания западных людей в области литературы, техники, коммерции или промышленности, от начала и до конца, мы не найдем ни одного аспекта, в котором мы обладаем превосходством. Только самый глупый человек в мире может сказать, что наша наука или умение вести дела могут сравниться с западными образцами. Кто может поставить на один уровень наши повозки и их локомотивы или наши мечи и их пистолеты? В нашем современном состоянии мы ничего не можем противопоставить Западу. Единственное, чем Япония может гордиться, так это своими пейзажами»{118}. Чтобы преодолеть свою отсталость, японцам, по мнению Фукудзава, было необходимо перенять те культурные практики, которые обусловили прогресс западных держав. В своем популярном многотомном труде Сэйо дзидзо («Условия на Западе», 1867–1870) он вводит понятие «Цивилизация и Просвещенность». «Глядя на историю, — писал Фукудзава, — мы видим, что жизнь была темной и замкнутой, а теперь она продвигается к цивилизации и просвещенности»{119}. В этой же работе молодой приверженец Запада предлагает своим читателям информацию о таких зарубежных учреждениях, как школы, больницы, газеты, библиотеки, музеи, работные дома и приюты для сирот, надеясь при этом, что японцы перенесут этот опыт на свою землю. Однако, более чем материальные проявления величия Запада, Фукудзава убеждал японцев воспринять сущность западной культуры. «Школы, промышленные предприятия, армии и флоты являются лишь внешней стороной цивилизации, — писал он в 1872 г. — Воспроизвести их нетрудно. Для этого необходимы лишь денежные средства. Однако остается нечто нематериальное, нечто такое, что нельзя увидеть или услышать, купить или продать, дать взаймы или позаимствовать самим. Это пропитывает всю нацию, и влияние его настолько сильно, что без него никакие школы и никакие иные внешние формы не будут иметь значения. Эту наиважнейшую вещь мы должны именовать духом цивилизации»{120}. Эти размышления по поводу «духа цивилизации» привели Фукудзава к заключительной установке: Япония нуждается в новом типе гражданина, который свободен от ограничений прошлого и открыт для новых путей постижения себя и общества. «Люди не были созданы Небом так, что один человек стоял выше, а другой — ниже», — писал он в начале Гакумон но сусуме. Каждый индивидуум, не связанный более ограничениями традиционной иерархической структуры общества, был волен идти настолько далеко, насколько позволяли ему его трудолюбие, отвага, усердие и настойчивость. Для Фукудзава, равно как и для Накамура и Смайлза, ориентирование на достижение личного успеха было истинным источником Цивилизации и Просвещенности. И только амбициозные и доводящие свои дела до конца люди могут создать сильную, процветающую и способную постоять за себя нацию.Воспитание Цивилизации и Просвещенности
Убежденные тем, что они увидели за границей, и ободренные растущим интересом к Цивилизации и Просвещенности в родной стране, Кидо, Окубо и другие члены миссии Ивакура, вернувшиеся домой в 1873 г., приступили к созданию «Процветающей нации, Сильного Войска». Это была еще одна популярная фраза той эпохи, звучавшая как фукоку къёхей. При этом они понимали, что гладкое осуществление сложной программы реформ возможно только на бумаге. Изменения в политической, экономической, социальной и культурной сферах необходимо было проводить постепенно. Кроме того, поскольку Запад предлагал далеко не единственную модель модернизации, а целый набор конкурирующих друг с другом образцов, необходимо было тщательно изучить каждый из западных прототипов, чтобы выяснить, какой из них наиболее подходит к японским условиям. Приветствие императора, переданное президенту Соединенных Штатов в марте 1872 г., проливало некоторый свет на возможный выбор. «Мы намереваемся провести реформы и улучшить положение в стране, — писал император Японии, — чтобы встать в один ряд с наиболее просвещенными нациями. Однако цивилизация и институты Японии настолько отличают ее от других стран, что мы не можем ожидать достижения быстрого успеха в наших начинаниях. Нашей целью является поиск и отбор среди огромного количества установлений просвещенных наций таких образцов, которые наилучшим образом подойдут к нашим современным условиям и которые, путем постепенных реформ и улучшений нашего государства и обычаев, позволят нам сравняться с ними»{121}. По возвращении на родину Ивакура и его товарищей ожидали недовольство крестьян и волнения самураев. Это еще раз подтвердило их мнение, что дальнейшая консолидация власти и скорейшее завершение революционного момента являются необходимыми условиями для осуществления любой кардинальной реформы. В то же самое время лидеры Мэйдзи могли надеяться на то, что им удастся взрастить Цивилизацию и Просвещенность путем внедрения западного способа мышления и образцов западной материальной культуры. Так, еще до возвращения миссии Ивакура в Токио правительство приняло решение о создании современной системы школьного образования. В Восьмой месяц 1872 г. был издан Основной кодекс образования, согласно которому страна разделялась на районы различных типов: университетские, средней школы и начальной школы, а также вводилось обязательное четырехлетнее образование для всех японских мальчиков и девочек, начиная с шестилетнего возраста. Новая школьная система переместила акцент с конфуцианской морали, царившей в японских школах эпохи Токугава, на отдельные отрасли науки и искусства, на самосовершенствование и развитие собственной индивидуальности. Соответственно, в программу начальной школы входило обучение чтению, письму и арифметике, однако в подобных школах, которых к 1875 г. насчитывалось уже несколько тысяч, изучались и переводы западных трудов по истории, географии и точным наукам. Более осязаемым по сравнению с новыми идеями в области образования было обращение к европейской одежде, пище и архитектуре, которое поощрялось правительством Мэйдзи. Новая японская армия была одета в обмундирование западного образца. Император и его чиновники для участия в публичных церемониях также одевались по-европейски. Вскоре предпочтение западному платью стали отдавать и многие простые японцы, проживавшие как в городах, так и в сельских районах, хотя зачастую можно было встретить и экзотические сочетания, как, например, кимоно, надетое поверх брюк. Складывающиеся зонтики черного цвета, кольца с бриллиантом и золотые часы превратились в заметные и популярные признаки прогрессивности и просвещенности, а среди наиболее продвинутых горожан стало считаться модным есть говядину, пить пиво и кофе. Изменениям подвергался и сам внешний вид японских городов. Новый режим ожидал, что архитектура будет символизировать мужество, решительность и оптимизм нации на пути к Цивилизации и Просвещенности. В Осаке правительство Мэйдзи поручило разработку проекта строительства национального монетного двора английскому инженеру и архитектору Томасу Джеймсу Уотерсу. В состав этого крупного комплекса, строительство которого было завершено в 1871 г., входил длинный и приземистый цех, по бокам которого располагались кабинет директора и приемная. Не всем критикам пришелся по душе несколько аляповатый портик, прилепленный в центре фасада здания и призванный придать строению близость к классическому стилю. Однако в целом новый монетный двор производил впечатление основательности, стабильности и постоянства. Это были как раз те качества, которые новое правительство хотело бы ассоциировать с собой. В Мацумото и десятках других провинциальных городов возводились новые школы. Обычно они представляли собой двухэтажные постройки, украшенные портиками, с богато декорированным входом и вычурными куполами. Послание, заложенное в их архитектонике, было очевидным. «Все это было новым, и строилось оно сразу как школа, со вторым этажом, с окнами, расположенными по всему периметру здания, через которые свет буквально заливал классные комнаты, с двором, с внушительными черными воротами, на которых было написано название школы, и флагштоком. Это выглядело как школа», — восхищался один из учеников, переполненный энтузиазмом{122}. Для жителей Токио правительство заново отстроило квартал Гиндза. Это был район скромных ремесленных мастерских, расположенный к югу от огромного торгового района Нихонбаси. После того как в 1872 г. Гиндза был уничтожен пожаром, правительство Мэйдзи поручило Уотерсу застроить весь квартал домами из красного кирпича. Через три года, когда реконструкция была завершена, на месте старого Гиндза высилась почти тысяча домов из красного кирпича. Они стояли вдоль улиц, освещенных газовыми фонарями. Со временем Гиндза стал домом для предпринимателей, порожденных стремлением к Цивилизации и Просвещенности. Сисейдо, первое успешное предприятие по производству косметики западного образца, начиналось как небольшая парфюмерная лавка, возникшая вскоре после большого пожара. В 1881 г. в самом сердце Гиндза Хаттори Кинтаро создал свою часовую компанию Сейко. Часовая башня, которую он построил, на протяжении почти ста лет оставалась архитектурным символом этого района. Неподалеку от Гиндза правительство построило для себя Рокумейкан, или Зал Трубящего Оленя. Это название было взято из древнего китайского стихотворения и символизировало призыв на веселое праздничное собрание. Однако Рокумейкан не имел ничего общего с японской традицией. Идея его постройки принадлежала Иноуэ Каору, высокопоставленному правительственному чиновнику Внешне он представлял собой двухэтажное кирпичное здание, построенное в итальянском стиле. Внутри размещались комнаты для чтения, столовые, концертные помещения и бильярдные. Таким образом, зал представлял из себя центр досуга столичной элиты, где богатые и космополитичные японцы могли пообщаться с высокопоставленными и влиятельными иностранцами. Здесь располагался также обширный бальный зал, и когда в календаре элиты закрепились танцы по воскресным вечерам, слово «Рокумейкан» стало синонимом стремительности социального развития и вестернизации конца 70-х — начала 80-х гг. XIX столетия. «В настоящее время на нас непрестанным потоком льются разнообразные европейские обычаи, — писал один влиятельный правительственный чиновник в 1874 г., — как будто мы стоим под перевернутой горлышком вниз бутылкой. Одежда, пища и питье, дома, законы, правительство, обычаи, даже занятия ремеслами и науками — все то, чем мы располагаем в настоящий момент, пришло к нам с Запада»{123}. Ветер вестернизации был особенно силен в 70-е гг., в этот «революционный момент», когда жители страны стояли перед дилеммой — сопротивляться новому режиму или, наоборот, оказать ему поддержку. Вполне естественно, что некоторые люди встали в оппозицию гипертрофированному стремлению к Цивилизации и Просвещенности. На одном уровне, карикатуристы и сатирики выражали свое недовольство, изображая в гротескной форме людей в западной одежде либо высмеивая их в популярных песенках. «Стукни палкой по такой голове, только что остриженной западным цирюльником, — пелось в одном из таких куплетов, — и она загудит в ответ: бунмей Каика». На более серьезном уровне, страх перед разнузданной вестернизацией, ставившей под угрозу будущее самурайского сословия, заставил Сайго Такамори и Это Синпей покинуть правительство в 1873 г. и встать во главе оппозиции. Однако для большинства остальных японцев идея Цивилизации и Просвещенности содержала в себе надежду на лучшее будущее, что вся нация и отдельные люди достигнут процветания. Даже в таком провинциальном городе, как Канадзава, находившемся на большом расстоянии от Токио, в наибольшей степени подвергшегося вестернизации, неизбежность про гресса, запечатленная в лозунге бунмей Каика, являлась ал» тернативой всем «несбывшимся надеждам», память о которь отягощала людей до 1868 г. В этом замковом городе в первс половине XIX в. обедневшие самураи превращали свои пей зажные парки в сады и огороды, чтобы продавать вырашенны фрукты и овощи на городских рынках. В 1870-х представители тех же самурайских родов способствовали открытию новых школ, основывали больницы и объединялись со своими соседями-торговцами для создания новых предприятий, продукция которых, от керамики до текстиля, постоянно присутствовала на всех международных выставках в Европе и Австралии. По всей Японии контраст между прошлым, с его многочисленными невзгодами и лишениями, и настоящим, дающим возможность решить все проблемы и достичь успеха, помогал людям избежать сомнений по поводу режима Мэйдзи и принять, по крайней мере временно, его претензии на статус законного правительства. А будут ли они его поддерживать и в будущем — это зависело от того, насколько успешно лидеры Мэйдзи будут осуществлять «новые начинания», обозначенные в Хартии клятвенных обещаний и касающиеся представительного правительства, движения в сторону процветания и создания общества возможностей.ГЛАВА 6 Строительство конституционного государства
Для Ито Хиробуми это был определяющий момент всей его жизни. Утром 11 февраля 1889 г. Ито приближался к императору Японии, трон которого стоял на покрытом 1 м ковром возвышении в зале приемов императорского дворца. В присутствии высших японских сановников, правителей префектур, высокопоставленных военных чиновников и иностранных дипломатов, одетый в мундир западного образца, Ито подал императору свиток с текстом японской конституции. Не прочитав и даже не заглянув в документ, император быстро передал его в руки премьер-министра, Курода Киётака, который «принял его с глубоким поклоном»{124}. Повернувшись, император «кивнул головой» и покинул зал под звуки «Кимигаё», недавно сочиненного и еще неофициального национального гимна Японии. За окнами послышался звон колоколов и залпы артиллерийских орудий. Церемония продолжалась всего несколько мгновений. За это время император Мэйдзи даровал своим подданным конституцию Японской империи. Судя по символическому характеру церемонии, монарх в реальности не имел никакого отношения к подготовке нового «основного закона государства». Главным архитектором этого проекта был Ито. Почти десять лет он занимался его подготовкой, выверяя каждую фразу. Но Ито работал отнюдь не в одиночестве. На протяжении многих лет он и другие лидеры Мэйдзи обдумывали конституцию и составляли ее наброски. Группу главных политиков страны сотрясали споры, как и их соотечественников, которые искали способ повлиять на содержание нового закона о земле. Его обнародование, по общему мнению, было существенным, если японцы собирались следовать дорогой прогресса, как то было обещано лозунгом «Цивилизация и Просвещенность», и если они хотели доказать Западу, что Япония достойна уважения и равного положения с современными державами.Элита обсуждает конституцию и представительное правительство
Хотя Ито и добился в конце концов ведущей роли при составлении японской конституции, он не был первым из лидеров Мэйдзи, кто всерьез начал обдумывать этот документ. К этой теме обращался и уроженец Чосю Кидо Такаёси. В свое время он приложил руку к созданию Хартии клятвенных обещаний, в которой говорилось о создании совещательных органов. Принимая участие в работе миссии Ивакура, он большую часть времени занимался изучением западных политических систем. Информация, полученная в Европе, убедила его в практичности конституционного строя и представительного правительства. Лидеры Соединенных Штатов и Европы были безошибочно прямолинейны: Кидо и другие представители японской элиты и думать не могли о том, что Япония может добиться пересмотра неравноправных договоров до того, как воспримет политическую культуру Запада. То есть Япония должна была превратиться в страну, где люди, находящиеся у власти, не могут действовать без контроля со стороны закона. Достигнув этого, в глазах Запада Япония получит статус державы, управляемой в соответствии с разумными законами. Более того, с точки зрения Кидо, большая жизнеспособность западных политических систем вытекает из той поддержки, которую оказывает народ каждой страны своему правительству. Если новое государство Мэйдзи напишет конституцию и даст возможность участвовать в правительстве наиболее ответственным представителям общества, то оно сможет сконцентрировать вокруг себя энергию и энтузиазм населения. Подобным образом, считал Кидо, страна без работающей конституциине может надеяться на внутреннее единство и, таким образом, подвергается постоянному риску внешней интервенции. Будучи убежденным в многочисленных плюсах конституционного строя, Кидо по возвращении в Японию составил список рекомендаций, который представил своим коллегам в ноябре 1873 г. В этом документе содержалась концепция конституционной системы, при которой император будет считаться источником власти, министры будут осуществлять власть от имени монарха, а двухпалатному парламенту отводилась законодательная функция. К конституционной инициативе вскоре присоединились и другие лидеры Мэйдзи. Окубо Тосимичи, который из всех членов новой правящей элиты пользовался в середине 70-х самым большим влиянием, соглашался, что конституционная монархия с разделением властей «создаст гармонию между правителем и народом». В феврале 1875 г. Кидо, Окубо и Ито организовали встречу в Осаке, чтобы обсудить вопросы конституции. На этой конференции молодое руководство Мэйдзи решило создать Палату Старейшин для обсуждения проблем законодательного аспекта власти и конституции, а также созывать периодически Собрание руководителей префектур, чтобы решать с ними вопросы местных административных и налоговых законов. Императорский рескрипт, изданный в апреле того же года, утвердил эти решения, а также пообещал «постепенно» ввести конституционное правительство. К 1880 г. Палата Старейшин, составленная в основном из ученых и людей, признанных в 1869 г. знатными, подготовила ряд предложений и вынесла их на обсуждение руководства режима. В общем, эти предложения шли в направлении основных образцов европейских конституционных монархий. Императору, соответственно, отводилась роль главнокомандующего армией и флотом, он должен был назначать министров. Кроме того, за ним оставалось право объявления войны, заключения мира и подписания договоров. Законодательные функции, согласно этому документу, должны быть «распределены между императором и парламентом». Верхняя палата парламента наделялась правом объявлять импичмент министрам, а нижняя должна была утверждать годовой бюджет. Некоторые рекомендации Палаты, в частности передача части полномочий законодательному органу, не пришлись по душе большинству членов правящей верхушки Мэйдзи. Как сторонники Цивилизации и Просвещенности, люди, подобные Ито и Кидо, приветствовали введение конституции и представительного правительства. Однако письмо императора, переданное президенту Гранту в 1872 г., недвусмысленно заявляло, что руководство Мэйдзи намеревались действовать осторожно и прагматично. Они не желали слепо копировать европейские образцы. Скорее они хотели «отбирать» иностранные образцы, которые «наилучшим образом» подходили бы к потребностям Японии. Они должны были перекликаться с историческим опытом Японии и в то же время соответствовать целям будущих реформ. Соответственно, во время политических дебатов конца 1870-х члены узкого круга склонялись к сохранению ведущей роли института императорской власти и ограничению влияния любого будущего законодательного органа. Для них трон — этот краеугольный камень японского государства с самого его оформления в VII в. н. э. — мог сыграть роль якоря преемственности в море перемен. Поэтому они настаивали на том, чтобы император оставался верховным правителем Японии и первоисточником всей политической власти и законности. В течение всего 1880 г. вплоть до весны 1881 г. семь ведущих советников работали над освещением этих тем в комментариях к рекомендациям Палаты. Ивакура Томоми, самый старший из всей правящей элиты, раскритиковал содержащиеся в них идеи как слишком «неяпонские». Он выступил за усиление власти императора за счет передачи трону права издавать указы с силой законов, а также настаивал на освобождении правительства от фискальной зависимости от парламента. С ним соглашался Ямагата Аритомо, «отец» нового принципа комплектования армии за счет призывников. Он желал участвовать в распределении обязанностей. «Если мы постепенно перейдем к народному собранию и твердо установим конституционный строй, — писал он, — веши, которые я перечислил выше — вражда народа к правительству, неподчинение распоряжениям правительства и подозрение по отношению к правительству, — все эти три беды будут в будущем преодолены»{125}. Но в этом контексте, продолжал он, не существует «аргументов, которые указывали бы на то, что конституция должна вступить в противоречие с тем фактом, что страной должен править император, принадлежащий к непрерываемой династии». Ито также соглашался с тем, что монарх и министры, утверждаемые троном, должны стать центром притяжения для всех будущих политических установлений. Он настаивал на осторожном и тщательном подходе к разработке вопросов политического устройства: «Я говорю, что мы не должны поспешно приступать к формированию парламента. Это не значит, что мы, правящая группа, желаем остаться во главе государства и занимать основные посты столь долго, сколь это будет возможно. Хотя это и представляется весьма заманчивым, установить ограниченную монархию путем создания парламента, нам не следует предпринимать ничего такого, что бы серьезно изменило нашу политическую систему. Для начала мы должны твердо встать на ноги, затем возвести каркас и, наконец, завершить все здание. Все это должно совершаться в правильной последовательности».Противоречивые модели, спорные моменты
В 70-х гг. XIX столетия многие японцы, вдохновленные риторикой вокруг Цивилизации и Просвещенности, соглашались с лидерами Мэйдзи в том, что представительные институты откроют для Японии лучшее будущее. Однако им был свойственен более либеральный взгляд на конституционализм. Им хотелось более быстрого продвижения, чем того желали Ито и его соратники. Осенью 1873 г. Итагаки Таисукэ, член Дадзокана, принимал самое горячее участие в спорах, развернувшихся вокруг корейского вопроса. Однако если Это Синпей и Сайго Такамори подняли оружие против своих бывших товарищей, то Итагаки вернулся в свой родной Тоса и основал там Народную партию патриотов (Айкоку Кото). В качестве главы этой партии Итагаки написал меморандум, направленный правительству в январе 1874 г. В нем он подверг критике «распушенную» и «деспотическую» власть токийских чиновников, приветствовал принцип «нет представительных органов — нет налогов» и призвал к немедленному созыву Национального собрания, «избранного народом» и обеспеченного реальными рычагами управления{126}. Поскольку Итагаки в 1874 г. был не у дел, многие японцы расценили его меморандум Тоса не как призыв к следованию западным принципам либерализма, а, скорее, как всплеск политической зависти, вызванный тем, как люди из Сацума и Чосю, или так называемая клика Сатчо, пытались удержать в своих руках основные рычаги власти. Однако, независимо от мотивов Итагаки, его обращение получило немедленную поддержку со стороны бывших самураев, которые были крайне недовольны стремлением правительства ввести принцип комплектования армии по призыву и отменить самурайские стипендии. Бывшие самураи искренне желали понять, что собой представляют такие категории, как свобода, демократия и представительное правительство. Во многих местностях они создавали политические объединения, которые громогласно выступали за национальный парламент. В то же самое время они пытались улучшить экономическое положение самурайских семей, выделяя средства для кредитных союзов и консультируя тех, кто хотел организовать свое предприятие. В 1875 г. Итагаки и его Общество самопомощи (Риссиса), основанное годом ранее и названное в честь руководства по достижению успеха, автором которого был Сэмьюэль Смайлз, основали Общество патриотов (Айкокуса), надеясь с его помощью координировать деятельность различных организаций, возникавших по всей стране. В середине 1870-х среди интеллектуалов, горожан и жителей сельской местности стали раздаваться голоса с требованиями «свободы и прав для народа». По мере роста Движения за народные права все большее количество простых японцев присоединялось к политическим обществам, возникавшим в маленьких городках и деревнях по всей стране. К концу десятилетия на постоянной основе действовало около тысячи подобных организаций, которые объединяли в своих рядах торговцев, ремесленников, наемных рабочих и крестьян. Они собирались для того, чтобы послушать популярных ораторов и обсудить насущные проблемы. Все темы были открыты для обсуждения, от текущих политических событий до экономических вопросов, истории и взаимосвязи между доктриной естественного права и нуждами современных женщин. Обсуждение последней темы было инициировано такими женщинами-активистками, как Кисида Тосико и Фукуда Хидэко. Многие общества специальное место в повестке дня отводили вопросу о новой конституции и представительном собрании. По мере того как разворачивались дебаты вокруг будущей политической системы, многие лидеры Движения за народные права, имевшего разнородный социальный состав, заявили, что основной целью реставрации Мэйдзи является благосостояние народа. А лучшим средством для достижения этой цели, продолжали они, являются либеральные, представительные институты. Более того, члены местных политических клубов много времени посвящали анализу идей, представленных в таких классических памятниках западной политической мысли, как «Второй трактат о гражданском государстве» Джона Локка, «Об общественном договоре» Жан Жака Руссо и «О свободе» и «Рассуждения о представительном правительстве» Джона Стюарта Милля. Неудивительно, что, получив подобный интеллектуальный заряд, мужчины и женщины, участвовавшие в Движении за народные права, рассматривали историю как борьбу между авторитарными режимами и возрастающей народной мощью. Для них конституционализм опирался на западную доктрину о естественном праве, которая наделяет верховной властью народ, а не монарха. Подобными идеями вдохновлялся и Коно Хиронака, сын бывшего самурая, превратившегося в земледельца. В предгорьях префектуры Фукусима он создал Сэкийоса, политическое общество, программа которого начиналась со следующих слов: «Мы следуем рука об руку, потому что правительство создано для людей, и неотъемлемые права, такие как право на жизнь и личную свободу, которые выше, чем горы, и глубже, чем море, будут существовать вечно»{127}.
Члены некоторых местных организаций не только спорили по поводу конституции, но и писали свои варианты ее текста. К нашему времени исследователями обнаружено около 30 подобных документов. Хотя их содержание в значительной степени варьируется, но в целом все эти народные конституции предусматривали более широкое распределение власти, чем это подразумевали Ито и другие лидеры Мэйдзи. Типичной в данном отношении является конституция, составленная членами Общества учения и обсуждения в Ицукайчи, маленьком торговом городке, расположенном в горах к северу от Токио. Она гарантировала людям право на справедливость, свободу и счастье. Согласно ей значительное количество властных полномочий передавалось национальной ассамблее, в том числе право утверждать договоры и накладывать вето на любое решение, принятое императорской властью, которое угрожает свободам, гарантированным жителям страны. Кроме того, большинство новых политических объединений выступали за более скорое принятие конституции, чем это предусматривалось императорским рескриптом 1875 г. К концу 1870-х усиливается Движение за народные права, и Сакурай Сидзука, земледелец из Чиба, опубликовал в ведущей токийской газете статью, в которой подверг резкой критике неторопливость правительства в вопросе введения конституции. Он призвал простых японцев — мужчин и женщин — присоединиться к петиционному движению, которое должно заставить правящую верхушку Мэйдзи создать представительное правительство. Отклик на эту статью был ошеломляющим. Когда в марте 1880 г. Общество патриотов собралось на свой традиционный съезд, проводимый раз в полгода, тысячи людей, представлявших 24 префектуры, принесли с собой петиции, под которыми стояли подписи более 100 000 человек. Переименовав свою организацию в Лигу за создание Национального собрания (Коккай Кисей Дёмей), делегаты съезда приняли решение возглавить инициативу низов, и к концу этого года более 250 000 человек поставили свои подписи под 12 петициями и 41 меморандумом. Во всех этих документах содержалось требование о немедленном введении представительного правительства. Правительство Мэйдзи пыталось утихомирить разбушевавшуюся бурю, предлагая некоторые уступки и смягчая репрессивные законы и постановления. Например, в феврале 1875 г. Кидо предложил Итагаки принять участие в работе Осакской конференции. Он надеялся, что, пообещав создать представительное правительство, он сможет вернуть раздраженных самураев Тоса на службу режиму. Тремя годами позже, в ответ на все более возраставшее народное движение за представительное правительство, правящий режим объявил о создании префектурных и городских собраний. Они должны были созываться ежегодно на срок в один месяц, чтобы обсудить решения, принятые правителем префектуры. С другой стороны, в июне 1875 г. режим издал Положение о прессе, которое давало полиции право приостанавливать выпуск любой газеты, если материалы, содержавшиеся в ней, теоретически могли угрожать общественному порядку. В апреле 1880 г. вышло Положение о народном собрании. Жесткие требования, прописанные в этом документе, требовали получать разрешение у полиции на проведение любых собраний, проводить обсуждение только тех тем, которые были официально разрешены, а солдаты, полицейские, преподаватели и даже студенты были лишены права принимать участие в собраниях, носивших политический характер. Тактика превентивных действий, которой придерживалось правительство, не помогла сдержать всенародное петиционное движение. События достигли критической точки во время кризиса 1881 г. Кризис спровоцировали действия Окума Сигенобу, бывшего сиси из Хидзэн, чей опыт и знания в финансовой сфере оказали неоценимую услугу новому режиму при его становлении. Он разошелся со своими товарищами-советниками во мнениях относительно конституционализма. Его комментарии по поводу предложений, сделанных Палатой Старейшин, перекликались с самыми радикальными требованиями членов Движения за народные права и предлагали ввести в Японии британскую модель парламентской системы. В противоположность другим членам правящей верхушки Окума выступал за такую конституционную схему, которая передавала бы основную политическую власть избранному народом Национальному собранию и кабинету министров, сформированному той партией, которая набрала бы большинство голосов при выборах парламента. Более того, он посоветовал своим коллегам немедленно приступать к действиям и назначить выборы уже на следующий год. Предпринятый Окума демарш встревожил остальных советников. Их тревога еще более усилилась, когда Окума выступил против их планов продажи имущества колонизационной службы Хоккайдо, которая была организована в 1869 г. для развития экономического потенциала северного острова. Когда, после десяти лет существования, колонизационная служба не принесла ожидаемых доходов, ее начальник, Курода Киётака, предложил продать ее имущество консорциуму бизнесменов, во главе которого стоял его старый друг из Сацума. Продажа должна была осуществиться за номинальную стоимость, кроме того, правительство выделяло еще и беспроцентный кредит. Окума просто взорвался от ярости. Такая же реакция последовала и со стороны членов Движения за народные права, когда им стали известны условия сделки. В октябре 1881 г., угодив в эпицентр урагана критики, Ито и его товарищи принудили Окума уйти со всех его постов. Одновременно, пытаясь успокоить общественное мнение, они отменили сделку и издали от имени императора рескрипт, который гласил: «Мы соберем представителей и откроем Национальное собрание в 23-й год Мэйдзи [1890]»{128}.
Мистер Ито пишет конституцию
Заявление императора, сделанное 12 октября 1881 г., подтолкнуло правящую верхушку к действиям. Предвидя это событие, Ивакура все предыдущее лето провел в работе над основами конституции, которые позволили бы олигархии сохранить контроль над намечавшимся экспериментом по созданию представительного правительства. Его внимание было сконцентрировано на Пруссии, которая, на его взгляд, демонстрировала наиболее приемлемую модель конституционного строя из всех западных держав. Как и его родная страна, Пруссия находилась в стадии становления, формируясь на базе объединения разнообразных полуавтономных регионов. Поскольку ее социальные и экономические основы, необходимые для демократического, парламентского правления, были относительно слабы, Пруссии приходилось ориентироваться на мощную исполнительную власть и бюрократию. В частности, «основополагающие принципы», представленные Ивакура и формально принятые Дадзоканом за день до выхода Императорского рескрипта, гарантировали трону право назначать министров и высших чиновников и исключали зависимость правительства от парламента. Самому парламенту при этом оставался ограниченный контроль над бюджетом правительства с оговоркой, что бюджет, составленный на предыдущий год, будет оставаться действительным, если парламент не примет новый. Согласившись с этими общими принципами, олигархи поручили Ито составить окончательный вариант документа. В марте 1882 г. он покинул Японию и направился в Европу, чтобы проконсультироваться у наиболее авторитетных западных ученых. Услышав обещание ввести конституцию, оппоненты режима перешли к новым формам политической активности. Сам рескрипт вызвал у народа прилив энтузиазма, выбив почву из-под ног критиков режима. Поэтому они начали борьбу за выгодные позиции в будущей системе, и наиболее подходящим способом ведения этой борьбы они считали создание собственных политических партий. Еще за несколько дней до появления императорского рескрипта Итагаки преобразовал Лигу за создание народного собрания в Дзиюто, или Либеральную партию. Люди, вошедшие в ее состав, разделяли идеи французского либерализма, поэтому платформу партии составляли требования передачи власти народу, создания сильного парламента и гарантий личных прав и гражданских свобод. Вскоре в борьбу вступили и другие партии. 14 марта 1882 г., в тот самый день, когда Ито отправился в Европу, Окума объявил о своем желании создать Конституционную партию реформ, или Риккен Кайсинто. К этой партии примкнули многие бывшие ученики Фукудзава Юкичи, такие как защитник народных прав Инукаи Цуёси. Заявляя о себе как о современной партии, стоящей на принципах британской парламентской демократии, при которой функции монарха носят церемониальный характер, Конституционная партия реформ получила поддержку со стороны студентов, городских интеллектуалов и преуспевающих финансистов. Менее чем через неделю Фукучи Гэнъичиро, главный редактор влиятельной газеты «Токио ничиничи синбун», вместе с другими ведущими журналистами сформировал Конституционную имперскую правящую партию (Риккен Тейсейто), которая заявила о поддержке правительства. Большинство членов Движения за народные права, вступившие в новые партии, продолжали свои попытки повлиять на структуру будущей парламентской системы. Другие активисты, связанные с Либеральной партией, направили свои усилия на организацию массовых акций протеста, выходя при этом порой далеко за пределы конституционализма. Так называемый Фукусимский инцидент был первым из дюжины подобных широкомасштабных выступлений, которые прокатились по стране в начале 80-х гг. XIX в. Осенью 1882 г. токийское правительство назначило Мисима Мичицунэ, бывшего самурая из домена Сацума, на пост главы префектуры Фукусима. Решительный, непреклонный и до крайней степени преданный своим начальникам, Мисима сразу повел решительное наступление на Движение за народные права в своей префектуре, обеспечил поддержку проправительственной Конституциональной имперской правящей партии, а также заявил о своих намерениях увеличить налоги и ввести призыв на общественные работы для постройки новых дорог. Кёно Хиронака, основавший в 1875 г. Секиёса и возглавлявший фукусимское отделение Либеральной партии, организовал сопротивление «деспотическому правлению» Мисима. Многие крестьяне отказывались платить налоги или присоединяться к рабочим командам. Мисима, при поддержке Токио, действовал быстро и решительно. Когда приблизительно тысяча протестующих 28 ноября 1882 г. направились к полицейскому участку, он приказал провести облаву на членов Либеральной партии и сочувствующих им. Кёно и еще пять человек были обвинены в измене и приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Горя желанием отомстить, радикальные члены Либеральной партии из соседней префектуры Ибараки составили заговор, целью которого было убийство Мисима и некоторых деятелей правящего режима. 23 сентября 1884 г. они, находясь на своей базе на горе Каба, обратились к народу с революционным воззванием. Полиция быстро нашла их убежище, и один из мятежников был убит во время столкновения с ней. Семеро из оставшихся в живых были казнены по приказу правительства, остальные оказались в тюрьме. Другие акции протеста были связаны с экономическими вопросами, но правительство и к ним относилось крайне нетерпимо. В 1881 г. министр финансов Мацуката Масаеси начал проводить дефляционную политику, чтобы преодолеть инфляцию. Мацуката в конце концов достиг своей цели. Однако ценой успеха был страшный упадок в сельском хозяйстве, продолжавшийся почти четыре года. Особенно тяжелый удар пришелся на шелководов и мелких производителей, которые ориентировались на краткосрочные кредиты. Они не могли погасить задолженность в условиях падения цен на их продукцию. По всей Японии, от Фукусима на севере до префектуры Фукуока на юге, крестьяне объединялись в партии должников или партии бедняков. Их основными требованиями были введение моратория на выплату долгов и сокращение процентных ставок. В Чичибу, горном районе, расположенном на западе префектуры Сайтама и специализировавшемся на шелководстве, крестьянские протесты переросли в массовые беспорядки. Местные крестьянские вожаки, многие из которых были связаны с Либеральной партией, призвали руководство уменьшить налоги и провести переговоры с кредиторами по поводу задолженностей. Не получив ответа, в конце октября 1884 г. крестьяне разгромили дома самых бессовестных заимодавцев, ворвались в государственные учреждения, чтобы уничтожить списки должников, и принудили богачей оказать финансовую помощь беднейшим слоям населения. Токийское правительство быстро перебросило в эту местность воинские подразделения, участвовавшие в разгроме мятежников на горе Каба, и к 10 ноября порядок в Чичибу был восстановлен. Более 3000 крестьян оказались под арестом, а в феврале 1885 г. по приказу правительства пять лидеров инцидента в Чичибу были казнены. Быстрые и недвусмысленные карательные акции, предпринятые правительством, привели к развалу Движения за народные права и парализовали Либеральную партию, которая в конце 1884 г. объявила о самороспуске. Чтобы удостовериться, что у протестного котелка больше никогда не сорвет крышку, правительство продолжило преследование отдельных радикалов. В 1885 г., например, полиция арестовала Фукуда Хидэко и ее любовника Ои Кэнтаро. Они намеревались свергнуть корейскую монархию и установить в этой стране более либеральный режим. Фукуда и Ои наивно полагали, что пример действий правительства реформаторов на полуострове каким-то образом повлияет на режим Мэйдзи, и тот начнет проводить дома более прогрессивную политику. Двумя годами позже правительство издало Закон о сохранении мира, который жестко регулировал проведение собраний, публичных выступлений, а также действия прессы. Краеугольным камнем этого закона была статья 4, дававшая начальнику токийской полиции право изгонять из города любого человека, живущего в восьмимильной зоне вокруг императорского дворца, если он «подозревается в том, что замышляет нечто такое, что ставит под угрозу общественное спокойствие»{129}. За несколько дней, прошедших после принятия закона, Мисима Мичицунэ, только что получивший за свои труды на посту главы префектуры Фукусима должность начальника токийской полиции, арестовал и выслал из столицы более 570 активистов, попавших под подозрение. В их число попали и некоторые значительные фигуры из Движения за народные права. А тем временем Ито в Европе, казалось бы, совсем забыл о том волнении в сельских районах Японии, которое было связано с Фукусимским инцидентом. Целью его зарубежной поездки, как он писал позже, было «проведение как можно более тщательного исследования конституционного правительства в его самых разнообразных аспектах, равно как и изучение теорий и мнений, которых в настоящее время придерживаются наиболее влиятельные персоны»{130}. В поисках этой мудрости Ито сперва направился в Берлин. Там он провел консультации со специалистами в области конституционализма Рудольфом фон Гнайстом и Альбертом Моссе. Оттуда он поехал в Вену, чтобы встретиться там с Лоренцем фон Штайном. Затем его ждали Париж и Лондон, где его группа прослушала лекции Герберта Спенсера по теории представительного правительства. Общение Ито с величайшими западными светилами в области конституциональной теории не открыли перед ним новых горизонтов. Наоборот, он еще более убедился в правильности того, во что он свято верил, и что Дадзокан принял в 1881 г. в качестве «основополагающих принципов». Это был особый, японский путь к модернизации и международному признанию, который сам Ито называл «конституционным рехтсштаатом[25]». Вернувшись в Токио в августе 1883 г., Ито пояснил, что он понимал под этим термином. По его мнению, верховная власть должна принадлежать монарху. Исполнительную власть следует передать кабинету министров, ответственному только перед императором и полностью независимому от парламента. Наконец, власть самого двухпалатного парламента, нижняя палата которого будет избираться народом, должна быть ограничена. Теперь различные и, в некоторых аспектах, противоположные суждения правящей верхушки достигли гармонии по поводу того, какую конституционную систему они желают видеть в своей стране. В 1884 г. Ито приступил к проведению некоторых структурных реформ, призванных подготовить почву для введения конституционного режима. Были названы имена представителей знати, которым предстояло войти в верхнюю палату парламента, оформлены современный кабинет правительства и бюрократия, а также были внесены последние штрихи в реформу местного управления, начавшуюся в 1871 г. с создания префектур. Ито очень удачно выбрал время для своих действий. Петиционная кампания, развернутая в начале 1870-х активистами Движения за народные права, вынудила олигархов пообещать к 1890 г. ввести конституцию, а репрессии, которые правительство обрушило на движение в 1884 г., расчистили для Ито поле деятельности. Он должен был представить конституцию к определенному сроку — обещание императора было, в конце концов, священной клятвой, да и олигархи стремились ввести конституционную монархию в любом случае, — но теперь он был свободен в проведении необходимых приготовлений, и над ним больше не висела необходимость оглядываться в поисках компромисса с излишне шумной оппозицией. Ито начал с того, что установил систему аристократических рангов, которая была введена императорским указом от 7 июля 1884 г. Она основывалась на германской модели и была связана с теми социальными различиями, которые были созданы в 1869 г. Новый статус получили главы 508 знатных семей. Им присваивались титулы принцев, маркизов, графов, виконтов и баронов. К нобилитету были приписаны также и представители старой придворной аристократии — «благородные потомки блестящих предков», как их назвал император. Им была предложена достойная служба новому режиму, особенно тем «гражданским и военным чиновникам, которые проявили себя, оказав мне поддержку во время реставрации моего правления»{131}. Таким образом, Ито и Ямагата стали графами, в то время как наследники Кидо и Окубо получили титулы маркизов. А Итагаки и Окума так и остались простолюдинами. Все ранги предусматривали наследственные пенсии, а их носители могли претендовать на назначение в верхнюю палату парламента. В декабре 1885 г. Ито реформировал исполнительную ветвь правительства, создав современную кабинетную систему. В том же месяце завершил свое существование Дадзокан. Вместо него был введен кабинет министров, в состав которого входил премьер-министр и несколько других министров, возглавлявших определенные ведомства. В сферу ответственности премьер-министра входило координирование политики правительства, наблюдение за деятельностью остальных членов кабинета, даже если они теоретически были подотчетны только императору, который официально назначал их на должность. Его подпись должна была ставиться под всеми законами и указами. В то же время новые правила содержали подробные инструкции для каждого из министров по поводу ведения их дел, а также требовали от них советоваться с «талантливыми людьми». При введении новой административной организации и процедур, Ито неожиданно столкнулся с некоторыми заминками. Они были связаны в основном с тем, что с начала Нового времени каждый японец был приучен к бюрократизму и рутине. В итоге трансформация проходила в замедленном темпе. У окружающих проводимые Ито изменения вызывали двоякую реакцию. Большинство западных наблюдателей приветствовали новую кабинетную систему. Она, по их мнению, соответствовала наиболее уважаемым концепциям административного устройства того времени. В ней функции распределялись между отдельными ведомствами, а на министерские посты назначались люди, прошедшие профессиональную подготовку на более низких уровнях в том ведомстве, которое они должны были возглавить. Однако, как поспешили отметить критики Ито, новая система, кроме того, способствовала укреплению власти клики Сатчо: 8 из 10 министров, вошедших в состав кабинета, были уроженцами все тех же двух бывших доменов. Ито, уроженец Чосю, стал первым премьер-министром и занимал эту должность с 22 декабря 1885 г. по 30 апреля 1888 г. Затем он передал ее Курода Киётака, родившемуся в Сацума. Система управления префектурами также стояла на повестке дня Ито, в первую очередь благодаря Ямагата Аритомо. Он настаивал на том, что стабильное местное руководство является необходимым условием для успешного введения конституции, поскольку, как и призывная армия, оно способствует сплочению нации и повышению лояльности народа. Получив от Ито карт-бланш, Ямагата обратился за советом к Альберту Моссе. Тот находился в Японии по приглашению Ито, чтобы оказывать помощь на заключительной стадии написания конституции. «Если вы спросите, почему я обратился к европейским законам, при наличии духа самоуправления и в нашей традиции, — писал Ямагата, — это было сделано с тем, чтобы идти в ногу с теми установлениями, которые существуют в великих державах, а немецкая система является из них самой подходящей»{132}. Учитывая пристрастия Ямагата, не вызывает удивления тот факт, что итогом консультаций с Моссе стал ряд постановлений, изданных между 1888 и 1890 гг. Они заменяли старую связку городской старшина/деревенский староста — гонингуми на более разветвленную систему, которая ставила префектурное, городское и сельское руководство под более жесткий контроль со стороны центрального правительства. В конце концов новая система стала напоминать двуликого Януса. С одной стороны, нововведенные законы увеличивали лояльность народа, поскольку разрешали людям самим избирать некоторых местных чиновников. С другой стороны, в качестве платы за столь ничтожную причастность к политическому процессу, Ямагата требовал абсолютной преданности на всех уровнях администрирования, начиная с самого нижнего. В его новой системе чиновники каждого уровня подчинялись тем, кто стоял на ступеньку выше их самих — и так до самого верха. На вершине этой пирамиды находилось Министерство внутренних дел, которое располагало широкими властными полномочиями. Оно определяло политику и распределяло обязанности таким образом, что для общинного самоуправления, определявшего жизнь деревень и городских кварталов в начале нового времени, практически не осталось места. Последний этап работы над конституцией начался в 1885 г. Сама работа сначала шла в токийской резиденции Ито, а затем переместилась в его поместье на Эносима. Этот небольшой островок, расположенный неподалеку от берега к югу от столицы, был выбран благодаря своей уединенности и великолепному виду на гору Фудзи. Ито взял с собой нескольких наиболее доверенных товарищей, таких как его давний протеже Иноуэ Коваси. Его сопровождали также два немца — Моссе и Герман Рёслер, который оставил в 1878 г. университет в Ростоке и стал советником японского Министерства иностранных дел. На протяжении трех лет эта компания обсуждала, готовила, пересматривала бесчисленные параграфы, тщательно проверяя все нюансы каждой предлагаемой фразы. Лишь весной 1888 г. Ито был наконец готов сдернуть покрывало с холста. По совету Ито, император 30 апреля создал Тайный совет, который должен был тщательно проанализировать и затем утвердить представленный текст. При этом подразумевалось, что этот совет и после принятия конституции будет продолжать функционировать в качестве совещательного органа. Он будет рассматривать вопросы, которые могут возникнуть по поводу трактовки тех или иных мест в основном законе, а также консультировать императора по поводу государственных дел. Членами Тайного совета являлись по меньшей мере двенадцать человек, пожизненно назначенных на эту должность императором. Кроме того, в его заседаниях могли принимать участие и министры. Ито рассматривал его как важный орган, стоящий выше кабинета. Поэтому он сложил с себя полномочия премьер-министра и стал первым председателем Тайного совета. С его предварительного согласия, члены совета внесли несколько поправок в текст проекта конституции. Например, парламенту было предоставлено право вносить законы, обсуждать их и принимать решения относительно них путем голосования. После этого члены совета одобрили работу своего председателя. «Конституционный Ито», как его нарекла одна из газет, теперь был готов преподнести плоды своих трудов императору, так чтобы Его Величество мог, в свою очередь, представить их японскому народу.Гражданская добродетель и государственная идеология
По мере продвижения к конституционализму олигархи занялись поисками определения политической традиции, а также продвижением идеалов гражданской добродетели. Эти идеалы должны были превратить обитателей приблизительно трех сотен бывших доменов, существовавших до 1871 г., в ко-кумин, «граждан страны», безусловно лояльных к новому государству и связанных между собой общими политическими ценностями. У Ито и его коллег был повод для беспокойства. Оптимизм эпохи бунмин каика положительно настроил многих японцев по отношению к новому режиму. Однако олигархи едва ли могли надеяться на удачное завершение своих реформ, если только им не удастся добиться признания нового конституционного государства. Соответственно, все японские лидеры в 70-х и 80-х гг. XIX в. пытались собрать или создать заново набор идеологических ценностей и гражданских идеалов, которые позволили бы простым японцам понять со всей ясностью смысл политических построений, предпринятых молодым режимом, и найти себе достойное место в новой Японии эры Мэйдзи. Каждый олигарх, похоже, внес свой собственный вклад в оформление в конституции соответствующей политической этики. Ито говорил о «простом народе», мирном и послушном, честном и трудолюбивом, каждый представитель которого будет счастлив пожертвовать своими личными интересами ради блага своих соседей, короче, по словам самого Ито, это был «великолепный материал для создания сильной нации»{133}. Иноуэ Коваси, в свою очередь, предпочитал считать ключевыми моментами гражданственности преданность и патриотизм. Без этих добродетелей единство нации невозможно, да и вообще ничего путного без них добиться нельзя. Ямагата Аритомо разделял мнение Иноуэ. Но он также обращал особое внимание наличные интересы, представленные в политической сфере оппозиционными объединениями, поскольку они угрожали утопить всеобщую, гармоничную и беспартийную борьбу за прогресс в море раздробленности, разобщенности и хаоса. По мере развития идей, олигархи пришли к заключению, что император может служить ядром притяжения для политической традиции, равно как он может стать сердцем новой политической системы. Однако эту концепцию следовало оформить с соответствующей торжественностью и помпой, поскольку как в 1870-х отмечал Ивакура, фигура сёгуна загораживала собой императора на протяжении всей эпохи Токугава, вследствие чего «воля императора продолжает оставаться недоступной для отдаленных районов» государства{134}. В связи с этим верхушка режима Мэйдзи отправила императора в путешествие по внутренним районам Японии, чтобы «все люди могли раскрыть глаза и узреть величие императорской особы»{135}. За два с половиной столетия правления Токугава Небесный Владыка покидал свое обиталище в Киото всего три раза, а император Мэйдзи, занимавший трон на протяжении сорока пяти лет, предпринял за это время 102 путешествия, в том числе 6 Больших Турне, совершенных в 1872, 1876, 1878, 1880, 1881 и 1885 гг. Используя для перемещения любой подходящий транспорт, молодой монарх проделал тысячи миль по территории страны и посетил каждый крупный остров. Крестьяне, покинув свои поля, сбегались при приближении императорской процессии, чтобы пожелать благополучия своему владыке. На ночлег и отдых император останавливался в домах местной знати. Обычно хозяева строили специально для этого случая особые покои и даже делали в своих резиденциях новые ворота, чтобы монарх через них въезжал в их дома. Сопровождали императора, что и неудивительно, такие люди, как Кидо, Ито, Окубо, Курода и Ивакура. Каждый из них провел определенное время в дороге, путешествуя вместе со своим монархом. Сами путешествия, на их взгляд, играли весьма важную роль. Появление монарха демонстрировало «народу великую добродетельность императора» и представляло собой «возможность продемонстрировать непосредственное императорское правление живьем, рассеивая, таким образом, опасения» по поводу предложений установить конституционную монархию{136}. Пока император посещал свои острова, мнения относительно политической традиции стали раздаваться не только со стороны правительства. Во многом эти идеи перекликались с теми ценностями, которые старательно подчеркивались олигархами. Фукучи Гэнъичиро был одним из тех журналистов, которые поддерживали позицию правящей верхушки. Несмотря на скандал, связанный, по его словам, с «неуклюжими действиями правительства по поводу сделки на Хоккайдо», редактор газеты Токио ничиничи синбун соглашался с тем, что конституционализм является весьма желательным и что император должен стать той осью, вокруг которой будет формироваться новая система{137}. Вопрос о верховной власти, повторял Фукучи в десятках передовиц в начале 1880-х, должен решаться в соответствии с историей каждой определенной нации. Чтобы подчеркнуть свою позицию, он писал о японском кокутай. Обычно это понятие трактуют как «национальная сущность» или «национальное государственное устройство». Этот термин, обладавший большой эмоциональной нагрузкой, Фукучи позаимствовал из антитокугавской риторики 50-х и 60-х гг. XIX в. Японское кокутай, напоминал Фукучи своим читателям, основывалось на принципе божественного происхождения императорской династии. И эта династия мудро управляла страной с самого начала японской истории. По мере вхождения Японии в современный мир, продолжал он, структура управления должна меняться, однако сущность власти, кокутай, должна сохраняться в неприкосновенности. «Боги, — вдохновенно писал он, — установили в момент первого восхождения на трон, что дела государства» должны быть поручены императору. Таким образом, даже в рамках конституционного строя, представляется необходимым, чтобы «все управление осуществлялось императорским повелением». Придерживаясь «твердого принципа» кокутай, настаивал Фукучи, правительство гарантирует себе поддержку со стороны народа, в то время как император будет вести всех и каждого вперед, по пути постепенной и мирной трансформации в современную нацию. Некоторые интеллектуалы также пытались внести свой вклад в создание новой политической этики, которая могла привязать новый мир представительного правительства к системе традиционных ценностей. Ходзуми Яцука, студент, стоящий на пороге долгой карьеры ученого-специалиста в области конституционализма, написал в 1882 г. серию эссе для газеты Фукучи Токио ничиничи синбун, в которых подверг резкой критике политические партии, поскольку они ставят интересы отдельных граждан выше интересов всей нации. При различных обстоятельствах, писал Ходзуми, «свобода отдельной личности может быть принесена в жертву для спасения всего общества», и лучшей защитой от тирании масс, по его мнению, была передача верховной власти императору. Он будет осуществлять ее через сильный, независимый аппаратпрофессионального чиновничества, который будет назначаться на определенный срок, получать определенное жалование и пользоваться уважением со стороны общества{138}. Даже конфуцианцы, занимавшие на протяжении эпохи Цивилизации и Просвещенности оборонительную позицию, присоединились к обсуждению новых политических концепций. К началу 80-х гг. XIX в. такие люди, как Мотода Нагад-занэ, наставник императора, и Нисимура Сигэки, моралист и писатель, были сильно встревожены увлечением олигархов реформами по западному образцу. По мнению Нисимура, Ито ничего не предпринимал для поддержания традиционной морали, а его попытки воплотить в жизнь прусские идеи конституционализма обречены на провал, поскольку олигархи бездумно и как попало переносят западные идеи на японскую почву. Импульсивный Мотода был более резок в своих суждениях. Ито и его коллеги, настаивал он, стремятся превратить «японцев в раскрашенные копии европейцев и американцев»{139}. Рецепт конфуцианцев был прост: возвращение к проверенным временем ценностям. Моральность, писал Нисимура, является основой всего, отличной жизни каждого человека до структуры правительства. Быть моральным, подчеркивал он, значит обладать «духом преданности, сыновней почтительностью, доблестью, чувством гордости, долга и стыда, на которых с древнейших времен покоится фундамент нашей страны»{140}. Вывод, по мнению Мотода, был очевиден. Любое политическое построение должно быть прочно привязано к императору, поскольку он является образцом добродетельности и хранителем заповедей, передававшихся от поколения к поколению на протяжении многих столетий. Все эти разнообразные мнения, касавшиеся новых политических принципов, не прошли мимо Ито, который трудился над составлением конституции. Разумеется, к тому времени, когда он в середине 80-х создал комитет по обсуждению проекта основного закона, у него уже сложилось свое мнение относительно императора. И это мнение сильно отличалось от тех предложений, которые поступали к нему со стороны европейских экспертов. Моссе и Рёслер склонялись в сторону социальной монархии. Согласно этой концепции, абстрактная идея государства воплощалась в особе монарха, стоящего над обществом и проводящего реформы, направленные на улучшение жизни граждан страны. Однако, продолжали они, история Европы знает примеры, когда неограниченные права монарха приводили к абсолютизму личной власти. Таким образом, в нынешнее время законы и правовые институты являются насущной необходимостью. Они создают условия, при которых трон употребляет свою власть на пользу всех слоев общества. Ито соглашался с тем, что опора на закон и ограничение самовластия сильных монархов были важными компонентами любой современной конституционной системы. Он также сходился во взглядах со своим главным заместителем, Иноуэ Коваси, по поводу того, что император «управляет народом, но не правительством». Эта функция более подходит министрам{141}. Позднее Ито писал: «Корона как институт в Японии имела гораздо более глубокие корни в сознании нашего народа и в нашей истории, чем в какой-либо иной стране. В ней заключалась сущность некогда теократического государства»{142}. Соответственно, заключал он, становится очевидным, «что простое подражание зарубежным моделям не может являться удовлетворительным решением, поскольку наша страна обладает историческими особенностями, которые нельзя сбрасывать со счетов». В частности, представляется совершенно необходимым, чтобы конституция «предусматривала сохранение в будущем реальных императорских прерогатив и не допускала превращения императорской власти в декоративную деталь доктрины». В конце концов Ито и Иноуэ создали конституцию, которая перекликалась с основным принципом японского прошлого: император скорее царствует, чем правит. В окончательном варианте основной закон передавал значительные властные полномочия в руки государственных министров. Однако Ито и Иноуэ лично написали статьи, которые касались императорского дома. Текст этих статей был написан простым языком, не вызывавшим сомнений в том, что, как это обозначил Ито, «первым принципом нашей конституции является уважение к властным правам императора». Иностранные модели оказались весьма полезными и существенными, но Ито был убежден в том, что Япония идет к модернизации своим собственным путем, связанным с наиболее почитаемыми традициями ее прошлого. Чтобы наилучшим образом довести свое видение гражданской этики до всего населения, олигархи опубликовали два рескрипта. Авторство первого из них, получившего название Императорский рескрипт к солдатам и матросам, принадлежало в основном Иноуэ Коваси и Ямагата Аритомо, с второстепенными стилистическими правками, внесенными проправительственным журналистом Фукучи Гэнъичиро. 4 января 1882 г. император лично представил этот рескрипт военному министру. Церемония, проходившая во дворце, была призвана символизировать непосредственную власть императора над армией. В самом первом параграфе документа объявлялось, что «основным долгом» солдат и матросов является «преданность». Тут же задавался риторический вопрос: «Кому из рожденных на этой земле может недоставать духа для того, чтобы с благодарностью служить ей?»{143} Идеал служения трону, предостерегал далее текст рескрипта, может быть разрушен эгоистичностью и раздорами партийной политики. Таким образом, быть преданным значило стоять вне политической деятельности: «Помните, что, поскольку защита государства и поддержание его мощи зависит от силы его армии, увеличение или уменьшение этой силы будет влиять на судьбу народа в лучшую или худшую сторону. Поэтому ее не должны сбивать с пути ни мнения народа, ни вмешательство политики, а ваши сердца должны быть наполнены чувством преданности, которая является вашим основным долгом. Вы должны помнить, что долг ваш тяжелее горы, а смерть легче перышка». Второй рескрипт был рассчитан на более широкую аудиторию. Его адресатом была вся японская молодежь. Осенью 1890 г., непосредственно перед созывом первого имперского парламента, премьер-министр Ямагата поручил Иноуэ Коваси и Мотода Нагадзанэ составить документ и распространить его по всем школам. В нем должна была излагаться основополагающая этика нового государства, с его конституцией и системой привлечения к управлению широких слоев населения. Политическая идеология была зашифрована в изложении основных принципов образования. Новый документ, получивший название Императорский рескрипт об образовании, начинался с заявления, что уникальный японский кокутай, «фундаментальный характер Нашей Империи», как звучит этот термин в официальном переводе, проистекает из тесных связей, которые с незапамятных времен объединяют добродетельных правителей Японии с их преданными подданными: «Наши Царственные Предки основали Нашу Империю на фундаменте широком и вечном и глубоко и прочно укоренили добродетельность. Наши подданные, объединенные своей преданностью и сыновней почтительностью, из поколения в поколение демонстрировали красоту этих добродетелей»{144}. Из этой конструкции вытекали разнообразные предписания, касающиеся настоящего: японцы должны быть почтительными по отношению к своим родителям, любящими по отношению к братьям и сестрам и правдивыми и искренними со своими друзьями. Кроме всего этого рескрипт требовал от учеников быть «хорошими и преданными подданными» и «трудиться на благо народа и отстаивать общественные интересы, всегда уважать Конституцию и подчиняться законам [и] при возникновении критической ситуации отважно жертвовать собой ради Государства и таким образом охранять и преумножать процветание Нашего Императорского Трона, возникшего одновременно с небесами и землей». По всей стране директора школ требовали от своих подопечных, чтобы те выучили текст этого документа наизусть. Его декламация, наряду с поклоном в сторону фотографии императора и пением «Кимигаё», превратилась в неотъемлемую часть всех важных школьных мероприятий. Символизм императорского присутствия, «возникшего одновременно с небом и землей», производил глубокое впечатление, и сила его посланий оказывала воздействие даже на самых ревностных приверженцев Движения за народные права. Разумеется, критики называли олигархов Само корыстными, беспринципными и продажными, но на протяжении 1880-х почти все противники режима приняли основные положения имперского конституционализма. Полемика иногда достигала большой остроты, однако ни одна из поправок, предложенных оппонентами правительства на протяжении второй половины десятилетия, не оспаривала центральной позиции императора в сфере политики. Подобным образом и люди, представлявшие самый широкий спектр политических сил и мнений, приняли тезисы олигархов относительно политических традиций и общественной морали: повиновение императору; преданность нации; святость правления, осуществляемого бескорыстным, хорошо подготовленным чиновничеством, возглавляемым министрами, назначенными на свои посты императором; самоотверженная служба; отрицание раздоров, вызванных столкновением интересов различных политических групп; подчинение личных интересов всеобщему благу нации. Вся эта риторика еще не являлась официальной «государственной идеологией». Она будет сформулирована более четко в 1890-х и первом десятилетии XX в. Но идеи имперской традиционности, ответственности перед обществом и добродетельной гражданственности были крайне полезны для олигархов, поскольку они служили в качестве связующих нитей политического и морального характера, которые защищают национальную гражданственность, объединяют вместе всех кокумин и готовят их к восприятию новой конституции мистера Ито.Конституция Японской империи
Для Ито и его коллег Конституция Японской империи означала присоединение страны к современному миру, демонстрировала просвещенный прогресс нации и устанавливала новую концепцию государственной власти, основываясь при этом на наследии прежних времен и главных ценностях прошлого. Символизм был очень важен для Ито Хиробуми, и провозглашение конституции в полной мере демонстрировало его творческие способности. В качестве даты этого события был выбран день 11 февраля. Согласно японской мифологии, 11 февраля 660 г. до н. э. Дзимму основал японское государство, и страна отмечала этот день как национальный праздник. В 1889 г. ранним утром император Мэйдзи, одетый в древние императорские одежды, совершил синтоистские ритуалы перед специальным алтарем, находящимся в глубине императорских покоев. Там он сообщил своим предкам о новом «основном законе государства». Он даровал конституцию, сообщал он им, исходя из «понимания прогрессивных тенденций развития человечества и в соответствии с продвижением цивилизации»{145}. Его целью, как он сам объяснял, было «добавить прочности стабильности Нашей страны и увеличить благосостояние всех людей в пределах Наших владений». Его действия, уверял император своих предков, гарантируют, «что почитание Наших законов будет продолжаться вплоть до самых отдаленных времен». Церемония завершилась, император переоделся в костюм западного образца и направился в зал для приемов, оформленный в европейском стиле. Там он принял конституцию у Ито, передал ее в руки премьер-министра Курода и объявил всем, что всемилостивейшим монархом народу дарована конституция. Сам документ был как вместилищем традиции, так и воплощением современности. Первые 17 статей, объединенные в главу 1, касались императора{146}. Самая первая статья объявляла, что «Японская империя должна находиться под властью и управляться династией императоров, непрерывной в вечности». Последующие статьи называли императора «священным и неприкосновенным», обладавшим «правами и верховной властью». Остальные статьи главы 1 конкретизировали полномочия монарха. Самым важным из них было объявление открытия, закрытия, перерыва в работе и роспуска имперского парламента. Кроме того, согласно статье 6, император «санкционирует принятие законов и отдает приказ на их введение и исполнение». Статья 8 расширяет эту прерогативу, давая трону право на издание «Императорских указов вместо закона», если заседаний парламента в это время не проводится. Кроме того, император объявлялся главнокомандующим вооруженными силами, который объявляет войну, устанавливает мир и заключает договоры. Однако конституция содержала положения, ограничивающие императорские прерогативы. Это позволяло оградить государство от деспотического использования властных полномочий. Один из параграфов, например, определял, что «императорские указы должны быть представлены имперскому парламенту во время ближайшей сессии». Далее говорилось, что ни один указ не должен «никоим образом противоречить любому действующему закону». Глава 2 содержала «права и обязанности подданных». Двумя основными обязанностями были уплата налогов и служба в армии и флоте в случае призыва. Права были более многочисленны. Конституция гарантировала японцам следующие права: «на неприкосновенность жилища» и на защиту от незаконного вторжения и обыска; право нести наказание только по приговору суда; пользоваться «нерушимым» правом собственности; на свободу вероисповедания, а также на «свободу слова, письма, публикаций, общественных собраний и организаций». Большая часть этих прав и привилегий не была гарантирована безоговорочно. Они сопровождались такими фразами, как «в рамках действующих законов» и «если это не вступает в противоречие с их обязанностями в качестве подданных». Более того, каждое право может быть отменено в случае возникновения кризисной ситуации. Как отмечал Ито в своих комментариях, представляется существенным «создать исключительные положения на случай исключительных обстоятельств. Для этого следует помнить, что наивысшей целью Государства является поддержание его существования». Соответственно, как считал Ито, «при возникновении опасности Государство должно без всяких колебаний пожертвовать частью законов и прав подданных»{147}. Следующие несколько глав касались двухпалатного парламента и устанавливали круг обязанностей министров и Тайного совета. Как министры, так и члены совета должны были давать трону консультации. При этом предусматривалось еще одно ограничение императорской власти: ни один закон, указ или рескрипт не мог вступить в действие без подписи соответствующего министра. Впервые создаваемый Имперский парламент состоял из Палаты Пэров, в состав которой входили представители знати и члены императорской семьи, назначаемые императором, и Палаты Представителей, которая избиралась народом. Каждая из палат обладала правом законодательной инициативы и могла вносить представления кабинету министров. Принятие законов базировалось на принципе консенсуса между двумя частями парламента. Конституция также уполномочивала парламент голосовать по поводу годового бюджета. Однако ряд статей ограничивали это важное право. Статья 67 устанавливала, что «уже установленные траты, основанные на властных полномочиях Императора, не могут ни сокращаться, ни отменяться Имперским парламентом». В этом параграфе нашли свое отражение страхи олигархов по поводу того, что придирчивый, избранный народом парламент может в один прекрасный день поставить под угрозу национальную безопасность, урезав расходы на армию, которые и были подведены под категорию «трат, основанных… на полномочиях Императора». Статья 71 еще более ограничивает влияние парламента на бюджет. Согласно ей, в случае, если бюджет не пройдет через законодательный орган, «правительство будет придерживаться бюджета, утвержденного на предыдущий год». Ито не смог избежать кровопролития в период споров вокруг конституции, возникших на заре эры Мэйдзи. Однако, используя сочетание жестких законов с идеологическими концепциями, он и его коллеги достигли в конце концов своей цели. Конституция Японской империи отражала те идеи, которые базировались на «основных принципах», изложенных Ивакура в начале 80-х гг. XIX в. Она устанавливала механизмы разделения власти с представителями, избранными народом, но в то же время она накладывала жесткие ограничения на законодательные инициативы, сохраняла верховную власть за императором и передавала подавляющую часть властных полномочий министрам, назначаемым троном. Принятие конституции также означало важный шаг на пути к достижению еще одной цели: вступления в сообщество наиболее развитых стран мира. Практически с того самого дня, как они оказались у власти, олигархи режима Мэйдзи трудились над увеличением внутренней силы и обеспечением национального единства. Их конечной задачей при этом было создание современной и мощной державы, пользующейся уважением в глазах Запада. Только таким образом, считали они, Япония могла сохранить свою национальную независимость, добиться пересмотра неравноправных договоров и, как однажды заметил Ямагата, «сохранить права и преимущества нации среди других держав»{148}. Конституция помогла Японии завоевать уважение со стороны международного сообщества, которого она так старательно добивалась, и получить статус великой державы. В последние годы жизни Ито высказывал свое удовлетворение по поводу проведенного конституционного эксперимента. «Оглядываясь на шестнадцать лет ее действия, — писал он, — я не могу избежать чувства определенного удовлетворения, поскольку я понимаю, что этот эксперимент, несмотря на многочисленные свои недостатки, был в целом удачным»{149}. Можно было бы простить Ито его самонадеянность по поводу свершенных достижений, но в реальности, по мере продвижения в будущее, политические процессы, обусловленные конституцией Мэйдзи, пошли по таким направлениям, которые Ито и представить себе не мог. При всем своем уважении к прерогативам императорской власти, модернизированный основной закон обуславливал возникновение новых элит, в состав которых входили премьер-министр и его кабинет, Тайный совет, парламент и военная и гражданская бюрократия. Между всеми ними на протяжении долгих лет и десятилетий шла борьба за политическое влияние. Перипетии этой борьбы между различными элитами в конце концов повели Японию в тех направлениях, которые Ито не мог предусмотреть в тот момент, когда он февральским утром 1889 г. приближался к покрытому красным ковром возвышению, чтобы представить текст конституции императору Японии.ГЛАВА 7 На пути к индустриальному будущему
Неизменная аксиома «Процветающая нация, сильная армия» оставалась на повестке дня на протяжении всего раннего периода эпохи Мэйдзи. Она определяла цели широкомасштабного экономического развития. Индустриализация проводилась параллельно с зарождением конституционализма, и верхушка руководства Мэйдзи ожидала тот поток разнообразных благ, который будет изливаться из дымящих труб экономического прогресса. Богатство должно было способствовать росту Японии в глазах Запада и заложить фундамент национальной мощи, что поможет модернизированной стране избежать угрозы, исходящей от западного империализма. Ориентируясь на эти приоритеты, новое правительство поручило министерствам общественных работ и внутренних дел, созданных в 1870 и 1873 гг. соответственно, импортировать из-за рубежа технологии и создать в стране свою промышленность. Достаточно скоро в лексиконе Мэйдзи появился новый лозунг: «Увеличивать производство, развивать индустрию» (сокусан кёгье). Необходимость увеличивать производство и развивать индустрию также требовала решения внутренних проблем, которые угрожали осуществлению эксперимента Мэйдзи. Мятежи, возглавляемые Это Синпей и Сайго Такамори, послужили хорошим уроком для японского руководства, которое в итоге осознало необходимость предоставления бывшему военному сословию новых возможностей и перспектив светлого будущего. Более того, торговые договоры, заключенные в 1858 и 1866 гг., предусматривали для Японии несправедливые тарифы и обменные курсы. Печальными последствиями этого был резкий рост импорта и масштабный отток звонкой монеты, что вызвало буйный рост инфляции и поставило под угрозу многие местные ремесленные производства. На протяжении 70—80-х гг. режим находился в постоянном страхе, что он, вследствие этих причин, не сможет завоевать доверия простых японцев. Поэтому правящая верхушка была вынуждена обратить самое пристальное внимание на создание условий для долговременной политической стабильности и обеспечение принятия народом нового конституционного строя. Для этого необходимо было преодолеть те экономические трудности, которыми сопровождалось открытие страны внешнему миру, а также заложить фундамент будущего процветания. Ко времени созыва первого парламента, состоявшегося в 1890 г., японцы уже справились с большинством прежних экономических проблем, и страна твердо стала на путь, ведущий в ряды наиболее развитых промышленных держав мира. Как и в случае с конституционализмом, ведущую роль в этом процессе присвоили себе олигархи. Они сами занимались разработкой тех структурных изменений, которые создали благоприятные условия для ускорения экономического роста. Однако превращение Японии из преимущественно аграрной страны в промышленную державу никогда бы не осуществилось без предпринимательской изобретательности бесчисленного количества простых мужчин и женщин. Этот прогресс в экономической области, однако, имел свою цену. Несомненно, что во второй половине XIX в. Япония многого достигла на пути к процветанию. Пиша и жилье большинства людей, живших в конце периода Мэйдзи, были лучше, чем у их предков в 1860-х. Но далеко не все оказались в выигрыше от роста экономики. Некоторые потеряли свое здоровье, и даже жизнь, стремясь продвинуться вперед и помочь своей стране. Соответственно, как некоторые мужчины и женщины считали, что новая парламентская система ставит их в невыгодное положение, так десятки тысяч людей ощущали себя пострадавшими от экономической модернизации. Как сказал один критик, они «были принесены в жертву на алтарь индустриального прогресса».
Вмешательство государства и экономическая инфраструктура
Перспективы японской экономики в начальный период эры Мэйдзи были достаточно мрачными, поскольку страна была наводнена высококачественными западными товарами. Иностранная хлопковая ткань фабричного производства была прочнее и дешевле, чем домотканая материя, изготовленная вручную. Керосин продавался лучше, чем более дорогое и менее практичное традиционное ламповое масло, получаемое из семян растений. Китайский сахар был как-то слаще местных образцов, а импортные шерстяные ткани ценились за способность согревать и приемлемую стоимость. Как показано в таблице 7.1, за 14 лет, с 1868 по 1881 г., объемы импорта 12 раз превышали экспорт. Положение было столь же очевидным, сколь и катастрофичным: если Япония не сможет перестроить свою экономику, создать импортзаменяющие производства и сбалансировать свою внешнюю торговлю, то, по словам одного чиновника, страна «окажется в крайне жалком положении. Количество звонкой монеты будет ничтожным, национальная валюта будет продолжать обесцениваться, цены возрастут, и о могуществе нашей нации можно будет забыть»{150}. Окубо Тосимичи, глава только что созданного Министерства внутренних дел, был сильно обеспокоен будущим своей страны. При этом он твердо верил, что вмешательство государства является необходимым условием быстрой индустриализации Японии. Эта идея в начале 1870-х превратилась в кредо многих японских олигархов. «Говоря в целом, — писал Окубо после посещения хлопковых фабрик в Бирмингеме и верфей в Глазго в составе миссии Ивакура, — сила страны зависит от процветания ее народа. Процветание народа, в свою очередь, зависит от их производительности». Простые люди, продолжал он, могут, посредством невероятных усилий, создать несколько промышленных предприятий, но изучение европейского опыта, заключил Окубо, «не содержит примеров того, чтобы производительная сила страны была бы увеличена без покровительства и ободрения со стороны правительства и его чиновников»{151}. В условиях разрушения традиционных ремесел и вооруженных выступлений со стороны бывших самураев олигархи занялись созданием средств связи и транспортных путей, которые должны были содействовать индустриализации страны. Коммодор Перри познакомил японцев с телеграфным аппаратом Морзе, и в 1869 г. правительство Мэйдзи пригласило британского инженера, чтобы тот построил телеграфную линию между Токио и Иокогамой. Она начала работу уже в следующем году. Министерство общественных работ поспособствовало быстрому развитию системы связи. Ко времени созыва первого парламента, правительственные рабочие команды проложили через горы, леса и реки Японии около десяти тысяч километров провода. Более двух сотен телеграфных станций обеспечивали почти беспрерывную связь между крупнейшими городами страны. В том же году в Токио и Иокогаме начали действовать публичные телефонные линии. К концу столетия своими телефонными линиями обзавелись почти пятьдесят городов, и операторам приходилось обслуживать более 45 миллионов звонков, и число обладателей телефонов все более возрастало. Сердцем японской системы современных коммуникаций была почтовая служба. Вскоре после прихода к власти молодые лидеры эпохи Мэйдзи пришли к выводу, что Японии необходима подчиненная правительству почтовая служба, чтобы «сделать систему связи в стране простой и доступной»{152}. В начале 1871 г. правительство поручило чиновникам городов, расположенных вдоль дороги Токайдо, открыть конторы, в которые люди могли бы сдавать свои почтовые отправления. В первый день Третьего месяца первая почта была отправлена из Токио в Осаку, куда она прибыла спустя семьдесят два часа, в полном соответствии с расписанием. В следующем году Маэдзима Хисока, который являлся протеже Окума Сигенобу, получил задание расширить сеть почтовых сообщений, и вскоре она охватила всю территорию страны. Маэдзима, считающийся отцом японской почты», ориентировался на британскую модель почтовой службы, которую он изучил за год пребывания в этой стране. В итоге в Японии была создана система единых тарифов, оплата производилась путем приобретения марок, по почте можно было посылать денежные переводы и посылки. К 1890 г. в Японии существовало более 5000 почтовых отделений, через которые проходило около 225 миллионов писем и почти 75 миллионов денежных переводов. Часть этих почтовых отправлений доставлялась к месту назначения курьерами, на телегах или недавно появившимися рикшами, для чего использовалась старая система дорог. Однако все чаще правительство прибегало к помощи железных дорог. Молодое руководство Мэйдзи не только рассматривало строительство железных дорог как средство усовершенствования почтовой службы, но также считало его жизненно необходимым условием для всего развития промышленности и обеспечения обороноспособности страны. Правительство осознавало, насколько огромных капиталовложений требует его осуществление, однако оно все-таки не собиралось передавать его в частные руки и взяло инициативу на себя. Соответственно, в конце 1869 г. было принято формальное решение о строительстве двух первых железнодорожных линий. Одна из них должна была связать Токио и Иокогаму — новый оживленный порт, обслуживавший столицу, а вторая — Осаку и Кобэ, которые были, соответственно, основным торговым центром и новым транзитным пунктом на западе Японии. Чтобы собрать средства на осуществление этого проекта, японское руководство разместило на Лондонской бирже облигации, и весной 1870 г. началось строительство линии Токио — Иокогама. При этом использовались английские материалы и технологии. Церемония открытия линии Токио — Иокогама, состоявшаяся в октябре 1872 г., по своей грандиозности могла сравниться с церемонией объявления конституции, состоявшейся семнадцатью годами позже. Личное присутствие императора подчеркивало ту важность, которую режим Мэйдзи придавал строительству железных дорог. Паровой локомотив рассматривался как символ прогресса и цивилизации. Утром 14 октября на токийском вокзале Синбаси император Мэйдзи в присутствии высших правительственных чиновников взошел в богато декорированный пассажирский вагон. Затем в поезде разместились представители западных держав. Над Токийской бухтой раздался залп из 21 орудия, размещенного на военных кораблях, и под этот праздничный салют началась первая поездка в Иокогаму. Двумя годами позже в значительно менее торжественной обстановке была открыта линия между Осакой и Кобэ. В 1877 г. эта линия была продолжена до Киото, а еще через 12 лет после этого, в 1889 г., было завершено строительство магистрали Токайдо. Отныне люди могли совершать путешествия между крупнейшими городами востока и запада Японии менее чем за один день, и старые дорожные станции отошли в прошлое. Еще два важных элемента добавило правительство в несущие конструкции инфраструктуры современного экономического развития, введя национальную валюту и приступив к созданию единой банковской системы. Постановление о новом денежном обращении, вышедшее в 1871 г., вводило йену в качестве национальной денежной единицы, заменив ею запутанную систему монет и более полутора тысяч видов бумажных расчетных билетов, использовавшихся в качестве денег в конце периода Токугава. Годом позже, в 1872 г., указ о Национальном банке инициирует создание так называемых национальных банков, призванных способствовать накоплению капитала для дальнейшего его использования в деле индустриализации страны, а также обеспечить упорядоченное развитие денежной системы. В соответствии с практикой, принятой в Соединенных Штатах, национальные банки могли принимать деньги на хранение, а также производить эмиссию бумажных банкнот, которые начиная с 1876 г. не могли быть конвертируемыми в звонкую монету. К концу десятилетия свои двери открыли более 150 национальных банков. Самым крупным из новых финансовых учреждений был Пятнадцатый национальный банк, созданный в конце 1870-х при участии более 480 бывших даймё и придворных. Его капитал составлял 17,8 миллиона йен, или приблизительно 40 % от общей суммы капиталов, которыми располагали все национальные банки страны. Как и в случае создания инфраструктуры современного экономического развития, в сфере военных и стратегических мероприятий лидеры Мэйдзи оставили ведущую роль за собой. Некоторые предприятия новый режим унаследовали от сёгуната Токугава и даймё. Среди них были верфи Нагасаки, которые были построены сёгунатом в конце 50-х гг. XIX столетия при помощи голландцев, верфи в Йокосука, построенные в 1866 г. под наблюдением французских морских офицеров, и небольшая верфь в домене Мито, созданная в 1853 г. на Исикавадзима, острове в заливе Эдо. Молодые люди, входившие в штат министерств общественных работ и внутренних дел, под контролем которых находились верфи, быстро сообразили, что новые технологии можно использовать не только в военных целях. Соответственно, их предприятия не только строили военные и транспортные суда для нового японского флота, но и работали на гражданский сектор экономики. Инженеры в Йокосука, например, одними из первых в Японии соорудили печи для выплавки стали. Там же разрабатывались проекты маяков, правительственных зданий, дорог и портов. Многие дочерние фабрики этой верфи использовали паровые машины, котлы и другие типы механизмов в горнорудной и текстильной отраслях. Правительство также создавало образцовые фабрики и покровительствовало некоторым гражданским предприятиям, надеясь стимулировать таким образом частное предпринимательство. В этих случаях планировщики из министерств внутренних дел и общественных работ преследовали и несколько косвенных целей: создать рабочие места и ускорить развитие коммерции в отсталых в экономическом отношении районах; продемонстрировать возможности современных технологий и создать легкую промышленность, продукты которой могли бы конкурировать с иностранными товарами, заменяя, таким образом, импорт и исправляя хронический дефицит японской торговли. Вероятно, наиболее скоординированным предприятием в этом отношении была Служба колонизации Хоккайдо. В ее активе были производство сакэ, сахарный завод, мельницы, а также сооружение заводов по производству рыбных консервов — все это было плодом усилий режима Мэйдзи по развитию этого северного острова. Окубо и его коллеги инвестировали значительные средства и в правительственные текстильные предприятия, стремясь насадить современные методы в этой отрасли производства. В период Токугава прядение хлопка и шелка было распространенным домашним занятием. После открытия японских портов внешней торговле для этого занятия наступили тяжелые времена. Производители хлопковых тканей начали разоряться сразу после 1858 г., поскольку японские ткани, получаемые на ручных станках, просто не могли выдержать конкуренции ни по своей цене, ни по качеству с тем товаром, который производился на новейшем по тем временам оборудовании в многочисленных британских городках и индийских деревнях. Министерство внутренних дел не могло ввести квоты на импорт, поскольку это запрещали неравноправные договоры. Поэтому оно стало поощрять механизацию производства, чтобы повысить с ее помощью качество ткани, производимой японскими кустарями. В надежде побудить местных богатеев вкладывать средства в развитие технологии и в создание механических прядилен министерство механизировало две свои хлопкопрядильни, одна из которых находилась в Осаке, а вторая — в Кагосима, которую режим Мэйдзи унаследовал от даймё домена Сацума. В противоположность хлопковым ткачам, производители шелковой нити, после подписания в 1858 г. режимом Токугава торговых договоров, некоторое время даже процветали. Этому способствовала болезнь, поразившая тутового шелкопряда в Европе и заставившая торговцев платить японцам повышенную цену за яйца шелкопряда и шелк-сырец. На протяжении всех 60-х гг. XIX в. склады в Иокогаме ломились от хлопка-сырца, и к 1868 г. хлопок составлял 40 % от всего экспорта, а налоги с его продажи составляли половину всей суммы, полученной с продажи экспорта режимом Мэйдзи в первый год его существования. Но уже в следующем году Франция и Италия восстановили свои шелководческие хозяйства, и спрос на японский шелк, не отличавшийся тонкостью и гладкостью, резко пошел на убыль. Выход из сложившейся ситуации, по мнению по крайней мере одного из чиновников, был очевидным: «Японский шелк-сырец обладает низким качеством единственно потому, что в стране нет хороших технических приспособлений. Поэтому мы должны создавать технику по европейскому образцу»{153}. Вскоре подобные машины были представлены на образцовой государственной фабрике, расположенной в Томиока, префектура Гунма. Чиновники Министерства внутренних дел не жалели средств на осуществление этого проекта, поскольку он должен был стать краеугольным камнем современного японского производства шелка и вернуть экспорту этого товара роль источника иностранной валюты, которая была жизненно необходима новому режиму. В короткие сроки правительство возвело современные здания из кирпича, закупило оборудование и пригласило в качестве управляющих проекта французских предпринимателей, имевших опыт торговли шелком в Лионе и Иокогаме. В июле 1872 г. производство началось. Обслуживанием мотальных машин, приводимых в движение паром, занималось около четырех сотен девушек, поскольку дополнительной целью проекта Томиока было обеспечение работой дочерей бывших самураев. Они, пройдя обучение на фабрике, могли в дальнейшем стать инструкторами на других новых производствах, основанных частным капиталом, которые должны были открыться по всей стране. В целом молодой режим Мэйдзи на постройку и оснащение Томиока затратил около 200 000 йен, и многие считали, что это было выгодное вложение денег. Первая партия шелка, полученная на фабрике, была с успехом продана в Лионе и Милане, и за свое качество томиокский шелк даже получил вторую премию на Международной выставке, проходившей в Вене в 1873 г.Дефляция Мацуката и новый экономический курс
К сожалению верхушки режима Мэйдзи, не все усилия по увеличению производства и развитию индустрии проходили гладко. Несмотря на всю ту шумиху, которая окружала мероприятия правительства, немногие из них оправдывали возложенные на них ожидания. Служба колонизации Хоккайдо трудилась не покладая рук, но достижения были весьма скромны. Лишь несколько поселенцев на северной границе Японии пожелали рискнуть, обратившись к европейским методам ведения сельского хозяйства и предпринимательской деятельности. Развитие железных дорог также разочаровывало. Ничто так не передавало идею прогресса и современности, как паровой локомотив. Тем не менее некоторые члены внутреннего круга руководства Мэйдзи считали, что у молодого правительства есть более подходящие способы траты денег, чем расширение железнодорожной сети. Сайго Такамори еще в бытность свою членом правительства весьма активно выступал в поддержку этой позиции. «Если мы в своей зависти к величию западных наций, — со всей своей прямолинейностью заявлял Сайго, — будем рваться вперед, не обращая внимания на пределы наших собственных возможностей, то мы так ничего и не доведем до конца. Мы должны сию же минуту отказаться от идеи постройки паровых железных дорог и сконцентрироваться на увеличении нашей военной мощи»{154}. По иронии судьбы, военные чины в полной мере оценили стратегическое значение железных дорог как средства быстрого перемещения войск только в 1877 г., после того как подразделения японской армии, сформированной по призыву, были переброшены по железной дороге в порты Иокогама и Кобэ, откуда они морем направились на подавление мятежа Сайго. К досаде многих олигархов, образцовые текстильные фабрики, на создание которых были потрачены огромные средства, редко вызывали энтузиазм у частных предпринимателей. Множество проблем было у шелковой фабрики в Томиока. Сложные, приводимые в действие паром механизмы, привезенные из Франции, оказались слишком дорогими для частников, которые не могли их ни купить, ни установить у себя. Более того, руководители Томиока очень слабо разбирались в работе механизмов и плохо организовывали работу фабрики. Бывали случаи, когда они не допускали на свое производство частных предпринимателей, желавших познакомиться с их предприятием, поскольку боялись, что начальство в Токио может прослышать об их некомпетентности. Женщины, работавшие в Томиока, которые впоследствии должны были стать инструкторами на частных предприятиях, в реальности редко задерживались на фабрике настолько долго, чтобы приобрести мастерство в работе. Наконец, хотя первоначально тот шелк, который производился в Томиока, приобрел хорошую репутацию благодаря своему высокому качеству, само производство шелка редко приносило доход, даже несмотря на обильные государственные субсидии. В 1875 г. дефицит бюджета фабрики составил 220 000 йен, что превышало сумму, которую олигархи потратили на постройку и оснащение предприятия. В результате проект Томиока обернулся тяжелым финансовым бременем, легшим на плечи правительства. В конце 70-х гг. XIX в. у правительства появилась еще одна проблема — инфляция. За два года — с 1877 по 1879 г. — в Японии открылось более сотни новых национальных банков. Поток выпускаемых ими банкнот буквально затопил финансовые рынки страны. Такое количество бумажных денег уже не могло обеспечиваться запасами драгоценных металлов. Более того, поскольку правительство использовало звонкую монету при расчетах за импортируемое военное и промышленное оборудование, а также для оплаты услуг иностранных специалистов, таких как Уотерс и Моссе, то за период с 1877 по 1880 г. запасы золота и серебра в стране уменьшились наполовину. Но главной проблемой все же была инфляция. Давление на бюджет было особенно сильным в 70-е гг., когда олигархам одновременно пришлось выделять средства на подавление внутренних мятежей, выплачивать самураям пенсии, субсидировать государственные предприятия и образцовые фабрики, вкладывать деньги в развитие инфраструктуры и в модернизацию армии и флота. Когда олигархи стали разыскивать способы покрыть дефицит бюджета, вариантов, пригодных для решения этой проблемы, у них осталось немного. Страх перед растущим недовольством сельских жителей убивал в лидерах Мэйдзи всякое желание поднимать налоги на землю. Ставшее знаменитым высказывание Ивакура о том, что он лучше продаст Кюсю и Сикоку иностранцам, чем будет увеличивать плату за импорт, отображало беспокойство большинства олигархов по поводу того, что отток из страны денежных средств поставит внутреннюю политику под контроль внешних сил. Не имея другого выхода, Окубо и Окума Сигенобу, который большую часть 70-х гг. занимал в Дадзокане пост министра финансов, просто печатали новые деньги, которые затем шли на нужды индустриализации. В результате бумажная йена обесценивалась с катастрофичной скоростью, и столь же стремительно росли цены на товары местного производства. Вскоре инфляцию усугубили появившаяся спекуляция и нежелание крестьян везти свою продукцию на рынки. Они, несмотря на заоблачные цены, начали прятать зерно по закромам, в результате чего в Токио цены на рис с 1877по 1880 г. поднялись в два раза. Инфляция сильно понизила конкурентоспособность японских товаров на международных рынках, а также снизила реальный доход, получаемый государством от фиксированного поземельного налога. Инфляционный кризис, вместе с другими экономическими проблемами, проявившимися в конце 70-х гг. XIX в., казалось, перечеркнул все успехи десятилетия и превратил надежду на быструю индустриализацию в химеру. Летом и ранней осенью 1881 г. в среде олигархов проходили жаркие споры, в ходе которых верхушка режима Мэйдзи стала склоняться к мысли о необходимости принятия программы финансовой экономии. Окума в это время оказался в политической немилости из-за своих взглядов на конституционализм, Окубо погиб от рук бывших самураев в 1878 г., и решение финансовых вопросов оказалось в руках Мацуката Масаеси. Этот человек, происходивший из домена Сацума, был автором реформ системы поземельного налогообложения, начавших осуществляться в 1873 г. По своим взглядам он был приверженцем ортодоксального подхода к фискальной политике. Персона Мацуката устраивала далеко не всех. По словам Окума, которые часто цитировались, Мацуката был настолько посредственным, что только его покровители из Сацума спасли его от судьбы «заурядного губернатора провинции» — этот пост он занимал на Кюсю в начале семидесятых. Но, заняв в 1881 г. пост министра финансов, он весьма решительно повел наступление на инфляцию, создал стабильную денежную систему и освободил капитализм от вмешательства государства, так что правительство смогло наконец избавиться от непосредственного и очень дорогостоящего управления промышленностью. В период с 1881 по 1885 г. он урезал расходы администрации, увеличил косвенные налоги и выставил на продажу многие государственные предприятия. Эти мероприятия позволили бюджету получить дополнительные средства, которые Мацуката использовал для скупки банкнот, выпущенных в предыдущие годы национальными банками. Таким образом, он убрал излишек бумажных денег. Желая окончательно решить проблемы денежной системы, он составил план по трансформации национальных банков в обыкновенные коммерческие банки (см. табл. 7.5). В 1882 г. Банку Японии были приданы функции центрального банка с монопольным правом на выпуск бумажных денег. Результат этих акций был двоякий. Если рассматривать ситуацию с точки зрения сиюминутных результатов, то они ввергли страну в глубокий экономический спад. Решение Мацуката уменьшить государственные расходы и повысить налоги начало претворяться в жизнь в тот момент, когда внутренние цены на рис пошли вниз — так рынок отреагировал на сверхспекуляцию конца 1870-х. Положение усугубилось еще и тем, что в это же время мировая экономика оказалась в кризисе. Сочетание этих факторов вызвало резкое снижение потребительского спроса и свободное падение цен на шелк, чай и другие сельскохозяйственные продукты, которые японские крестьяне обычно предлагали рынку. Многочисленные трудности обрушились на семьи японских крестьян в период с 1882 по 1885 г. Точные статистические данные редко можно встретить, но газеты того времени переполнены сообщениями о бедах японской деревни. Например, упоминались нищие из предместий Канадзава, которые предпочитали сесть в тюрьму, чем умирать от голода, а также говорилось, что каждая десятая семья, проживавшая в сельской местности, потеряла свою землю по причине невозможности выплачивать поземельный налог. Вероятно, самым пагубным следствием дефляции Мацуката был рост задолженностей. Он породил недовольство среди крестьян, которое проявлялось в разных формах — от подписания коллективных петиций и создания партий должников до силовых акций, таких как инциденты в Фукусима и Чичибу, которые привлекли активистов Движения за народные права на сторону крестьян. Если же рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, то следует признать, что действия Мацуката воскресили экономическую мечту Мэйдзи. Его политика, сильно ударившая по определенной категории японских земледельцев, с другой стороны, остановила инфляцию, стабилизировала цены, сбалансировала бюджет и исправила ситуацию в налоговой системе. Его инициативы в банковской сфере дали в распоряжение правительства прочную основу для дальнейшего развития. Возможно, наиболее существенным было то, что реформы Мацуката переориентировали политику правительства в промышленной сфере, перенеся акцент с непосредственного участия в производстве через сеть государственных предприятий на частную инициативу, популярную в промышленно развитых западных державах. В области теории частного предпринимательства Мацуката находился под влиянием тех идей, которые он услышал от Леона Сеи и других французских экономистов во время своего посещения Европы в 1878 г. По возвращении в Японию Мацуката сформулировал свое видение по поводу экономической роли государства. «Правительство никогда не должно пытаться составить конкуренцию отдельному человеку в области производства или торговли, — писал он в своем меморандуме 1882 г., — поскольку оно, по многим причинам, не может сравниться в практичности, предусмотрительности и предприимчивости с людьми, которые руководствуются своими собственными интересами. Поэтому для правительства всегда будет лучше не принимать непосредственного участия в торговле и производстве, предоставив эту сферу деятельности частным предпринимателям»{155}. Это мнение на несколько последующих десятилетий определило подход правительства к модернизации экономики. Мацуката и его коллеги ведущую роль в деле индустриализации Японии отводили частному сектору. Свою задачу они видели в оказании ему посильной помощи и создании благоприятных условий для роста частного предпринимательства.Частные предприниматели и развитие легкой промышленности
Еще до того, как Мацуката встал у руля государственных финансов, многие мужчины и женщины стали самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. Их усилия оказали существенное влияние на рост японской экономики. Способных предпринимателей можно было встретить по всему японскому архипелагу — как в городах, так и в деревнях. У народа еще была жива память о проблемах завершающего периода существования режима Токугава — о провалившихся реформах, о несправедливых ценах на рис и постоянных спорах о том, как наилучшим образом обеспечить развитие коммерции. И эти воспоминания заставляли людей до конца использовать те возможности, которые открыла перед ними эра Мэйдзи. Немногие из этих деловых людей были известны за пределами той местности, в которой они проживали. Но в том мире, где не было ничего определенного и устоявшегося, они всеми силами боролись за улучшение своей жизни. Достигнув успеха в этом деле, они устанавливали определенный уровень достатка для себя и для своих соседей, вносили свой вклад в совокупную стоимость производящего сектора экономики и создавали значительное количество полуфабрикатов и готовых товаров, шедших затем на экспорт (см. табл. 7.2 и 7.3).

Некоторые предприимчивые торговцы добились успеха, сконцентрировав свои усилия на повышении качества и приспособлении к рыночным условиям традиционных продуктов и ремесел. Например, в старом замковом городе Канадзава отмена системы доменов, последовавшая в 1871 г., уничтожила традиционные барьеры, существовавшие на пути межрегиональной торговли, и предоставила местным производителям золотого и серебряного листа новые возможности для деятельности на национальных и даже международных рынках. В начале XIX столетия мастера, которые выковывали тонкие кусочки золотой и серебряной фольги для украшения домашних буддийских алтарей, фарфора, лакированных изделий и складных ширм, обратились к местным властям с просьбой разрешить им заниматься производством листа из драгоценных металлов. Поскольку сёгунатские законы разрешали производство подобного листа только определенным ремесленным объединениям в Эдо и Киото, то переговоры между мастерами и властями результатов не принесли, и не более сотни ремесленников вообще участвовали в торговле в Канадзава. После того как режим Мэйдзи отменил монополии и распустил старые торговые объединения, торговля золотым и серебряным листом в Канадзава немедленно пошла в гору. К 1880 г. в это дело было вовлечено уже более 1500 человек. Причиной этого резкого роста, кроме качества и приемлемой цены на продукцию канадзавских мастеров, был свободный доступ крынкам. Основная масса листа, произведенного в 70—80-х гг. XIX в., была продана в Киото и Нагоя для использования при изготовлении религиозной утвари. После Первой мировой войны канадзавские производители захватили приблизительно 90 % мирового рынка, вытеснив оттуда немцев. В Ниномия бесстрашная женщина-предприниматель Та-цуума Кийо, ставшая главой семьи в конце периода Токугава, превратила в эпоху Мэйдзи семейную сакэварню «Хакусака» («Белый Олень») в крупнейшую империю по производству сакэ. Она даже основала свою собственную пароходную компанию, чтобы расширить торговлю своей продукцией в западных и северных областях Японии. По мере роста доходов, Тацуума обратилась к другим сферам деятельности. Она начала вкладывать большие средства в недвижимость в Осаке, основала дело по страхованию на море и от пожаров, занялась оптовой торговлей рисом, начала торговать древесиной и углем, наладила производство спичек. Вероятно, самым значительным наследством, которое она оставила своей семье, был дух предпринимательства, благодаря которому компания «Хаку-сака» в 80-х гг. XX в. в Голдене, штат Колорадо, организовала одно из первых на территории Соединенных Штатов производств сакэ. Наряду с традиционными товарами, многие японцы в 70—80-х гг. XIX в. начали производить реплики тех завлекательных предметов, которые попадали в страну с Запада. Токийские предприниматели основали фирмы «Сейко», выпускавшую часы, и «Сисейдо», производившую косметику. В Осаке несколько человек одновременно впервые в Японии стали выпускать пуговицы. Традиционные одежды не требовали подобных застежек, однако спрос на них вырос в 1870-х, когда в армии было введено обмундирование западного образца, а также многие простые японцы стали одеваться по-европейски. Поскольку импортные пуговицы были дорогими, осакские предприниматели попытались наладить их производство на месте. При этом в качестве инструментов они использовали точильный камень, ножи и традиционные заколки, а материалом для пуговиц служили разнообразные морские раковины. Не имея возможности, по причине высоких цен, закупать импортное оборудование, они использовали то, что было у них под рукой. Они изобрели ручной буравчик для сверления дырок и создали сливовое масло для обработки поверхности пуговиц. Благодаря этим технологическим новинкам, количество мелких производителей, на каждого из которых работало от 50 до 60 рабочих, быстро увеличивалось. К 1896 г. Япония могла экспортировать пуговиц на 175 000 йен, что в шесть раз превышало стоимость импортируемых пуговиц. Подобным образом и другие инициативные и амбициозные люди создавали домашние мастерские и небольшие предприятия, которые производили такие новые для Японии товары, как очки, спички, жестяные коробки, игрушки, часы, эмалированные изделия из железа, ножевые изделия и велосипеды. Тем самым они способствовали скорейшему превращению Японии из аграрной в промышленную страну.
Индустриализация аграрного сектора
Бурный процесс индустриализации, характеризовавший эру Мэйдзи, не оставил в стороне и аграрный сектор экономики, где сельские жители продолжали заниматься надомным производством товаров. Очевидным было наследие коммерциализации, которой сельская местность подверглась в период Токугава. В первые годы эпохи Мэйдзи редко можно было встретить деревню, жители которой не получали бы дополнительного дохода от производства и продажи тех или иных изделий — от обуви до плетеных шляп и соломенных плащей, пряжи и тканей, свечей и лампового масла, сандалий и чулок-таби, соевого соуса и соли, пиломатериалов и древесного угля. Например, в долине Ина, расположенной на юге префектуры Нагано, и в начальный период Мэйдзи можно было наблюдать длительный эффект от протоиндустриализации. В местных деревнях производились практически все виды товаров, которые можно было встретить в сельской местности, и ведущую роль среди них играли лакированные и бумажные изделия. Среди традиционных сельских мануфактур наиболее впечатляющий рост и организационные изменения демонстрировала намотка сырцовой шелковой нити. Бум 1860-х показал японским производителям перспективность торговли шелком, и на протяжении следующего десятилетия они занимались поисками путей повышения конкурентоспособности своей продукции. Эти люди не хуже правительственных планировщиков понимали, что механизация производства позволит делать шелк более блестящим, более прочным и, соответственно, более продаваемым. Предпринимателей, однако, не сильно вдохновлял пример образцовой фабрики в Томиока, оснащенной дорогостоящим оборудованием. Они просто заменяли деревянные здания кирпичными, в качестве полов использовали хорошо утрамбованную землю, заказывали у местных кузнецов деревянные рамы вместо дорогостоящих импортных машин, а плотники сооружали им водяные колеса, заменявшие собой заграничные паровые двигатели. Эта технологическая адаптация была на редкость успешной. В итоге затраты производителей составили менее 10 % от той суммы, которую правительство тратило на одно рабочее место на фабрике Томиока. Кроме того, деревенские предприниматели имели доступ к одним из самых лучших в мире коконов, которые выращивались крестьянами, живущими вокруг фабрик. Сюда надо добавить и неисчерпаемые резервы крайне дешевой рабочей силы, которую составляли женщины из окрестных деревень. Большинство подобных фабрик были небольшими по своим размерам. Количество рабочих на них составляло около 50 человек. Но, даже несмотря на это, производство шелка на них росло, и к концу столетия на его долю приходилось от 7 до 10 % от всего количества товаров, произведенных в Японии, и до одной трети всего японского экспорта. Наряду с производством различных потребительских товаров, жители сельских районов Японии оказывали влияние на процесс экономической модернизации и другими путями. Некоторые аспекты их вклада в это дело сразу бросались в глаза, другие были менее очевидными, но все они были связаны с подъемом сельского хозяйства, ростом производства риса и других зерновых культур, как это показано в таблице 7.4. Статистические данные начала эпохи Мэйдзи ненадежны, однако можно предположить, что в целом за этот период производительность на единицу рисового поля возрастала приблизительно на 1,7 % ежегодно. Этот успех не был результатом ни реорганизации аграрной экономики, ни увеличения посевных площадей. Наоборот, крестьянская семья по-прежнему оставалась типичной производительной единицей, как это было и в период Токугава, и владения большинства хозяйств ограничивались небольшими участками, которые могли обрабатываться силами одной семьи. Что помогало крестьянам увеличивать производительность, так это распространение новых знаний. На протяжении периода Токугава отдельные земледельцы экспериментировали с новыми методами обработки земли, однако их идеи не выходили далеко за пределы их родных деревень, разбросанных по стране. И известия о достижениях таких людей, как Ниномия Сонтоку, распространялись относительно медленно. Стремление к росту и изменениям, пришедшее в эпоху Мэйдзи, подхлестнуло Японию, и на этой волне зародилась система платных передвижных лекториев, посвященных аграрной тематике, формировались дискуссионные группы, а также организовывались общества по обмену семенами. Все эти организации способствовали распространению информации о разновидностях зерна, удобрениях, технике обработки почвы и скотоводству. Все эти знания распространялись значительно шире и быстрее, чем прежде, и крестьяне, опираясь на них, могли использовать свою землю и свой труд более продуктивно.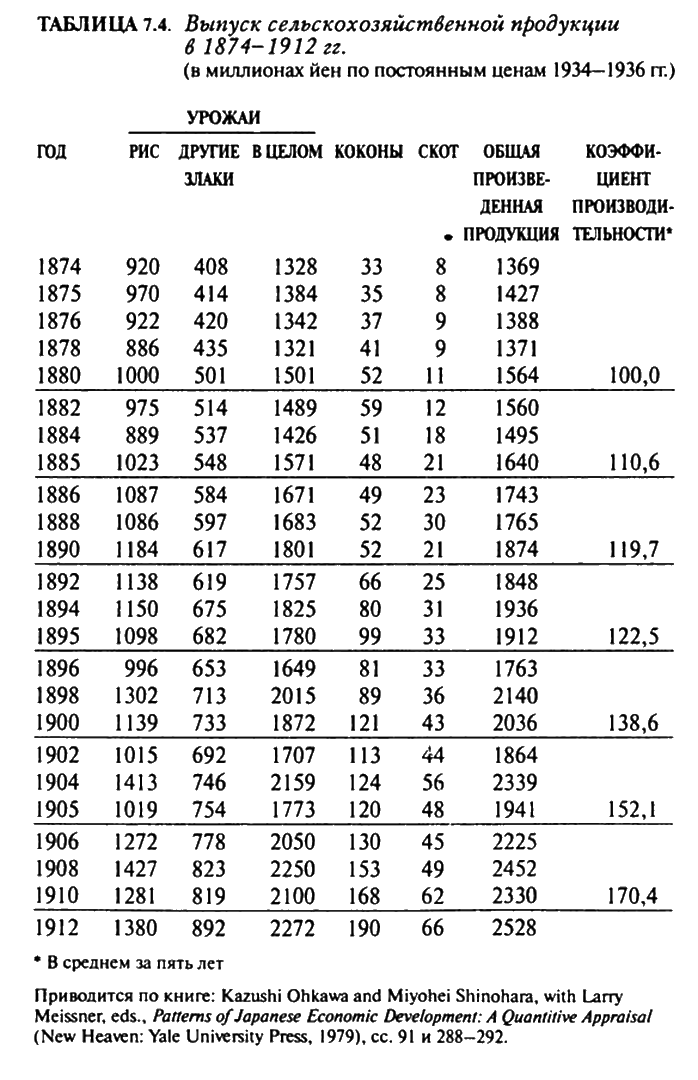
Рост инноваций в начале эпохи Мэйдзи стимулировался и расширением традиционных знаний. Например, были выведены десятки новых сортов риса, которые приносили значительно больше зерен с каждого растения. Вероятно, наибольшую известность приобрел сорт «Синрики» («Сила Богов»), выведенный крестьянином префектуры Хиёго в 1877 г. и широко распространившийся по западной Японии к 1890 г. Производительный потенциал сортов типа «Синрики», в свою очередь, зависел от большого количества удобрений. Традиционные источники таких удобрений, как навоз, не могли удовлетворить всех потребностей, поэтому крестьянам эпохи Мэйдзи приходилось дополнительно покупать их и более эффективно использовать. Более того, новые типы удобрений требовали более глубокой вспашки. Это обстоятельство заставило сельских изобретателей усовершенствовать плуг, а крестьянам пришлось более активно использовать тягловых животных. Наконец, крестьянские семьи опытным путем постигали новые способы сельскохозяйственного труда, такие, например, как использование недавно изобретенного роторного прополочного приспособления. В противоположность тому вкладу, который был привнесен в частный сектор сельского хозяйства мириадами отдельных людей, роль членов Дадзокана в аграрной сфере была весьма скромной. В 70-х гг. XIX в. верхушка Мэйдзи ступила на кривую дорожку, попытавшись внедрить западные способы ухода за крупным и мелким скотом, новые сельскохозяйственные культуры, такие как картофель, кукуруза, виноград и оливки, а также технику, которая мало использовалась в небольших крестьянских хозяйствах Японии. В 1881 г. было создано Министерство сельского хозяйства и коммерции. В его ведение перешли многие вопросы по экономическому планированию, бывшие ранее сферой ответственности министерств внутренних дел и общественных работ. Только после этого правительство наконец приступило к созданию сельскохозяйственных товариществ и экспериментальных станций с целью поддержки тех инноваций, которые были плодами упорного труда японских крестьян. Рост продуктивности, наблюдавшийся в ранний период эпохи Мэйдзи, имел самые разнообразные последствия. Средний прирост урожаев зерновых культур значительно опережал рост населения, который составлял приблизительно 1,1 % в год. Крестьяне кормили всю страну. Рост производительности сельского хозяйства позволял сводить к минимуму необходимость импортировать дорогие продукты питания. Кроме того, аграрный сектор вносил свою существенную лепту в доходы от экспорта, как это можно заметить из таблицы 7.8. Вероятно, более существенным было то, что возросли и доходы крестьянских семей. Несомненно, статистические данные относительно первых десятилетий эпохи Мэйдзи носят фрагментарный характер, и прослеживая траекторию изменений крестьянских доходов, следует соблюдать осторожность. Более того, в период Мэйдзи случалось всякое, и в конце XIX в. японская деревня переживала различные катаклизмы, такие как дефляция Мацуката. Однако не менее очевидным является и то, что в среднем рост сельскохозяйственной продукции влек за собой и повышение доходов крестьян. Многие сельские семьи использовали эти доходы на повышение уровня жизни. Росло и надомное производство товаров легкой промышленности, которое стимулировалось активным потребительским спросом. Вдобавок государство забирало часть дохода через поземельный налог. Эти средства шли на поддержание государственных фабрик и осуществление проектов в сфере инфраструктуры. Наконец, крестьянские хозяйства добровольно вкладывали часть своих доходов в японскую промышленность. Некоторые семьи, например, покупали оборудование для намотки шелковой нити или для других предприятий, в то время как другие вкладывали свои деньги в так называемые псевдо-банки. Количество таких учреждений резко возросло в 80-е гг. XIX в., как это показано в таблице 7.5. Большинство из них было основано относительно мелкими и средними торговцами и землевладельцами в тех префектурах, которые наиболее активно поставляли сельскохозяйственную продукцию на рынок. Псевдобанки вкладывали средства преимущественно в домашнее производство сельскохозяйственных товаров, а также поддерживали производство и экспорт таких товаров, как шелк и чай.
Хлопок и первопроходцы японской индустрии
В ходе развития легкой промышленности в начале эпохи Мэйдзи главным источником роста производства сделалось изготовление хлопковой нити и тканей. Во время реставрации Мэйдзи в Японии была только одна ткацкая фабрика по производству хлопковых тканей. Десятью годами позже в стране было всего три подобных предприятия. Все они принадлежали государству и в сумме производили около 1 миллиона фунтов нити. Но к концу столетия существовали десятки частных фабрик, производившие до 250 миллионов фунтов. Хлопковая нить и ткани составляли приблизительно 25 % от всей произведенной в стране продукции. Быстрое развитие производства хлопка, как видно из таблицы 7.6, оказывало значительное воздействие на структуру торговых отношений Японии. В 70-х гг. XIX в. страна экспортировала сырье, в то время как импорт складывался из промышленных товаров. Через три десятка лет, как показано в таблице 7.3, ситуация претерпела кардинальные изменения. В начале XX столетия в Японию ввозилось значительное количество сырья, а за рубеж шли товары промышленного производства, преимущественно шелк и хлопковая нить и ткань фабричного производства. Не менее важным было и то, что политика замещения импорта становилась все более успешной, по мере того как количество импортируемых тканей существенно сокращалось. Подобно тому, как японские крестьяне кормили страну, местные производители тканей одевали ее. Люди, находившиеся в авангарде японской текстильной промышленности, имели репутацию выдающихся предпринимателей. Самым известным из них был Сибусава Эиичи. Обладая огромным личным обаянием, безошибочным деловым чутьем и даже некоторой жуликоватостью, Сибусава в 1864 г. покинул процветающую ферму своей семьи, расположенную к северу от Эдо, чтобы стать одним из самых выдающихся японских бизнесменов эпохи Мэйдзи. Будучи протеже Окума Сигенобу, Сибусава некоторое время служил в Министерстве финансов. Там он сыграл ключевую роль в разработке реформы налогообложения и создании современной банковской системы. В 1873 г. он оставил работу в правительстве, чтобы занять пост руководителя Первого национального банка и бумажной компании Одзи — первой акционерной компании в Японии. На протяжении 1880-х Сибусава принял участие в создании почти 500 различных предприятий в таких различных областях, как промышленность, страхование и транспортировка. Одним из самых успешных его предприятий была Осакская прядильная фабрика, основанная им в 1882 г. Беспокоясь по поводу того, что маленькие масштабы государственных хлопчатобумажных фабрик, на каждой из которых было только по 2000 веретен, обрекают их на убыточность, Сибусава использовал свои возможности в банковской сфере и выделил кредит из собственного Первого национального банка. Затем он убедил группу своих друзей, состоятельных как в социальном, так и экономическом плане, вложить 250 000 йен в его новую акционерную компанию. С этими средствами в руках он заказал 10 000 веретен манчестерской фирме «Братья Платт», которая была мировым лидером по производству текстильного оборудования, и установил их на заводе, созданном им по образцу Ланкаширской фабрики. В 1910-х его Осакская компания, производившая хлопок, вместе с другими фабриками образовала компанию «Тойёбо», которая стала мировым лидером в производстве текстиля.

«Тойёбо» и другие японские текстильные предприятия были вполне конкурентоспособны на мировых рынках. Причиной этому было не только то, что такие предприниматели, как Сибусава, знали толк в увеличении капитала, но и то, что в 80—90-х гг. XIX столетия японские бизнесмены осуществили ряд технологических изобретений и инноваций. Япония смотрела на Запад как на источник знаний в области технологии. Сибусава создал в Осаке копию ланкаширской фабрики и наполнил ее оборудованием, созданным фирмой «Братья Платт». Подобная зависимость от Запада могла создать впечатление, что японцы могут только заимствовать и повторять, но не изобретать. Однако те, кто поспешил определить японцев как копиистов, упустил один существенный момент. Оптовые закупки за рубежом надежных и эффективных технологий представляли собой самый быстрый способ, посредством которого Япония смогла к концу XIX в. догнать индустриальный Запад. Более того, из подражания выросли инновации. Японские производители текстиля адаптировали модели, полученные ими из-за границы, к местным условиям и сочетали по-новому их элементы, что иногда делало производственный процесс более эффективным по сравнению с зарубежным оригиналом. Сибусава, например, сократил стоимость, начав закупать хлопок-сырец в Китае и расположив свое производство в Осаке — традиционном центре торговли хлопком и неисчерпаемом источнике рабочей силы. Вдобавок к этому в 1886 г. Сибусава установил на всех своих фабриках электрическое освещение, став, таким образом, первым предпринимателем в сфере производства текстиля, который совершил подобное. Затем он ввел для своих рабочих вторую смену, заставив работать дорогое импортное оборудование по 22 часа в сутки. Сибусава был также одним из первых производителей в Японии, который отказался в прядении от мюль-машин, на которых основывалась доминирующая британская технология, в пользу намотки нити при помощи кольца. Мюль-машины позволяли получать высококачественную нить из обыкновенного хлопка-сырца, но они требовали высококвалифицированного и, следовательно, хорошо оплачиваемого труда. Намотка при помощи кольца позволяла значительно увеличить скорость процесса, поскольку при ней свивание и намотка идут одновременно. Однако для этого способа необходим более качественный хлопок. Японские новаторы, желавшие использовать намотки с помощью кольца, решили эту дилемму путем смешивания разнообразных дешевых сортов хлопка-сырца, что позволяло производить пряжу, пригодную для продажи внутри страны, а также на некоторых заморских рынках. Однако новая смешанная нить часто рвалась во время намотки, поэтому возникла необходимость в дополнительных рабочих руках, которые бы устраняли эти неисправности. Другой проблемой было то, что Сибусава и другие владельцы ткацких фабрик стремились уменьшить стоимость путем замены первоначальных металлических деталей кольцевой машины деревянными катушками. Эти деревянные катушки приходилось часто менять, что делало процесс еще более трудоемким. Но пионеры текстильной промышленности имели ответ и на это. Они заменили своих квалифицированных работников-мужчин, обученных обращению с мюль-машинами, на молодых девушек, которые за мизерную зарплату выполняли относительно простые операции по смешиванию хлопка, замене катушек и устранению разрывов нити. Японские промышленники ранней эпохи весьма гордились тем обстоятельством, что созданные ими предприятия являются столь же эффективными и конкурентоспособными, как и их западные прототипы. Однако Сибусава и другие часто подчеркивали, что их достижения являются не чем иным, как самоотверженной и преданной службой государству. Было позволительным заимствовать западные технологии, но немногие предприниматели позднего периода эпохи Мэйдзи желали иметь что-то общее с заморской философией экономического индивидуализма, которая превозносила личную выгоду. Единственным его желанием, как сказал в 1915 г. Сибусава, было «посвятить всю мою жизнь развитию индустрии. Я думал, что смогу таким образом исполнить свой долг перед моей страной. Моя личная репутация и благосостояние моей семьи никогда не занимали меня. Самым горячим желанием было употребить свое умение на пользу стране, развивать японскую промышленность, увеличивать благосостояние народа и поднять статус торговцев и предпринимателей до такого уровня, чтобы они могли встать вровень с торговцами и предпринимателями Европы и Америки»{156}. До некоторой степени подобная идеология была явной попыткой оправдать себя. Она была призвана парировать вопросы по поводу накопления личного богатства, значительно опережающего по своим масштабам финансовые способности большинства простых японцев. Однако, если посмотреть на эту проблему в другом аспекте, риторика, подчеркивающая самоотверженность и патриотизм предпринимателей, была неизбежна в последние десятилетия XIX в., когда государство прилагало столько усилий для того, чтобы посеять в обществе зерна гражданской морали, и когда воздух был наполнен разговорами о «национальной сущности» и о «национальной гражданственности». Часто повторяемые заявления Сибусава о том, что он посвятил всю свою энергию увеличению «народного благосостояния» и что «мысли о репутации и богатстве не посещали мою голову», были фразами, которые слетали с губ людей, создавших первые дзайбацу — деловые конгломераты, познакомившие Японию с крупномасштабными корпорациями, современным стилем управления и тяжелой промышленностью.
Крупный бизнес, тяжелая промышленность и дзайбацу
Мицуи, Мицубиси, Сумитомо и Ясуда стоят особняком в истории японского бизнеса. Это были четыре крупнейшие дзайбацу — финансовые группы, оформившиеся в эпоху Мэйдзи, хотя сам термин дзайбацу стал активно употребляться только в первое десятилетие XX в. Каждый из этих конгломератов включал в себя широкую сеть отдельных компаний и дочерних предприятий. В пределах дзайбацу каждая фирма специализировалась на определенном типе деятельности, однако все они были объединены между собой личными и историческими связями, принадлежностью одним и тем же лицам, общими целями, определяемыми централизованным органом управления, объединенными советами директоров и доступом к общему банку капиталов и технологий. В противоположность мелким предприятиям, преобладавшим в легкой промышленности, каждая дзайбацу контролировала свои собственные финансовые институты, обеспечивая себе тем самым основу для финансирования и долгосрочного планирования. Дзайбацу также пользовались покровительством со стороны правительства, которое помогло Большой Четверке сначала создать, а потом и доминировать в так называемом современном секторе экономики, то есть в тяжелой промышленности. В нее входили горнодобывающая и химическая отрасли, судостроение, прокат металлов, производство промышленного оборудования. Сильное руководство, которое являлось еще одной характерной чертой дзайбацу, помогло дому Мицуи пережить хаос периода реставрации и, наконец, стать крупнейшей корпорацией Японии. Человеком, оторвавшим бизнес семьи Мицуи от простой торговли, символизировавшейся сетью галантерейных лавок Эчигойя, был проницательный и расчетливый Миномура Ридзаэмон. История его жизни принадлежит к тем повествованиям, в правдивость которых трудно поверить. Он родился в 1821 г. в провинции Синано, в семье обедневшего самурая, не имевшего господина. В молодости он работал наемным работником и коробейником, а затем стал ростовщиком в Эдо. К счастью, его лавка находилась поблизости от резиденции Огури Тадамаса — главного финансиста сёгуната с 1863 по 1868 г. Огури был поражен той скоростью, с которой Миномура обращался со счетной доской, и его способностью получать выгоду от манипуляций с наличностью. Поэтому он рекомендовал молодого человека главе отделения Мицуи в Эдо, и тот нанял Миномура на должность своего управляющего. В самые короткие сроки Миномура доказал свою полезность торговому дому. Будучи горячим сторонником возрождения военной мощи режима Токугава и карательных мер по отношению к непокорным доменам, Огури часто вводил экстраординарные налоги для ведущих торговых домов, чтобы добыть средства для проведения предложенных им военных и финансовых реформ. В 1866 г. эти мероприятия начали угрожать существованию галантерейного бизнеса Мицуи, и Миномура убедил своего бывшего покровителя существенно уменьшить аппетиты сёгуната. Благодарность, однако, не была присуща характеру Миномура. Всего через два года после этого, будучи членом узкого круга руководителей Мицуи, он активно содействовал падению режима Токугава, выделив значительный заем сторонникам императора. Это помогло Сайго и его соратникам выступить в поход на Эдо и победить в гражданской войне Босин. Огури погиб еще до окончания сражений. Он стал единственным чиновником режима Токугава, казненным новым правительством Мэйдзи. Миномура Ридзаэмон превратился в самого влиятельного члена руководства Мицуи. Вскоре Миномура и семья Мицуи были вознаграждены за ту помощь, которую они оказали силам роялистов. В начале 1868 г. новое руководство Мэйдзи поручило дому Мицуи контроль над сбором налогов. Будучи занятым борьбой с оппонентами и расширением своей власти на всю территорию страны, режим предоставил частному бизнесу широкие возможности манипулирования с налоговыми поступлениями. В результате до 1882 г., когда Мацуката создал «Банк Японии», дом Мицуи свободно использовал эти средства от момента их уплаты до реального поступления в доход государству. Столь удачное стечение обстоятельств побудило руководителей дома искать пути к одобрению правительством плана создания собственного банка Мицуи. В 1876 г. их желание осуществилось, и в Японии возник первый частный коммерческий банк. На протяжении последующих десятилетий в более чем 30 крупнейших городах были открыты его отделения. Руководство дома получало депозиты от своих клиентов, добавляло их к доходам от галантерейного бизнеса и использовало эти средства для экспансии Мицуи в сфере торговли и горнорудной промышленности. После смерти Миномура, наступившей в 1877 г., у руля фирмы встал Масуда Такаси. Он уверенно вел ее по новому пути развития. Будучи сыном мелкого сёгунатского чиновника, Масуда в 1864 г. посетил страны Запада в составе японского посольства. Затем он свел знакомство с Иноуэ Каору, влиятельным активистом из домена Чосю, который способствовал консолидации сил антисёгунатских доменов. Благодаря своим связям в верхах, Масуда получил возможность снабжать правительственные силы во время подавления мятежа в Сацума. Позднее ему были предоставлены исключительные права на продажу, через недавно созданную торговую компанию Мицуи, всего угля, добываемого богатейшими правительственными рудниками Миикэ, расположенными на острове Кюсю. Когда в 1888 г. правительство решило продать рудники, Масуда, с присущей ему агрессивностью, добился для своей компании права обладать ими, превратив через некоторое время уголь Миикэ в «золото Мицуи». Действуя стремительно, Масуда приобрел и другие рудники, объединив их в Горнодобывающую компанию Мицуи. Сеть ее контор раскинулась от Тяньцзиня до Сингапура, и все азиатские рынки Масуда рассматривал как свои собственные. Он изгнал своих конкурентов даже из Австралии. Накамигава Хикодзиро составил план следующего этапа развития Мицуи. Он сориентировал фирму на новые направления в промышленности и начал оформление различных предприятий Мицуи в полновесную дзайбацу. Накамигава был племянником Фукудзава Юкичи. В 1869 г., в пятнадцатилетием возрасте, он покинул свой дом на Кюсю и отправился в Эдо, где поступил в академию Кейо, которой руководил его дядя. Переведя с английского на японский несколько работ по экономике, американскому государственному устройству и всемирной географии, Накамигава в середине 70-х предпринял путешествие в Лондон. По возвращении в Японию он устроился в Министерство общественных работ, которым в то время руководил Иноуэ Каору. В 1879 г. он перешел в Министерство иностранных дел, и Накамигава последовал туда за своим шефом. В 1881 г. Накамигава оставил государственную службу, а в следующем году занимает пост главного редактора новой ежедневной газеты Фукудзава, «Дзидзи синпо». В 1887 г. неутомимый Накамигава вновь меняет свои занятия, покинув газету и возглавив частную железнодорожную компанию. Летом 1891 г., попробовав себя в системе образования, на государственной службе, в журналистике и частном предпринимательстве, Накамигава, по рекомендации Иноуэ, давно водившего дружбу с руководством Мицуи, был назначен директором банка Мицуи. Сам банк в это время находился не в лучшем состоянии. Небрежная кредитная политика, осуществлявшаяся в конце 80-х гг., поставила под угрозу будущие успехи. Накамигава сразу заставил почувствовать свое присутствие. Будучи неудовлетворенным состоянием банковских счетов, он резко прекратил практику выдачи кредитов правительственным чиновникам, которая была введена в свое время как благодарность за многочисленные привилегии, полученные домом Мицуи от режима Мэйдзи. Более того, он захватил частные резиденции некоторых высокопоставленных чиновников, когда те отказались выкупить закладные, как то было условлено. Он также взыскал долг с влиятельного храма Хигаси Хонгандзи, расположенного в Киото, заслужив ненависть всех буддистов, поскольку настоятель храма был вынужден объявить по всей стране кампанию по сбору средств. Достигнув успеха в банковской сфере, Накамигава стал убеждать своих товарищей по руководству Мицуи начать вкладывать деньги в промышленные предприятия. Предвидя дальнейший рост спроса на текстиль на мировых рынках, он приобрел несколько компаний по производству хлопковой нити. В их числе была и фабрика Канегафучи, которую он превратил в крупнейшую в Японии. Более того, когда осенью 1893 г. правительство выставило на торги фабрику Томиока, банк Мицуи вцепился в нее мертвой хваткой, урвав ее за первоначальную стоимость. Вложив в нее некоторые средства и увеличив производительность, он превратил фабрику в прибыльное предприятие. К этим приобретениям Накамигава добавил такие фирмы, как бумажная компания Одзи и машиностроительные мастерские Сибаура. Все это позволило фирме Мицуи вступить в XX в. в качестве одной из самых могущественных промышленных корпораций в мире. Сразу после реформирования банка, Накамигава стал выступать за замену старого семейного совета Мицуи какой-то новой, более рациональной и современной формой деловой организации. Соответственно, в 1893 г. он преобразовал банк, сеть галантерейных магазинов Эчигойя (впоследствии переименованную в Универсальные магазины Мицукоси) и торговые и горные предприятия в отдельные акционерные общества и создал исполнительный совет, который занимался координацией их деятельности. В итоге структурных преобразований, завершенных в 1909 г., члены семьи Мицуи получали долю прибыли со всех предприятий, входивших в корпорацию, руководство этими предприятиями осуществляли хорошо обученные бизнесмены, получившие образование в Кейо или других ведущих университетах, а компания-учредитель определяла общую политику, разрабатывала стратегию и принимала важные решения, касающиеся всех дочерних фирм. Другие дзайбацу развивались по тому же принципу, что и Мицуи, хотя в каждой из них возникла своя корпоративная культура. Ивасаки Ятаро, запомнившийся своим упрямством и крайней самоуверенностью, основал Мицубиси, которая стала второй по величине дзайбацу. Он был сыном крестьянина из домена Тоса, но в юности получил низший самурайский ранг. В 1867 г. он присоединился к торговым операциям, которые его домен осуществлял в Нагасаки с целью приобретения западного оружия и технологий. Вскоре Ивасаки заслужил хорошую репутацию, решив проблему довольно крупного долга перед иностранцами, который годами накапливался из-за действий торговцев из Тоса. В качестве благодарности за это, после ликвидации доменов в 1871 г., даймё Тоса дал ему 11 кораблей, значительную сумму денег и право контроля над местными предприятиями, производившими камфару, чай, вяленую рыбу и пиломатериалы. Карьера Ивасаки резко пошла вверх в 1874 г., когда олигархи Мэйдзи решили продать ему по номинальной цене 13 пароходов. Руководители государства считали, что хорошо оснащенная частная пароходная компания, имеющая поддержку со стороны правительства, может обслуживать стратегические нужды Японии, равно как и решить проблему с платежами, ликвидировав зависимость от иностранных перевозчиков. В подтверждение своей политики поддержки частной собственности, в сентябре 1875 г. правительство передало свои новейшие пароходы на баланс компании Ивасаки и пообещало выплачивать ему субсидии. Ивасаки нанес на борта пароходов свой ставший вскоре знаменитым логотип из трех бриллиантов и основал пароходную компанию «Мицубиси», штаб-квартира которой обосновалась в Токио. Суда новой компании вскоре стали доминировать в японских водах и, в соответствии с инструкциями, выданными правительством, вышли на линию Иокогама — Шанхай. К удивлению многих, за короткий промежуток времени Ивасаки благодаря своей излюбленной тактике значительного снижения цен вытеснил с этого маршрута британскую Полуостровную и Восточную компанию парового судоходства (Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, P&O). Позднее флот Ивасаки получил наименование NYK (Nippon Yusen Kaisha) и начал совершать рейсы в порты Китая, Кореи и России. К концу столетия NYK переступила границы Азии и превратилась в мирового лидера на маршрутах, связывавших японские порты с Австралией, Соединенными Штатами и Европой. Отныне весь мир запомнил бриллианты «Мицубиси». По мере роста доходов Ивасаки создавал новые предприятия. В 1878 г. он основал Токийскую морскую страховую компанию. Двумя годами позже он приступил к оптовым торговым операциям и выдаче кредитов, что послужило источником финансирования для предприятий «Мицубиси» ипозже трансформировалось в «Банк Мицубиси». Еще через год к своей растущей коллекции компаний он добавил государственную угольную копь Такасима, расположенную на небольшом острове к югу от Нагасаки, а в 1887 г. «Мицубиси» приобрела у государства на весьма выгодных условиях верфи в Нагасаки. В том же году корпорация приобщилась к торговле недвижимостью, приобретя, вновь по льготной цене, большой участок государственной земли в деловой части Токио, к востоку от императорского дворца. Впоследствии фирма превратила эту землю в престижный деловой район Маруноучи. В 1893 г. Ивасаки Яносукэ, занявший место своего старшего брата, основал «Мицубиси Лимитед». Новая компания, принадлежащая семье Ивасаки, осуществляла централизованный контроль над деятельностью различных предприятий «Мицубиси», которые вошли в состав корпорации на правах ограниченного партнерства. Предприятия дзайбацу «Сумитомо» и «Ясуда» более тесно группировались вокруг главного бизнеса. Семья Сумитомо в начальный период Нового времени была одним из крупнейших торговых домов Осаки. В основе ее благосостояния лежала руда, добываемая на медном руднике Бесси, а также то, что семья Сумитомо добилась звания официального поставщика меди сёгунату. В начале XIX столетия добыча руды в Бесси существенно сократилась, но оживление экономики и перспективы, открывшиеся с началом эпохи Мэйдзи, воскресили семью Сумитомо. Она обратилась к иностранным инженерам, начала использовать на руднике западные технологии, и это позволило ей в период с 1868 по 1885 г. в три раза увеличить добычу. Укрепив свои позиции в горнорудном деле, Сумитомо начала обращать внимание и на другие отрасли. К концу периода Мэйдзи в сферу ее интересов входили банковское дело, оптовая торговля и металлопрокат. На экспорт она поставляла медь, уголь, чай и шелк-сырец. Эти товары отправлялись за границу на судах компании OSK (Osaka Shosen Kaisha), основанной в 1882 г., когда под руководством Сумитомо оказалось около пятидесяти небольших фирм. Дзайбацу «Ясуда» сосредоточила свое внимание на банковской сфере. Ее основатель, Ясуда Дзендзиро, утверждал, что свои первые деньги заработал на торговле цветами в своем родном городе Тояма. В 1864 г. он отправился в Эдо, где стал уличным менялой. Ясуда продемонстрировал замечательный инстинкт при осуществлении отчаянных операций по обмену денег в годы реставрации. К 1880 г. он настолько увеличил свои доходы, что смог создать собственный банк. Невероятный скряга — он приносил обед с собой в офис и возвращался домой перед самым рассветом, чтобы воспользоваться скидкой, действовавшей рано утром в недавно появившихся токийских такси, — Ясуда умер одним из богатейших людей Японии, владельцем 19 банков, 3 страховых компаний, 3 железных дорог и электрической компании. Хотя его безжалостный стиль ведения дел принес ему огромную личную выгоду, Ясуда, как и Сибусава Эиичи, предпочитал говорить о своих успехах с точки зрения национальных интересов и как о службе своим соотечественникам. Со всей искренностью Ясуда однажды заявил, что он никогда не создавал компанию, не убедившись предварительно, что «цель предприятия будет хорошей и что она будет действовать на благо народа, способствуя процветанию людей и прогрессу общества»{157}. Многие крупные предприятия остались за пределами дзайбацу. Среди них были верфи в Цукидзи и Хиёго, основанные Кавасаки Содзё, сахарный завод Судзуки Тосабуро, а также ряд влиятельных банков. Равным образом, в 80—90-х гг. XIX в. в качестве самостоятельных предприятий выступали многие частные железнодорожные компании. Возникновение частных железных дорог связано с деятельностью Мацуката Масаеси на посту министра финансов. Будучи убежденным сторонником частного предпринимательства, Мацуката остановил программу правительства по строительству и управлению государственных железных дорог. Вместо этого он перешел к политике поощрения развития частных железных дорог, используя для этого субсидии и другие формы государственной поддержки. Тех же принципов он придерживался и в кораблестроении. Первым получателем государственной помощи была группа инвесторов, основавших в 1881 г. железнодорожную компанию «Ниппон». Она получила разрешение на строительство четырех железнодорожных магистралей, соединявших Токио с различными регионами страны. Однако олигархи Мэйдзи не только способствовали созданию новых предприятий. Чтобы обеспечить компанию «Ниппон» достаточными средствами и создать успешный прецедент на будущее, правительство гарантировало держателям акций годовую прибыль в 8 % от общего капитала, предоставило компании землю, временно отменило налоги на принадлежащую компании недвижимость и даже построило магистраль, соединившую Токио с Аомори. В 1884 г. доходы железных дорог «Ниппон» превысили все ожидания, и Японию охватила мания инвестирования. С 1885 по 1892 г. более 50 групп инвесторов создали свои железнодорожные компании. Правительство способствовало созданию 14 из них, а 10 предоставила такие же субсидии, гарантии прибыли и налоговые льготы, какие в свое время способствовали быстрому успеху компании «Ниппон». Результаты были впечатляющими. Если говорить об активах, то в 1896 г. семь из десяти крупнейших японских акционерных обществ представляли частные железнодорожные компании. К 1890 г. протяженность частных железнодорожных путей превысили длину государственной железной дороги. К 1907 г., когда правительство, в связи с последствиями русско-японской войны, решило национализировать железные дороги, частные линии составляли почти 5000 миль, опутав своей сетью все основные острова Японского архипелага. Японцев привлекало в железнодорожном транспорте наличие электрического освещения, вагонов-ресторанов и уборных. В результате пассажиропоток вырос с 23 миллионов человек в 1890 г. до 114 миллионов десятилетие спустя. Популярность путешествий по железной дороге дала жизнь новым промышленным предприятиям. В 1912 г. появился первый паровой локомотив, целиком произведенный в Японии. Это событие произошло в последний год правления императора Мэйдзи, который за 40 лет до этого стал первым официальным пассажиром японской железной дороги.«Жертвы на алтарь индустриального прогресса»
В 1877 г. Фурукава Ичибеи приобрел медный рудник Асио, расположенный в префектуре Точиги в непосредственной близости от мавзолея Токугава Иэясу. Фурукава был вторым сыном киотских торговцев сыром тофу и олицетворял собой воплощенную экономическую мечту Мэйдзи. Он урвал хороший куш, продавая на экспорт шелк, а затем увеличил свое состояние, основав в 1871 г. первую в Японии механизированную фабрику по производству шелка. Когда он приобрел рудник Асио, меди на нем добывалось значительно меньше, чем в прежние годы. Фурукава лично спускался во главе шахтеров в заброшенные шахты, и в 1884 г. ему посчастливилось найти новую богатую жилу. Для ее разработки он приобрел самую передовую технику тех дней, и к 1890 г. в Асио добывалась приблизительно половина всей японской меди, а само предприятие превратилось в самый крупный медедобывающий комплекс в Азии. В 1899 г. читатели влиятельного ежемесячника Тайё назвали Фурукава, человека скромного происхождения, сделавшего состояние своими собственными руками и принесшего пользу стране, одним из 12 великих людей эпохи Мэйдзи, поместив его в один ряд с такими личностями, как Ито Хиробуми, Фукудзава Юкичи и Сибусава Эиичи.
He все из 11 000 работников рудника Асио разделяли это мнение. В 1880-х они проводили долгие часы за напряженной работой в ужасных условиях, вручную вырубая дырки для закладки динамита, отбивая молотами и долотом куски горной породы с рудой, а затем выкатывая тяжело нагруженные тележки на поверхность, где руда обрабатывалась и из нее выплавлялась медь. Условия труда слегка улучшились после того, как Фурукава в 1890 г. построил первый в Японии гидроэлектрический завод. Пневматические отбойные молотки и электрические вагонетки упростили работу в шахтах, а вентиляторы охлаждали и очищали воздух в забоях. Тем не менее сохранились другие проблемы и неприятности. Хотя чиновники редко опускались под землю, тем не менее они постоянно налагали на шахтеров штрафы. Вплоть до конца столетия шахтеры в основном сами следили за порядком в забоях. Этот контроль осуществлялся через комитеты, которые сами назначали наказания провинившимся. Зачастую правонарушителю отрезали нос или губы, а в особых случаях могли забить до смерти. Преступники, посылаемые судьями Точиги в шахты в качестве наказания, усиливали напряженность в забоях. В 1881 г. пятеро каторжан разоружили охрану, выбрались из шахты и скрылись в окрестных горах. Властям удалось схватить четверых беглецов, но чтобы совладать с пятым, им пришлось нанять среди местного населения восемнадцать «охотников», которые в конце концов выследили его и застрелили. При таких условиях найти людей для работы в шахтах было непросто, и Фурукава пришлось обратиться к главам общежитий, которые являлись независимыми агентами, занимающимся поисками рабочих, предоставив им право распределять работу и заработную плату, а также размещать своих подопечных в частных общежитиях. Шахтеры по-прежнему жили и трудились в тяжелых условиях. Главы общежитий были личностями суровыми, а само жилье, по словам одного журналиста, «напоминало длинные бараки, сколоченные из грубо обработанных досок, с легкими крышами, которые утяжелялись при помощи камней разных размеров. У них не было ни потолка, ни пола. Жесткие соломенные матрасы валялись прямо на земле вокруг открытых очагов. Ни потолка, ни татами, ни мебели. Постоянно растущие напластования мусора и отвратительных объедков покрыты копотью и пылью. Первый же взгляд на эти завалы отбросов просто лишает человека дара речи»{158}. Фурукава, не пользовавшийся популярностью среди своих рабочих, был злодеем и в глазах людей, населявших долину реки Ватарасэ. Горно-обогатительный завод Асио сбрасывал свои отходы в реку, и уже в начале 80-х гг. XIX в. местным жителям пришлось привыкнуть к виду мертвой рыбы, в огромном количестве плывшей вниз по течению. К концу этого десятилетия в Ватарасэ исчезла практически вся живность, и почти 3000 семей, кормившихся за счет рыбной ловли, были ввергнуты в нищету. В следующей декаде события приобрели еще более драматический характер. Увеличение добычи на руднике породило огромную потребность в древесине, из которой изготавливался крепеж в забоях, шпалы для электровагонеток, а также тонны древесного угля, необходимого для выплавки металла. Фурукава вырубил все леса на горных склонах вокруг Асио, и в 1890 г. ничем не сдерживаемые весенние потоки залили всю долину, покрыв ее толстым слоем наносов. Для крестьянских полей это было равносильно смерти. Растительность погибла, новые семена не давали всходов, личинки тутового шелкопряда погибли, а на руках и ногах мужчин и женщин, работавших на открытом воздухе, постоянно возникали язвы. Танака Содзо, бывший член Движения за народные права и депутат первой Палаты Представителей, выбранный от данной местности, обратил внимание нации на эти факты загрязнения окружающей среды. Танака был сыном местного крестьянина, сам занимался своим образованием, и он свято верил, что простые люди «не должны быть принесены в жертву на алтарь индустриального прогресса». В своей речи перед парламентом в декабре 1891 г. он указал, что закон ясно говорит, что «когда горнорудные предприятия наносят вред общественным интересам, Министерство сельского хозяйства и коммерции должно аннулировать эту концессию». В конце своего выступления он спросил у правительства, что оно намерено предпринять, чтобы остановить страдания населения долины Ватарасэ{159}. Спустя два месяца он вновь выступил по этой теме, заявив на этот раз: «Правительство бросило людей, которых, согласно конституции, обязано было защищать. Погубить людей — это значит погубить нацию. Осознает ли так называемое «правительство» свои действия?»{160} Ответ чиновников появился в начале 1892 г. «Те выгоды, которые страна получает от работы рудника Асио, — писал один из сотрудников Министерства сельского хозяйства и коммерции, — перевешивают любые неприятности, происходящие на окрестных территориях»{161}. Соответственно, говорилось в послании, ситуация не требует закрытия рудника. Более того, позднее чиновники заявляли, что масштабы загрязнения в Асио не являются настолько серьезными, чтобы «вредить интересам людей». Это означало, что правительство не собирается вмешиваться в сложившуюся ситуацию и что решение возникшей проблемы должно быть найдено совместными усилиями владельцев рудника и местных жителей. Политика невмешательства, избранная правительством, привела к тем размерам загрязнения, о которых предупреждал Танака. К концу 90-х гг. XIX столетия мышьяк, хром, серная кислота, окись магния, хлор, оксид алюминия и другие вредные вещества отравили по меньшей мере 100 квадратных миль пахотных земель и привели к серьезным экономическим потерям для тысяч семей. Хотя научных исследований не проводилось, большинство наблюдателей отмечало, что вредные вещества явились причиной повышенной смертности и плохого состояния здоровья жителей городов и деревень, расположенных вдоль течения реки. Проблема продолжала углубляться, и население долины Ватарасэ организовало оппозиционное движение. Сначала они составляли петиции, в которых содержались требования закрыть рудник Асио. Затем, в 1897 г., восемьсот крестьян двинулись маршем на Токио, протестуя против превращения их в жертвенных животных. Активисты движения встречались в частном порядке с правительственными чиновниками и даже уговорили министра сельского хозяйства и коммерции посетить с инспекцией пострадавшие деревни. Параллельно с этим Танака продолжал свои атаки на Фурукава в стенах парламента, газеты помещали на своих первых полосах статьи на тему загрязнения окружающей среды, а многочисленные критики, в числе которых были социалист Котоку Сусуи и журналист Токутоми Сохо, начали призывать правительство к действию. Глас общественности и то впечатление, которое чиновники получили во время инспекционной поездки в долину Ватарасэ, возымели свое действие. В мае 1897 г. Министерство сельского хозяйства и коммерции приказало руководству Асио построить хранилища для шлака, возвести очистительные сооружения для воды и установить распылители известковой воды, которая должна была нейтрализовать вредные кислоты, вылетающие в атмосферу из заводских труб. В директивах были обозначены точные даты завершения этих работ, а также указывалось, что в случае нарушения сроков рудник будет закрыт. Фурукава установил на своем предприятии дорогое оборудование, которое держало под контролем загрязняющие вещества, и к 1904 г. из многих деревень, расположенных от Асио вниз по течению, стали поступать сообщения о получении почти нормальных урожаев. Хотя условия улучшились, загрязнение долины Ватарасэ продолжало оставаться серьезной проблемой. Прежде всего, не существовало способов удаления или нейтрализации тех вредных веществ, которые уже были накоплены к этому времени в долине реки. Более того, в конце XIX столетия добыча меди во всем мире была очень грязным занятием. Ни одна из существовавших в то время технологий не была в состоянии полностью очистить отходы производства или оградить от них окружающую среду. Соответственно, люди, жившие вдоль реки Ватарасэ, на протяжении нескольких поколений оставались более подверженными болезням, чем остальное население страны. Первый инцидент с загрязнением окружающей среды постепенно ушел из сознания японцев, и некоторые пострадавшие семьи просто остались жить наедине со своими проблемами. Другие обратились к современной судебной системе, и спор между горнорудной компанией Фурукава и жертвами загрязнения был в конце концов разрешен, при посредничестве правительства. Произошло это в 1974 г., через год после того, как запасы медной руды иссякли и рудник был закрыт.
Рождение современной экономики
В 90-е гг. XIX в. обычным явлением японской жизни стали вид дымящих труб и знакомый звук паровозного гудка. Япония, которая поколением ранее была изолированной, аграрной страной, подобно поезду стремилась к современному экономическому росту. К концу столетия структурные изменения приобрели необратимый характер. Производство приобрело стабильные черты, прежние его формы уступали место механизированной индустрии. Более того, все отрасли экономики опережали в своем развитии рост населения, обеспечивая, таким образом, увеличение доходов, приходившихся на каждого японца. Это являлось еще одним показателем современного состояния экономики. Самым стремительным был рост промышленности, доля которой в валовом национальном продукте с каждым годом неуклонно повышалась. Это наглядно показано в таблице 7.8. Если сравнить эти показатели с данными, приведенными в таблицах 7.2 и 7.3, то становятся очевидными еще две черты модернизации японской экономики: рост в сфере тяжелой промышленности, требующей продвинутых технологий, и изменение соотношения в области экспорта. Если ранее в ней преобладали продукты сельского хозяйства и сырье, то теперь им на смену пришел текстиль и другие промышленные товары.
Описывать путь Японии к современной модели экономики значительно легче, чем пытаться объяснить, почему успехи были достигнуты в столь короткие сроки по сравнению с опытом многих других народов. Безусловно, на ход событий в эпоху Мэйдзи сильно повлияло наследие Токугава. Рост ремесел, протоиндустриализация и развитие денежной системы на протяжении XVIII и в начале XIX столетия обеспечили необходимый запас знаний, умений и организационного опыта, который был необходим для развития коммерческого сельского хозяйства и деревенских мануфактур после реставрации. Подобным образом появление в эпоху Токугава банковских служб послужило примером для последующих предпринимателей. Традиционные менялы и торговые дома конца сёгунат-ского периода выглядят старомодно по сравнению с новыми финансовыми институтами, появившимися в 80-90-х гг. XIX в. Однако они позволили познакомиться с коммерческими операциями и хотя и приблизительно, но все же давали представление о принятии и использовании денежных вкладов, об аккредитивах и учете векселей, о ссудах и других кредитных операциях, способствовавших созданию хлопковых производств. Этот опыт пригодился людям, открывавшим коммерческие банки и псевдобанки в годы Мэйдзи. Можно также предположить, что такие традиционные ценности, как дисциплина, усердие, жертвенность, бережливость, преданность семье и верность обществу, также не оказались лишними в эпоху перемен. Наследие Токугава обеспечило хорошую стартовую площадку для коммерческого роста, но у правительства и частных предпринимателей в эпоху Мэйдзи были и другие важные задачи. Им было необходимо привить на японскую почву саженцы западного индустриального капитализма, приспособив современные производственные технологии к местным условиям, а затем устремиться к созданию процветающей современной экономики. Не каждый поворот правительственной машины приносил нечто полезное, примером чему может послужить попытка создания образцовых фабрик. Однако некоторые мероприятия руководства Мэйдзи были весьма существенны в деле борьбы за «увеличение продукции, продвижение индустрии». Среди них особенно выделяются усилия по созданию инфраструктуры, а также решение поощрять такие ключевые предприятия, как верфи и железные дороги, путем предоставления им гарантий прибыльности и выделения субсидий. Вопрос о формулировании политики был более сложным. Сёгуны Токугава видели определенную выгоду от развития коммерции до тех пор, пока они могли регулировать этот процесс и не позволять ему нарушать политический статус-кво. Руководство Мэйдзи, в противоположность этому, рассматривало рост экономики как метод решения финансовых проблем, которые накопились за последний период существования режима Токугава, а также видело в нем способ обезопасить суверенитет Японии от потенциально опасного Запада. Соответственно, хотя различные олигархи Мэйдзи иногда поддерживали противоположные стратегии индустриализации, как в том случае, когда Окубо и Мацуката спорили по поводу достоинств капитализма, основанного на принципах невмешательства государства, в целом лидеры были согласны с тем, что рост экономики в соответствии с современной моделью является главной целью нации. Согласие по поводу цели, стоящей перед страной, способствовало консолидации предпринимательской энергии отдельных мужчин и женщин по всей Японии, мотивацией которых, в любом случае, было стремление к более высокому экономическому положению. Удивительным представляется то, что значительное количество этих первопроходцев модернизации экономики действовали автономно, управляя своими фабриками по производству пуговиц, золотого листа или шелка. Другие, как Тацу’ума Киё. создавали более существенные предприятия. И очень немногие, подобно Ивасаки и Ясуда, возглавили деловые империи. Но вне зависимости от их места в богатой и сложной истории экономики Мэйдзи, эти мужчины и женщины размещали свой капитал, собирали воедино ресурсы, вводили новые технологии и подгоняли их под существующие условия и производили товары, которые продавали своим соседям и неведомым им заморским потребителям. Некоторые меры правительства, особенно программа дефляции Мацуката, осуществленная в начале 1880-х и обеспечившая стабильность, необходимую для дальнейшего роста, облегчали их существование. Однако в конце концов именно частная инициатива японских предпринимателей вдохнула жизнь в экономическую мечту Мэйдзи. Была еще одна причина, способствовавшая экономическим достижениям Японии, которая носила характер счастливой случайности. Стране повезло в том отношении, что Запад ступил на путь индустриализации за несколько десятилетий до прибытия в Японию коммодора Перри. И нация, только что открывшая себя внешнему миру, могла опираться на опыт, наработанный европейцами и американцами, и использовать их технологические достижения. В то же самое время Запад в 70—80-е гг. XIX в. не так уж далеко ушел вперед, и расстояние между Западом и Востоком было достаточно небольшим, что позволяло легко перебросить через него мост. Счастливым для Японии обстоятельством было и то, что она начала свой путь в экономику в тот момент, когда на международном уровне складывались новые торговые связи. Во второй половине XIX в. революция в сфере транспорта и связи превратила мир в единый гигантский рынок, и японцы, к своей радости, обнаружили, что они могут производить товары, пользующиеся спросом у заморских народов, — от чая и шелка-сырца до золотого листа, пуговиц и хлопковых тканей. Тенденции роста были заложены в первые десятилетия существования режима Мэйдзи, и на фундаменте этих первоначальных достижений Япония в начале XX в. превратилась в одну из ведущих экономически развитых держав мира. Но если в целом развитие нации представало в светлых тонах, то многим простым людям пришлось осознать, что именно на их плечи легло основное бремя прогресса. Образованные читатели одного из самых респектабельных японских журналов назвали Фурукава одним из 12 великих людей Мэйдзи, а его медный рудник Асио внес значительный вклад в дело модернизации японской экономики. Но за тот тип прогресса, который был представлен этим предприятием, расплачиваться пришлось его работникам, которые трудились в условиях, подрывавших их здоровье и сокращавших жизни, а также семьям простых японцев, которые пили отравленную воду и ели продукты, выращенные на загрязненной земле. Японский путь к богатству и могуществу породил многочисленных героев, но значительно больше оказалось жертв, сполна заплативших за величие нации. Споры и противоречия были характерными чертами эпохи Мэйдзи. Ито Хиробуми и другие олигархи спорили со своими оппонентами из Движения за народные права по поводу того, какие конституция и система представительного правительства более подходят японской нации. Фурукава и Танака выдвигали диаметрально противоположные концепции относительно экономического развития: капиталист считал, что его страна нуждается в индустриализации настолько быстрой, насколько это возможно, а экологические и гуманитарные издержки имеют второстепенное значение; по мнению пионера защиты окружающей среды, главной целью экономической модернизации было улучшение положения людей. Подобным образом, по мере приближения XIX столетия к своему завершению, мужчины и женщины по всей стране имели свое собственное представление о «мечте Мэйдзи» и в соответствии с ним выдвигали предложения по поводу возможных изменений в семейной жизни, образовании, религии и условиях труда.
ГЛАВА 8 Реалии мечты Мэйдзи
Летом 1885 г. работницы шелкомотальной компании Амамийя, расположенной в Кофу, на время прекратили работу. Их возмущение было вызвано поведением мужчин-контролеров, которые явно благоволили к девушкам, обладавшим привлекательной наружностью, и всячески третировали дурнушек. Годом позже, 12 июня 1886 г., около сотни девушек вновь покинули свои рабочие места на фабрике Амамийя. На этот раз забастовщицы собрались в местном храме, где они обсудили свои проблемы и выработали стратегию дальнейших действий. Женщины были разгневаны намерением владельца фабрики урезать заработную плату, увеличив одновременно рабочий день на 30 минут. Не добавил им рабочего энтузиазма ни длинный перечень штрафов, которым руководство фабрики пригрозило тем работникам, которые не подчинятся новым правилам, ни порядок, в соответствии с которым уволенная женщина в течение года не может быть принята на работу на любую другую фабрику. По заверениям протестующих, рабочее время на фабриках Кофу всегда было слишком продолжительным. Летом 1886 г. работа начиналась в 4.30 утра, с 12.30 до 1.20 был перерыв, после которого надо было возвращаться к машинам и работать до 7.30 вечера. Более того, большинство работниц фабрики происходили из городских низов или из крестьянских семей, проживавших в окрестностях Кофу. Дорога от дома до фабрики занимала у некоторых из них более часа. Они покидали свои жилища до рассвета, а возвращались в них уже при свете звезд. Но и тех, кто жил ближе, также пугала дорога от дома до работы. В окрестностям города действовали банды головорезов, и увеличение продолжительности рабочего дня автоматически повышало риск оказаться жертвой ограбления, а то и похищения с последующей продажей в публичный дом. Количество бастующих на фабрике Амамийя вскоре удвоилось. Таким образом, к акции протеста присоединились почти все работницы. Не имея возможности поддерживать в таких условиях работу фабрики, представители владельца согласились встретиться с делегатами от бастующих. Поначалу руководство рассчитывало, что ему удастся сохранить рабочий день с 4.30 до 19.30, если женщины согласятся на сокращение обеденного перерыва до тридцати минут и откажутся от большинства перерывов на личный туалет. Работницы отвергли это предложение. В результате многочасовых переговоров владелец фабрики отказался от идеи увеличить продолжительность рабочего дня, отменил новые правила, предусматривавшие наложение штрафа на женщин, опоздавших на работу или покинувших ее раньше времени хотя бы на несколько минут, и пообещал подумать над «иными способами улучшения условий»{162}. Убедившись, что большинство их требований удовлетворено, 16 июня бастующие вернулись к работе. Обсуждение вопроса о зарплате было отложено до следующего дня. Противостояние труда и капитала в Кофу лишь отблеском промелькнуло на страницах японской прессы, прежде чем скрыться в туманной пелене истории эпохи Мэйдзи. Мимолетное внимание не соответствовало значимости события. Выступление женщин фабрики Амамийя, произошедшее в 1886 г., было первой организованной забастовкой на промышленном предприятии в японской истории. Их акция явилась также попыткой маргинальной группы обрести свой голос и заявить о своих надеждах, возлагаемых на эксперимент Мэйдзи по модернизации экономики. Подобно шахтерам, трудившимся до изнеможения в забоях Асио, женщины Амамийя работали от зари до зари, получая гроши за свой труд. Их бунт против увеличения продолжительности рабочего дня был также возможностью добиться более высоких расценок на свой труд. Кроме улучшения материального положения, женщины вели свою борьбу еще и за получение права на некоторый контроль над условиями найма. Они хотели, чтобы их мнение учитывалось при составлении правил поведения на фабрике и чтобы руководство обсуждало «иные способы улучшения условий» с рабочими организациями. Вероятно, события на Амамийя заняли столь мало места в японской периодике потому, что общественное внимание было привлечено к другим темам. По мере приближения XIX в. к своему концу правительство Мэйдзи все более было озабочено поисками путей решения социальных проблем. Руководство стремилось влиять на восприятие мечты Мэйдзи различными слоями населения. Параллельно с составлением планов по осуществлению политических и экономических реформ, режим разрабатывал и социальные изменения, которые могли бы реально повлиять на отношения между мужьями и женами, развивал систему образования, которая подчиняла желания индивида потребностям государства, и оказывал предпочтение одним религиям, третируя другие. Эти действия правительства, как и сражение вокруг конституционализма и споры между Фурукава Ичибеи и Танака Содзо относительно того, должна ли экономическая модернизация обогащать государство или, прежде всего, способствовать улучшению жизни простых людей, не были восприняты людьми однозначно. Попытки руководства вмешаться в личную жизнь, определять, какое образование должны получать дети, а также ориентация людей на определенные религиозные воззрения у одних японцев вызывали удовлетворение, у других — злобу, некоторых они ставили в тупик, другие же продолжали бороться за право голоса.Фабричные рабочие
Индустриализация эпохи Мэйдзи, породившая капиталистов и управленцев, дала жизнь и новому классу — фабричным рабочим. Условия существования многих из них не сильно отличались от существовавших в Асио или Амамийя. Если говорить точнее, то даже в конце XIX столетия работники фабрик продолжали составлять относительно небольшую часть всей рабочей силы Японии. Почти две трети всех наемных рабочих были заняты в сельском хозяйстве. Тем не менее темпы роста числа фабричных рабочих были весьма высокими. В 70-х гг. XIX в. их насчитывалось всего несколько тысяч, а в 1892 г. — около 300 000. К концу 1890-х их количество превысило 400 000. В новое столетие страна вступала с только что сформировавшимся пролетариатом, обладавшим своим собственным менталитетом, бросавшим вызов тем концепциям руководящего звена, которые касались отношений рабочих и работодателей, и добавлявшим новый образ жизни к и без того сложной картине социальных отношений в Японии. На начальных этапах индустриализации типичным фабричным работником была женщина, занятая в текстильной промышленности. К началу нового столетия почти 60 % промышленных рабочих трудились на шелкомотальных предприятиях и хлопковых фабриках, и около 80 % из них составляли женщины (см. таблицу 8.1). На заре эпохи Мэйдзи владельцы новых шелковых производств, использовавших в мотальном процессе силу воды и пара, нанимали местных женщин. При этом предпочтение отдавалось тем из них, кто имел опыт работы на оборудовании тех напоминающих фабрики предприятий, которые создавались в последние годы перед реставрацией. По мере увеличения в 80—90-е гг. количества механизированных производств, нанимателям пришлось расширить сферу поиска рабочей силы. Они стали обращать внимание на сельские регионы, страдавшие от экономической депрессии. Незамужние девочки-подростки из бедных крестьянских семей горели желанием покинуть свои дома и отправиться работать на новые фабрики. Подобная ситуация складывалась и вокруг предприятий по намотке хлопковой нити. Обычно они располагались в предместьях крупных городов центральной Японии и искали рабочие руки среди местных горожан. Но, под давлением конкуренции, они стали посылать своих агентов в соседние префектуры. Там они искали девушек, которые согласились бы распрощаться со своими семьями и друзьями и работать вдали от дома. В общем, агенты по найму были самостоятельными предпринимателями, которые получали комиссионные от фабрик за каждую девушку, принятую на работу. Потенциальным рабочим они обещали самые лучшие условия труда и проживания. Якобы работники фабрик проводят дни в чистых цехах, наполненных свежим воздухом, живут в просторных комнатах, пища их обильна и вкусна, выходные дни наполнены развлечениями, а заработная плата позволит значительно повысить уровень жизни их семей. Для того чтобы оказаться в подобном райском уголке, девушки и их отцы должны были подписать контракт, который обязывал девушек отработать определенный период времени, обычно три или пять лет. Чтобы подтолкнуть семьи будущих работниц к подписанию контракта, агенты обычно выдавали им задаток, который подчас составлял треть, а то и половину от всей зарплаты дочери за период действия соглашения. Остаток, по заверению агентов, должен выплачиваться каждый год или каждые полгода, и девушка может тратить его в выходные дни или отвозить семье во время продолжительных новогодних каникул, длящихся с конца декабря по начало января. Каковы бы ни были ее надежды, среднестатистическая девушка редко располагала такой суммой денег, которую она ожидала. Во время работы она не получала практически ничего, разве что мизерную сумму по какому-нибудь особому случаю, например в честь праздника. Более того, девушки должны были платить проценты по задатку и компенсировать компании затраты на жилье. А если мастер признавал нить, изготовленную ими, недостаточно тонкой, прочной или блестящей, они, кроме того, выплачивали еще и штраф. Во многих фирмах существовали свои правила, согласно которым штрафы налагались за опоздание, курение в неположенном месте, за невыход на работу по случаю болезни, если руководство не было предупреждено, за порчу имущества, обман и даже за проявление недовольства или подстрекание других на проявление недовольства. В конце концов большинство девушек получали от 25 до 30 йен в год, в то время как среднегодовой расход средней семьи арендаторов составлял приблизительно 95 йен. Но некоторым везло еще меньше. Многочисленные штрафы приводили к тому, что девушки за год вообще ничего не получали на руки. На некоторых фабриках не было ничего необычного в том, что до четверти работниц по результатам года вообще оказывались в долгах перед компанией.
Более того, молодые женщины быстро понимали, что реальные условия труда на фабриках сильно отличаются от тех радужных картинок, которые рисовали пред ними агенты. Большинство рабочих располагало только парой выходных дней в месяц. Более того, на предприятиях по производству хлопка обычным явлением была работа в 2 смены по 12 часов каждая, поскольку такие владельцы, как Сибусава, стремились использовать свое дорогостоящее оборудование круглые сутки. На производстве шелка условия были ненамного лучше. Согласно одному докладу, составленному Министерством сельского хозяйства и коммерции, на них «работа начинается на рассвете и заканчивается ночью. В некоторых местах летом работа завершается с заходом солнца, но в другие сезоны она продолжается до 8—10 часов вечера, при этом для освещения используются фонари. Это значит, что рабочее время на фабриках по производству шелка составляет от 13–14 часов до 17 или 18 часов в день»{163}. Рабочее время было не только продолжительным, но оно также было связано с ужасными условиями труда. Рабочие помещения были тесными, шумными и душными. Летом температура зачастую достигала 100 градусов, и девушки падали на пол цеха. Вентиляция была недостаточной, и воздух был наполнен тончайшими волокнами шелка и хлопка, которые набивались в глаза, рты и уши, а также забивали поры на коже. Мужчины-мастера не сильно отличались по своим повадкам от армейских сержантов. Чересчур медлительных они подгоняли ударами бамбуковых палок. Пытаясь работать быстрее, девушки теряли осторожность, и их руки и ноги попадали в механизмы станков. К концу столетия утрата пальцев на руках и ногах стала настолько обычным явлением, что врачи многих компаний просто перестали фиксировать подобные происшествия в своих отчетах. Существовали и другие опасности. Некоторые надсмотрщики были сексуально озабоченными. В одних случаях они запугивали своих жертв, в других просто использовали физическое насилие. Угрозу создавало и наличие большого количества легковоспламеняющегося материала. Только один пожар, произошедший в 1892 г. на осакской компании по намотке шелка, уничтожил оборудование фабрики, разрушил 34 частных дома и унес жизни 95 рабочих, большинство из которых составляли женщины. Многие фабричные общежития представляли собой постройки тюремного типа. Они были окружены заборами в 8 футов высотой, по верхнему краю которых было насыпано битое стекло. Кроме этого, девушек от побега удерживали и заостренные бамбуковые палки. Условия проживания были также ужасны. Помещения были тесными. Для проживания и сна каждому рабочему выделялось место, уступавшее по своей площади стандартному татами, размеры которого составляли приблизительно шесть на три фута. Некоторые компании считали выделение каждой девушке индивидуального спального места излишней роскошью, одна ванная приходилась на сорок или пятьдесят работниц, а в уборных не проводилось дезинфекции. Типичный рацион в конце столетия включал в себя злаки, тофу, фасоль, вяленые сардины и такие морепродукты, как хидзики. Девушки из особенно бедных семей считали, что они питаются лучше, чем дома. Другие жаловались на то, что пища плохо приготовлена и подается в неаппетитном виде. В любом случае, питание зачастую было скудным и, согласно одному правительственному докладу, едва ли достаточным для того, чтобы обеспечить нужды молодого растущего организма. Сочетание тяжелых условий труда, антисанитарии в жилых помещениях, недостаточного питания и напряжение, вызываемое длительным рабочим днем и сексуальными домогательствами, приводило женщин в состояние постоянной усталости. После посещения в 1898 г. некоторых фабрик, японский просветитель Ивамото Ёсихару, принявший христианство, писал: «Я видел фабрики. Я видел жилища фабричных работниц. И я видел девушек, полностью истощенных ночными сменами, абсолютно беззащитных, изнуренных бессонницей, единственным наслаждением которых было лечь и закрыть глаза»{164}. Неудивительно, что многие женщины пытались сбежать, перебравшись через забор общежития, или во время редких праздников, проводимых за воротами фабрики. Поскольку полиция зачастую сотрудничала с руководством в деле поимки беглянок, представляется весьма примечательным тот факт, что в 1898 г. свои рабочие места покинули около 20 % работниц осакской фабрики по намотке хлопка и 40 % компании по намотке хлопка в Миэ. В конце 1890-х на обоих предприятиях лишь 25 % молодых женщин доработали до конца срока, предусмотренного контрактом. Среди тех, кто остался, весьма распространенными были случаи заболевания бронхитом, пневмонией и слепотой, связанной с поражением трахомы. Наполненный волокнами воздух и высокая концентрация диоксида углерода вызывали поражение легких, и, вероятно, каждая четвертая или каждая пятая девушка страдала от легочного туберкулеза. В целом смертность среди фабричных работниц в 2 раза превышала этот показатель для шестнадцати — двадцатилетних девушек по стране. Врачи компаний не располагали средствами для борьбы с серьезными заболеваниями, такими как туберкулез, а владельцы предприятий обычно отсылали больных девушек домой умирать. «Вскоре после того, как я пошла на работу на фабрику Ямаичи в префектуре Нагано, — описывала одна из девушек свой опыт на рубеже веков, — туда же пришла и моя младшая сестра Аки». После двух лет работы Аки смертельно заболела. «Она пришла на фабрику в надежде получать по 100 йен в год и сделать нашу мать счастливой, — вспоминала старшая сестра. — Я никогда не забуду ее печальные глаза в тот момент, когда она покидала фабрику, изнуренная и потускневшая. Я чувствовала, что для такого ослабленного человека, как она, невозможно проделать путь более чем в сотню километров по крутой горной тропе. Но они не позволили ей остаться на фабрике. На то, чтобы отправить ее в больницу, денег не было. Ей ничего не оставалось, как пойти домой»{165}. На фоне трудностей и проблем 80-х и 90-х гг. XIX столетия рождалось новое восприятие окружающего мира рабочим классом. Многие работницы текстильных предприятий сочетали низкую степень самоуважения с определенной гордостью за тот вклад, который они вносили в дело успеха компании. Неудивительно, что некоторые девушки ощущали себя беспомощными жертвами. «Работа на фабрике — это работа на каторге, — пелось в одной песне, популярной среди мотальщиц шелка. — Здесь не хватает только одного — железных цепей»{166}. Другие песни отражали горькое осознание работницами степени своей эксплуатации: «Чтобы убить фабричную девушку / Вам не надо ножа; / Просто раздавите ее / Тяжестью тонкой пряжи». В то же самое время многие молодые женщины сознательно определяли себя как кодзо, или «фабричные девушки», которые выделяли себя в самостоятельную категорию, отличную отвладельцев и управляющего персонала фабрики. Более того, они знали, что их низкие заработки оборачиваются огромными прибылями Сибусава и других предпринимателей: «Не насмехайтесь над нами, / Обзывая нас «фабричные девчонки, фабричные девчонки»! / Фабричные девушки — / Это самая большая драгоценность компании». Открытое неповиновение также было частью менталитета девушек-рабочих. Иногда они выражали свой протест, создавая собственных героинь, таких как Иватару Кикуса, которая не побоялась выступить против мужского насилия. Однажды вечером, находясь вне территории фабрики, Иватару отбила нападение мужчины, который до этого изнасиловал и убил нескольких работниц. Сильный удар в пах заставил насильника отказаться от своих намерений. Вскоре девушки на соседних фабриках распевали такую песню:

Мужчины, работавшие на предприятиях тяжелой промышленности, также пользовались относительной свободой. Для них дисциплина была не столь строгой, как для женщин-работниц. Рабочие группировались вокруг более квалифицированных мастеров, или старших рабочих, известных как ояката. Ояката зачастую приглашались для организации тех или иных видов работ. Они набирали (или контролировали набор) работников и подмастерьев, которых обучали и которым выплачивали заработок за счет фиксированной суммы, выделяемой владельцами фабрики. Таким образом, на верфях в Йокосука в начале 90-х гг. XIX в. каждый завод или фабрика, входившие в состав этого производства, имели своего управляющего, штат конторских служащих, которые занимались бумажной работой, такой как заключение контрактов, учет и тому подобное, а также определенное количество мастеров, каждый из которых контролировал работу нескольких ояката. Однако высшее руководящее звено слабо разбиралось в тонкостях реального процесса производства, поэтому оно редко вмешивалось в деятельность ояката. Таким образом, последние «ощущали себя хозяевами положения» — так отозвался о них Ёкояма Генносукэ, первый серьезный исследователь нарождавшегося рабочего класса{168}. На ояката лежала окончательная ответственность за своевременное выполнение любой работы, а их доход зависел от разницы между их затратами и той суммой, которую они получали от руководства. Поэтому они ревностно оберегали свое право контроля над рабочими и определения распорядка и оплаты труда в цеховых помещениях. Мужчины, работающие на промышленных предприятиях, имели склонность к частой смене места работы. В противоположность производству текстиля, для которого, казалось, существовал неисчерпаемый источник девушек, способных выполнять простейшие операции, в тяжелой промышленности даже подмастерья чувствовали себя уверенно, поскольку они обладали новыми и по-прежнему экзотическими навыками, необходимыми для работы. Соответственно, по словам одного рапорта, мужчины-рабочие «с легкостью переходили на другие фабрики, если там им обещали платить хоть чуть-чуть больше»{169}. Вдобавок к более высокой зарплате, мужчины, переходившие с одной фабрики на другую, получали дополнительные знания, которые, в свою очередь, позволяли им требовать еще более высокой оплаты своего труда, когда они направлялись в другой город и подписывали контракт с новым ояката. Мобильные, независимые, обладавшие новейшими знаниями, работники тяжелой промышленности выработали такое отношение к управляющему персоналу, которое коренным образом отличалось от отношений в текстильной промышленности. Если работницы текстильных фабрик смотрели на своих хозяев как на «отвратительных людей» и «злейших врагов» и главной целью их забастовок были повышение заработной платы и уменьшение продолжительности рабочего дня, то квалифицированные работники-мужчины строили свои отношения с руководством на основе взаимного уважения. Они требовали от хозяев демонстрации благожелательности и поисков путей для улучшения жизни рабочих, за что сами рабочие готовы были проявлять больше усердия и преданности. Таким образом, мужчины, которые принимали участие в забастовках в конце XIX в., обычно требовали от хозяев «человеческого обращения». Например, когда в 1899 г. забастовали машинисты железнодорожной компании «Ниппон», они давили на руководство с целью улучшения положения внутри предприятия. В частности, они добивались введения новых, более почетных, названий профессий, уравнивания их положения с положением старших рабочих, а также некоторых премий, выплачивавшихся раз в полгода техникам и конторским служащим. Изысканное общество смотрело на зарождающийся рабочий класс отнюдь не благожелательно. На страницах газет зачастую можно было найти сравнения фабричных девушек с проститутками, которые также за гроши продавали свое время и тела, получая лишь оскорбления и болезни, чтобы всего через несколько лет оказаться выброшенными, за ненадобностью, на улицу. Те же газетчики обычно причисляли промышленных рабочих к обширному классу рабочей бедноты, в состав которого входили традиционные ремесленники, неквалифицированные поденщики, рикши и старьевщики. Квалифицированные рабочие зарабатывали больше, чем другие члены «нижнего класса», если пользоваться современной терминологией, но при всей своей гордости и обостренном чувстве собственного достоинства рабочие жили в самых плохих районах города, в ветхих лачугах с протекающими крышами и прогнившими стенами. Более того, согласно подсчетам, произведенным Ёкояма Генносукэ, даже машинист, получавший относительно высокую зарплату, работавший в 1898 г. по двадцать шесть дней в месяц и приносивший домой по 13 йен ежедневно, с трудом мог свести концы с концами. После вычитания платы за жилье, основные продукты питания, такие как рис и овощи, топливо и освещение, а также одной йены или около того, потраченной на выпивку, у семьи из четырех человек оставалась всего одна йена на приобретение одежды, бритье и посещение общественной бани. В целом, утверждал Ёкояма, около двух третей токийских машинистов жили в постоянной нужде. Кроме того, он описал жестокую жизнь японского рабочего, состоявшую из визитов к мошенникам-ростовщикам, пьянства и азартных игр, насилия в семье и пренебрежительного отношения к детям. Более доброжелательно журналисты относились к тем, кого они называли классом среднего достатка и высшим обществом. Первый состоял из традиционных торговцев, которые владели своими собственными лавками. К нему же относились зарождающаяся прослойка учителей, профессионалов, фабричных управленцев и мастеров. Этот термин, «класс среднего достатка», которым пользовались исследователи социальных слоев, свидетельствовал об уважении к семьям, которые усердно трудятся и живут в стабильности и комфорте. Высшее общество включало в себя плутократов и категорию нарикин. Нарикин — это название наименьших фигур в игре соги, напоминающей шахматы. Как и шахматные пешки, нарикин способны превращаться в мощные фигуры. Поэтому журналисты стали использовать этот термин по отношению к предпринимателям, таким как производители пуговиц в Осака или основатели токийских фирм Сейко, производившей часы, и Сисейдо, занимавшейся производством косметики. Подобно своему французскому эквиваленту «нувориш», это выражение могло нести в себе уничижительную коннотацию, но большинство журналистов восхищалось смелостью и стремлением к достижению успеха, которые демонстрировали нарикин. По отношению к плутократам газеты почти в открытую демонстрировали свой благоговейный страх. К ним относились такие капитаны промышленности, как Фурукава, Сибусава, а также главы семей Ивасаки, Мицуи и Сумитомо. Их огромные особняки и шикарный образ жизни естественным образом вызывали низкопоклонство масс.
Мужья и жены
Каждый новый слой японского общества по-своему понимал экономическую мечту Мэйдзи, но все японцы на рубеже веков ощутили перемены в своей семейной жизни. Ошеломляя страну все новыми и новыми политическими и экономическими изменениями, правительство не оставило без внимания и семейные отношения, права собственности, систему контрактов, коммерческие сделки и т. д., пытаясь создать новый свод правил, касающийся всех этих аспектов жизни. Большинство официальных ученых приветствовало эти попытки. Они признавали, что кодификация является необходимой в свете бесчисленных перемен, имевших место в Японии. Однако чиновники в правительстве также были вынуждены считаться с жесткими требованиями, выдвигаемыми западными державами, которые настаивали на том, что Япония должна разработать кодекс гражданских законов, приемлемых для западного мира, прежде чем приступить к пересмотру прежних договоров. В 1890 г., после определенного обдумывания, режим Мэйдзи принял официальный кодекс, построенный в основном по французской модели, а также объявил о том, что новый закон вступит в силу с 1 января 1893 г. Практически немедленно вокруг нового законодательства разгорелись жаркие споры. Юристы, хорошо разбирающиеся в английском и немецком законодательствах, подвергли новый кодекс нападкам за его излишнюю близость к французскому прототипу. Придя в замешательство от той атмосферы непримиримости, которая охватила общество японских правоведов, парламент отложил намеченное вступление в силу гражданского законодательства и созвал совещание по поводу возникшей проблемы. Председательствовал в комитете по пересмотру кодекса Ито Хиробуми, но очевидно, что наибольшим влиянием среди его членов пользовался Ходзуми Нобусигэ, профессор права Токийского университета. В ходе работы Ходзуми и его сторонники мало обращали внимание на те разделы кодекса, которые касались прав собственности, контрактов и коммерции. Практически все свои силы они направили на разделы «Семья» и «Права наследования». В первоначальной редакции они были приближены к французским образцам, и это, по словам Ходзуми Яцука, известного ученого-правоведа и младшего брата Нобусигэ, создавало угрозу «окончательного разрушения преданности и сыновней почтительности»{170}. Ходзуми Нобусигэ был традиционалистом, соглашавшимся со своим братом в том, что в последние десятилетия XIX в. «семейная система постепенно теряла свою силу». Он также бил тревогу по поводу того, что «место семьи как ячейки общества теперь занимает отдельный человек»{171}. И он предлагал решение проблемы. Семью вновь можно поставить выше индивида путем воссоздания на официальном уровне старой системы иэ. Вдобавок он с особым восхищением относился к традиционным патриархальным отношениям и практике наследования всего имущества старшим сыном, которая доминировала в самурайских семьях в начальный период Нового времени. Соответственно, новая редакция Гражданского кодекса, ставшая законом 16 июля 1898 г., превращала домовладение в общественный организм, а статус главы семьи переходил к старшему сыну, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Отец наделялся огромными правами. Он самостоятельно выбирал место проживания семьи, распоряжался всем имуществом семьи и вел ее дела, размещал активы семьи. Он мог запретить или разрешить своим детям вступить в брак, и это правило действовало до достижения дочерьми двадцати пятилетнего возраста, а сыновьями — тридцатилетнего. Частью этой политики, которую многие называли «самураизацией семьи», авторы Гражданского кодекса Мэйдзи сделали подчинение женщин мужчинам, которые стояли во главе семьи. В целом новые законы трактовали «жену» как полезный, но заменяемый модуль в контексте структуры иэ. Фактически замужние женщины не считались полноправными членами общества. Основной обязанностью жены, как указывалось в Гражданском кодексе 1898 г., было обеспечить иэ наследником мужского пола, а также выполнять вспомогательные работы по дому. Выйдя замуж, женщина не могла выступать в качестве свидетеля в суде или выдвигать иски без согласия мужа, а также самостоятельно заниматься бизнесом. Она не могла быть инициатором развода, за исключением тех случаев, когда муж бросал семью или проявлял крайнюю жестокость. Измена жены (но не мужа) была основанием для развода и уголовного преследования. Когда брак давал трещину, женщина была вынуждена покинуть свой дом, дети при этом оставались с иэ. Символом превращения патриархальной и патрилинейной семьи воинского сословия в норму для всей нации стало то, что горожане в конце эпохи Мэйдзи начали применять старый самурайский термин оку-сан («госпожа задних покоев»), заменяя им понятие «жена». Не отрицая того, что женщины должны реализовывать себя прежде всего в семье, некоторые чиновники и идеологи рассматривали для взрослых женщин и другие возможности, что было отражено во фразе риёсай кэнбо («хорошая жена, мудрая мать»). Накамура Масанао, переводчик книги Сэмюэля Смайлза Помоги себе сам, позднее возглавивший Женское педагогическое училище (ныне — Женский университет Очаномидзу), ввел термин риёсай кэнбо для обозначения стиля жизни женщин, который подразумевал трансформацию новейших западных идей в то, что было понятным и в то же время достойным для женщины с точки зрения японцев. Согласно Накамура, хорошая жена и мудрая мать должна оставаться в сфере частной жизни, но в доме ей отводилась почетная роль хранительницы моральных устоев семьи. Она была ответственной за воспитание и образование детей, а также была верной «лучшей половиной», которая всегда поддержит своего мужа по мере продвижения его карьеры или в публичной сфере. Одним из наиболее выдающихся сторонников идеологии риёсай кэнбо в конце XIX в. была Хатояма Харуко. В 1881 г. она окончила Женское педагогическое училище, в котором позднее получила место преподавателя. Хатояма надеялась, что превращение в хороших жен и мудрых матерей повысит статус женщин, которым до этого отводилась роль мелких деталей в семейной системе, основанной на преобладании мужчин. Подобно Накамура, Хатояма учила своих студенток быть умелыми управляющими домашними делами и заботливыми матерями. Она говорила, что женщины должны превращать свои дома в святилища, в островки безопасности, где муж может отдохнуть и расслабиться перед новой встречей с внешним миром. Ориентируясь на те взгляды, которые существовали на Западе в конце XIX в., Хатояма также считала, что жены должны обладать определенным интеллектом и достаточно хорошим образованием, чтобы быть настоящими помощницами для своих мужей. Приверженцы риёсай кэнбо адресовали свои аргументы преимущественно женщинам из состоятельных семей. Ито Умэко, супруга главы правительства, являлась для многих образцом новой жены. В 1880-х она изучала английский язык, так что она могла участвовать в беседах своего мужа с иностранцами. Она даже председательствовала в так называемых «кружках усовершенствования», в которые входили представительницы токийской элиты. В этих кружках они изучали европейскую моду, знакомились с западной кухней и постигали новый этикет, знания которого требовались от них во время сопровождения своих мужей на официальные приемы, проводимые в Рокумейкан. В противоположность этому, большинство идеологов более спокойно относились к женам торговцев и крестьян. Эти женщины могли жить как «хорошие жены» в прежнем смысле этого термина, то есть им позволялось работать в поле или в лавке, принося доход, который помогает выжить их семьям. Классовая сущность понятия риёсай кэнбо не ускользала от этих женщин. Юноша, родители которого держали магазин косметики в Киото, позднее вспоминал, что его мать была очень внимательна при использовании обращения оку-сан, применяя его только в разговоре с женами нарикин и таких профессионалов, как полицейские, учителя и правительственные чиновники. Не ускользнула от его внимания циничная улыбка, которая появлялась на ее лице во время общения с такими оку-сан. «Что отличало их от большинства женщин, подобных моей матери — делился он своим наблюдением, — так это то, что они не работали»{172}. Существовал и другой неологизм, хому. На рубеже веков в Японии концепция семейной жизни была близка по сути своей к понятиюриёсай кэнбо, однако ее сторонники предпочитали делать акцент на важности романтических отношений между мужем и женой. Популяризации этого выражения способствовал Ивамото Ёсихару, принявший участие в создании Дзогаку дзасси («Журнал женских знаний»). Он критиковал иэ за чрезмерное давление и предлагал хому в качестве идеала семьи. Последняя должна была стать местом, где взаимная любовь и дух счастливого сотрудничества объединяет всех ее членов. Если говорить более конкретно, то женщина в новой модели семьи по-прежнему занималась воспитанием детей и выполняла работы по дому, но при этом она по своему положению была равной мужчине. В противоположность традиционному браку, при котором женщина приходит в дом своего мужа и становится помощницей своей свекрови, новая модель хому подразумевала превращение женщины в госпожу своей собственной семьи, в подругу и помощницу своего мужа. Ходзуми Нобусигэ и многие другие высокопоставленные правительственные чиновники подразумевали, что Гражданский кодекс 1898 г. должен окончательно и категорически распределить роли в семье, однако этого не произошло. Попытка ввести социальное законодательство в конце XIX столетия породила дискуссию по поводу организации семейной жизни, и эти споры только усилились после вступления Японии в новый век. Хотя идеология риёсай кэнбо оказала мощное влияние на последующие поколения, к дебатам по поводу роли государства в деле определения семейных и половых отношений присоединялись все новые голоса. К спорам начали присоединяться и японские женщины, закончившие средние школы для девочек, которые были созданы в конце XIX в. специально для подготовки хороших жен и мудрых матерей. Они поднимали важные вопросы, желая выяснить, что же представляет из себя идеальная семья и какую роль должна играть женщина как в обществе, так и дома.Дети и школа
2 сентября 1871 г., всего через четыре дня после того как Дадзокан отменил домены даймё и создал вместо них префектуры, новое правительство учредило Министерство образования, в задачи которого входила организация общенациональной системы обязательного образования. При этом лидеры Мэйдзи руководствовались разными мотивами. Одни, такие как Ито Хиробуми, считали, что Япония не сможет достигнуть Цивилизации и Просвещенности без образованного населения. Другие, такие как Ивакура Томоми и Окубо Тосимичи, думали, что народное образование необходимо для того, чтобы воспитывать будущих лидеров нации. Более того, всеобщее образование, по их мнению, даст всем японцам знания, необходимые для осуществления их экономических проектов, способствуя, таким образом, созданию сильной нации. По словам Кидо Такаёси, «сила и процветание страны базируется на силе и процветании людей. Если простые люди по-прежнему останутся в невежестве и нищете, — писал он в 1869 г., - красивая фраза «императорская реставрация» не будет иметь смысла, а попытка встать в один ряд с ведущими державами мира окажется обреченной на провал»{173}. Правительство Мэйдзи постепенно приближалось к формулированию своих планов, и 4 сентября 1872 г. Дадзокан провозгласил Предписание об образовании. Согласно ему, территория Японии делилась на 53 760 начальных и 256 средних школьных округов, оно объявляло о создании восьми университетов и вводило обязательное четырехлетнее образование для каждого ребенка. В преамбуле к Постановлению обозначались две взаимодополняющие цели образования. С одной стороны, в документе подчеркивалось, что люди должны рассматривать школу как средство для продвижения и достижения успеха в этой жизни. С другой стороны, правительство также указывало, что новая система должна способствовать появлению моральных и патриотично настроенных граждан, которые будут изучать практические знания и науки с целью помочь обществу и создать мощную, современную нацию. Чиновники Министерства образования энергично работали над тем, чтобы запустить новую систему в действие уже в начале 1870-х. Результатом их усилий было то, что к середине десятилетия несколько сотен тысяч мальчиков и юношей посещали начальные и средние школы. Наследие эпохи Токугава объективно работало в пользу правительства. Так, пока правительство Мэйдзи занималось строительством большого количества новых школ и организовывало подготовку учителей, оно в конце 1872 г. сертифицировало большинство старых теракоя и частных академий в качестве начальных школ, а школы доменов были превращены в средние школы. Кроме того, что ему в наследство досталось большое количество опытных учителей и школьные помещения, новый режим обнаружил, что издатели уже давно привыкли к торговле учебниками. А тот факт, что самураи и простолюдины на протяжении поколений рассматривали обучение в школе в качестве составляющей повседневной жизни, помог многим японцам принять новые директивы, касающиеся образования. Несмотря на многообещающее начало, министерство вскоре столкнулось с существенными проблемами. Чиновники были разочарованы степенью укомплектованности школ учащимися. Даже в 1880-х только 60 % мальчиков школьного возраста и 20 % девочек посещали начальную школу. Этот показатель лишь немногим превышал цифры, показанные предыдущим поколением. Более того, отпрыски самурайских родов и дети горожан с гораздо большей охотой получали четырехлетнее обязательное образование, в отличие от своих сельских сверстников. Посещение начальных школ в префектурах, находящихся на периферии, уступало среднему уровню по стране. Не меньшую проблему, с точки зрения правительства, представляли многочисленные несоответствия, которые существовали в образовательной системе. В зависимости от школы, которую они посещали, ученики занимались изучением разных предметов. Министерство образования распространяло новые переводы западных работ по истории, точным наукам и философии. Но они были менее популярны, чем Помоги себе сам Смайлза и практически дословный перевод на японский работы Франсиса Вейланда Элементы науки о морали. написанной им для студентов Браунского университета и посвященной изучению ценностей и морали. Однако многие из учеников новых японских школ были вынуждены пользоваться старыми учебниками, использовавшимися еще в теракоя, такими как Собаи ораи («Наставление по торговле»). Некоторые школяры по-прежнему зубрили классические конфуцианские тексты. Министерству на протяжении 70-х гг. XIX в. также приходилось отбиваться от критических замечаний, высказываемых конфуцианскими традиционалистами. Мотода Нагадзанэ, наставник императора, который позднее предпримет атаку на идеи Ито относительно конституционного строя как на попытку превратить «японцев в раскрашенные копии европейцев и американцев», не собирался соглашаться ни с западными работами по проблемам морали и этики, ни с мнением, что образование должно служить на благо индивидууму. В своей работе 1879 г. «Великие принципы образования» Мотода порицает западные книги, такие как Элементы науки о морали, за разрушение традиционной этики и распространение безответственных теорий, порождающих неспособных правительственных чиновников и малодушных граждан. Японию ожидает катастрофа, заключал Мотода, если Министерство образования не поймет в скором времени, что «суть образования — определяющего путь человека при помощи знаний и умений, правдивости, преданности и сыновней почтительности — заключена в великих принципах, приведенных в наставлениях наших предков и в классических трудах», и что «люди будут культивировать искренность и придерживаться хорошего поведения, если этическое воспитание будет базироваться на учении Конфуция»{174}. К началу 80-х гг. XIX столетия многие олигархи стали с симпатией относиться к идеям, высказываемым Мотода и другими консерваторами. Политические неурядицы конца 70-х — начала 80-х, наряду с усилиями по разработке и принятию конституции, заставили лидеров Мэйдзи заняться поисками путей создания общества, проникнутого идеями долга, которое будет служить опорой правительству. Ямагата Аритомо, столь сильно озабоченный проблемой единства нации, даже настаивал на том, что Япония, если она хочет обеспечить себе светлое и безопасное будущее, должна обратить самое пристальное внимание на «военную подготовку и образование». «Если люди не любят свою страну так, как любят они своих родителей, и если они не готовы пожертвовать своими жизнями ради ее безопасности, — писал он, — такая страна не просуществует и одного дня». Более того, продолжал Ямагата, «только образование может привить и сохранить в людях чувство патриотизма». А лучшим способом воспитания патриотизма у школьника является «изучение своего языка, истории и других предметов»{175}. Эти идеи нашли свое воплощение в Императорском рескрипте об образовании. Рескрипт был издан в конце 1890 г., непосредственно перед созывом первого Императорского парламента. Он был составной частью усилий, направленных на обеспечение общественной поддержки перед принятием конституции и изменением политической системы. Документ, написанный в благочестивом тоне, указывал, что основной задачей образования является прививание традиционных ценностей и превращение японцев в безусловно преданную императору и стране нацию. «Будьте почтительными по отношению к своим родителям [и] любящими по отношению к вашим братьям и сестрам», — говорилось в документе. Кроме того, «содержите себя в скромности и умеренности, распространяйте свою благожелательность на все. Стремитесь к знаниям и культивируйте искусства и таким образом развивайте интеллектуальные способности и моральные качества». Наконец, рескрипт предписывал японской молодежи «всегда уважать Конституцию и подчиняться законам. В случае возникновения угрозы, отважно жертвуйте собой ради государства. Охраняйте таким образом и поддерживайте процветание Нашего Императорского Трона, возникшего одновременно с небом и землей»{176}. Мори Аринори, который был первым министром образования после создания в 1885 г. кабинетной системы, выразил все это более лаконично: «Главным принципом образования в будущем должно стать воспитание таких людей, которые будут верными подданными, столь необходимыми Империи»{177}. Руководствуясь подобными идеями, Министерство образования на протяжении 1880-х разработало ряд мероприятий, которые могли бы приспособить школьное образование к интересам государства. За время своей деятельности на посту министра образования, с 1885 по 1889 г., Мори изменил школьную систему таким образом, что в ней стал использоваться дифференцированный подход к ученикам в зависимости от их способностей. В соответствии с этим, школа ориентировала молодого человека на выбор того или иного занятия в жизни. Не забыты были и начальные школы, миссией которых было «обеспечение такой подготовки, которая помогла бы молодым людям осознать свои обязанности в качестве японских подданных, вести себя в соответствии с этическими нормами и заботиться о своем личном благосостоянии»{178}. Выпускники начальных школ могли продолжить свое обучение в средней школе. Там, на протяжении пяти лет, они изучали этику и получали знания, которые в дальнейшем могли позволить им занять место управленцев нижнего звена, мастеров на заводах и тому подобное. Наиболее способные выпускники средних школ, успешно сдавшие итоговые экзамены, могли оказаться в одной из недавно созданных высших школ, обучение в которых длилось два (позднее — три) года. «Тот, кто проходит обучение в высшей школе, — пояснял Мори, — займет свое место в верхнем слое общества. Высшие школы будут тщательно готовить людей к управлению помыслами масс: если они пойдут на государственную службу, они будут принадлежать к высшему разряду чиновников; если они выберут карьеру бизнесмена, они составят когорту высших менеджеров; если они станут учеными, то тогда они будут наилучшими специалистами в области различных искусств и наук»{179}. Под руководством Мори Министерство образования продолжило дело по созданию сети национальных университетов, в которых должна была проходить подготовку будущая научная, чиновническая и деловая элита. Начав с Токийского университета, основанного в 1877 г., правительство впоследствии создало так называемые имперские университеты в Киото (1897), Тохоку (1907), Кюсю (1910), Хоккайдо (1919), Осака (1931) и Нагоя (1939). В 1886 г. был издан указ о создании педагогических училищ, которые должны были заниматься подготовкой учительских кадров для начальных и средних школ. Таким образом, в каждой префектуре должно было быть создано педагогическое училище для подготовки учителей для начальной школы. Кадры для средней школы готовило высшее педагогическое училище, расположенное в Токио. На протяжении 80-х гг. XIX в. Министерство образования также предпринимало шаги, направленные на усиление контроля над школьными учебными планами. В 1886 г. оно издало постановление, в котором говорилось, что школьники должны обучаться арифметике, чтению, письму, писать сочинения и заниматься физическими упражнениями (в 1907 г. к этому списку были добавлены точные науки, география и история Японии). Действуя в соответствии с указанием Мори, что выпускники начальной школы «осознают свои обязанности в качестве японских подданных» и «ведут себя в соответствии с этическими нормами», министерские чиновники отводили основное место в школьной программе изучению этики, которая базировалась на патриотических чувствах и на традиционалистской гражданской морали. К концу 80-х гг. XIX в. Помоги себе сам и Элементы науки о морали исчезли из школьных кабинетов. Их место заняли труды японских ученых, посвященные этическим вопросам. Их изданием занималось непосредственно Министерство образования. В большинстве своем эти новые учебники делали акцент на важности таких ценностей, как благожелательность, искренность, честность, установка на достижение цели, сыновняя почтительность, дружба, бережливость, скромность и этикет. Создание японских учебников по этике было частью более широкой трансформации, которая позволила бы правительственным чиновникам быть в курсе того, что изучается в каждой 14- Япония классной комнате. Еще в 1881 г. Министерство образования издало список текстов, которые считались приемлемыми, и Закон о начальной школе, появившийся в 1886 г. требовал министерского одобрения для каждой книги, включенной в программу школьного обучения. Наконец, в 1903 г. министерство потребовало, чтобы все начальные школы стали использовать одинаковые учебники, которые оно само составляло и распространяло. Соответственно, в каждом городе и деревне мальчики и девочки не только знакомились с японской системой ценностей, но также изучали одни и те же примеры из японского прошлого, связанные с проявлением добродетелей. Они слушали рассказы о Ниномия Сонтоку, проникнутом заботой об общественном благе; Токугава Иэясу, почитавшем души погибших соратников; женщине из богатой семьи, которая стоически переносила все невзгоды замужней жизни; изготовителе соевого соуса, который, разбогатев, приложил большие усилия для того, чтобы разыскать и вознаградить человека, некогда оказавшего ему помощь. Система, созданная в 80-е гг. XIX в., оказала разнородное воздействие на будущие поколения японцев. Мори Аринори и другие чиновники Министерства образования в целом добились того, чего они хотели. К концу эпохи Мэйдзи процент посещения начальной школы как мальчиками, так и девочками приближался к 100. Люди осознали, что образование является для них проводником в лучшую жизнь. Более того, большинство наблюдателей пришли к заключению, что школьная программа, основанная на этике, явилась одним из факторов, способствовавших появлению патриотично настроенного поколения. Подобным образом, многие рассматривали образование как способ получения знаний, необходимых в условиях становления индустриального общества (особенно после того, как в 1899 г. была обеспечена преемственность между начальной школой и средними техническими и профессиональными школами). И лишь немногие были не согласны с тем мнением, что высшие школы и университеты готовят элиту профессионального чиновничества, эрудированных ученых и хорошо подкованных в своем деле бизнесменов. Другие, однако, выражали беспокойство по поводу новых направлений в образовательной политике. Некоторые критики возражали против основных принципов новой системы. Эти оппоненты происходили из самых разных слоев общества и представляли практически весь спектр политической деятельности. Но все они придерживались того мнения, что образование должно способствовать появлению самостоятельных личностей, со своими интересами и способностями, а не стандартизированных подданных. Они также настаивали на том, что в задачу учителя не входит вбивание в головы учеников мыслей и идей, предписанных свыше. Вместо этого, считали они, настоящие просветители побуждают студентов к активному участию в образовательном процессе, чтобы по достижении зрелого возраста они становились самостоятельно мыслящими людьми. Узки Эмори, один из лидеров Движения за народные права, изложил свои идеи в эссе, озаглавленном «Относительно народного образования». Узки, как и многие другие представители левого крыла политического спектра в конце 70-х — начале 80-х гг. XIX в., руководствовался той доктриной, что права человека имеют естественное происхождение. Он верил, что наиболее приемлемый государственный строй будущего будет основываться на концепции народного суверенитета. На его взгляд, совершенно естественным является то, что либеральная система образования, способствующая раскрытию способностей каждого индивидуума, является необходимым, если японцы желают пользоваться своими естественными правами и превратиться в просвещенных участников процесса управления. Таким образом, писал он, главной задачей образования должно быть «поощрение развития врожденных способностей человека в настолько широких масштабах, насколько это возможно». Выражая свои мысли более кратко, он говорил, что «свобода более ценна, чем порядок», и «жизнь, лишенная мудрости, больше напоминает смерть, чем жизнь»{180}. Философ и историк Миякэ Сэцурэи имел несколько иной взгляд на проблему. Он был противником вестернизации, призывая к развитию культурного национализма, который признавал японцев обладателями собственной национальной сущности. Миякэ, однако, не являлся безоглядным традиционалистом. Наоборот, он обладал широким взглядом на жизнь, обращая внимание на взаимоотношения между «ячейками» — индивидуумом и нацией, — которые сливаются в органический, универсальный человеческий опыт. Во всех живых организмах, пояснял он, каждая ячейка выполняет определенную роль в обеспечении общего благополучия всего организма, частью которого она является. Таким образом, каждый индивидуум и каждая нация могут внести свой вклад в развитие мировой культуры, которую Миякэ характеризовал как реализацию универсальных гуманистических идеалов правды, доброты и красоты. «Посвятить себя своей стране — это значит посвятить себя всему миру», писал он, и «превозносить отдельные черты какого-либо народа — это значит воспитывать человеческую расу»{181}. Поскольку развитие мировой культуры зависит от свободы и полного раскрытия способностей каждого человека и нации, продолжал Миякэ, японская система образования должна придерживаться жесткой модели, созданной Министерством образования. Наоборот, она должна стремиться к созданию условий для раскрытия индивидуальных талантов и способностей каждого ученика. Другие критики поднимали вопросы, касающиеся половой дискриминации, заложенной в системе образования. Начальные школы предназначались как для мальчиков, так и для девочек. Однако программы средних и высших школ, созданные в середине 80-х, были рассчитаны только на мальчиков. Девушки, недовольные этим обстоятельством, все чаще стали появляться у дверей частных школ, многие из которых были организованы христианскими миссионерами. К 1889 г. существовало около двадцати частных средних школ. В них, а также в 8 публичных учреждениях, созданных правительством, обучалось более 3000 девушек, не желавших ограничиваться лишь начальным образованием. Десятью годами позже Министерство образования в ответ на растущие требования выработало план по созданию в каждой префектуре по одной высшей школе для девочек. Они были близки по своей программе к средним школам для мальчиков. В них на протяжении 4 или 6 лет могли обучаться девочки, окончившие начальную школу. Новые высшие школы для девочек предлагали своим слушательницам курсы, направленные на подготовку образцовых жен и матерей. В частности, приверженцы риёсай кэнбо в Министерстве образования настаивали на том, чтобы были написаны учебники, в которых излагались бы обязанности женщины по отношению к ее семье. В программу обучения были введены курсы по «домашней науке», позднее переименованные в «науку управления домом». Вне зависимости от названия, эти предметы фокусировали внимание на таких темах, как личное здоровье, уход за детьми, обслуживание дома, готовка пищи, пошив одежды и умение себя правильно вести. Кроме того, содержание других дисциплин было ориентировано на то, чтобы женщина в будущем могла со знанием дела вести домашние дела. Соответственно, ученицы женских средних школ изучали биологию как основу заботы о здоровье членов семьи и учились решать математические задачи, чтобы контролировать расходы семьи на пищу и одежду. Многие женщины, видевшие свое будущее в качестве домохозяек, были удовлетворены тем образованием, которое они получали в средних школах. Однако были и такие, кто придерживался иной точки зрения. Среди них была Ядзима Кадзико, дочь самурая, жившая на Кюсю. Она бросила своего мужа-алкоголика, переехала в Токио, где с 1889 по 1914 г. возглавляла Дзоси Гакуин — знаменитую христианскую женскую школу. Ядзима и ее единомышленники затрагивали основополагающие вопросы, касающиеся деятельности Министерства образования в области обучения женщин. Почему женщины не могут получить образование для дальнейшей карьеры не только в пределах своего дома, но и за его стенами? Почему женщин не готовят к экономической самостоятельности, если они хотят этого? И, продолжали критики, почему, вместо создания новых программ, непозволить женщинам получать такие же знания, какие получают мужчины, чтобы оба пола могли играть равные роли в жизни общества? Женщины, сформулировав эти вопросы, по сути, выдвинули на передний план ключевую проблему, поднятую Узки и Миякэ: должно ли образование способствовать осуществлению желаний и надежд индивидуума или оно должно стать социальным обязательством, направленным на удовлетворение потребностей государства и на создание такого общества, какое рисуют в своем воображении правительственные чиновники? Ответы на эти вопросы не могли быть получены в конце эпохи Мэйдзи. Но они определили набор тем, которые интересовали японцев в процессе модернизации общества в новом столетии.Священники и новообращенные
Частью политики прививания верноподданнических чувств по отношению к императору, а также упрочения своего собственного положения, режим Мэйдзи сделал перемены в сфере религиозных верований. Он перенес акцент на синто, поставив именно это учение в центр японской религиозной жизни. До 1868 г. синтоистские святилища и буддийские храмы существовали бок о бок, и большинство обитателей страны одинаково почитали как ками, так и буддийских божеств. Да и сами границы между этими учениями были настолько размыты в сознании японцев, что многие воспринимали ками в качестве одной из форм проявления буддийских божеств и наоборот. Более того, синто имело двойственную природу. На одном уровне, Небесный Владыка в Киото проводил соответствующие ритуалы, которые подчеркивали его божественное происхождение и придавали символическое значение правлению сёгуната, действовавшего от его имени. Хотя большинство японцев имели представление о священной роли Небесного Владыки, полученное хотя бы во время посещения Киото и святилища в Исэ, которые были популярными местами паломничества, сами они в столь возвышенных церемониях участия не принимали. Наоборот, для большинства мужчин и женщин смысл синто заключался в поклонении местным ками во время праздников, проходивших в деревне или в окрестных святилищах. В последние десятилетия XIX в. правительство Мэйдзи приложило немало сил для изменения этой ситуации. Синто было поставлено выше буддизма, а японцам отныне надо было участвовать в религиозных практиках, которые подчеркивали важность роли императора и синтоистских божеств в деле обеспечения благополучия всей нации. В 1868 г. в Японии существовало приблизительно 75 000 святилищ, и молодые руководители Мэйдзи вскоре предприняли первый шаг к созданию так называемого государственного синто. Они свели все эти святые места в единую национальную иерархию, впервые, таким образом, создав организационную структуру для синтоизма. На вершине получившейся в итоге пирамиды находилось святилише в Исэ, посвященное Аматэрасу — богине-предку императорской семьи, а также покровительнице всей японской нации. Далее шли другие императорские и национальные святилища, а затем — гражданские храмы, разбитые на пять категорий. Императорские и национальные святилища получали от центрального правительства существенную финансовую поддержку, а их священники обладали статусом гражданских государственных чиновников. Гражданские святилища нижних рангов получали некоторые суммы от местных администраций. В то же самое время правительство приказало каждому домовладению закрепиться за каким-либо святилищем. Таким образом, впервые в японской истории связь населения с храмом обрела не только всеобщий, но и обязательный характер. На протяжении периода Мэйдзи правительство также работало над тем, чтобы сделать синто более заметным. Оно реконструировало Исэ и другие важнейшие религиозные центры и построило двадцать семь новых святилищ, посвященных персонам, служившим трону в разные эпохи. Наиболее знаменитым из этих новых «специальных святилищ», как их называли, было Ясукуни. Оно было построено в Токио летом 1869 г. в честь духов людей, погибших в борьбе за восстановление императорского правления. Ясукуни вскоре превратилось в место захоронения японцев, погибших на войне. Особенно почетным было то, что церемония погребения в Ясукуни предусматривала символическую трансформацию душ погибших солдат в национальные божества. Каждую весну и осень в святилище проводились церемонии, во время которых прославлялись те, кто совершил наивысшее жертвоприношение ради своей страны. Император Мэйдзи несколько различно участвовал в подобных церемониях. Правительство также ввело новый ритуальный календарь, сосредоточенный на нации и императоре. На протяжении начального периода Нового времени большинство святилищ проводили свои праздники в соответствии с местными традициями, не особенно стремясь скоординировать свои действия с другими храмами. Лидеры Мэйдзи коренным образом изменили характер ритуальной жизни, учредив ряд праздников, которые должны были проводиться императором и отмечаться в каждом японском храме. Новый годовой праздничный цикл начинался 1 января, когда император в Токио и прихожане по всей стране прославляли богов четырех направлений, отмечая таким образом наступление нового года. Далее следовал праздник в честь Дзимму, основавшего династию Ямато, который отмечался 11 февраля. После него шли еще две церемонии. Одна из них носила название Каннамэ-саи, во время которой император совершал поклоны в сторону святилища Исэ и подносил первые плоды нового урожая богине Аматэрасу Его представители в то же самое время подносили богине солнца только что собранный на полях рис. Второй церемонией была Ниинамэсаи, во время которой император вступал в специальный зал, расположенный внутри дворцового комплекса, чтобы в компании богов насладиться новым урожаем. К 80-м гг. XIX столетия эти ритуалы стали проводиться одновременно в императорском дворце, святилище Исэ, а также в императорских и национальных святилищах. Постепенно правительственные чиновники подключили к проведению этих церемоний и гражданские храмы. Новые религии, созданные харизматическими наставниками в первые десятилетия XIX в., в начале периода Мэйдзи оказались под мощным огнем. За несколько десятков лет своего существования Тэнри, Куродзуми и другие подобные секты, путем исцеления через веру и обещания лучшей доли уже в земной жизни привлекли в свои ряды тысячи последователей. К началу 1880-х некоторые секты приобрели национальный масштаб. Хотя эклектические доктрины новых религий включали в себя и синтоистские представления, многие ортодоксальные синтоистские клерикалы выступили против них. Это объяснялось тем, что все больше японцев несли свои пожертвования в храмы новых религий. Правительство Мэйдзи также с подозрением смотрело на эти новообразования — уж слишком любили последние критиковать существующий политический порядок за многочисленные проблемы. Кроме того, они объединяли людей, разрушая традиционные границы, существовавшие между полами, классами и регионами. Когда режим Мэйдзи приступил к осуществлению своей программы превращения синто в государственную религию, перед новыми религиями встала реальная угроза исчезновения, и они стали искать пути к выживанию. Некоторые подчеркивали свою генетическую связь с синто, утверждая Аматэрасу в качестве главы пантеона своих божеств, включая синтоистских священников в свои ритуалы и делая упор на традиционные ценности, таких как искренность (макото). Одновременно главы сект старательно вплетали государственную идеологию в свои учения. По примеру жречества государственной религии, тысячи проповедников тэнри и ку-родзуми начали восхвалять реставрацию императорского правления. Во время своих путешествий по стране они объясняли верующим, что мероприятия правительства, такие как призыв в армию, изменение системы налогообложения, обязательное начальное образование и новый гражданский кодекс, являются священными и соответствуют желаниям ками. По мере того как новые религии приспосабливались к государственной концепции религиозного учения, они получали от правительства Мэйдзи соответствующее вознаграждение. Тэнри, куродзуми и еще 11 независимых сект были признаны в качестве составной части синто. На практике все тринадцать религиозных школ сохранили свою независимость от иерархии святилищ, которая и являлась государственным синто, но они могли заявлять о себе как о легитимных религиозных учениях, являющихся разновидностями государственной религии. Частью политики возвышения синто явилась атака на буддизм, предпринятая со стороны режима Мэйдзи. В 28-й день Третьего месяца 1868 г. правительство положило конец тысячелетней истории религиозного синкретизма, издав указ об отделении буддизма от синто. В частности, это заключалось в удалении всех буддийских предметов из синтоистских святилищ, а также в отделении синтоистских божеств от буддийских. На протяжении трех последующих лет режим конфисковал земли, которые сёгунат и отдельные даймё дарили буддийским храмам. Были изданы прокламации, адресованные монахам, в которых содержались призывы есть мясо, отращивать волосы, вернуться к светской жизни и жениться. К концу 1871 г. 80 или около того монахов, проводивших службы в честь Тосё Дай Гонгэн, обожествленного духа Иэясу, покинули Никко, унеся с собой большую часть буддийских реликвий. В целом к 1876 г. приблизительно 20 % от 87 000 буддийских храмов Японии закрыли свои залы для богослужений. Более 56 000 монахов и 5000 монахинь вернулись к светской жизни. Синтоистские фанатики — в особенности те священники совместных буддийско-синтоистских святилищ, которые находились в подчиненном положении по отношению к буддистам — восприняли закон о разделении, вышедший в 1868 г., как сигнал к нападению на буддизм. Один из самых жестоких актов этой агрессии произошел весной того же года. Около сорока синтоистских жрецов, связанных со святилищем Хиэ, расположенным у подножия горы Хиэй и подчиняющимся храму Энриакудзи, вооружившись копьями, напали на этот храм и сожгли сотни статуй и сутр. К 1871 г. волна насилия спала. Но к этому времени синтоистские фанатики уничтожили или разграбили сотни тысяч буддийских сутр, картин, статуй, храмовых колоколов и других ритуальных предметов. Сторонникам государственного синто также пришлось иметь дело с христианством, которое начало возрождаться в эпоху Мэйдзи. Католические священники появились в Эдо и Иокогаме в 1859 г., как только эти города были объявлены открытыми для иностранцев. К своему приятному удивлению, они выяснили, что в отдаленных районах южной части Кюсю до сих пор сохранились общины «тайных христиан». Приблизительно половина от их общего количества, то есть около 30 000 человек, решили вернуться к вновь восстановленной церкви. В 1859 г. в Японию также прибыли представители трех протестантских церквей. В феврале 1873 г. режим Мэйдзи отменил старый запрет на христианскую религию, и после этого миссионеры начали активную работу по поиску новых адептов. Христианским проповедникам пришлось вести тяжелую борьбу за сердца верующих. Большинство правительственных чиновников холодно относились к чужеземным верованиям. Это нашло свое отражение и в конституции 1889 г. В ней было сказано, что японцы могут пользоваться свободой вероисповедания только «в пределах, не ставящих под угрозу мир и порядок, и если их вера не противоречит их обязанностям в качестве подданных». Синтоизм в своем противодействии христианству использовал такие лозунги, как «Разрушить ересь, поддержать правоверие». Антихристианскую позицию заняли и многие буддисты. Они верили, что ниспровержение христианства поспособствует возрождению буддизма. «Христианская истина является предвзятой и неполной, — писал один известный буддист в 80-е гг. XIX в. — По сравнению с буддийской истиной она выглядит тонким кончиком волоса или затухающим отголоском. Ах, насколько понятна истина буддизма, насколько тускла она в христианстве, подобно звездам, теряющим свой свет на фоне сияния луны. Как я вообще могу сравнивать эти религии как нечто подобное?»{182} Столь масштабное противодействие преодолеть было нелегко. К концу столетия христианами себя считали менее 1 % японцев, из которых 100 000 были католиками, а 30 000 принадлежали к Русской православной церкви. Правительственная кампания по превращению синто в государственную религию дала неоднозначные результаты. Во-первых, многие простые мужчины и женщины далеко не сразу восприняли новые ритуалы государственного синто. В частности, крестьяне продолжали придерживаться старых традиций. Они с равнодушием встретили новый ритуальный календарь, продолжая активно отмечать традиционные празднества. Подобным образом, даже в конце 1880-х в некоторых крупных провинциальных городах полицейским приходилось напоминать горожанам о необходимости вывешивать флаги во время новых праздников, таких как день рождения императора Мэйдзи, который приходился на 3 февраля. Более того, буддизм в конце концов пережил все нападки на себя. Несмотря на постановления начала 1870-х, домовладения продолжали поддерживать связи с храмами, которые проводили церемонию погребения, заботились о могилах, а также проводили заупокойные службы. Христианство также дожило до нового столетия. Частично это стало возможным потому, что его адепты были более заметны, чем можно было предполагать, исходя из их малочисленности. Усилия миссионеров, направленные на организацию приютов для сирот, больниц и лепрозориев, привлекали к христианству тех японских реформаторов, которые были озабочены проституцией, нищетой и другими социальными проблемами и которые нашли надежду в христианском послании о милосердии и совершении добрых поступков по отношению к другим людям. Вдобавок в 70—80-е гг. XIX столетия многие церкви открывали средние женские школы, в то время как правительство и не думало этого делать. По этой причине многие японские просветители, такие как Ивамото Ёсихару, Ядзима Кадзико и Накамура Масанао, приняли христианскую веру. Христианами также были основаны некоторые частные колледжи, занимавшие в Японии ведущие позиции. Среди них была школа для женщин Мэйдзи, директором которой была Ивамото, а также Досиса, основанная в Киото в 1875 г. Ниидзима Дзо, которая позже превратилась в первый японский университет совместного обучения. Безусловно, привилегированное положение синто и перенацеливание святилищ на государственные нужды изменили природу японской религиозности. К концу XIX столетия в тонкостях синтоистского вероучения разбиралось значительно большее число японцев, чем в любое другое время. Постепенно, по мере того как гражданские святилища присоединялись к императорским и национальным во время проведения празднеств, отмеченных в новом ритуальном календаре, богослужения по всей стране стали проводиться по одной и той же модели. Более того, превратив священников в опору руководства Мэйдзи, сторонники государственного синто с успехом вплетали правительственную идеологию в теологию синто. Признание новых религий в качестве легитимных разновидностей синто также оказало влияние на религиозную жизнь многих японцев. Будучи невероятно популярными, различные школы, входившие в состав так называемого сектантского синто, приносили новую государственную идеологию и религиозные воззрения во все районы страны. События первых десятилетий эпохи Мэйдзи отбросили на второй план такие вероучения, как буддизм и христианство, освободив пространство для расширения связей между организованной религией и государством. Это произошло в начале XX в., когда была продемонстрирована возможность того, что религиозная доктрина и государственная идеология могут идти рука об руку, требуя от простых людей подчинения законам и постановлениям правительства.Вглядываясь в будущее
В августе 1899 г. штатный сотрудник газеты Осака майничи Кикучи Юхо начал публиковать свой роман Оно га цуми («Мой грех»). Труд был завершен им летом следующего года. Роман относился к новому жанру популярной литературы, катэй сосецу. В 90-е гг. XIX в. японцы все в больших масштабах использовали катэй. Этот термин состоял из двух идеограмм, одна из которых обозначала «дом», другая — «сад», выступая в качестве местного эквивалента понятию хому. Таким образом, название нового жанра можно перевести как «романы домовладений», или, более литературно, «домашние романы». Главным героем таких романов была женщина, сюжетом служило описание проблем брачной жизни, а конец обязательно был счастливым. Будучи популярными среди представителей среднего и высшего классов, домашние романы выносили на публичное обсуждение темы, касающиеся семьи, образования и религии, которые столь волновали японцев на рубеже веков. Запутанный сюжет романа Кикучи все время держал читателя в напряжении. «Мой грех» начинался с соблазнения героини, Тамаки, наивной провинциальной девушки, приехавшей в Токио на учебу в высшей женской школе. После того как она забеременела, ее любовник, студент-медик, который оказывается христианином, бросает ее. В Токио приезжает ее отец, чтобы помочь своей дочери. Когда у геронини рождается мальчик, отец Тамаки отсылает его, сообщив дочери, что ребенок умер. Позднее Тамаки выходит замуж за токийского аристократа, Такахиро. Его первый брак распался из-за неверности жены. Наконец у супружеской четы рождается сын. Во время каникул на берегу моря старший мальчик — плод ее греха, как выясняет Тамаки, — заводит дружбу с сыном Такахиро, однако оба мальчика тонут во время купания. Считая, что трагедия является наказанием за то, что она утаила свою прежнюю любовную связь от мужа, Тамаки все рассказывает Такахиро. Тот, в возмущении, требует, чтобы они расстались. Он отправляется в путешествие по заморским странам, а она записывается в Красный Крест в качестве медсестры. Несколькими годами позже Тамаки узнает, что Такахиро болен тифозной лихорадкой, и бросается к нему. Ее забота возвращает ему здоровье, и Такахиро говорит ей, что за прошедшие годы он осознал добродетельность Тамаки и понял, что ее грех был проявлением чистоты. Роман заканчивался тем, что Тамаки вновь беременеет, и воссоединившаяся пара счастливо ожидает рождения второго ребенка. Роман «Мой грех» предлагал читателям Осака майничи интригующую, контрастную смесь из тем и перспектив современности. Отец Тамаки представлял взгляды идеологии риёсай кэнбо. Его желанием было дать дочери такое образование, которое поможет ей стать хорошей женой и мудрой матерью. Однако тот жестокий обман со стороны студента-медика, жертвой которого стала Тамаки, играл на страхах родителей и заставлял их пересмотреть свои планы относительно учебы дочерей, которая была связана с опасностями студенческой жизни. Тем не менее работа Тамаки в качестве медсестры и та помощь, которую она смогла оказать своему мужу, свидетельствовали, что женщинам образование необходимо, чтобы поддержать себя в трудную минуту. Мастерское владение Тамаки профессиональными навыками сделало возможным восстановление ее брака с Такахиро. «Мой грех» также подвергает исследованию японское христианство. Кикучи не называет ту школу, в которой училась Тамаки. Он лишь позволяет предполагать, что она была создана миссионерами, консервативная риторика которых, призванная поддержать романтические иллюзии, лишь порождала плотские желания и превращала женщин в легкую добычу распущенных мужчин. Далее он намекает на отрицательные моменты как проповеди христианства, так и западного романтизма, сделав студента-медика христианином и назвав Тамаки «бедной овечкой, угодившей в пасть волку»{183}. И все же Кикучи положительно относится к Дзогаку дзасси, этому форуму японских феминисток, христианских интеллектуалов и просветителей. Под «волком» он понимает молодого человека, который сбился с истинного пути. Это — верующий мошенник, который извращает высокородное учение христианской церкви, утверждающее святость романтической любви и запрещающее «непозволительные связи». К тому времени как публикация романа была завершена, «Мой грех» уже поставил христианские ценности выше установлений нового Гражданского кодекса. Значительно лучше, говорил Такахиро читателям, принять заповедь Христову о прощении социального проступка, чем подвергать падших женщин остракизму. «Впервые, — восклицал он, — я понимаю, что общество должно управляться не только моралью, но и любовью. Если мораль не берет свое начало в любви, то нет никакой возможности сделать жизнь человека гармоничной». Рассуждения по поводу романтической любви естественным образом подвели Кикучи к вопросам об отношениях между супругами. Отец и дядя Тамаки в той или иной степени представляли официальную точку зрения на основные обязанности женщины, которые заключались в служении семье. Отец Тамаки именно так представлял себе ее образование, а дядя говорил следующее: «В глазах женщины ничто не должно превосходить по своей значимости ее дом. Если кто-то и получает удовольствие от тех успехов, которых добиваются их супруги в обществе, то женщина, по природе своей, не должна быть такой. Единственное, что может принести ей удовлетворение, так это создание атмосферы счастья в собственном доме». Поведение Тамаки и Такахиро указывает на то, что другая модель взаимоотношений может быть значительно более успешной. В конце концов эта супружеская пара пренебрегла советами назойливых родственников и построила свой брак на равенстве и романтической любви. Более того, их примирение состоялось после того, как Тамаки сделала успешную, хотя и короткую карьеру в общественной сфере, и их второй ребенок стал символом супружеского счастья, а не стержнем ячейки общества, имеющей чисто функциональный характер. В конце XIX столетия правительство Мэйдзи и его сторонники активно работали над созданием новых сводов законов, усовершенствованием школьной системы и манипулированием различными религиозными направлениями. Все это делалось с единственной целью — вставить поведение индивидуума в рамки санкционированных норм. С точки зрения руководителей правительства, подобные социальные построения должны способствовать проведению политических и экономических реформ и помогать осуществлению мечты Мэйдзи о сильной, процветающей и современной Японии. Однако, как показали герои романов, подобных «Моему греху», большинство японцев не были готовы к тому, чтобы позволить правительству свободно вмешиваться в их личную жизнь. Они понимали, что было поставлено на карту, поэтому и сражались за то, чтобы правительство пересмотрело свои планы в соответствии с их желаниями и представлениями. Люди имели свои собственные взгляды на свое будущее и на будущее страны. В этом отношении 1890-е просто выдвинули на передний план те темы и проблемы, которые требовали своего разрешения в первые десятилетия XX в. На страницах романтических литературных произведений практически отсутствовали шахтеры, фабричные девушки и заводские рабочие. По-прежнему борясь за то, чтобы быть услышанными, за улучшения социального положения, рабочий класс в начале нового века также был готов к постановке вопросов относительно мечты Мэйдзи. В частности, их интересовало, зачем необходимы те или иные политические, экономические и социальные программы и кто окажется в выигрыше от их осуществления. Рабочие требовали учитывать их мнение при определении направлений будущего развития страны, однако их интересовали не только условия труда на японских фабриках. Они имели собственное мнение относительно самых разных аспектов существования человека и общества: что такое идеальный брак и семья, какая структура должна быть у системы образования и каких религиозных воззрений следует придерживаться.
ЧАСТЬ III
Япония в новом веке
Хронология
1855 7 февраля (Двенадцатый месяц, двадцать первый день предыдущего года по лунному календарю) Сёгунат Токугава подписывает Русско-японский договор о дружбе
1871 Восьмой месяц, двадцать первый день Правительство запрещает использование унизительных терминов эта и хинин и уравнивает изгоев в правах и обязанностях с другими подданными империи. Одиннадцатый месяц Разъяренные тайваньцы убивают потерпевших кораблекрушение моряков с островов Рюкю
1872 Указ о земельном регулировании позволяет Службе колонизации Хоккайдо присвоить земли айнов и распределить их между японскими поселенцами.
1873 26 мая Деревенские жители в префектуре Окаяма напали на общины буракумин, убив и покалечив 29 человек и разрушив 300 домов
1874 22 мая Японские экспедиционные силы высаживаются на Тайване
1875 7 мая Япония и Россия подписывают Санкт-Петербургский договор, отдающий Сахалин во владение России, а Курильские острова — во владение Японии
1876 Январь Япония направляет три военных корабля в территориальные воды Кореи 26 февраля Япония и Корея подписывают договор в Кангхва 9 мая Парк Уэно открывается для посещения публикой
1879 4 апреля Острова Рюкю включены в состав собственно Японии в качестве префектуры Окинава
1884 4–7 декабря Ким Оккюн при поддержке японцев осуществляет переворот Капсин
1885 16 марта Фукудзава Юкичи публикует свое знаменитое эссе «Дацу-а рон» («Доводы в пользу отказа от Азии») 18 апреля Япония и Китай подписывают Тяньцзинскую конвенцию
1887 Февраль Токутоми Сохо публикует первый выпуск Коку-мин но томо («Друг нации»)
1889 11 февраля Император Мэйдзи провозглашает Конституцию Японской империи 12 февраля Премьер-министр Курода Киётака обещает оказывать поддержку будущим кабинетам министров
1890 1 июля Проводятся первые всеобщие выборы 25 ноября Парламент собирается на свое первое заседание 29 ноября Конституция Японской империи вступает в действие, и император официально открывает работу парламента 6 декабря Премьер-министр Ямагата сообщает парламенту, что внешняя политика Японии будет исходить из концепции суверенитета и достижения выгоды
1892 3 февраля Дэгучи Нао создает секту Омото
1894 28 марта Убийство Ким Оккюна в Шанхае Апрель и май Мятежники-тонхаки берут под свой контроль южные провинции Кореи и приближаются к Сеулу 1 июня Токийское правительство узнает, что корейский двор обратился к Китаю за помощью в подавлении восстания тонхаков 2 июня Японский кабинет решает направить экспедиционный корпус в Корею 16 июля Подписывается англо-японский договор о торговле, который обещает скорую отмену неравноправных договоров 1 августа Япония официально объявляет войну Китаю
1895 17 апреля Япония и Китай заключают Симоносекский договор 23 апреля Россия, действуя сообща с Францией и Германией, советует Японии вернуть Китаю Ляодунский полуостров 5 мая Япония передает Ляодунский полуостров Китаю 8 октября Убийство королевы Мин
1896 21 октября Китай дает России разрешение на постройку Китайско-Восточной железной дороги из Владивостока к Байкалу через Маньчжурию
1898 27 марта Китай предоставляет Ляодунский полуостров в аренду России 22 июня Окума Сигенобу и Итагаки Тайсукэ объединяют Риккэн Дзиюто и Синпото в политическую партию Кэн-сэйто 30 июня Окума становится первым партийным лидером, ставшим премьер-министром Японии
1900 10 марта Правительство издает Закон об общественном порядке и полиции 6 июля Кабинет решает направить японские подразделения в состав международного контингента для подавления боксерского восстания в Китае 15 сентября Ито основывает Сеиюкай 5 декабря Ёсиока Яёи открывает первое в Японии женское медицинское училище
1901 28 апреля Абэ Исоо способствует созданию Социалистической демократической партии (Минсуто), которая 20 мая объявляет о самороспуске 7 сентября Боксерский протокол дает Японии право на размещение войск в Пекино-тяньцзиньском регионе
1902 30 января Япония заключает союз с Англией 1 марта Основано Тоа Добункай (Восточноазиатское общество общей культуры) Токийский район Касумига-сэки застраивается современными зданиями и становится местом пребывания главных правительственных учреждений
1903 1 июня Парк Хибийя открывается для посещения публикой 1 октября В токийском районе Асакуса открывается «Электрический дворец» — первый в Японии стационарный кинотеатр
1904 4 февраля Имперская конференция одобряет решение кабинета о начале военных действий против России 8 февраля Японский военный флот атакует российские суда около Порт-Артура 10 февраля Япония объявляет войну России
1905 1 января Японцы захватывают Порт-Артур 27–28 мая Русский флот разбит японцами в Цусимском сражении 5 сентября Представители Японии и России ставят свои подписи под Портсмутским договором; в парке Хибийя и других местах по всей Японии проходят выступления противников этого договора 17 ноября Корейско-японская конвенция превращает Корею в протекторат Японии
1906 Март Ито Хиробуми прибывает в Сеул в качестве генерального резидента 1 августа Японское правительство создает Квантунскую армию для обороны своих новых владений в Маньчжурии 26 ноября Японское правительство создает Южноманьчжурскую железнодорожную компанию
1907 Июнь Корейская делегация появляется в Гааге на Второй конференции по проблемам мира 19 июля В Корее генеральный резидент Ито добивается от императора Коджона отречения от престола, Япония берет под свой контроль внутренние дела Кореи 24 июля Корея подписывает соглашение, согласно которому все административное управление Кореей передавалось в руки генерального резидента 1 августа Генеральный резидент Ито распускает корейскую армию
1908 Январь Хани Мотоко и ее муж выпускают первый номер Фудзин но томо («Друг женщины»), который издавался с 1903 г. под названием Катэй но томо («Друг дома») 27 августа Японское правительство субсидирует создание компании Восточного развития
1909 26 октября Корейский патриот в Харбине убивает Ито Хиробуми
1910 29 августа Вступает в силу договор об аннексии, заключенный между Японией и Кореей 22 августа
1911 24 и 25 января Канно Суга и Котоку Сусуи повешены за государственную измену 7 сентября Хирацука Райчо начинает выпускать журнал «Синий чулок» 22 сентября Мацу и Сумако исполняет главную роль в Кукольном доме Ибсена Октябрь В Нихонбаси в Токио открылся новый универсальный магазин Сирокоя
1912 30 июля Умирает император Мэйдзи. Начинается эра Тайсе 1 августа Лейбористские лидеры создают Юайкай 13 сентября В Токио проходят погребальные церемонии в память умершего императора Мэйдзи; генерал Ноги и его жена Сидзуко совершают самоубийство
1913 7 февраля Кацура Таре объявляет о своем намерении создать новую политическую партию под названием Доси-кай 23 декабря Като Такааки назван президентом партии на учредительном съезде Доси-кай
1914 28 июля Начало Первой мировой войны 23 августа Япония объявляет войну Германии 1 октября В Нихонбаси в Токио открывается новый универсальный магазин Мицуко-си Октябрь Японские войска оккупируют Каролинские, Маршалловы и Марианские острова 7 ноября Германия сдает японцам зону своего влияния в провинции Шаньдун 20 декабря В Токио открывается Центральный вокзал «Песня Катуса» Мацуи Сума-ко становится первым японским хитом
1915 18 января Япония выдвигает Китаю «Двадцать одно требование» 25 мая Китай соглашается выполнить первые четыре пункта «Двадцати одного требования»
1918 23 июля С выступления женщин в префектуре Тояма начинается лето рисовых бунтов 29 сентября Хара Такаси назначается премьер-министром и возглавляет первый в японской истории партийный кабинет 7 декабря Студенты Токийского университета основывают Синдзинкай
1919 5 января Мацуи Сумако совершает самоубийство 1 марта В Корее начинается Движение за независимость Самил («Первое марта») 12 августа Адмирал Сайто Макото назначается генерал-губернатором Кореи и объявляет о начале эры «культурного правления» 24 ноября В Осаке активистки создают Федерацию женских организаций Западной Японии 22 декабря Лидеры японского бизнеса и чиновники Министерства внутренних дел создают Общество гармонизации
1920 15 марта Внезапное падение цен на рис и шелк-сырец сигнализирует о начале послевоенного спада 28 марта Хирацука Райчо, Ичикава Фузаэ и другие создают Новую женскую ассоциацию 75 ноября Япония становится членом-основателем Лиги Наций 17 декабря Лига Наций наделяет Японию мандатом на управление Каролинскими, Марианскими и Маршалловыми островами
1921 4 апреля Ито Ноэ, Ямакава Кикуэ и другие женщины-социалисты создают общество Красной волны 75 апреля Хани Мотоко и ее муж основывают колледж Дзию Гакуэн 29 июня В Кобэ рабочие верфей Каваеаки и Мицубиси начинают пятидесятидневную забастовку 12 ноября Открывается Вашингтонская конференция 20 ноября Начинает работу компания Развития южных морей Ноябрь Корейские студенты в Японии создают революционное общество Черная волна 13 декабря Япония подписывает Договор четырех держав Декабрь Умеренные лидеры общины корейских иммигрантов создают Соайкай
1922 6 февраля В заключительный день Вашингтонской конференции Япония подписывает Вашингтонский морской договор и Договор девяти держав 3 марта Активисты Бураку-мин основывают Суихэйса (Общество уравнителей) 20 апреля Парламент вносит поправки в Закон об общественном порядке и полиции 1900 г., убирая запрет на участие женщин в политических ассоциациях 75 июля Интеллектуалы и политические радикалы создают коммунистическую партию Японии 2—17 декабря Япония выводит свои войска из провинции Шаньдун
1923 20 февраля Открывается здание Маруноучи 1 сентября Великое землетрясение Канте разрушает район Токио Иокогама Минобэ Тацукичи излагает свою теорию управления в работе Кэнпо сацуё («Эскиз конституции»)
1924 Март Коммунистическая партия Японии объявляет о самороспуске 11 июня Като Такааки, глава Кэнсэйкай, назначается премьер-министром. Начало эпохи партийного правительства 1 декабря Вступает в действие Закон об урегулировании арендных споров 13 декабря Ичикава Фусаэ и другие активистки основывают Женскую суфражистскую лигу
1925 29 марта Парламент издает билль о всеобщем избирательном праве для мужчин 22 апреля Вступает в силу Закон о сохранении мира
1926 5 марта В Осаке проводится учредительный съезд лейбористско-крестьянской партии (Родо Номинто) 6 августа Радиостанции Токио, Осаки и Нагои объединяются в NHK 4 декабря Формально восстанавливается коммунистическая партия Японии 5 декабря Абэ Исоо помогает создать социалистическую народную партию (Сакай Минсуто) 9 декабря Основана японская лейбористско-крестьянская партия (Нихон Роното) 25 декабря Умирает император Тайсё 28 декабря Начинается период Сова
1927 22 апреля Правительство объявляет о трехнедельном банковском моратории 28 мая Кабинет Танака направляет войска для защиты японских жителей Циндао 16 сентября Начинается забастовка в компании Нода, производящей соевый соус
1928 75 марта Полиция проводит массовые аресты коммунистов и других политических активистов 19 апреля Достигнута договоренность с бастующими работниками компании Нода; кабинет Танака направляет войска для защиты японских жителей Дзинани 3 мая В Дзинани происходит столкновение между японскими и китайскими войсками
ГЛАВА 9
Создание империи
Токио изнемогал от зноя позднего лета, когда тысячи мужчин направились в парк Хибийя, этот зеленый оазис, расположенный рядом с императорским дворцом. Если верить рисункам, опубликованным в журналах, среди них было и небольшое количество женщин, несмотря на тот факт, что Закон об общественном порядке и полиции 1900 г. запрещал особам женского пола и несовершеннолетним принимать участие в политических собраниях. В этот влажный и неприятный вечер простые жители Японии собрались, чтобы послушать речи политических деятелей по поводу события, произошедшего в этот самый день. Речь шла о заключении Портсмутского мирного договора, формально положившего конец войне с Россией. Конфликт был жестоким, но Япония одержала в нем несколько побед на суше и на море, и мирное соглашение, подписанное в старом городке Новой Англии при посредничестве американского президента Теодора Рузвельта, признавало успехи Японии, передавая ей российские территории и железнодорожные концессии в Северной Азии.
Премьер-министр и его кабинет превозносили победу над Россией как великий момент в истории современной Японии. Для людей, ввергших свою страну в тяжелый конфликт, триумф над западной державой означал осуществление мечты Мэйдзи. Это было великое достижение, которое одновременно подтверждало успех усилий по модернизации Японии, удостоверяло избавление страны от полуколониального статуса, означало вступление страны в число великих держав и обещало более безопасное будущее. Внешний мир разделял это мнение. Редакционные статьи Нью-Йорк Таймс утверждали, что победа обеспечила Японии «мирное и безопасное» будущее и открыла «безграничные возможности индустриального роста и национального развития»{184}.
Но, как это ни странно, 30 000 или около того ремесленников, работников магазинов и рабочих собрались вечером 5 сентября в парке Хибийя не для того, чтобы приветствовать этот договор, а чтобы протестовать против него. С их точки зрения, правительство и близко не смогло выжать из России достаточно концессий. Наоборот, «неуклюжие» и «слабовольные» переговорщики подписали «позорный» мир. Взрывались фейерверки, в воздух поднимались шары, толпы распевали патриотические песни, ораторы, сменяющие друг друга, требовали от кабинета и императора «расторгнуть унизительный договор» и приказать армии вступить в «отважное сражение и сокрушить врага»{185}. Когда митинг подошел к концу, некоторые его участники, державшие в руках флаги, направились к императорскому дворцу. Полиция попыталась преградить им дорогу. Напряженность возросла, людей охватила ярость, и вспыхнула потасовка. Против полицейских мечей у толпы были только камни и комья земли, но на ее стороне был огромный численный перевес, и вскоре люди рассыпались по городу, громя полицейские участки и поджигая правительственные здания. На следующий день власти ввели военное положение. Лишь прошедший 7 сентября сильный ливень остудил страсти. К этому времени было разрушено около 350 зданий, пять сотен полицейских и по крайней мере такое же количество протестовавших получили ранения. Семнадцать демонстрантов были убиты.
Вспышка насилия была знаком, одновременно понятным и размытым. Кроме всего прочего, бунтовщики из Хибийя закрепляли за собой место в национальной политике. Они гордились тем фактом, что их личные жертвы и свершения, на пашне и на заводе, в школьном кабинете и на поле боя, были составной частью коллективных успехов всей нации, достигнутых за десятилетия, прошедшие с момента реставрации. Они заслужили право на собственное мнение как ко кум ин, граждане этой страны, и они пришли в парк Хибийя, чтобы выразить свое несогласие с официальной политикой. Но под покровом враждебности наметилось единство интересов демонстрантов и правительства. Мужчины и женщины, собравшиеся в Хибийя, были патриотами, и, подобно лидерам нации, они желали приобретения их страной статуса великой державы — ни на что меньшее они не были согласны. Пламенный национализм и установка на сохранение уважения к себе со стороны международного сообщества объединили граждан и правительство в начале нового столетия.
Всплеск национальной гордости и концентрация мощных эмоций вокруг общих целей, проявившиеся в парке Хибийя в сентябре 1905 г., несли в себе еще одно важное послание. Это было начало ответа на вопрос исторической значимости. До 1868 г. Япония былазамкнутой страной. Ее отношения с внешним миром были ограничены. Только однажды за весь исторический период, длившийся более тысячи лет, она напала на одного из своих соседей. Это было в конце XVI столетия, во время правления Хидэёси, подверженного мегаломании. Каким же образом случилось то, что по мере модернизации Японии как ее лидеры, так и простые граждане будут требовать проведения агрессивной внешней политики, будут сражаться с Китаем и Россией и будут стремиться к обретению империи?
Пересмотр границ и взаимоотношений
В 70-х гг. XIX в., за поколение до того, как японцы стали активно высказывать свое мнение по поводу военных побед своей страны, лидеры Мэйдзи приступили к пересмотру традиционных отношений со своими соседями по азиатскому континенту. Запад не собирался более терпеть привычную практику избегания контактов с другими нациями, и, по мнению таких людей, как Ито Хиробуми и Ямагата Аритомо, их страна была маленькой и относительно слабой, и поэтому ей следовало придерживаться западных дипломатических норм. Эти новые критерии требовали от наций уточнять свои границы, которые должны быть обозначены на картах, подписывать формальные договоры с другими суверенными членами международного сообщества, а также обмениваться дипломатическими представителями, чтобы поддерживать взаимоотношения и разрешать непредвиденные проблемы, которые могут возникать в будущем. Соответственно, в 1870-х олигархи Мэйдзи, чтобы оправдать ожидания Запада, должны были решить две задачи: определить границы территории Японии и установить отношения с ближайшими соседями. Правительство Мэйдзи особенно было озабочено тем, чтобы провести границу где-то к северу от острова Хоккайдо, который официально начал так именоваться с 1869 г. Олигархи считали, что Японии жизненно необходим этот важный остров, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения стратегии. В частности, продвижение России в северной части Тихого океана и память об инцидентах, связанных с появлением экспедиций Лаксмана и Резанова, оказывали сильное влияние на сознание молодых лидеров Мэйдзи, которые надеялись обуздать амбиции России на севере, удерживая ее солдат и торговцев как можно дальше от сердца Японии. По мнению олигархов, Российско-японский договор о дружбе, подписанный в начале 1855 г., признавал японский суверенитет над Хоккайдо и островами Курильской гряды, вплоть до Эторофу[26]. Статус Сахалина при этом оставался неопределенным. После реставрации новый режим поддержал претензии на Хоккайдо. Была создана Служба колонизации Хоккайдо, стимулировалась миграция на север, а также принимались меры по ассимиляции айнов. Служба колонизации Хоккайдо, созданная в 1869 г. и призванная развивать коммерческий потенциал бывшей территории Эдзочи, добилась немногого — в основном в области варения сакэ и рыбной промышленности. В 1882 г. она была ликвидирована. Одним из самых значительных ее мероприятий было, вероятно, создание Сельскохозяйственного училища в Саппоро. Позднее это училище стало одним из семи императорских университетов, переименованного в 1949 г. в университет Хоккайдо. Училище было основано в 1876 г. В его основу была положена американская модель, согласно которой училищу были выделены свои собственные земельные угодья. В училище работали несколько иностранных преподавателей. Один из них, Уильям Смит Кларк, обрел бессмертие, дав своим студентам совет, который до сих пор можно часто услышать: «Ребята, будьте честолюбивыми». Основной задачей Сельскохозяйственного училища в Саппоро было способствование аграрному развитию Хоккайдо. В 70-х гг. XIX в. новому режиму Мэйдзи было необходимо, с одной стороны, помочь бывшим самураям найти средства к существованию, а с другой — заселить границу семьями выходцев из внутренних районов страны, чтобы внешний мир признал Хоккайдо неотъемлемой частью Японии. Переселение бывших воинов на Хоккайдо и превращение их в земледельцев помогло бы решить сразу обе эти задачи. К 1889 г. около 2000 самурайских семей воспользовались возможностью приобрести земельные участки на Хоккайдо за половину от их рыночной стоимости. Разница покрывалась за счет средств, выделенных правительством. В то же время приблизительно 8000 бывших воинов обосновались в военных поселениях. Каждый из них получал на свою семью надел целинной земли, дом, утварь, сельскохозяйственный инвентарь и запас провианта на три года. Взамен бывшие самураи должны были обрабатывать землю и оборонять Хоккайдо в случае внешней угрозы. В 90-е гг. XIX столетия масштабы иммиграции существенно возросли. Этому способствовало заявление правительства о том, что оно будет обеспечивать всех переселенцев, независимо от их социального происхождения, земельными участками и освобождать их на десять лет от уплаты земельной ренты и налогов, после чего переселенцы получат право собственности на эту землю. Составной частью политики правительства Мэйдзи на севере была ликвидация народа айнов путем его полной ассимиляции японцами. Повторяя прежние действия сёгуната, новый режим в 70-х гг. XIX в. запретил айнам носить кольца в ушах, покрывать свои тела татуировками. Одновременно на айнов оказывалось давление с целью заставить их носить одежду и прически японского стиля. В эпоху Мэйдзи, однако, программа ассимиляции пошла гораздо дальше внешнего вида. Отныне целью этой политики был стиль жизни в целом. Следуя советам таких иностранных специалистов, как Горас Кэпрон, бывший уполномоченный США по сельскому хозяйству, помогавший разрабатывать планы подавления сопротивления индейцев на американском западе, режим Мэйдзи принудил айнов посещать богослужения в синтоистских храмах и изменить свои имена на японские. Чтобы сэкономить время, чиновники иногда давали целой общине одну и ту же фамилию. В школах дети айнов учили японский язык и читали тексты, в которых говорилось о том счастье, которое ожидает преданных императору и японской нации людей. Более всего власти стремились превратить айнов из охотников и собирателей — как сказано в одном из японских источников, «варварских и свирепых дикарей, которые не являются людьми в полном смысле этого слова», — в цивилизованных земледельцев{186}. Однако правительство Мэйдзи не позволяло айнам заниматься обработкой тех земель, на которых они прежде охотились и ловили рыбу. Указ о земельном регулировании от 1872 г. изображал Хоккайдо диким местом и проводил разницу между использованием земли и владением ею. «Горы, леса, реки и ручьи, в которых местные обитатели ловили рыбу, охотились и собирали дрова, — говорилось в одном из параграфов, — должны быть разбиты на участки и переданы в частное или коллективное владение». Таким образом, леса и холмы, которые поддерживали существование айнов, стали так называемыми пустынными землями, которые передавались японским переселенцам в качестве наделов и ферм. По мере продвижения переселенцев в глубь территории айнов, власти перемещали общины аборигенов в районы, менее пригодные для жилья. Они получали инвентарь, семена и совет учиться обрабатывать землю. Своей кульминации эта политика достигла в 1899 г., когда был принят Закон о защите бывших аборигенов. Согласно его положениям, семьи айнов, желающие заниматься сельским хозяйством, должны были получить от двух до пяти гектаров земли. Вскоре, однако, большинство айнов утратили свои земли, которые перешли к их японским соседям, зачастую посредством обмана. В итоге коренные жители были вынуждены работать на рыбных заводах и обитать в городских трущобах. Подобная политика поставила культуру айнов на грань исчезновения. К концу эры Мэйдзи Хоккайдо был японским без всяких сомнений. В 1908 г. на острове проживало лишь 18 000 айнов. Это составляло 1,25 % от общего числа жителей острова, которое достигало к тому времени 1,45 миллиона человек. В меньшей степени олигархи представляли себе, каким образом можно обеспечить присутствие Японии на Сахалине и северных Курильских островах, где семьи японцев жили вперемешку с русскими и коренным населением. Казалось бы, нет резона пытаться распространить японский суверенитет на эти малолюдные территории, тем более что дело управления и защиты этих земель представлялось достаточно сложным, поскольку, согласно новой дипломатической терминологии западного образца, люди, проживающие там, превращались в «граждан», находящихся под защитой государства. Но олигархи Мэйдзи желали провести национальную границу как можно дальше от Хоккайдо. Тем более не хотели они показаться России слабой нацией. Наоборот, они стремились создать своему режиму в глазах северного соседа имидж сильной власти. Исходя из этих соображений, правительство Мэйдзи в 1875 г. направило в Россию своих представителей для обсуждения проблемы северных территорий. Переговоры прошли гладко, и 7 мая стороны подписали Санкт-Петербургский договор, согласно которому Япония получала права на все острова Курильской гряды, отказавшись взамен от своих претензий на Сахалин. На западном направлении правительство Мэйдзи включило Цусиму в состав префектуры Нагасаки, подкрепив тем самым свои утверждения о том, что граница Японии с Кореей пролегала между бывшим островным доменом семьи Со и побережьем полуострова. Другие аспекты взаимоотношений с Кореей представлялись более проблематичными. Традиционно Корея считалась вассалом Китая, являясь составной частью его даннической системы. Несмотря на исключительный характер этих взаимоотношений, китайские правители позволяли полуостровной стране направлять в период Токугава дипломатические посольства в Эдо, а также осуществлять ограниченную торговлю с Японией через домен Со. Вслед за своим приходом к власти в 1868 г., новые лидеры Мэйдзи потребовали от корейского двора признать «восстановление императорского правления». Возмутившись упорным нежеланием корейцев сделать это, некоторые члены японского «ближнего круга», а в особенности — Сайго Такамори, предложили в 1873 г. послать в Корею японскую карательную экспедицию. Требования Сайго вызвали среди олигархов бурные дебаты. В конце концов верх взяли «холодные головы», такие как Ито и Окубо Тосимичи. Их главным аргументом было то, что экспедиция в Корею приведет к акциям западных держав, направленных против пока еще слабой Японии. Всего три года спустя Ито и Окубо отказались от своей аргументации, когда лидеры Мэйдзи поручили одному из олигархов, Курода Киётака, бывшему в то время директором Службы колонизации Хоккайдо, возобновить переговоры с Кореей. Воспользовавшись приемом, заимствованным из дипломатического букваря коммодора Перри, Курода в январе 1876 г. послал в корейские воды флотилию современных боевых кораблей. Традиционная корейская риторика не могла дать адекватный ответ на маневр японцев, и у корейской монархии не осталось иного выбора, как принять требования Японии. Договор Кангхва, подписанный 26 февраля 1876 г., устанавливал, что «Корея, независимое государство, и Япония, ее равный партнер, в поддержание взаимного стремления к миру и дружбе, устанавливают настоящим формы и условия их взаимодействия, исходя из понятий равенства и взаимного уважения»{187}. Несмотря на такие благородные посылы, последующие «статьи вечного мира и дружбы» были написаны, безусловно, с позиции японских интересов. В частности, три корейских порта открывались для японской торговли, и в них создавались японские консульства, пользующиеся правом экстерриториальности. По иронии судьбы, менее чем через 20 лет после того, как западные державы использовали дипломатию канонерок для превращения Японии в полуколонию, сама Япония навязала своему ближайшему соседу неравноправный договор, наносивший серьезный ущерб его суверенитету. Установление южных границ Японии и перестройка отношений с островами Рюкю также были связаны с участием в этих вопросах Китая. Как и Корея, острова Рюкю в начале эры Токугава были самостоятельным государством, входящим в число китайских данников. Положение было запутано еще сильнее после того, как в 1609 г. самураи из домена Сацума взяли в плен короля Рюкю. Двумя годами позже они заставили его, втайне от китайцев, подписать соглашение, в соответствии с которым острова Рюкю попадали в зависимость от Сацума и между островами и доменом устанавливались торговые отношения. Осенью 1871 г., когда новое правительство Японии ликвидировало старые домены, оно решило номинально установить свою власть на архипелаге Рюкю, включив его с этой целью в состав префектуры Кагосима, расположенной, частично, на территории бывшего домена Сацума. Молодой режим подтвердил свое стремление расширить сферу влияние японских властей к югу, после того как около пятидесяти рыбаков с островов Рюкю, потерпев кораблекрушение у побережья Тайваня, были убиты местными жителями. Тайвань в то время официально считался частью китайской провинции Фудзянь. Общественное мнение Японии призывало правительство Мэйдзи отомстить за убийство «японских граждан», рыбаков с Рюкю, «наказав» «нецивилизованных» обитателей Тайваня. Военная кампания против тайваньцев представлялась привлекательной с политической точки зрения. После безрезультатных переговоров с китайскими чиновниками, в начале 1874 г. японское правительство направило на остров карательный экспедиционный корпус. Японские войска высадились на Тайване 22 мая и быстро подавили сопротивление местных жителей. Во время переговоров, последовавших за проведением карательной экспедиции, китайский двор признал «справедливость» действий японцев. В следующем году правительство Мэйдзи принудило руководство Рюкю разорвать даннические отношения с Китаем. Наконец, в 1879 г. японское правительство заставило последнего короля Рюкю отречься от престола и формально включило острова архипелага в состав территории собственно Японии в качестве префектуры Окинава. На протяжении 70-х гг. XIX столетия японское правительство предпринимало активные шаги по защите дипломатических интересов своей страны. Действия олигархов, однако, не основывались на некоем составленном заранее плане континентальной экспансии. В первое десятилетие своего существования новое правительство Мэйдзи ограничивалось уточнением национальных границ и перестройкой своих взаимоотношений со своими ближайшими соседями в соответствии с западными практиками. К концу этого десятилетия олигархи достигли своих целей: суверенитет Японии распространился на Хоккайдо, Курильский архипелаг, Цусиму и острова Окинавы. Общественное мнение восторженно встретило договор с Россией, который демонстрировал решимость Японии встать в один ряд с ведущими мировыми державами. Еще большую радость среди японцев вызвало заключение договора в Кангхва, которое свидетельствовало о том, что Япония уже многого достигла в деле приобретения тех же привилегий, которыми пользовались западные державы.Рождение имперского менталитета
Отношение японцев к своим соседям в значительной степени изменилось в 80-е гг. XIX в., когда Восточной Азии начала угрожать новая, более страшная волна западного империализма. В конце XIX столетия мощные державы Запада, которые так очаровали участников миссии Ивакура — Британия, Франция, Германия, Италия и Соединенные Штаты, — достигли нового уровня политической централизации и коммерческого развития. Одним из следствий Гражданской войны в США и серии военных конфликтов в Европе было возникновение тревоги по поводу того, как повысить благосостояние нации, чтобы поддержать внутреннее единство и защитить себя от происков агрессивных соседей. Соответственно, чтобы развивать мощь и процветание, правительства стран Западной Европы и Северной Америки в конце XIX в. делали упор на индустриализацию, создавали общенациональные транспортные и торговые сети, способствовали развитию кооперации между трудом и капиталом и защищали местную промышленность от иностранных конкурентов. Стремление к созданию мощных национальных экономик вело за собой и изменения в геополитических подходах. Так называемые великие державы, находившиеся в процессе политической централизации и экономической модернизации, ощущали необходимость в создании колониальных империй, которые могли бы способствовать развитию метрополий. Начиная с промышленной революции XVIII столетия, евроамериканские торговцы, банкиры и промышленники стремились увеличить личные доходы, поставляя свои товары на заморские рынки и закупая там сырье и продукты для продажи на территории своей страны. Правительства, в особенности британское, поддерживали своих купцов, предоставляя им «особые права» в отдаленных уголках земного шара. В последние десятилетия XIX в., однако, более распространенным методом государственной политики стали империалистические завоевания. Многие страны начали использовать все свои административные и военные ресурсы для приобретения колоний, протекторатов и сфер влияния, что было равноценно приобретению богатства, мощи и престижа. Вера в то, что любая успешная современная держава должна создать свою колониальную империю, породила соревнование за приобретение заморских владений. Европейские державы быстро поделили между собой Африку. В 1881 г. Франция объявила Тунис своим протекторатом, на следующий год Британия оккупировала Египет, а в 1883 г. Германия начала распространять свое влияние на юго-западную часть континента. Соединенные Штаты действовали в Тихоокеанском бассейне. В 1893 г. они ликвидировали монархию на Гавайях, а затем вступили в соперничество с Германией и Великобританией за влияние на острова Самоа, Гильберта и Маршалловы. В Азии Франко-китайская война 1884–1885 гг. завершилась присоединением Вьетнама к французской колониальной империи, в то время как британская империя поглотила Бирму. Каждая держава стремилась приобрести концессии и в самом Китае. К 80-м гг. XIX столетия список западных стран, обладавших особыми правами и привилегиями на территории Китая, включал не только Великобританию, Францию, Россию и Соединенные Штаты, но также и Португалию, Данию, Голландию, Испанию, Бельгию и Италию. Ко времени достижения колониальной политикой своего пика в начале XX в., большая часть Африки, Средний Восток, Азия и бассейн Тихого океана стали жертвами западного империализма. На всей этой огромной территории осталось лишь семь государств, полностью сохранивших свой суверенитет и независимость. Агрессивное проникновение западных держав в Азию убедило многих японцев в том, что их нация должна пересмотреть свои отношения как с соседями по азиатскому континенту, так и со странами Запада. В коридорах власти наибольшим влиянием в сфере определения японской внешней политики пользовался Ямагата Аритомо, олигарх-ветеран, под контролем которого создавалась новая японская армия, который, будучи в 80-х гг. министром внутренних дел, разработал систему местного управления, а в декабре 1889 г. стал премьер-министром Японии. Ямагата был осторожным прагматиком, озабоченным безопасностью своей страны. На мир он смотрел сквозь бесцветную призму реальной политики, и в особенности его внимание привлекала Корея. По его мнению, сосед Японии был слабой и отсталой страной, которая в будущем, возможно, станет объектом притязания британцев или амбициозных русских, которые собирались строить Транссибирскую железнодорожную магистраль через Северную Азию до Владивостока. Сооружение этой транспортной линии, как считал Ямагата, надолго поставит под угрозу жизненные интересы Японии, поскольку позволит перебрасывать царскую армию в Маньчжурию или даже в Пекин. Более того, он знал, что Россия желает сделать конечным пунктом своей магистрали какой-либо незамерзающий порт. Поскольку порт Владивостока зимой покрывался льдом, то российские генералы должны были искать доступ к более теплым корейским гаваням. Ямагата всерьез опасался, что даже если Британия или Россия получат хотя бы клочок корейской земли, то независимость Японии в конце концов окажется под угрозой. Соответственно, в своем послании первому японскому парламенту 6 декабря 1890 г. премьер-министр Ямагата обозначил цели своей внешней политики. Главной задачей его администрации, говорил он, должно быть «сохранение нашей независимости и усиливать нашу национальную позицию»{188}. С этой целью, продолжал он, следует готовить Японию к защите как «линии суверенитета», так и «линии интересов». Первое положение было связано с недавно установленными государственными границами, второе касалось буферной зоны, нейтралитет которой был жизненно необходим японцам. В канун нового века, утверждал Ямагата, линия суверенитета Японии проходила по береговой линии Цусимы, а линия интересов находилась в Корее. «Если мы в настоящее время желаем сохранить нашу независимость среди мировых держав, — сказал в завершение премьер-министр, — нам недостаточно охранять только линию суверенитета, мы также должны оборонять и линию интересов». Произнеся это, он предложил парламенту бюджет, предусматривавший быстрое увеличение японских сухопутных и морских сил. Положение на азиатском континенте тревожило не только членов правительства. Среди тех, у кого болела душа по поводу событий последнего времени, был и журналист Фукудзава Юкичи. В 60—70-е гг. Фукудзава способствовал широкому распространению в Японии западных идей и институтов. Он считал, что мир доброжелателен по сути своей и нации «учат и учатся друг у друга, способствуют благосостоянию друг друга и взаимодействуют друг с другом в соответствии с законами природы и человека»{189}. Однако в начале 80-х, придя в раздражение от приближения западного империализма и поразмышляв над уроками социального дарвинизма, он выработал более циничный взгляд на окружающую действительность. Прежде, признавал Фукудзава, он верил, что отношения между нациями управляются благожелательным и справедливым применением международных законов. Но сейчас он осознал, что в мире царит закон джунглей, дзакунику киёсоку. Все страны сражаются за власть и богатство, и сильный пожирает слабого. Соединенные Штаты и развитые страны Европы, предостерегал он, значительно превосходят по своей силе такие страны, как Китай и Корея, и вторжение Запада угрожает Азии такими же унижениями и материальными потерями, какие претерпели Африка и Средний Восток. Подобное развитие событий, предостерегал Фукудзава, непосредственно угрожает Японии. Он верил, что его народ отличается от своих соседей. Япония, отмечал он с гордостью, единственная из всех стран Азии начала проводить модернизацию по западному образцу. Таким образом, она подготовила себя к тому, чтобы идти по пути прогресса рука об руку с другими цивилизованными нациями. К сожалению, продолжал он, Запад не понимает этого факта. Европейцы и американцы, возмущался Фукудзава, ослеплены расизмом и не отличают одну азиатскую нацию от другой. По их мнению, Китай и Корея являлись деспотическими, полуцивилизованными странами, упрямо цепляющимися за нелепые обычаи прошлого. И Япония, на их взгляд, была такой же. Так каким же образом, задавался он вопросом, Япония может избежать сокрушающего удара со стороны Запада? Фукудзава предлагал два ответа на поставленный собою же вопрос. Во-первых, утверждал он, Япония должна усиливать свою военную мощь, а также быть готовой к ее применению. «Когда другие используют жестокость, — писал он, — мы также должны быть жестокими. Во-вторых, Япония должна побуждать своих соседей по Азии к проведению у себя в странах реформ, так чтобы они смогли выдержать натиск Запада. Если они откажутся, Япония должна принудить их сделать это. Фукудзава напомнил своим соотечественникам одну притчу: человеку, живущему в каменном доме, угрожает огонь, если его соседи живут в деревянных хижинах. Тот, кто ощущает себя защищенным, должен пытаться убедить и своего соседа в том, чтобы он перестроил свое жилище. Но, разумеется, если «ему угрожает беда, он имеет право захватить землю своего соседа — не потому, что он желает заполучить эту землю или ненавидит своего соседа, а просто ради того, чтобы уберечь свой дом от огня». Фукудзава повторил все эти аргументы в своем эссе, опубликованном в 1885 г. в его же газете, Дзидзи синпо. В качестве названия он использовал фразу «Дацу-А рон» («Доводы в пользу отказа от Азии»). Начиналось эссе со ставших уже привычными сравнений прогрессивной Японии с отсталыми Китаем и Кореей. Но, говорил Фукудзава, Япония не должна столь близко ассоциироваться с каждым из двух ее соседей. Делать это — значит подрывать ее авторитет. Япония, заключал он, должна быть готовой действовать жестко, чтобы защитить себя. «Мы не можем ждать того, что соседние страны обратятся к просвещению и объединятся, чтобы сделать Азию сильной, — писал он. — Скорее, мы должны разорвать эту традицию и присоединиться к цивилизованным странам Запада на пути прогресса. Мы не должны заключать никаких особых договоров ни с Китаем, ни с Кореей. С ними мы должны договариваться таким же образом, как это делают западные нации». Другие влиятельные писатели 80-х — начала 90-х гг. XIX в. более открыто писали о тех выгодах, которые может принести империализм. В своей первой книге, опубликованной в 1886 г., Токутоми Сохо придерживается идеи, высказанной Гербертом Спенсером и другими западными интеллектуалами. Она заключалась в том, что все развитые индустриальные общества по природе своей являются мирными и неагрессивными. Однако не потребовалось много времени для того, чтобы Токутоми изменил свое мнение на диаметрально противоположное. Япония достигла хороших результатов в политике, образовании и коммерции, писал он в 1893 г., однако она до сих пор не может убедить Запад пересмотреть неравноправные договоры — «наш позор, наше бесчестие», как он отзывался о них, — чего островная нация добивалась на протяжении более чем 30 лет. Как и Фукудзава, причину этого он видел в расистских подходах, принятых на Западе. Япония была «наиболее прогрессивной, развитой, цивилизованной и мощной нацией Востока», — писал он. Однако, добавлял он, кажется, что эта страна никогда не избавится от «презрительного отношения со стороны белых людей»{190}. Имперская экспансия, продолжал Токутоми, предоставляет Японии последнюю надежную возможность завоевать уважение великих держав, укрепить свою безопасность и гарантировать сохранение нации, и даже принести цивилизацию другим странам Восточной Азии. Руководители правительства и пресса, влиявшая на общественную мысль в стране, также разделяли мнение, что получение экономических выгод в Корее будет способствовать укреплению безопасности Японии. Действительно, объем торговли, значительно выросший после подписания договора в Кангхва, указывал на хорошие перспективы. Между 1877 и 1893 гг. значительно выросла сумма денежных средств, вывозимых на полуостров из Японии. В обратном направлении японские торговцы вывозили рис и соевые бобы. На долю Японии приходилось до 90 % от общего количества этих товаров, шедшего на экспорт. В июне 1894 г. Мацуката Масаеси, чья деятельность на посту министра финансов за десять лет до этого подготовила надежную базу для экономического роста Японии, наметил пути развития корейской экономики в таком ключе, чтобы это шло на пользу Японии. В частности, писал он своим коллегам-олигархам, Япония должна «заставить» Корею открыть новые порты и «предоставить права на добычу угля, прокладку телеграфных линий и постройку дороги между Пусаном и Сеулом». Эти концессии, заявлял он, будут «воистину способствовать получению выгоды обоими государствами»{191}. В то же лето популярные периодические издания также развивали тему новых экономических привилегий Японии в Корее. Кокумин но томо («Друг нации»), основанный Токутоми в 1887 г. и быстро ставший наиболее широко читаемым политическим журналом Японии, повторил большую часть пожеланий Мацуката и потребовал отмены ограничений, существовавших для японского бизнеса в Корее. Японцы, которые размышляли по поводу судьбы их нации перед лицом западного империализма, вовсе не были злобными и кровожадными личностями. Они не ощущали ненависти по отношению к своим соседям по Азии. Ни один из тех, кто разделял позицию властей, не строил никаких конкретных планов по захвату заморских территорий или по достижению экономического господства в Азии. Но все они вместе, люди, подобные Ямагата, Мацуката, Фукудзава и Токутоми, способствовали развитию менталитета, поддерживающего империалистическое поведение. К началу 1890-х они и многие их соотечественники, представлявшие как левое, так и правое политическое крыло, внутри правительства или вне его, пришли к одному и тому же выводу: мир — это опасное место. Западный империализм и расистские подходы несут в себе смертельную опасность японской независимости. И их собственная страна имеет право на действия за пределами своей территории, чтобы сохранить национальное единство. Подхватив идею экспансионизма, витавшую в воздухе, они помогли сформулировать утверждение, что Япония должна быть напористой, должна даже жертвовать другими, ради того, чтобы самой не оказаться в роли жертвы.Война с Китаем
Начало японской колониальной империи было положено после победы над Китаем в войне 1894–1895 гг. Причиной конфликта послужили бурные события вокруг Кореи. Корейцы, как и большинство других народов Азии в конце XIX столетия, не могли найти единства в поисках оптимальных путей ответа на вызов, брошенный западными странами. К началу 1880-х при дворе доминирующее положение заняли консерваторы. Они стремились сохранить общество, основанное на конфуцианстве, и проводить внешнюю политику, направленную на самоизоляцию страны. Свою опору они по-прежнему видели в Китае. Противостояла им группа молодых прогрессистов, возглавлял которых Ким Оккюн. Его привлекала та модель ответа Западу, которая была выработана Японией. Он считал, что Корее необходимо проводить такие же реформы, которые осуществлялись олигархами Мэйдзи. Чиновники японского консульства в Сеуле всемерно укрепляли связи с прогрессистами. Они рассчитывали, что смогут поспособствовать установлению реформистского режима, который усилит Корею и, таким образом, позволит ей противостоять натиску внешних сил, что может оказаться полезным для Японии. В 1881 и 1882 гг. Ким посетил Токио в поисках информации относительно стратегий модернизации. Во время этих поездок он познакомился и подружился с Фукудзава и другими выдающимися прозападными деятелями. Это произошло всего за два года до того, как Фукудзава опубликовал свое эссе «Дацу-А рон». Вдохновленный полученной поддержкой, Ким предпринял попытку государственного переворота, направленного против корейской монархии. Япония передала Киму оружие, кроме того, его открыто поддержала охрана японского посольства в Сеуле. 4 декабря 1884 г. Ким и его сторонники предприняли штурм королевского дворца. Мятежники захватили короля Коджона, убили нескольких министров и объявили о создании нового «независимого, прояпонского» правительства. Однако корейские консерваторы немедленно обратились за помощью к китайскому гарнизону, и после трех дней боев они восстановили в столице порядок. После провала так называемого мятежа Капсин Ким бежал в Японию, а разъяренные корейцы выместили свою злобу на японцах, убив около сорока из них и полностью уничтожив здание посольства. Олигархи обратились к Ито Хиробуми с просьбой утихомирить разразившуюся бурю. Несмотря на то что он в этот момент работал над концепцией конституционного правления, Ито немедленно направился в Китай, чтобы провести переговоры с Ли Хунчжаном, который отвечал за китайско-корейские связи. Японский посланник понимал, что большинство зарубежных наблюдателей с моральной точки зрения возлагают ответственность за произошедшее именно на его страну. Поэтому Ито, как всегда предусмотрительный и осторожный, не испытывал желания и далее раздувать конфликт, который мог бы привести к столкновению с западными державами или к полномасштабной войне с Китаем, который, как все тогда считали, был сильнее Японии. У Ли тем временем были свои проблемы. На китайско-вьетнамской границе то и дело вспыхивали перестрелки с окопавшимися там французами, а в Бирму упорно рвались британцы. Таким образом, ни Ито, ни Ли не ощущали свои позиции особо прочными, что помогло им быстро достигнуть соглашения. 18 апреля 1885 г. была подписана Тяньцзинская конвенция, согласно которой ни Япония, ни Китай не могли размещать в Корее войска или перебрасывать их на полуостров без предварительного письменного уведомления. В Японии правительство быстро усмирило местных активистов, в октябре 1885 г. арестовало Фукуда Хидэко и Ои Кэнтаро за организацию нового заговора и принудило Кима уехать в Шанхай. Тяньцзинская конвенция не смогла надолго стабилизировать ситуацию. С точки зрения Японии, корейская внутренняя политика продолжала оставаться хаотичной. Та скромная программа реформ, которую монархия принялась осуществлять после мятежа Капсин, вызвала лишь разочарование. В то же самое время идея Ямагата о создании вокруг Японских островов линии интересов, призыв Фукудзава обращаться с Кореей «так же, как это делают западные нации» и растущая экспортная торговля не позволяли сомневаться в том, что Японию и далее будет живейшим образом интересовать ситуация на полуострове. Особая важность по-прежнему придавалась стратегическим интересам Японии. В 1885 г. из Германии прибыл майор Клеменс Мекель, который должен был одновременно преподавать в армейском военном училище и выступать в роли советника в генеральном штабе. Ему принадлежит метафора, оказавшая неизгладимое впечатление как на военных, так и на гражданских лиц. Корея, говорил Мекель, была «кинжалом, направленным в сердце Японии». Поэтому нельзя допускать, чтобы она оказалась под влиянием третьей силы, особенно России. Постепенно в конце 80-х гг. XIX в. «мероприятия, направленные на обеспечение независимости Кореи», как выразился по этому поводу Ямагата, превратились в аксиому для разработчиков стратегических планов Японии. В начале 1894 г. выспевший нарыв прорвался. В марте этого года в Шанхае агентами корейского правительства был убит Ким. Китайские власти вернули тело Сеулу. Корейское руководство, в назидание потенциальным реформаторам, приказало разрубить тело Кима на куски. Это вызвало волну протестов в Японии, где было много людей, симпатизировавших Киму. Той же весной у японского правительства появился еще один повод для беспокойства. Лидеры тонхак, новой религии, приобретшей огромную популярность в южных провинциях Кореи, созвали под свои знамена крестьян и отправились маршем на Сеул, угрожая свергнуть существующий режим, несмотря на то что он осуществил некоторые реформы, направленные на облегчение жизни корейских бедняков. Тревога в Токио усилилась, когда король Коджон обратился к Китаю за военной помощью для подавления беспорядков внутри страны. Когда в июне около Сеула появились около 3000 китайских солдат, японские политические стратеги всерьез задумались над возможным ответом на эти события. Во главе угла каждого из поступивших предложений было действие. С точки зрения японских лидеров, Китай, несомненно, нарушил Тяньцзинскую конвенцию, когда послал свои войска, не сообщив об этом предварительно Токио. Кроме того, тот факт, что слабая Корея вновь обратилась за помощью к разобщенному Китаю, в перспективе угрожал вмешательством России и Британии в дела полуострова. В ходе развернувшейся дискуссии со своим предложением выступил и японский консул в Корее. По его мнению, японцам следовало начать переговоры с целью заключения «соглашения, по которому Корея принимает японское покровительство, затем Япония берет на себя заботу о внутренней и внешней политике Кореи с целью достижения прогресса и реформ, ведущих к богатству и силе. Таким образом, мы, с одной стороны, превратим Корею в мощный бастион Японии, а с другой стороны, мы увеличим наше влияние и расширим те права, которыми пользуются наши торговцы»{192}. Вскоре японские лидеры объединились вокруг этого набора целей, и в конце весны 1894 г. они направили в Корею экспедиционные силы. После серии столкновений с китайскими войсками, Токио 1 августа 1894 г. официально объявил войну Китаю. По мнению зарубежных наблюдателей, островная нация должна была одержать верх над континентальным гигантом. Наращивание военной силы, осуществленное Ямагата в 1890 г., хорошо подготовило Японию к войне. 16 сентября японцы разгромили китайских защитников Пхеньяна, а на следующий день победили в решающем морском сражении, произошедшем около устья реки Ялу. 21 ноября был взят Порт-Артур, 12 февраля 1895 г. у Вэйхайвэй был разгромлен китайский флот, после чего китайские адмиралы совершили самоубийство[27]. Воодушевленный Ямагата настаивал на перенесении боевых действий в глубь китайской территории. Однако Ито, вновь занявший пост премьер-министра, был обеспокоен той ценой, которую потребует дальнейшее ведение войны. Кроме того, он не был уверен относительно реакции западных стран, если японские войска продвинутся слишком далеко в центральные и южные районы Китая. Ито считал, что лучше всего было бы начать переговоры и положить конец кровопролитию. И вновь он, вместе с Ли Хунчжаном, принялся искать выход из сложившейся ситуации. За десять лет до этого Ито предпринял поездку в Китай. На этот раз Ли отправился в Японию, что ясно указывало на то, что козыри были в руках японских олигархов. Вдобавок Ито сообщил Ли, что официальным языком конференции и языком любых соглашений, подписываемых в Симоносеки, будет английский. Ито давно уже пользовался этим языком, а Ли пришлось лихорадочно искать переводчиков. Наконец, Ито выложил на стол список требований: признать «полную независимость и автономию Кореи»; передать маньчжурскую провинцию Ляонин, равно как и Тайвань и близлежащие Пескадорские острова Японии; выплатить военную контрибуцию, которая составляла приблизительно 500 миллионов йен; сделать открытыми еще четыре порта; а также гарантировать японским купцам коммерческие привилегии, включающие в себя свободное плавание к верховьям реки Янцзы и ввоз через четыре открытых порта на территорию Китая промышленного оборудования. Ли торговался изо всех сил, но без особого успеха, пока какой-то японский фанатик не выстрелил ему в лицо, нанеся рану под левым глазом. Весь мир расценил эту акцию как позорную для Японии, и Ито пришлось пойти на уступки. Контрибуция была сокращена на одну треть, более скромными сделались и территориальные претензии в Маньчжурии. Но все остальные требования остались в силе, и 17 апреля 1895 г. был подписан Симоносекский договор, превративший Японию в первую колониальную державу, не относящуюся к западному миру. 90-е гг. XIX в. принесли японцам еще один повод гордиться своей страной, поскольку наконец была осуществлена давняя задача по пересмотру договоров с западными державами… Весной 1894 г. Великобритания, которая всегда отличалась упорным нежеланием отказываться от своих договорных прав, решила способствовать укреплению Японии, в которой видела противовес российским амбициям в Северной Азии. Англо-японский договор о торговле, подписанный 16 июля в Лондоне, ликвидировал закрытые британские поселения, существовавшие в японских городах, и предусматривал в течение ближайших 5 лет отказ от экстерриториальности. К 1897 г. другие державы, имевшие с Японией договорные отношения, под впечатлением военных успехов этой страны подписали с ней новые соглашения, которые, в том числе, признавали за Японией право самостоятельно устанавливать тарифы и предусматривали к 1911 г. перевести все отношения на равноправную основу. События 1890-х — победа над Китаем, Симоносекское соглашение и пересмотр неравноправных договоров — вызвали в Японии взрыв патриотизма. Газеты заполнили свои страницы героическими фронтовыми сводками. Читательский интерес они стремились привлечь, печатая длинные романы с продолжением, посвященные военным событиям. Одна крупная ежедневная газета даже назначила приз за написание лучшей патриотической песни. Фукудзава Юкичи тем временем призвал своих соотечественников посвятить каждое слово, каждый свой поступок делу приближения победы. Он назвал этот конфликт «священной войной», которая велась «между страной, которая пытается развивать цивилизацию, и страной, отвергающей цивилизацию и прогресс»{193}. По мнению Токутоми Сохо, победа над Китаем дала Японии то уважение со стороны международного сообщества, в котором ей ранее отказывалось. Запад, говорил он, теперь понял, что «цивилизация не является монополией белого человека» и что японцы также имеют «характер, способный к великим свершениям в мире». Другие проявления гордости за свою нацию носили характер принижения китайцев. Этноцентризм, порожденный географической удаленностью, и культурная замкнутость, порожденная в эпоху самоизоляции, долгое время оказывали сильное влияние на представление японцев об иностранцах. В конце XIX столетия подобные ощущения культурной непохожести смешались с растущим чувством национализма и привели к изменению прежних взглядов на Китай. Новое отношение, насмешливо-снисходительное, присутствует в работах таких людей, как Фукудзава, однако наиболее ярко оно проявляется в гравюрах военного времени. В целом граверы изображали Ли комичным и нелепым. Его советники, в кричащих одеждах зеленого и красного цветов, сидели вокруг, разинув рты и не зная, что им делать. В батальных сценах японские солдаты изображались высокими, стройными, застывшими в героических позах. Их внешний вид был определенно европейским, с короткими аккуратными прическами и элегантными усиками. Китайцы, наоборот, носили косички, имели выдающиеся скулы, широкие носы и раскосые глаза. Подобные гравюры, создаваемые как известными художниками, так и ремесленниками, пользовались огромной популярностью.Позднее знаменитый романист Танидзаки Дзюнъитиро вспоминал: «Я почти каждый день приходил к Симидзуя, лавке гравюр, и часами стоял, глядя на огромное количество триптихов, изображавших войну. Среди них не было ни одного такого, которого я бы не желал иметь у себя, и я страшно завидовал моему дяде, который покупал все новые выпуски, как только они появлялись на прилавке»{194}.Триумфальная война с Россией
Внезапный демарш трех держав вскоре охладил победный пыл японцев. В конце XIX в. ведущие европейские державы готовились разрезать китайский «пирог» на отдельные сферы империалистического влияния. На этих территориях они могли бы разместить военные базы, строить железные дороги и разрабатывать рудники. В рамках этих планов царское правительство зарезервировало за собой львиную долю китайского севера. Соответственно, 23 апреля 1895 г., всего через несколько дней после подписания Симоносекского договора, Санкт-Петербург «посоветовал» Токио вернуть Китаю Ляодунский полуостров. Франция и Германия, по словам царских представителей, согласны с этим «дружеским советом». Японцы кинулись за защитой к Соединенным Штатам и Британии, однако те лишь развели руками и сказали, что вступать в противостояние с Россией бесполезно и опасно. 5 мая, после встречи со своим кабинетом, премьер-министр Ито тяжело вздохнул и объявил, что Япония вернет Ляодун китайцам. Весть об этом отступлении ошеломила японскую публику. Токутоми Сохо, который хотел увидеть Ляодунский полуостров своими собственными глазами, посетил его сразу после заключения соглашения в Симоносеки. «Был конец апреля, — писал он в своем дневнике, — и весна только-только начиналась. На огромных ивах набухли почки. Воздух был наполнен ароматом цветов Северного Китая. Перед взглядом расстилались поля, над которыми веял весенний ветерок. Когда я путешествовал там и понимал, что все это — наша новая территория, я испытывал глубочайшее волнение и удовлетворение». И лишь несколькими днями позже он «едва не разрыдался», когда узнал о демарше трех держав. «Не в силах оставаться и лишней минуты на земле, которая должна быть передана другому государству», он зачерпнул горсть гальки на пляже Порт-Артура в качестве напоминания о своей боли и унижении и «вернулся домой на первом же корабле», который смог отыскать. Страдания Токутоми и других патриотически настроенных японцев в последующие месяцы только усилились. Россия начала вмешиваться во внутренние дела Кореи. Японский дипломатический корпус в Сеуле особенно разнервничался после того, как российские советники втерлись в доверие к королеве Мин, которая стала пунктом притяжения для всех антияпонских сил. В октябре 1895 г. глава японской миссии в Сеуле усугубил положение. Он сколотил разношерстную шайку, в которую вошли охранники посольства и гражданские авантюристы. Он поручил этой группе взять под стражу королеву и привести к власти прояпонских реформистов. Ранним утром 8 октября японцы в сопровождении корейских «стажеров» ворвались во дворец, забили королеву до смерти, а затем вытащили ее тело в сад. где облили его керосином и подожгли. Испугавшись за свою жизнь, ван Коджон попросил русских расположить в Сеуле гарнизон российских моряков. В феврале 1896 г. он укрылся в российском посольстве. В том же году корейское правительство предоставило России права на разработку рудников и заготовку древесины в северной части полуострова. Международное сообщество моментально выразило свое возмущение по поводу жестокого убийства королевы Мин. Токио, который не давал своего согласия на осуществление переворота, сперва отрицал участие в нем японцев. Когда американцы, воочию наблюдавшие все происходившее в Сеуле, доказали обратное, японское правительство изменило свою позицию и подвергло наказанию некоторых участников мятежа. Каким бы сильным ни было их смущение, вызванное чудовищным преступлением, основное, что лидеры Японии вынесли из этих событий, было горькое осознание того факта, что победа над Китаем не гарантировала уважительного отношения к линии интересов Японии на континенте. Этот факт болью отзывался в сердцах японцев на протяжении последующих месяцев, когда Россия присвоила себе преимущества и территории в Маньчжурии, от которых Япония была вынуждена отказаться. В 1896 г. Санкт-Петербург добился от Пекина права на строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Она соединяла Прибайкалье с Владивостоком, проходя по территории Маньчжурии. Таким образом, путешествие из Москвы в Приморье значительно сокращалось. Двумя годами позже Россия добилась от китайцев передачи ей в аренду на 25 лет Ляодунского полуострова. Одновременно она получила разрешение на строительство железнодорожной ветки, соединяющей крупную военно-морскую базу в Порт-Артуре с Харбином, расположенным на только что построенной КВЖД. В то время как Россия окапывалась в Маньчжурии, на самых подступах к Корее, правительство и народ Японии сошлись во мнении, что «Ляодунский позор» и рост российского присутствия в Северной Азии требуют адекватного ответа. Более чем когда бы то ни было Токио стремился к признанию своих особых интересов в Корее и к сохранению независимости полуострова от западных держав. Для осуществления этой задачи Японии необходимы были дополнительные воинские силы и стальная внешняя политика. Соответственно, кабинет и парламент совместными усилиями увеличили военный бюджет с 24 миллионов йен перед китайско-японской войной до 73 миллионов йен в 1896 г. В следующем году он достиг 110 миллионов йен. Это позволило почти в два раза увеличить армию и заказать у европейских судостроителей достаточное количество военных кораблей, чтобы сделать японский флот самым крупным в Азии. Одновременно японское правительство начало предпринимать дипломатические шаги, направленные на приобретение союзников и завоевание авторитета среди ведущих мировых держав. В 1900 г. японские силы составили почти половину от сорокатысячного экспедиционного корпуса, направленного восемью державами в Пекин для подавления боксерского восстания. В июне того года националистически настроенные китайцы подняли мятеж, направленный против иностранцев, осадили британское посольство и убили немецких и японских дипломатов, работавших в китайской столице. Западные державы отметили усилия Японии и пригласили ее принять участие в мирной конференции. Это было первое участие страны в подобной международной встрече в качестве полноправного участника. Так называемый Боксерский протокол, подписанный 7 сентября 1901 г., давал Японии право на размещение своих войск в Пекинско-Тяньцзиньском районе для защиты дипломатического персонала. На следующий год Япония заключила военное соглашение с Великобританией. Англо-японский договор 1902 г. признавал интересы обеих держав в Китае, подтверждал особые интересы Японии в Корее и предусматривал их совместные действия в том случае, если Россия, в союзе с четвертой силой, нападет на одну из сторон. Параллельно с укреплением своих военных и дипломатических позиций, Япония пыталась найти общий язык и с Россией, чтобы совместными усилиями выработать режим безопасности для Северной Азии. Дискуссии были продолжительными и трудными, и не в последнюю очередь по той причине, что Россия упорно отказывалась вывести с территории Маньчжурии свой крупный контингент, насчитывавший в своих рядах пятьдесят тысяч человек. Эти войска были направлены туда во время боксерского восстания для защиты российских железнодорожников и их семей. Одно время японцы возлагали свои надежды на формулу «Маньчжурия в обмен на Корею», которая была предложена Ито. То есть, в духе империалистических обычаев того времени, Токио готов был признать интересы Санкт-Петербурга в Маньчжурии, если Россия будет уважать особое положение Японии в Корее и гарантирует сохранение независимости этой страны. Однако представители царя не проявили интереса к этому предложению, и переговоры зашли в тупик. Когда переговорный процесс начал пробуксовывать, всю Японию охватила военная лихорадка. Подобно Токутоми, большинство японцев пережило шок и унижение во время демарша трех держав. Они верили, что пересмотр прежних договоров и союз с Великобританией, заключенный в 1902 г., подтверждают статус Японии как великой державы. Соответственно, она заслуживает большего уважения, чем то, которое демонстрирует по отношению к ней Россия. Воинственно настроенная пресса вновь и вновь возвращалась к этой теме, настойчиво повторяя, что их нация должна наказать русского медведя и защитить свои позиции в Корее. К общему хору добавляли свои голоса и интеллектуалы, которые также призывали дать русскому царю по рукам. В июне 1903 г. семь профессоров Токийского императорского университета написали письмо премьер-министру. В своем письме, почти целиком опубликованном в газете Токио ничиничи синбун, они требовали немедленного объявления войны и утверждали, что только «фундаментальное решение» маньчжурской проблемы может обезопасить позиции Японии в Корее. Несмотря на воинственные настроения, царившие в обществе, кабинет действовал осторожно. Он долго рассматривал и обсуждал любую возможность и предложение, способные продвинуть переговоры. В конце концов правительство исчерпало все доступные средства, и, не найдя выхода из тупика, в конце января 1904 г. премьер-министр и его кабинет приняли решение об объявлении войны. Это решение было подтверждено 4 февраля в присутствии императора. При этом лидеры Японии не испытывали слепого оптимизма по поводу перспектив их страны в этой войне. Тем не менее они были согласны с тремя моментами: Япония будет оставаться уязвимой до тех пор, пока Россия сохраняет свое влияние в Маньчжурии; царь в обозримом будущем не пойдет ни на какие уступки за столом переговоров; и, наконец, война, даже если она завершится ничейным результатом, укрепит престиж Японии и ее позицию среди великих держав. Приняв решение, правительство начало действовать стремительно. 6 февраля 1904 г. Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. Двумя днями позже японский флот атаковал российские корабли в Порт-Артуре, а 10 февраля, во время посещения храма Ясукуни, где покоились останки погибших воинов, император официально объявил войну. Генерал Ноги Марэсукэ, герой китайско-японской войны, возглавил Третью армию, которая в феврале-марте действовала на Ляодунском полуострове, захватив Дайрен. В августе эта армия взяла в осаду Порт-Артур, который пал в первый день нового, 1905 г. Второй пехотный корпус продвигался по Корейскому полуострову. Затем он соединился с Третьей армией, чтобы в марте 1905 г. совместными силами предпринять атаку на Мукден. Как и опасались, боевые действия отличались крайней жестокостью. Долгая кровавая осада Порт-Артура явилась предзнаменованием мясорубки Первой мировой войны. Генерал Ноги потерял 15 000 человек только во время штурма высоты 174, а высота 203 унесла жизни еще 10 000 солдат. В целом 56 000 японцев заплатили своими жизнями за то, чтобы над Порт-Артуром взвился наконец японский флаг. Два месяца спустя, при Мукдене, на протяжении 10 дней 320 000 русских солдат сражались с 250 000 японцев. В кровавых уличных боях четверть от этого количества была убита или ранена. К весне 1905 г. японская армия значительно ослабла. Более 100 000 солдат были убиты, в строю осталось крайне мало опытных офицеров, начала ощущаться нехватка снаряжения и, несмотря на несколько впечатляющих побед, никто в генеральном штабе даже и не думал о том, что японская армия еще в состоянии нанести смертельный удар русским войскам, тем более что Россия могла выставить в два раза больше полевых дивизий по сравнению с Японией. Однако на море весной 1905 г. адмирал Того Хэйхачиро одержал блестящую победу, что и заставило Россию сесть за стол переговоров. В октябре предыдущего года 45 кораблей балтийского флота отплыли из Финского залива. Перед ними стояла задача отбросить японские силы от Порт-Артура. Британия запретила им проходить через Суэцкий канал, и российский флот предпринял долгое путешествие вокруг Африки, а затем — через Индийский океан. Нейтральные порты были закрыты для российских моряков, поэтому иногда они силой были вынуждены захватывать необходимые для них припасы — уголь, продовольствие и воду. В другое время, они проводили долгие монотонные часы на палубах своих кораблей, наблюдая за схватками между ручными обезьянами или собаками. Их приближения к берегам Японии терпеливо поджидала флотилия адмирала Того. Она состояла из новейших броненосцев, быстроходных крейсеров и стремительных миноносцев. Все эти корабли были гордостью японского военного судостроения. 27 мая российские корабли двумя параллельными колоннами вошли в Цусимский пролив. Адмирал Того «замкнул литеру Т», поведя свои корабли перпендикулярно движению русских, так чтобы весь огонь японских орудий можно было сосредоточить на российском флагмане. К вечеру следующего дня японцы уничтожили русский флот, потопив 34 корабля и сильно повредив еще восемь. Потери японской стороны составили 3 миноносца. В русско-японской войне сложилась патовая ситуация. Императорская армия не могла рассчитывать на то, что ей удастся выбить русские батальоны из Маньчжурии, а Россия была не в состоянии вытеснить генерала Ноги из тех городов и с тех территорий, которые были им захвачены. Японцы обратились к Теодору Рузвельту с просьбой выступить посредником между воюющими сторонами, и американский президент созвал в Портсмуте, Нью-Гэмпшир, мирную конференцию. После сложных переговоров Япония и Россия 5 сентября 1905 г. подписали Портсмутский договор. Это соглашение скорее свидетельствовало о победе японцев. Во втором пункте было сказано, что Россия должна признавать «преобладающие» интересы Японии в Корее и не должна чинить препятствий тем действиям, которые Япония будет там предпринимать. Дополнительные условия договора предусматривали передачу Японии в аренду Ляодунского полуострова (который сами японцы называли Квантунской территорией), царской железной дороги и прав на разработку рудников в южной Маньчжурии. Японский суверенитет распространялся на южную половину Сахалина, которой японцы дали название Карафуто. Это были весьма выгодные условия, и в глазах большей части государств победы Японии на суше и на море, без всякого сомнения, ставили ее в один ряд с ведущими мировыми державами. Многие простые японцы смотрели на вещи с несколько иной стороны. Они прощались со своими сыновьями на железнодорожных вокзалах, отдавали сбережения в национальный военный фонд, зажигали фонарики в честь победы, готовили перевязочные материалы и складывали оригами с пожеланиями успехов для солдат, находившихся на фронте. Конфликт, рожденный в кулуарах правительства, начинался как холодно рассчитанная акция, призванная укрепить позиции Японии на шахматной доске международной политики. Но затем он превратился в народную войну, наполненную эмоциями и переживаниями людей. Более того, большинство японцев не знали всей правды о потерях, понесенных войсками в Маньчжурии. Источником информации для них служили эйфорические донесения о победе адмирала Того в Цусимском проливе, а также опубликованный в газетах сенсационный рассказ о триумфах японского оружия в Порт-Артуре и Мукдене. Поэтому у среднего японца выработались несоразмерные, даже фантастические ожидания, связанные с войной: будто бы Япония может претендовать на большую часть российской Сибири или, по крайней мере, на все ее тихоокеанское побережье. Но ее представители на мирной конференции не то что не смогли добиться передачи Японии всего Сахалина, но они даже не получили контрибуции, которая покрыла бы военные расходы, составившие 1,7 миллиарда йен. Возмущение, вызванное этим, вылилось в многочисленные беспорядки, подобные мятежу в Хибийя, прокатившиеся по всей стране. Победа над Россией была первой подлинно народной войной Японии. Народные демонстрации отражали гордость за свою страну и ее достижения. Они подтверждали, что жители страны, не в меньшей степени, чем олигархи, будут отстаивать ведущие позиции Японии в мире.Колонизация Кореи
Когда Ямагата в 1890 г. сообщал парламенту о необходимости защищать линию интересов, он был убежден, что безопасность нации будет обеспечена в том случае, если в Корее будут осуществлены реформы, а империалистические державы гарантируют нейтралитет королевства. После войны с Китаем и демарша трех держав, многие политические деятели приняли более радикальную точку зрения, согласно которой Япония сама должна быть достаточно сильной для того, чтобы ни одна иная нация не могла бы влиять на события на полуострове. Когда провал переговоров с Россией сделал проблематичной возможность выработки решения «корейской проблемы», некоторые политики пошли в своих рассуждениях еще дальше, сделав вывод, что Японии необходимо распространить на Корею свое непосредственное политическое управление. В итоге незадолго до начала боевых действий с Россией, 31 мая 1904 г., кабинет на своем заседании решил, что Япония должна взять на себя ответственность за внутреннюю стабильность и безопасность Кореи. В конце 1905 г. Ито Хиробуми отправился в Сеул в качестве специального посланника. Его задачей было осуществление политики, определенной правительством. В ноябре он провел переговоры по поводу корейско-японского соглашения, подписанного в том же году. Этот договор превращал полуостровную страну в японский протекторат. Согласно с ним, создавалась должность генерального резидента, который имел право определять корейскую внешнюю политику и использовать японские войска для наведения в Корее порядка. В марте следующего года Ито вернулся в страну уже в должности генерального резидента. В июле 1907 г. он «организовал» отречение вана Коджона, который называл себя в то время императором, в тщетной попытке поднять таким образом международный престиж Кореи. На протяжении последующих нескольких дней Ито составил новый договор, который передавал полный контроль над внутренними делами службе генерального резидента, а затем, 1 августа 1907 г., он распустил корейскую армию. Сосредоточив в своих руках значительные гражданские и военные полномочия, генеральный резидент Ито и несколько тысяч его японских помощников приступили к реформированию корейской денежной и налоговой систем, а также к модернизации телеграфной, телефонной и почтовой служб. Во время заседания кабинета, состоявшегося в мае 1904 г., его члены рассматривали, наряду с политическими и стратегическими, также и возможные экономические выгоды от перехода Кореи под власть Японии. Несколько министров потрудились над разработкой торговой стратегии, согласно которой японские фирмы должны были импортировать корейские пищевые продукты и сырье, в то время как в Корею следовало ввозить хлопковую ткань, керамику, часы, парфюмерию, пуговицы, очки, спички, керосиновые лампы и все остальные товары, производимые японской легкой промышленностью. Имея все это в виду, служба генерального резидента распространила японскую рыболовную зону на прибрежные воды Кореи и обговорила права на добычу лесоматериалов и разработку рудников, которые могли быть переданы «заслуживающим доверия людям капитала». Подобным образом японское правительство выделило значительные средства, так же как оно это делало в своей стране, для завершения строительства железной дороги, связывающей Сеул с южным портом Пусан. Новая магистраль была крайне важной со стратегической точки зрения. Но она также давала толчок к экономическому развитию, поскольку проходила по самым густонаселенным районам Кореи, способствовала возникновению новых рынков и понижала стоимость перевозки товаров. В ответ на эти инициативы более 125 000 японцев переселились в Корею к 1908 г. (см. таблицу 9.1). Некоторые из них были учителями и священниками, в то время как другие рассчитывали найти себе работу в торговле строительными материалами, в ремесле либо вообще нанимались в войска в качестве носильщиков или грузчиков. Были и такие, кто создавал небольшие предприятия, производящие скобяные товары, керамику и т. д., а сельскую местность Кореи наводнили коробейники, продававшие свои товары на ярмарках, которые по определенным дням проводились в деревнях или небольших городах. В крупных корейских городах многие японцы открывали рестораны, чайные, публичные дома, основными клиентами которых были члены японской общины и чиновники Службы генерального резидента. Японские крестьяне также переселялись в Корею. Токио пытался оказать содействие этому процессу, создав в августе 1908 г. Компанию восточного развития. Эта компания, действовавшая частично за счет средств, выделяемых правительством, предоставляла со скидками билеты на поезда и пароходы, чтобы японцам было проще добраться до Кореи, отводила участки под усадьбы (зачастую за счет земель, конфискованных у бывших корейских придворных), а также предоставляла налоговые льготы и долгосрочные кредиты, чтобы поселенцы могли начать жизнь на новом месте. Одной из целей этой политики было обеспечение возможностей для жителей беднейших сельских регионов Японии. Другой целью было увеличение сельскохозяйственной продукции на полуострове. Это, в свою очередь, согласно разработчикам планов, должно было привести к двум приятным последствиям. Во-первых, в японские города должен был хлынуть поток относительно дешевых корейских риса, соевых бобов и других сельскохозяйственных продуктов. С другой стороны, возрастающие доходы сельского населения Кореи должны стимулировать повышение спроса на японские промышленные товары. Компания восточного развития, однако, на начальном этапе своего существования не оправдала возложенных на нее надежд. В 1910 г., когда компания начала функционировать, она отправила в Корею только 116 семей. Эти переселенцы присоединились к приблизительно 4000 японских земледельцев, которые добрались до полуострова, не прибегая к помощи правительства, и которые к тому времени уже владели приблизительно 3 % обрабатываемых земель Кореи. Японский крупный бизнес не проявлял особого желания обозначить свое присутствие в Корее. Многие промышленники были обеспокоены политической нестабильностью на полуострове, сожалели по поводу отсутствия более развитой инфраструктуры, а также считали, что китайский рынок является значительно более перспективным. Тем не менее количество товаров, экспортируемых в Корею, после 1895 г. неуклонно увеличивалось. Такие предприниматели, как Сибусава Эиичи, вскоре прониклись идеей инвестирования средств в Корею. В 1906 г. Сибусава инициировал заключение договоренности, согласно которой три основные осакские фирмы по производству хлопка (в том числе и Осакская мотальная фабрика Сибусава) объединялись в экспортный картель, получивший название «Ассоциация хлопкового текстиля Санъэй». Фирмы, входившие в состав ассоциации, должны были продавать свою продукцию в Корее через торговую компанию Мицуи, которая выступала в роли их торгового агента, а операции с валютой на выгодных условиях проводил банк Дай-Ичи, принадлежавший Сибусава. Предприятие оказалось прибыльным, и японские производители хлопчатобумажных тканей вскоре начали доминировать на корейском рынке текстиля и внесли заметный вклад в увеличение объемов торговли, как это показано в таблице 9.2.

Хотя некоторые корейцы приветствовали японские планы модернизации, другие оказывали упорное сопротивление тому, что они расценивали как незаконный захват их правительства и экономики. Западный империализм обычно противопоставлял современные нацию и государство разрозненным племенным группам или гетерогенным в этническом отношении народам, у которых не было ни общего стремления, ни достаточных ресурсов, чтобы противостоять завоевателям. Япония, в свою очередь, столкнулась с иной ситуацией. История Кореи как единой страны насчитывала не меньше столетий, чем история ее островного соседа. Сами корейцы считали себя одним народом, обладавшим этническим, культурным, языковым и религиозным единством. Политическая консолидация Кореи произошла более тысячи лет назад, в VII столетии н. э. Корейцы помнили и о Хидэёси, и об убийстве королевы Мин. Когда прошлое смешалось с настоящим, корейцы решили, что у них есть все основания презирать японцев, живших среди них. «В этих полуголых женщинах, в этих шумных и грубых лавочниках, в мусоре, разбросанном на улицах, — писал один западный путешественник о японцах, которых видел в Корее в начале XX в., — не было ничего, что могло бы напомнить об утонченной культуре Японии»{195}. Гордые и ожесточенные корейцы не собирались сдавать свою страну подобному сброду, «отбросам японской нации», как охарактеризовал их западный наблюдатель. Сопротивление принимало различные формы. Некоторые корейцы, такие как ряд высших чиновников, совершивших самоубийство после того, как их страна превратилась в протекторат, просто отказались сотрудничать с японскими оккупационными силами. В июне 1907 г. император Коджон безуспешно пытался обратиться к международному сообществу, тайно направив делегацию на Вторую Гаагскую конференцию по проблемам мира. Он рассчитывал таким образом добиться декларации о поддержке независимости Кореи. Летом того же года по стране прокатилась волна насилия, причиной чего было распоряжение Ито о роспуске корейской армии. Бывшие солдаты начали нападать на японское гарнизоны, убивать японских поселенцев и расправляться с теми корейскими крестьянами, которые сотрудничали с чужеземным режимом. Ито, в свою очередь, призвал на помощь японскую армию, но корейские партизаны, «армии справедливости», как они сами себя называли, продолжали сражаться, опираясь на укрепления, расположенные в провинции. Борьба носила жестокий характер, и к 1910 г. в ней погибли 18 000 корейцев и 7000 японцев. В разгар этих потрясений, 26 октября 1909 г., молодой корейский патриот застрелил Ито Хиробуми, который только что покинул пост генерального резидента и отправился в инспекционную поездку по Маньчжурии. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда он сошел на перрон в Харбине. В Токио этот инцидент вновь оживил разговоры об аннексии. Следует отметить, что сам Ито был против этого шага. В нем еще жила иллюзия, что он сможет добиться широкой поддержки со стороны корейцев тех усилий, которые прилагали японцы для модернизации их страны. Его убийство со всей очевидностью показало японским политикам, что «корейские чиновники и народ», по словам министра иностранных дел, «так и не выработали в себе удовлетворительное отношение к нам»{196}. Будучи решительно настроенными на захват Кореи, японцы составили договор об аннексии, который был подписан 22 августа 1910 г. и вступил в силу всего через несколько дней после этой даты. Согласно этому документу Корея, переименованная в Чосон, становилась японской колонией. Вся гражданская и военная власть передавалась корейскому генерал-губернаторству, во главе которого стоял человек, назначаемый японским императором. Учитывая напряженные отношения между метрополией и колонией, император первым генерал-губернатором назначил военного человека, Тэраучи Масатакэ. Этот пост генерал занимал до октября 1916 г., когда он занял пост премьер-министра Японии.
Японский империализм
Страх перед Западом послужил благодатной почвой для японского империализма. Будучи молодыми самураями Ито, Ямагата и многие другие лидеры Мэйдзи видели, как Запад присваивает их стране статус полуколонии. Став олигархами, они были вынуждены бороться с новым раундом вторжения Запада в Азию, которое угрожало захлестнуть Японию и свести на нет все их усилия по модернизации страны. Страшась слабости своей страны перед лицом великих держав, японское правительство действовало в интересах защиты родины. Оно оправдывало создание империи как контрмеру, направленную на то, чтобы сохранить независимость нации в условиях жестокой и даже убийственной международной обстановки. Испугавшись, что она может стать «угощением» на пиру западных держав, Япония, по грубоватому выражению одного выдающегося политика, вместо этого поспешила занять место «гостя за столом»{197}. Это отчаянное ощущение уязвимости и было первоочередной причиной того, что японские политики обратили свое внимание на Корею, взяв в свои руки постыдное оружие Запада. Подобным образом, требования передачи Китаем Тайваня и Ляодунского полуострова, закрепленные в Симоносекском договоре, в значительной степени отражали желание флота заполучить базы для охраны южных подступов к Японии и стремление армии прикрыть северный фланг Кореи. Экономические составляющие японского экспансионизма в XIX в. были подчинены геополитическим соображениям. В частности, правительство рассчитывало получить экономические привилегии и продвигать торговые интересы в Корее лишь для того, чтобы укрепить политические и стратегические позиции Японии. В этом смысле японское знамя шло впереди торговли, и к решению о начале войны с Китаем и Россией японских руководителей подтолкнули соображения стратегического характера. Однако события 1894 и 1904 гг. являлись чем-то большим, чем рефлекторным ответом, предпринятым маленькой нацией с целью защитить себя от угрозы уничтожения, исходящей от более крупного соперника. Очевидно, что японское правительство обдуманно и сознательно выбрало курс на империализм. Японская экспансия носила не только оборонительный, но и агрессивный характер. К концу 80-х гг. XIX столетия руководители страны прекрасно осознавали многочисленные выгоды — престиж, стратегические преимущества, материальное благополучие, — которые получали нации, применяющие свою силу за границей и ищущие заморское сырье и рынки сбыта. Ямагата, Ито, Мацуката и другие олигархи не располагали необходимой идеологией и планами экспансии. Но у них были огромные амбиции, направленные на продвижение своей страны к успеху, и они не боялись ввязываться в драку тогда, когда им предоставлялась возможность. Япония жаждала попасть в число ведущих наций, и в эпоху, когда империализм шел рука об руку с положением на международной арене, ничто не могло заставить лидеров Японии действовать не в той же манере, в какой действовали великие державы. Представители Японии не сидели скромно и за столом переговоров. Наоборот, они расширили понятие империализма, когда в Симоносеки добивались права открывать в Китае мануфактуры и другие промышленные предприятия. В одно время на подобные концессии претендовала и Британия, и их реализация, в сочетании с существующими правами на ведение торговли, привела к невиданной ранее экономической эксплуатации Китая. Более того, за исключением случая с демаршем трех держав, когда самым разумным поведением была осторожность, Япония действовала весьма настойчиво, чтобы защитить свои завоевания. В конце 90-х гг. XIX в. она направила около 60 000 солдат на Тайвань, чтобы подавить восстание аборигенов, сопротивлявшихся колонизации. В начале следующего столетия ее войска жестоко подавляли выступления корейских патриотов. Для правительства Японии новый век и модернизация безусловно были связаны с такими понятиями, как конституционное и парламентское правление, индустриализация и капитализм, а также сильная и империалистическая внешняя политика. Японская общественность поддерживала агрессивные акции, осуществляемые за морем, и строительство империи. Люди, подобные Фукудзава и Токутоми, помогали примириться с экспансионизмом, и простые японцы получали наслаждение от битв, выигрываемых в Китае, выстраиваясь в очереди за новыми гравюрами, изображавшими войну. Небольшое число социалистов и пацифистов выказывали озабоченность по поводу потоков крови, льющихся на полях сражений с Россией, но большинство японцев поддерживали свою страну и приветствовали присоединение Тайваня и Сахалина к их растущей империи. Подобная поддержка со стороны народа позволила правительству выбор в пользу войны, а затем аннексировать Корею. Это значило, что все японцы могут получить коллективное удовлетворение от осуществления давних желаний, которые состояли в достижении безопасности, справедливого отношения к себе и приобретении статуса ведущей мировой державы. Начало нового века во многих поселило многообещающие ожидания.1 New York Times, Сентябрь 8, 1905, с. 8, и Сентябрь 10, 1905, с. 6. 2 Shumpei Okamoto, The Japanese Oligarchy and the Russo-Japanese War (New York: Columbia University Press, 1970), c. 208. 3 Эта и следующая цитата взята из книги: Richard Siddle, Race, Resistance and the Ainu of Japan (London: Routledge, 1996), cc. 61 и 56. 4 Centre for East Asian Cultural Studies, come, and publ., Meiji Japan through Contemporary Sources, t. 2 (Tokyo: 1970), cc. 122–126. 5 Эта и следующая цитаты из Ямагата приводятся по изданию: Roger Е Hackett, Yamagata Aritomo in the Rise of Modem Japan, 1838–1922 (Cambridge: Harvard University Press, 1971), c. 138. 6 Цитаты из Фукудзава (некоторые из них изменены) взяты из книги: Carmen Blacker, The Japanese Enlightenment: A Study of the Writings of Fukuzawa Yukichi (Cambridge: Cambridge University Press, 1964), cc. 124–136. 7 Эта и последующие цитаты из Токутоми приводятся по изданию: John D. Pierson, Tokutomi Soho, 1863–1957: A Journalist for Modem Japan (Princeton: Princeton University Press, 1980), cc. 229–237. 8 Peter Duus, Economic Dimensions of Meiji Imperialism: The Case of Korea, 1895–1910, in Ramon H. Myers and Mark R. Peattie, eds., The Japanese Colonial Empire, 1895–1945 (Princeton: Princeton University Press, 1984), c. 138. 9 William G. Beasely, Japanese Imperialism 1894–1945 (Oxford: Clarendon Press, 1991), c. 48. 10 Hilary Conroy, The Japanese Seizure of Korea: 1868–1910: A Study of Realism and Idealism in International Relations (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1960), c. 255. 11 Donald Keene, The Sino-Japanese War of 1894–1895 and Japanese Culture, in Keene, Landscapes and Portraits (Tokyo: Kodansha International, 1971), cc. 269–270. 12 Bruce Cumings, Korea's Place in the Sun: A Modem History (New York: W. W. Norton, 1997), c. 135. 13 Beasley, Japanese Imperialism 1894–1945, c. 89. 14 Marlene Mayo, Attitudes toward Asia and the Beginnings of Japanese Empire, in Grant К Goodman, comp., Imperial Japan: A Reassessment (New York: Occasional Papers of the East Asian Institute, Columbia University, 1967), c. 18.
ГЛАВА 10
Новые устремления
«В ночь погребения императора, — писал Нацумэ Сосэки в одном из своих самых знаменитых романов, — я сидел за учебниками и слушал уханье пушечных залпов. Для меня это звучало панихидой по уходящей эпохе»{198}. Император Мэйдзи умер 30 июля 1912 г. По мере приближения его похорон, назначенных на 13 сентября, многие японцы погружались в печальные, почти меланхоличные раздумья по поводу того, что значило для страны его долгое правление. С тем же чувством сожаления, которое ухватил в своем романе Сосэки, каждый, казалось, понимал, что уходит в историю эпоха, грандиозная эпоха, в которую Япония сделала первые шаги от традиционности к современности. В бесчисленных специальных редакционных статьях редакторы плакали по поводу последней болезни императора, и тут же, в соседней колонке, перечисляли его достижения: объединение нации, конституционное правление, индустриализация и безопасность страны — все то, что каждый японец считал Мэйдзи но хокори, «гордостью Мэйдзи».
В утро дня похорон генерал Ноги Марэсукэ оделся в полную военную форму и отправился в императорский дворец, чтобы отдать последнюю дань уважения императору. Популярный в народе герой русско-японской войны вернулся домой ближе к вечеру. Разделил скромную трапезу со своей женой Сидзуко. Сразу после захода солнца, когда пушечные залпы возвестили о том, что катафалк с телом императора проезжает через дворцовые ворота, Ноги и его жена сели рядом друг с другом напротив портрета императора. На татами около себя Ноги положил свое завещание. «Я не могу более служить своему господину, — было написано в нем. — Находясь в глубоком горе по причине его смерти, я решил окончить свою жизнь»{199}. Затем генерал взял свой меч и вспорол себе живот, Сидзуко, одновременно с этим, вонзила себе в сердце кинжал.
Акт двойного дзунси — почитаемого, хотя и редкого самурайского обычая следовать за своим господином после его смерти — ошеломил нацию. Для большинства японцев самоубийство никак не вязалось с понятием современности. «Я почти забыл, — писал Сосэки, — о существовании такого слова — дзунси». То, что один из наиболее ярких символов эпохи избрал столь донкихотский, но совершенно невообразимый в данное время способ ухода из жизни, приводило к следующему выводу: эра Мэйдзи не только прошла, но она уже успела стать анахронизмом. Люди, переживавшие общее горе в конце лета и начале осени 1912 г., понимали, что гордость Мэйдзи, первый великий шаг на пути строительства нации, был завершен значительно раньше, в 90-х гг. XIX в. Наступал момент, когда следовало отбросить ностальгию по прошлому и обратиться к перспективам нового столетия.
Вечером дня смерти императора Мэйдзи на трон под именем императора Тайсо вступил его сын. Жизнь его проходила в мире теней, пока он не умер в 1926 г. от душевного расстройства. Правление Тайсо было коротким и омраченным болезнью императора. Тем не менее по своему общему настрою это была оптимистичная эпоха, которая длилась с момента завершения русско-японской войны до Великой депрессии, разразившейся в конце 20-х гг. В эти два с половиной десятилетия многие японцы ощутили, что они живут в качественно другое время, что перед ними открылись новые возможности политической и социальной деятельности, основывавшиеся на «гордости Мэйдзи».
Поиски новых путей модернизации шли по разным направлениям. Одно из подобных направлений, приобретшее впоследствии огромную популярность, было предложено Ни-тобэ Инадзо. Он призывал своих соотечественников превратиться в космополитичных «граждан мира». Нитобэ учился в Соединенных Штатах и Германии, женился на американке, перешел в веру квакеров. Он написал несколько широко известных книг, посвященных анализу японского общества. Нитобэ буквально умолял своих сограждан отказаться от узких рамок этики прошлого. Японцы, настаивал он, должны воспринять те ценности и модели поведения, которые являются общими для всех народов, придерживавшихся демократии и капиталистического уклада. Япония, короче говоря, должна стать частью глобального сообщества, согласно еще одному выражению Тайсо[28], стать «провинцией мира», где такие люди, как Генрик Ибсен и Лев Толстой, «не являются более иностранцами»{200}.
Партийные политики бросают вызов олигархам
Конституция Японской империи, объявленная 11 февраля 1889 г., вводила трехчастное разделение власти и ответственности. По плану Ито, основной закон ставил императора в центр политической системы, определяя его как носителя суверенитета. Согласно конституции, император назначал министров, объявлял войну и заключал договора. Хотя Ито и его товарищи подразумевали, что император будет исполнять роль главы государства, реальную власть они оставляли премьер-министру и его кабинету. Согласно планам Ито, министрами должны были становиться мудрые и расчетливые люди, которые при принятии судьбоносных решений будут исходить из интересов нации в целом. В то же самое время создатели конституции ощущали необходимость допустить, до некоторой степени, участие в политической жизни и простых граждан. Это позволило бы использовать энергию народа на пользу государства. В этом отношении конституция предоставляла населению право избирать Палату Представителей, в сферу компетенции которой входило законодательство и участие в формировании бюджета. В 90-е гг., даже при наличии конституции, ведущая роль при определении и осуществлении государственной политики принадлежала по-прежнему олигархам. Эти люди рисковали всем, сражаясь за свержение режима Токугава, а затем боролись за превращение Японии в индустриальную державу. Поэтому естественно, что Ито и его коллеги пытались сохранить за собой центральные позиции в национальной политике. Для осуществления этой цели они изобрели одну практику, выходившую за рамки конституции, но позволявшую им монополизировать право на место премьер-министра и определять состав кабинета. После объявления конституции император начал употреблять для определения некоторых опытных политиков термин гэнрё, «старшие государственные деятели». Они давали ему советы по различным аспектам государственного управления, в том числе и при назначении министров. Первыми двумя лидерами Мэйдзи, которые были названы старшими государственными деятелями в 1889 г., были Ито и Курода Ки-ётака. Немного позже этой чести удостоились Мацуката Масаеси и Ямагата Аритомо. Будучи неформальными советниками трона, гэнрё просто назначали друг друга на ведущие посты. В ближайшие десять лет, последовавшие за принятием конституции, Ито, Курода, Мацуката и Ямагата по очереди занимали должность премьер-министра. Кроме того, олигархи и те, кто их поддерживал, занимали ключевые позиции в кабинете. Мацуката был министром финансов в кабинете Ямагата, Ямагата был министром внутренних дел в кабинете Курода, Курода — министром коммуникаций у Ито и т. д.
Многие японцы, однако, расценивали созыв первого парламента, состоявшийся в ноябре 1890 г., как начало новой эры в японской политике. Журналисты высказывали разочарование по поводу концентрации власти в руках самоназначающегося кабинета, внутри которого власть передается по кругу, из рук в руки. Читающая публика с этой точкой зрения соглашалась. Опрос, проведенный в 1899 г. журналом Тайё с целью выяснения, кто из национальных деятелей пользуется наибольшей популярностью и уважением, показал, что ни один олигарх не смог приблизиться по числу голосов к таким людям, как Фукучи Гэнъичиро («журналист»), Сибусава Эиичи («бизнесмен») или Фукудзава Юкичи («просветитель»). На самой политической арене закаленные ветераны Движения за народные права критиковали кабинеты 90-х за отсутствие в их идеологии либеральных демократическихпринципов. Называя себя «народными лидерами», такие люди, как Итагаки Тайсукэ и Окума Сигэнобу, которые ранее выступали против, по их собственному выражению, «правительства клики», создали политические партии, чтобы получить места в парламенте. Настойчиво и упорно партийные политики прорывались в коридоры власти. И они в конце концов вырвали рычаги правления из рук олигархов и их ставленников. В период Тайсо началась эпоха партийного управления, когда, как правило, главы ведущих политических партий занимали пост премьер-министра и назначали свои кабинеты. Сражение за контроль над политической судьбой Японии началось 1 июля 1890 г., когда японские избиратели впервые отправились на участки для голосования. Им предстояло избрать 300 депутатов Палаты Представителей. Результаты голосования ободрили сторонников «народных партий». Политики, связанные с Кайсинто, возглавляемой Окума, и Риккен Дзиюто Итагаки, которая официально оформилась как партия в марте следующего года, завоевали большинство в парламенте. В сумме они получили 171 место. После начала работы парламента представителям партий не потребовалось много времени, чтобы взять в свои руки рычаги власти. Раз за разом, на протяжении 90-х гг. XIX столетия депутаты брали слово, чтобы метнуть очередную словесную бомбу в министров или раскритиковать политику правительства. На первых сессиях парламента Танака Содзо обличал чиновников, которые сквозь пальцы смотрели на загрязнение окружающей среды в Асио. Другие партийные политики в то же время нападали на премьер-министров за «провал» их попыток добиться пересмотра неравноправных договоров (что, вероятно, было темой самых эмоциональных выступлений в парламенте в начале 1890-х) или выдвигали такие лозунги, как «Облегчить жизнь народа!», в ответ на предложения кабинетов министров повысить налоги.

Наиболее мощным оружием парламентариев было их конституционное право принимать участие в обсуждении годового бюджета правительства. Ощущая, что они нащупали ахиллесову пяту премьер-министра, партийные политики быстро наточили свои стрелы. Депутаты Палаты Представителей первого созыва добились сокращения расходов, предложенных кабинетом, на 11 %, и такие же требования выдвигались депутатами практически всех последующих созывов. Согласно конституции, в случае несогласия парламента с предложенным бюджетом, кабинет может придерживаться цифр расходов, принятых в прошлом году. Однако ни один премьер-министр так и не пожелал воспользоваться этим правом в десятилетие, когда международная напряженность нарастала и интересы национальной безопасности требовали постоянного увеличения расходов на вооружение. Соответственно, почти каждый год премьер-министры были вынуждены идти на определенные уступки парламентариям, чтобы сохранить в неприкосновенности основную часть своих требований. Кипучая деятельность, развернутая парламентариями в начале 1890-х, привела к возникновению у многих гэнрё стойкой антипатии к партиям. Они осуждали «партизанских» политиков за «слепое» следование своим «узким эгоистичным целям» и за их «разрушительное» поведение, которое делает «невозможным» осуществление премьер-министром и его кабинетом эффективного управления. Не довольствуясь словесной перепалкой, некоторые олигархи искали более изощренные способы ограничения влияния партий. Уже 12 февраля 1889 г., чуть более чем через сутки после того, как император лично передал ему в руки текст конституции, премьер-министр Курода высказался против присутствия партийных политиков на правительственных постах. Поскольку правительство служило императору, а не народу, пояснял свою позицию Курода, на министерские посты следует назначать людей национального масштаба, чтобы кабинеты могли «в любой ситуации оставаться в стороне от политических партий и, таким образом, следовать по пути справедливости»{201}. Несмотря на риторику Курода, олигархи в конце концов были вынуждены пересмотреть свое отношение к политическим партиям. Избиратели раз за разом отдавали большинство голосов за представителей партий. Определенную роль сыграли и философские рассуждения. Несмотря на антипатию, испытываемую к партийным политикам, гэнрё не желали отказываться от эксперимента с конституционным, парламентским правлением. Сделав это, они поставили бы крест на долгих и зачастую болезненных усилиях по строительству современной политической системы, нанесли бы непоправимый урон репутации Японии на международной арене и, вероятно, поставили бы под вопрос пересмотр неравноправных договоров. Ито высказывал беспокойство по поводу того, что даже «одна ошибка в прогрессе и направлении» создания парламентской системы вызовет осуждение со стороны тех представителей Запада, которые уже сейчас «задаются вопросом относительно приемлемости конституционного правления для Востока»{202}. Во время войны 1894–1895 гг. волна патриотизма, захлестнувшая страну, породила неожиданные сотрудничество и гармонию в отношениях между олигархами и парламентариями. Находясь по разные стороны баррикад в тех делах, которые касались внутреннего положения страны, все политики ощутили свое единство в период национальной опасности. Парламент без всяких возражений принимал бюджеты военных лет и оказывал другое содействие кабинету. Опыт совместной работы на всеобщее благо открыл перспективу компромисса между олигархами и партийными политиками. С точки зрения олигархов, достижение согласия обещало мощную поддержку их программ со стороны законодателей, а также подтверждение успешности конституционного эксперимента. Для партийных политиков это было шансом получить должности в кабинете и усилить свое влияние на политику страны. Первые шаги к примирению были сделаны в 1896 г. В апреле Ито отказался от принципа надпартийности правительства и назначил Итагаки Тайсукэ, председателя партии Риккэн Дзиюто, министром внутренних дел в своем кабинете. В конце того же года Мацуката сделал министром иностранных дел Окума Сигэнобу, председателя партии Синпото. Два года спустя, в 1898 г., Итагаки и Окума объединили партии, возглавляемые ими, в Кэнсэйто, Конституционную партию. Будучи уверенными, что новое объединение на грядущих выборах получит решающее большинство в Палате Представителей, гэнрё приняли решение назначить Окума премьер-министром. Его кабинет, сформированный в конце июня 1898 г., вскоре пал жертвой внутренних раздоров вокруг распределения министерских портфелей, не протянув даже одной парламентской сессии. Тем не менее Окума вошел в историю как первый лидер политической партии, ставший японским премьер-министром.
Основные партии, политизированные народные массы и партийные кабинеты
Возникновение Кэнсэйто вдохнуло новую жизнь в ту идею, которую в свое время высказывал Ито: олигархические премьер-министры должны постепенно включать в свои кабинеты партийных политиков. Партии, рассуждал Ито, уже добились представительства в парламенте, а конституция Мэйдзи наделяла гражданскую бюрократию и военных важными полномочиями: бюрократы помогали кабинету создавать и вводить новые законы, а флот и армия защищали страну. Согласно прикидкам Ито, различные политические элиты должны были принимать участие в процессе разработки национальной политики, а эффективная деятельность премьер-министра была возможной только при условии создания широкой базы поддержки путем формирования так называемых кабинетов национального единства. А они, в свою очередь, должны были включать в себя представителей партий, гражданских бюрократов и военных чиновников. Более того, Ито свято верил, что со временем он и сам создаст свою политическую партию. Кроме преданного и хорошо организованного кабинета, премьер-министру, чтобы его действия были эффективными, необходимо заручиться поддержкой Палаты Представителей. В идеале проправительственная партия, сочувствующая олигархам, могла бы контролировать палату, что гарантировало бы отстаивание в парламенте не партийных интересов, а национальных. Ответственные политики в таком случае были бы введены в состав Кабинета национального единства. Под шумные аплодисменты Ито в сентябре 1900 г. объявил, что 111 членов Кэнсэйто присоединились к нему в стремлении создать Риккэн Сэйюкай. Кроме них в состав новой партии вошел еще 41 человек, в основном представители чиновничества. Сэйюкай, как обычно называли эту партию, вскоре заявила о себе на национальной политической арене. Ито возглавлял эту партию до 1903 г., после чего он направился отстаивать японские интересы в Корее, пока пули убийцы не оборвали его жизнь на железнодорожном вокзале Харбина. Место этого выдающегося олигарха во главе партии занял его протеже, знатный придворный Сайондзи Кинмочи. Ранее он хорошо зарекомендовал себя, входя в состав кабинета Ито в качестве министра иностранных дел, образования и финансов. Главным помощником Сайондзи в партийных делах был Хара Такаси, бывший журналист и сотрудник министерства иностранных дел. Он не раз подвергался критике за сочетание в своем поведении утонченного политического чутья с грубыми представлениями об этике. Хара всего себя посвятил делу расширения влияния Сэйюкай. Чтобы завоевать голоса для новой партии, он без оглядки пустился во все тяжкие, обещая школы, мосты, дороги, улучшение портов и строительство железнодорожных магистралей тем регионам, которые проголосуют за кандидатов от Сэйюкай. Партия, находясь под его руководством, также заботилась о благосостоянии губернаторов префектур. Эти чиновники контролировали в своих регионах уплату налогов, что было важным источником подпитки местной экономики. Им также подчинялась полиция префектуры, которую можно было использовать в борьбе с оппозиционными кандидатами. Например, полицейские чины могли положить под сукно заявления, зачастую небезосновательные, что члены избирательной команды Сэйюкай заполняют избирательные урны фальшивыми бюллетенями или подделывают результаты голосования. Хара также стремился не поворачиваться спиной к большому бизнесу, чьи денежные вливания помогали покрыть расходы на избирательные кампании, равно как и рассчитаться с так называемыми выборными брокерами, людьми, которые покупали и продавали пакеты голосов в данной местности. Подобная тактика вызывала определенную критику со стороны общества, но зато она была очень эффективной. С 1908 по 1915 г. Сэйюкай сохраняла за собой абсолютное большинство мест в нижней палате парламента. Ямагата, который так никогда и не изменил своего жесткого отношения к партийным политикам, предпринял контратаку против Сэйюкай. Когда Ито в 1900 г. объявил о создании новой партии, Ямагата тут же мобилизовал своих сторонников из числа военных и гражданских чиновников и членов Палаты Пэров, чтобы поставить на место премьер-министра своего собственного протеже, Кацура Таро. Кацура был родом из того же города, расположенного в домене Сацума, что и Ямагата, но был на девять лет младше своего патрона. Будучи подростком, Кацура сражался против сёгуната Токугава. В новой японской армии он, при поддержке Ямагата, дослужился до генеральского чина. Во время китайско-японской войны он командовал дивизией, после чего занял место военного министра во втором кабинете Ямагата. Находясь с 1901 по 1906 г. на должности премьер-министра, он успешно провел Японию через войну с Россией.
Несмотря на свое положение и значительную поддержку, Кацура в конце концов был вынужден начать считаться с растущим влиянием Сэйюкай. Это привело его к созданию второй основной политической партии Японии. В ответ на ту поддержку, которую Сэйюкай оказала кабинету во время войны с Россией, Кацура настаивает на назначении своим преемником на посту премьер-министра Сайондзи. В дальнейшем, до 1913 г., эти двое поочередно занимали должность главы кабинета. Наконец, Кацура отказался делиться властью с Сайондзи. В феврале 1913 г., в третий раз занимая пост премьер-министра, бывший генерал объявил о создании собственной политической партии. Практически немедленно под его знамена встали многие сторонники ряда небольших партий, также расстроенные успехами Сэйюкай. Хотя 20 февраля 1913 г. Кацура сложил с себя премьерские полномочия, а через несколько месяцев после этого умер от рака, его партия, Риккэн Досикай (переименованная в 1916 г. в Кэнсэйкай, а в 1927 г. — в Риккэн Минсэйто), оказалась весьма удачным предприятием. Появление двух основных партий обеспечило возможность реализации в Японии идеи партийного правительства. Рисовые бунты 1918 г. способствовали созданию механизма чередования партийных кабинетов. Между 1914 и 1919 гг. инфляция военного времени увеличивала розничные цены на большинство потребительских товаров, в то время как доходы многих семей низкого и даже среднего достатка росли значительно медленнее. Когда повышение цен на рис приняло в 1918 г. взрывной характер, увеличившись в некоторых городах только за июль на 60 %, возмущенные потребители решили взять контроль над ситуацией в свои руки. Мятеж начался 23 июля. В этот день женщины в небольшом рыбацком поселке в префектуре Тояма выступили с протестом против цен на рис местного производства. Подобно огню пожара, волнения перекинулись в Осаку, Кобэ, Нагою и другие промышленные центры западной Японии. В целом, к середине сентября, когда волнения закончились, в них приняли участие жители почти пятисот городов и деревень. Казалось, что повсюду разгневанные жители слушали ораторов, присоединялись к маршам и сидячим забастовкам, заставляя торговцев продавать рис по пониженной, «справедливой» цене. Кроме этих мирных акций на улицах городов подчас разворачивались настоящие сражения между протестующими и полицейскими и армейскими подразделениями. Лето 1918 г. продемонстрировало самые крупные акции протеста в новой истории Японии, когда на улицу вышло более миллиона человек. Хотя масштабы протестов 1918 г. носили беспрецедентный характер, толпа уже давно играла свою роль в истории Японии. На заре Нового времени крестьяне и простые горожане писали петиции, собирались перед конторами чиновников даймё и время от времени устраивали бунты, вызванные высокими ценами на рис и политикой правительства. Конституция 1889 г. изменила политическую культуру Японии, гарантировав народу участие в процессе управления государством. Однако это касалось лишь мужчин, достигших двадцатипятилетнего возраста и плативших прямые налоги в сумме не менее 15 йен. Соответственно, только 450 000 человек, что составляло 1,1 % от всего населения, могли в 1890 г. принять участие в голосовании. В 1902 г. налоговый ценз был снижен до 10 йен, благодаря чему на парламентских выборах 1917 г. смогли проголосовать 1,5 миллиона человек, или 2,5 % населения. Люди, лишенные права голоса, на протяжении периодов Мэйдзи и Тайсо принимали участие в многочисленных акциях. В 1897 г. они прошли маршем от Асио до Токио, а в 1905 г. собрались в парке Хибийя. Они это делали как для того, чтобы выразить свое несогласие с политикой правительства, так и для того, чтобы их голоса были услышаны и учтены при определении будущего и их региона, и всей нации в целом. Летом 1918 г. народные массы также выступили в защиту своих интересов. На одном из флангов акций протеста находились потребители, которые требовали от местных чиновников и от кабинета премьер-министра Тэраучи Масатакэ снижения цен на рис, использования правительственных резервов из зернохранилищ, увеличения ввоза из колоний — короче говоря, всего, что было необходимо для уменьшения стоимости зерна и других основных потребительских товаров. Но, помимо того, демонстранты призывали изменить руководство и расширить их права. «Мы — тоже граждане», — заявил один из демонстрантов в Нагойя, а затем, возложив ответственность за волну выступлений на «никчемный нынешний кабинет», он заключил, что «нынешнее правительство должно быть отправлено в отставку»{203}. Ему вторил другой житель Нагойя: «Взлетевшие цены на рис — это преступление, подготовленное кабинетом Тэраучи. И в этом заключается причина того, что мы должны действовать как можно быстрее, чтобы избавиться от правительства, не считающегося с желаниями людей». Подобные призывы основывались на древнем представлении о том, что главной заботой руководства является благосостояние народа. Поэтому мнение народных масс должно учитываться в процессе принятия решений. «Как насчет всеобщего избирательного права? — вопрошала одна из газет, освещавших события лета 1918 г. — Это, конечно, то, чего желают народные сердца. Попросту говоря, нынешние выступления вызваны «непропорциональным разделением власти и богатства». «Справедливое распределение» — вот чего ожидает публика». Действия протестующих вызвали смешанную реакцию со стороны кабинета. Как в 1884 г. в Чичибу и в 1905 г. в Хибийя, олигархическое правительство прибегло к жестким мерам. В помощь местным полицейским силам премьер-министр Тэраучи, бывший генерал и протеже Ямагата Аритомо, направил армейские и флотские подразделения. Всего летом 1918 г. в подавлении волнений, происходивших в 120 районах 28 префектур, приняли участие почти 100 000 солдат и матросов. Обычно простое присутствие вооруженной пехоты заставляло бунтовщиков прятаться за уличными баррикадами. Однако когда солдаты или матросы чувствовали опасность, они могли повернуть свои ружья и пулеметы против протестующих, которые были вооружены только камнями, комьями земли и бамбуковыми мечами. В стычках не погиб ни один военнослужащий, но ко времени завершения волнений в сентябре 1918 г., 30 гражданских лиц были убиты, число раненых было во много раз большим. По всей Японии полицейские бросали диссидентов за решетку, суды работали по принципу конвейера. В одном из токийских судов только за один вечер было рассмотрено 50 дел. К концу года были завершены почти все судебные процессы. В целом более 5000 человек были признаны виновными в различных преступлениях и получили свои приговоры. Большинство было отправлено в тюрьмы, некоторые — пожизненно. Даже такие незначительные проступки, как приобретение риса, после того как демонстранты заставляли торговцев снизить на него цену, карались высокими штрафами или тюремным заключением, в зависимости от настроения судей. С другой стороны, японское руководство прислушалось к многим требованиям, выдвигаемым людьми на улицах. В середине августа правительство объявило, что император Тайсо, заботясь о благосостоянии своих подданных, лично передал 3 миллиона йен в специально созданный национальный фонд помощи. Кабинет добавил к этой сумме еще 10 миллионов. К концу месяца две дзайбацу, «Мицубиси» и «Мицуи», перечислили еще по миллиону йен, доведя общую сумму фондадо 15 миллионов. Кроме того, правительство организовало ввоз в страну дешевого риса из Кореи и Тайваня, разработало план по увеличению посевных площадей в самой Японии, профинансировало строительство дополнительных складов для хранения запасов продовольствия и разработало новые законы, которые регулировали торговлю потребительскими товарами и были призваны предотвратить новые скачки цен. Наиболее значимым достижением народных масс можно считать событие, произошедшее 29 сентября 1918 г. В этот день Хара Такаси, глава Сэйюкай, сменил Тэраучи Масатакэ на посту премьер-министра. Передавая бразды правления руководителю политической партии, император и его советники всего лишь хотели успокоить демонстрантов, выступавших против олигархического кабинета. Для большинства наблюдателей, однако, назначение Хара означало гораздо большее. Оно знаменовало собой создание первого партийного правительства: впервые во главе кабинета встал член партии, имевшей большинство в нижней палате парламента; большая часть министерских портфелей также досталась представителям этой партии, а работа кабинета проходила во время парламентской сессии. Рассматривая это событие в более широком контексте, некоторые комментаторы отмечали, что переход от кабинетов национального единства к партийным был не просто последствием волнений 1918 г. Скорее это был результат долгой борьбы за партийное правительство, начатой еще участниками Движения за народные права и доведенной до логического завершения политизированными народными массами.
Демократия и либерализм Тайсо
Во время своего визита в Японию в 1915 г. Торстен Веблен[29] каждому напоминал о дорогой его сердцу теме: развитие науки и промышленности в Европе и Америке привело к возникновению одинаковых культурных ценностей и параллельных политических институтов, особенно в таких странах, как Соединенные Штаты и Великобритания. Более того, Веблен заявлял о наличии «интеллектуальной похожести» и «психического сходства» между японцами и западными людьми{204}. Соответственно, предсказывал он, по мере дальнейшей модернизации Японии ее граждане все в большей мере будут отказываться от «духа старой Японии» и обращаться к «идеалам, этическим ценностям и принципам», господствующим среди наиболее развитых наций земного шара. В свою очередь, наличие аналогичных ценностей обеспечит поддержку структуре политических институтов, схожих с теми институтами, которые существуют в Европе и Северной Америке. Джон Дьюи[30], посетивший Японию 4 года спустя, был еще более эмоционален. «Идеи либерализма, — писал он в Нью Ри-паблик, — носятся в воздухе»{205}. Демократия уже пустила свои корни в японском обществе, объяснял Дьюи своим американским читателям, и окончательно она установится в нем тогда, когда в Японии кабинет министров будет ответственным «перед парламентом, а не перед императором». Дьюи не сомневался в том, что в конце концов это произойдет. Назначение Хара показало, писал он, что «Япония будет постепенно продвигаться к демократии» и «изменения будут происходить без кровавых потрясений». Дьюи недооценивал важность насилия и протеста в истории Японии, однако события 20-х гг. XX столетия, похоже, подтверждали правильность выводов и Дьюи, и Веблена. Между 1922 и 1924 гг. император и его советники вернулись к практике назначения кабинетов национального единства. В этот период администрацию возглавляли поочередно два адмирала, выдвинувшиеся во время русско-японской войны, и бывший глава Тайного совета. Сами кабинеты в это время состояли преимущественно из карьерных бюрократов и аристократов, являвшихся членами Палаты Пэров. Возвращение к непартийным кабинетам, однако, вызвало недовольство многих японцев и привело к возникновению общенационального движения протеста, призванного «защитить конституционное правление». Когда на выборах, проводившихся весной 1924 г., Кэнсэйкай и Сэйюкай получили практически все места в нижней палате парламента, у гэнрё не осталось иного выхода, как назначить на пост премьер-министра Като Такааки, председателя получившей большинство партии Кэнсэйкай. После этого для императора стало обычной практикой ставить на должность премьер-министра лидера партии или партийной коалиции, имеющих большинство в Палате Представителей, который и формировал кабинет. Между 1924 и 1932 гг. пост премьер-министра поочередно занимали шесть человек. Все они представляли либо Сэйюкай, либо Кэнсэйкай-Минсэйто, а члены этих партий, как правило, получали наиболее важные министерские должности.
Некоторые считали Като дилетантом в политике, которому просто посчастливилось жениться на старшей дочери основателя финансовой империи «Мицубиси». Однако были у него и почитатели, восхвалявшие его как упорного и последовательного защитника идеи партийного правительства. Но, независимо от отношения к бывшему дипломату, было ясно, что создание им кабинета в июне 1924 г. знаменовало собой важный момент в японской истории, а именно — превращение практики созыва партийных кабинетов в обычное явление. Между созданием первого парламента в 1890 г. и серединой 20-х гг. XX в. власть плавно перетекла из рук олигархов и их протеже к партийным политикам. Этот эволюционный процесс прошел несколько поворотных моментов: консенсус между олигархами и партиями, достигнутый в конце 90-х гг. XIX в. создание Сэйюкай в 1900-м и Досикай в 1913-м; назначение Хара Такаси главой партийного кабинета после рисовых бунтов 1918 г.; и, наконец, выразившееся в назначении Като понимание того, что политические партии будут выдвигать на пост премьер-министра своего представителя, получать большинство министерских портфелей и играть ведущую роль в определении политики страны. Практически все понимали, что эпоха партийных правительств настала. Люди открыто говорили о расцвете «демократии Тайсо». Для осуществления этой трансформации не было внесено изменений в конституцию, не были созданы новые политические институты. Сама природа конституции Мэйдзи допускала самые разнообразные отношения между политическими элитами. Поэтому партийные политики могли использовать противоречия между гэнрё и их помощниками. По иронии судьбы, Ито Хиробуми и Кацура Таро, эти два человека, обладавшие диаметрально противоположными взглядами на политику, стали основателями двух основных партий. Независимо от своей принадлежности к той или иной элите, истинные политики, обладавшие новым мышлением, стремились попасть в ряды одной из этих партий. В противоположность Курода Киётака, гэнрё, рассматривавшего кабинет как опору трона, такие партийные лидеры, как Като Такааки, считали, что министры должны быть ответственными перед народом и назначать их следовало из числа избранных членов нижней палаты парламента. Большинство либеральных наблюдателей приветствовали появление партийного правительства. Те, кто отождествлял себя с левым политическим крылом, на самом деле придерживались самых разнообразных точек зрения и расходились друг с другом по отдельным вопросам. В целом, однако, они настаивали на ценности человеческой личности, выступали за свободу высказываний, за равенство полов и приветствовали расширение участия народа в политической жизни и в создании норм культуры. Они не выступали против конституции Мэйдзи, но в 10-х и 20-х гг. XX столетия большинство из них стремились к модификации политических институтов и практик, с тем чтобы восторжествовало более либеральное видение современности. Вероятно, наиболее последовательным сторонником либерализма и парламентской демократии в Японии в эпоху Тайсо был Ёсино Сакудзо. Он был профессором университета, а также писал статьи для ведущих журналов своего времени. Ёсино разделял взгляды тех, кто ранее высказывался в том духе, что главной целью реставрации Мэйдзи было повышение благосостояния народа. Поскольку правительство существует для того, чтобы заботиться о населении страны, рассуждал Ёсино, то сами люди и должны определять степень эффективности его работы. Его кредо, которое он сам определял как минпон суги («демократия, основанная на народе»), привело его к критике Сэйюкай и Кэнсэйкай, поскольку он рассматривал лидеров этих партий как «узко мыслящих» представителей элиты, которые не обращают достаточного внимания на сознание народа{206}. Тем не менее, на его взгляд, народные выборы и кабинеты, ответственные перед парламентом, являются теми механизмами, которые позволяют простым людям самим определять политическую судьбу своей страны. Идеалы Ёсино также подразумевали сочетание демократических парламентских практик с конституцией, утверждающей суверенитет полубожественного императора. Таким образом, японцы могли следовать своей собственной имперской традиции, присоединившись к компании наиболее развитых наций мира, объединенных «духом демократии». В период Тайсо также была сформулирована органическая теория правительства, которая узаконила появление в Японии партийных кабинетов. Наиболее влиятельным сторонником этой линии интерпретации конституции был профессор Токийского университета Минобэ Тацукичи. В своей работе Кэнпо сацуё («Очерк конституции», 1923 г.) Минобэ утверждал, что государство является юридическим лицом, в состав которого входят различные институты, или органы: император, кабинет, парламент, бюрократия и т. д. Подчеркивая, что каждый орган должен функционировать соответствующим образом, чтобы поддерживать здоровье в политическом теле Японии, Минобэ особые роли отводил императору, как «олицетворению государственного суверенитета», и парламенту, поскольку тот «выражает высшую волю государства»{207}. Император и парламент, однако, отделены друг от друга. Соответственно, парламент не может зависеть от власти императора. Он существует как «представительный орган народа». Этот нюанс санкционировал введение в состав кабинетов избранных представителей народа. Конституция, указывал Минобэ, не указывает специально на это обстоятельство. Тем не менее, заключал он, события нового века сделали партийное правительство в Японии «привычной практикой», точно так же, как это было в Британии. Политическая программа, которой придерживалась партия Кэнсэйкай-Минсэйто, также фокусировалась на той идее, что Япония должна в ближайшее время вступить в эпоху либерализма. В отличие от Сэйюкай, которая в период Тайсо приобрела репутацию партии, сочетающей в себе консервативную социальную ориентацию с жестким внешнеполитическим курсом и повышенными расходами на армию, лидеры Кэнсэйкай-Минсэйто более экономно относились к тратам, приветствовали вмешательство правительства в решение социальных проблем и поддерживали сотрудничество с ведущими мировыми державами. Разница между двумя партиями достигла своего апогея в 20-е гг., когда кабинеты Като и Вакацуки сократили расходы на армию, провозгласили борьбу за введение всеобщего избирательного права и разработали законопроект, который гарантировал минимальный уровень социальной безопасности. Не все их начинания воплотились в законах. Но Кэнсэйкай-Минсэйто выступала с инициативами по введению минимальной заработной платы, усилению фабричного законодательства в сфере защиты женщин и детей, созданию страхования от безработицы, расширению программы охраны здоровья рабочих, повышению пенсий гражданским служащим и военным и защите пожилых и немощных людей, а также матерей с детьми. Все это вызывало ассоциации с демократическими государствами Запада и подтверждало мысль Дьюи о том, что воздух был пропитан идеями либерализма.
Кооперативный империализм
Япония окончательно превращается в империю во время Первой мировой войны и в годы послевоенного сотрудничества с западными странами. Основной мотивацией этого по-прежнему являлось стремление сохранить свое место среди ведущих мировых держав. Когда летом 1914 г. в Европе разгорелась война, Япония, следуя статьям англо-японского союзного договора, выступила в конфликте на стороне союзников. 17 августа японский министр иностранных дел направил в Берлин ультиматум, в котором излагались требования его страны. Японцы долгое время таили в себе обиду на немцев за присоединение Германии к демаршу трех держав после китайско-японской войны. Поэтому в ультиматуме можно было встретить некоторые фразы, целиком взятые из германского документа 1895 г. 23 августа 1914 г. император официально объявил о вступлении Японии в Первую мировую войну. К ноябрю японские войска осадили немецкий гарнизон, расположенный в стратегически важной китайской провинции Шаньдун, расположенной на вдающемся в Желтое море полуострове к югу от Маньчжурии. Кроме того, японцы бросили свои силы против германских владений в Микронезии — на Каролинских, Марианских и Маршалловых островах. Империалистические устремления японского правительства были отражены также в печально известном Двадцати одном требовании, представленном китайским властям 18 января 1915 г. Требования были разбиты на пять групп. Первые четыре, с точки зрения японского кабинета, просто подтверждали или немного расширяли права и привилегии Японии в Шаньдуне, унаследованные ею от Германии, запрещали проникновение на китайское побережье третьей силе и продлевали до конца столетия японское присутствие в Маньчжурии, где японцы обосновались после русско-японской войны и откуда они должны были вывести свои силы до 1923 г. Пятая группа, которую японское правительство деликатно обозначило как «желания», а не «требования», имела совершенно иную направленность. Ее статьи призывали китайцев принять у себя японских политических, финансовых и военных советников. Выполнение этих «желаний» фактически превратило бы Китай в японский протекторат. Возмущенная китайская публика ответила бойкотом японских товаров. Даже США, новый союзник Японии, осудил эту акцию. Японские переговорщики дипломатично обошли «желания», но они настаивали на том, чтобы китайское руководство приняло все остальные требования. 25 мая 1915 г. между двумя странами был заключен ряд соглашений, основанных на японских требованиях. Этот день остался в памяти китайцев как день национального позора. В Европе Первая мировая война, принесшая невиданные до этого жертвы и разрушения, завершилась в ноябре 1918 г. Следующей весной ведущие мировые державы собрались в Париже для подписания мирных соглашений и создания таких схем, которые позволили бы сделать мир более стабильным. Многие аналитики называли причиной возникновения идеи «войны, которая положит конец всем войнам», почти маниакальное стремление к приобретению заморских владений, равно как и заключение двусторонних договоров, которые зачастую заключались в тайне и приводили к созданию враждебных блоков, противоположные интересы которых, как казалось, делали вооруженный конфликт практически неизбежным. Чтобы обеспечить будущую стабильность, как считали американские и британские политики, страны должны обуздать свои империалистические инстинкты и заключить многосторонние международные договора, в которых учитывались бы интересы всех сторон. Наиболее последовательным сторонником нового мирового порядка был американский президент Вудро Вильсон. Он был инициатором создания Лиги Наций, которая должна была стать организацией, представляющей интересы всех наций и гарантирующей, что никто более не станет жертвой агрессии. На азиатском континенте в фокусе вильсоновского интернационализма оказался Китай, этот питомник империалистических амбиций. Осенью 1921 г. Соединенные Штаты пригласили все заинтересованные стороны в Вашингтон, чтобы выработать новый порядок для Тихоокеанского региона. Делегатом от Японии на Вашингтонской конференции был Сидэхара Кидзуро. В 1919 г. он был направлен в Соединенные Штаты в качестве японского посла, а по возвращении на родину он дважды, с 1924 по 1927 и с 1929 по 1931 г., занимал пост министра иностранных дел в кабинетах Кэнсэйкай-Минсэйто. Сидэхара должен был блюсти интересы империи. В то же самое время он был твердо убежден в том, что будущее Японии зависит от ее способности реализовать свой экономический потенциал как индустриальной державы и превращения в процветающую торговую нацию. На его взгляд, мир и стабильность в Северной Азии, и, в особенности, в Китае, обеспечат японский бизнес наилучшими условиями для реализации тех преимуществ, которые его страна получила, заключив Симоносекский и Портсмутский договоры. Во время дискуссий в Вашингтоне вновь были подтверждены и другие суждения, сформулированные Сидэхара. По его мнению, Япония не могла позволить себе вновь отгородиться от развитых стран мира, особенно от Великобритании и Соединенных Штатов. За два десятилетия до этого демарш трех держав преподал Японии жестокий урок по поводу того, что случается со странами, у которых нет друзей. В этом контексте направление войск в международный экспедиционный корпус, подавлявший боксерское восстание в 1900 г., и заключение англо-японского союза в 1902-м являлись первыми шагами в деле наведения мостов с Западом. И вот теперь Вашингтонская конференция предоставляла Японии возможность вступить в более тесные взаимоотношения с западными державами. Более того, Сидэхара принял ту точку зрения, что отказ от империалистической борьбы за территории и сферы влияния, на чем настаивал Вильсон, должен создать благоприятные условия для японской экономической экспансии. Соответственно, Сидэхара и его сторонники в политических кругах считали, что Япония должна отказаться от той экспансионистской политики, которая была отражена в Двадцати одном требовании, и присоединиться к усилиям западных держав по сохранению мира и статус-кво в Китае и во всем Тихоокеанском регионе. Эта цель также означала и то, что Япония должна будет придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела Китая и вступить в Лигу Наций, первое заседание которой прошло в ноябре 1920 г. В результате работы Вашингтонской конференции на свет появилась серия пактов и конвенций, которая была воплощением мечты Вильсона о новой дипломатии. 13 декабря 1921 г. представители Японии, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции поставили свои подписи под Договором четырех держав. Это соглашение предусматривало коллективное разрешение проблем, которые могли возникнуть в будущем в Восточной Азии. При этом аннулировался англо-японский союз 1902 г. Все подписанты признавали территориальные владения друг друга и обязались решать все возникающие разногласия путем совместных консультаций. Работа конференции завершилась 6 февраля 1922 г. подписанием Вашингтонского Морского договора и Договора девяти держав. Первый (известный также как Договор пяти держав, поскольку впоследствии свою подпись под ним поставила и Италия) был предназначен для поддержания баланса сил в Тихом океане. Среди наиболее важных положений пакта было установление баланса для крупных судов, таких как авианосцы и линейные корабли. Для американских, британских и японских кораблей вводилось соотношение 5:5:3. Соединенным Штатам было запрещено возводить фортификационные сооружения к западу от Гавайев, Великобритании — к востоку от Сингапура. В реальности это давало японскому флоту в восточноазиатских водах паритет с теми флотами, которые западные державы могли разместить по периметру Тихого океана. Наконец, Договор девяти держав (к которому, кроме стран, подписавших Вашингтонский Морской договор, присоединились Китай, Бельгия, Нидерланды и Португалия) возрождал принципы американской политики открытых дверей. Впервые они были провозглашены в 1899 и 1900 гг. Это был призыв к великим державам «уважать суверенитет, независимость и территориальную и административную целостность Китая», отказаться от дальнейшей экспансии на территорию Китая и придерживаться «принципа равных возможностей для всех наций в торговле и промышленности»{208}. С точки зрения Сидэхара, те направления, которые были намечены Вашингтонской конференцией, сулили его стране большие выгоды. Если говорить о престиже, то вхождение Японии в узкий круг мировых держав, осуществленное в Париже и Вашингтоне, подтвердило ее статус одной из ведущих наций. Что касается коммерческого аспекта, то сложившиеся обстоятельства благоприятствовали продвижению японского бизнеса на растущий китайский рынок и развитию арендованной зоны в южной Маньчжурии. В политической сфере Япония не только сохранила свои колониальные владения, но также добилась подтверждения положений Симоносекского и Портсмутского договоров. Кроме того, она получила от Лиги Наций мандат на управление бывшими германскими владениями на островах Тихого океана, которые японцы стали называть Нанъё, или территории Южного моря. В качестве демонстрации своей доброй воли Япония вывела свои войска с территории провинции Шаньдун.Управление империей
Застолбив за собой место среди империалистических держав, Япония не избавилась от необходимости поисков путей управления своей империей. Одним из первых администраторов, взявших на себя эту роль, был Гото Синпэй, чиновник Министерства внутренних дел, назначенный в 1898 г. губернатором Тайваня. Гото, старательно изучавший колониальную теорию, собрал замечательную библиотеку из современных работ, в которых анализировался опыт европейских империалистов по управлению их заморскими протекторатами. Вдобавок он собрал вокруг себя молодых и космополитичных советников, среди которых был Нитобэ Инадзо. В бытность свою студентом сельскохозяйственного училища в Саппоро он стал непосредственным свидетелем колонизации Хоккайдо, а позднее он занял пост заместителя генерального секретаря Лиги Наций. Для Гото и его подчиненных империализм был глобальным явлением, которое ставило перед каждой страной-метрополией набор прерогатив и обязательств. Япония, как и другие колониальные державы, преследовала свои интересы в заморских владениях. Противовесом соответствующих выгод была та ответственность, которая была связана с цивилизаторской функцией колонизаторов. Они должны были «развивать» зависимые народы. Эта моральная функция по-французски называлась mission civilisatrice[31], по-португальски — política do atraso[32]. В английском языке она превратилась в знаменитую формулу white man's burden («бремя белого человека»). Гото и его коллеги добавили к этому понятию еще два положения. Промышленное и коммерческое развитие было решающим для обоих аспектов колониальной миссии Японии, и та политика, которая вдохнула жизнь в экономическую мечту Мэйдзи, могла приносить пользу не только жителям метрополии, но и туземным обитателям колоний и протекторатов. Сформулировав эти измышления, Нитобэ навел на них лоск красноречивой фразой: «Наивысшей и конечной целью колониализма является развитие человеческой расы. Если мы будем пренебрегать гуманитарной сферой, то наша великаямиссия не достигнет успеха»{209}. На Тайване Гото приступил к осуществлению своей мечты о современном, просвещенном колониальном управлении. Сразу после вступления в должность он начал предпринимать шаги по развитию сельского хозяйства и коммерческой деятельности. Черпая свое вдохновение в практиках Мэйдзи, штаб губернатора насаждал современные сельскохозяйственные технологии, финансировал развитие транспорта и путей сообщения и убеждал японские фирмы вкладывать средства в Тайвань, обещая им взамен монопольное право на покупку тайваньских товаров, низкие налоги и гарантированную прибыль. Результатом этих усилий были значительный рост производства риса, возникновение прибыльной сахарной индустрии и удвоение валового внутреннего продукта Тайваня в эпоху Тайсо. Одновременно администрация Гото заботилась и о «просвещении» местного населения. Используя колониальный опыт других держав, губернатор разработал долгосрочную программу, согласно которой начальное образование делалось более доступным, возводились больницы, улучшались санитарные условия, финансировалось здравоохранение. Тайбэй должен был превратиться в столичный город европейского типа с парками, фонтанами и широкими, обсаженными деревьями бульварами. В начале 20-х гг. XX столетия Япония получила от Лиги Наций мандат на «развитие материального и морального благосостояния и социального прогресса» туземного населения островов Южного моря. Японские чиновники сконцентрировали свои усилия на осуществлении соответствующих проектов. Одетые в белую униформу колониальные бюрократы работали в прохладных бунгало, покрытых пальмовыми листьями. Как и их предшественники на Тайване, они занимались сбором статистических данных и составлением планов постройки дорог и портов, открытием школ и совершенствованием системы здравоохранения и улучшением санитарных условий. В Токио правительственные чиновники и ведущие политики поощряли эмиграцию на острова. Поселенцам предоставлялись новые возможности для повышения уровня жизни, а взамен они должны были создавать сельскохозяйственные колонии и привносить «моральный императив» в модернизацию островов. Многие японцы откликнулись на призыв переселяться на острова Южного моря. К 1939 г. к 5000 местных жителей добавились 77 000 японских колонистов. Некоторые из вновь прибывших занялись рыболовством в прибрежных водах. Часть занялась сельским хозяйством, выращивая в основном кофе и фрукты. Остальные открыли небольшие магазины, продавая под навесами, защищавшими от солнца, разнообразные товары японского производства, которые привносили разнообразие в местный стиль жизни. Вероятно, большинство эмигрантов становились фермерами-арендаторами или наемными полевыми рабочими компании Развития Южных морей. Она была создана в 1921 г. японским предпринимателем. От колониальной администрации она получила налоговые льготы, монополию на рафинирование сахара и право на пользование землей без арендной платы. Впоследствии эта привилегированная организация разделилась на ряд предприятий, от фосфатных рудников до плантаций кокосовых орехов, захватив господствующие позиции в микронезийской коммерции. Активно шло и переселение японцев в Карафуто, расположенный на северной периферии империи. К 1926 г. они составляли уже более 90 % населения колонии, которое равнялось в то время 207 000 человек. Для большинства иммигрантов Карафуто представлялось неотъемлемой частью Японских островов. Это был своеобразный аналог Хоккайдо эпохи Тай-со, сходный с ним ощущением границы и суровым климатом. Гражданский губернатор, назначаемый из Токио, управлял колонией из своей резиденции, расположенной во вновь отстроенном городе Тоёхара. Кроме того, в его обязанности входило координирование действий Мицуи, Мицубиси и Горнорудной компании Кухара по развитию экономического потенциала колонии. В особенности это касалось предприятий по переработке рыбы, добыче леса, угля и нефти. Нехватка транспортных средств тормозила разработку этих природных ресурсов, но к 1925 г. на долю карафуто уже приходилось 10 % от всей добываемой в Японии нефти. Большое количество японцев переселилось в эпоху Тайсо в Маньчжурию. Портсмутский договор предоставил Японии право на оккупацию Квантунской территории, расположенной на южном побережье Ляодунского полуострова. Кроме того, Япония получила в свое управление часть построенной Россией Китайско-Восточной железной дороги. Эта ветка, соединявшая Порт-Артур с Чанчунем, была переименована в Южную Маньчжурскую железную дорогу. Под японскую юрисдикцию попадала также полоса земли, идущая вдоль железнодорожного полотна, ширина которой не была точно определена. Чтобы осуществлять контроль над этими территориями, 1 августа 1906 г. японское правительство создало Квантунскую армию. Четырьмя месяцами позже была организована Железнодорожная компания Южной Маньчжурии. Что касается Квантунской армии, то она являлась частью японских вооруженных сил, направленной непосредственно из Японии для защиты ее интересов в Маньчжурии. Железнодорожная компания представляла собой более сложную организацию, которая сочетала функции как коммерческой компании, так и правительственного агентства. Она была создана при участии частного и государственного капитала и управлялась советом директоров, назначаемых токийским кабинетом. Частные инвесторы получали доход от использования железной дороги, а также от разработки экономических ресурсов региона. В то же самое время на компании лежала ответственность за организацию местного управления, проведение общественных работ, здравоохранение и образование в более чем сотне городов, расположенных в зоне железной дороги. Стремясь превратить Железнодорожную компанию Южной Маньчжурии в мощную колонизационную силу, японский кабинет назначил Гото Синпэй ее первым президентом. К исполнению новых обязанностей он приступил с присущей ему энергией. К концу эпохи Тайсо ЮМЖД обладала настолько развитым сервисом, что поезда-экспрессы стали преодолевать 450-километровый путь от Порт-Артура до Чанчуня со средней скоростью в 56 километров в час. Кроме того, к железнодорожной магистрали добавилась ветка, соединяющая Мукден с Кореей. На станциях, расположенных вдоль линии, были построены отели. Соевые бобы стали экспортироваться на международные рынки. Были открыты новые угольные копи и металлургические заводы, сооружены электростанции. Первоначальные цены на нефтепродукты остались без изменений. На побережье были созданы новые бухты, а Дайрен превратился в один из ведущих портов Тихого океана. Компания инвестировала средства в школы, парки, библиотеки и больницы. Японцы с изумлением смотрели, как сумма годового дохода компании поднялась от 2 миллионов йен в 1907–1908 гг. до 15 миллионов в 1917–1918 гг., а затем — до 34 миллионов в 1926–1927 гг. Подобные масштабы экономического развития превратили Квантунскую территорию в самый индустриально развитый регион континентальной Азии. Более того, поскольку те японцы, которые проживали в зоне железной дороги, пользовались результатами большинства проектов ЮМЖД, к ним пожелало присоединиться большое количество соотечественников. В результате японское население Южной Маньчжурии увеличилось с 25 000 в 1907 г. до 220 000 в 1930 г. Большую их часть составлял, как и в Корее, контингент неудачников и авантюристов. Но были среди них (всего около тысячи семей) и почтенные земледельцы, отправившиеся за море в поисках лучшей доли. Тем не менее эмигранты в основном работали на Железнодорожную компанию Южной Маньчжурии. В Корее на протяжении 1910-х гг. упрямый генерал Тэраучи Масатакэ и его преемники на посту генерал-губернатора сражались с проявлениями диссидентства и возводили фундамент для стабильного колониального правления. Сразу после аннексии японские власти запретили все политические организации, заменили частные газеты единственным официальным печатным изданием и убрали корейские исторические тексты и биографии знаменитых корейцев из библиотек и школ. Чтобы усилить контроль за исполнением новых законов, генерал-губернатор заменил корейскую полицию японской военной жандармерией, предоставив ей право выносить приговоры по «административным правонарушениям», которые не подпадали под юрисдикцию более высоких судебных инстанций. Только в 1916 г. военная полиция вынесла почти 80 000 подобных приговоров. За исключением приблизительно тридцати случаев эти приговоры предусматривали штрафы, тюремное заключение или телесные наказания, такие как битье бамбуковыми палками. В 1910-х гг. чиновники генерал-губернатора были озабочены исполнением правительственного поручения по превращению полуострова в рынок сбыта для товаров, произведенных в метрополии, а также в источник сельскохозяйственной продукции, особенно после рисовых бунтов 1918 г. Чтобы убедиться в том, что местные бизнесмены не будут развивать производства, способные конкурировать с японскими фирмами, направлявшими свои товары в Корею, генерал-губернатор в конце 1910 г. издал так называемый Закон о компаниях. Согласно ему все новые фирмы подлежали обязательному лицензированию. В последующие годы потенциальные корейские предприниматели все чаще отказывались от своих планов, поскольку, в конце концов, понимали, что получить разрешение на их осуществление практически невозможно. Между 1910 и 1918 гг. генерал-губернатор выдал только 105 лицензий, 93 из которых предназначались японским компаниям. В сельских районах жизнь корейцев изменилась кардинальным образом после ревизии всех земель, завершенной в 1918 г. В результате были аннулированы около 40 000 неподтвержденных документально претензий на владение землей. На освободившиеся земли наложила свою руку Компания восточного развития, а также другие японские сельскохозяйственные кооперативы, превратившись таким образом в крупных землевладельцев. Их земли обрабатывали корейские семьи, которые неожиданно для себя попали в категорию арендаторов, вынужденных платить ренту за землю, еще недавно принадлежавшую им. Среди корейцев на протяжении 1910-х гг. росло недовольство японской административной и экономической политикой. Внезапная смерть императора Коджона в начале 1919 г. дала толчок к возникновению народного движения против колониального правления. 1 марта в сеульском Парке пагоды собрались студенты, чтобы зачитать декларацию независимости. По всему городу были расклеены листовки, в которых утверждалось, что бывший император был отравлен японцами, и выдвигались требования применить принципы национального самоопределения, которые столь яростно отстаивал Вильсон, по отношению к Корее. В следующие дни по всей стране прошли такие же мирные демонстрации. В апреле группа, возглавляемая Синмэном Ри, который впоследствии, с 1948 по 1960 г., был президентом Республики Корея, объявила о создании в Шанхае правительства в изгнании. В самой Корее Движение за независимость Самил («Первое Марта») объединило в своих рядах миллион националистически настроенных корейских мужчин и женщин самого разного социального происхождения, которые протестовали против японского колониализма. Японское правительство наконец решило изменить в лучшую сторону свою политику, но не раньше, чем будет задавлено движение протеста. Без всякой жалости полиция избивала и похищала заподозренных в диссидентстве корейцев. Вопиющий случай произошел во время одной полицейской акции, когда корейцев согнали в церковь, которая затем была сожжена вместе со всеми находившимися в ней людьми. К концу лета 7000 корейцев были убиты, 50 000 оказались за решеткой. Зверства, творившиеся в Корее в 1919 г., шокировали многих японцев. Лишь немногие допускали мысль, что это действия колониальных властей спровоцировали возникновение протеста. Некоторые считали, что широкомасштабное сопротивление в Корее подвергает опасности статус Японии как великой державы. «Восстание в Корее, — писал либерал Ёсино Сакудзо, — пятном позора ложится на историю эпохи Тайсо, и мы всеми силами должны стараться уничтожить его. Но, несмотря на наши успешные действия, оно не только бросит тень на честь самой развитой нации Восточной Азии, но также существенным образом повлияет на судьбу нашего народа»{210}. Премьер-министр Хара Такаси пытался изобразить хорошую мину, рассказывая всему миру, что корейцев необходимо обучить, чтобы те смогли в конце концов насладиться гражданскими свободами и большей политической автономией, и что эту цивилизаторскую миссию берет на себя Япония. «Желанием большинства корейцев является не независимость, — пояснял он американскому журналисту, — а достижение одинакового с японцами уровня. Под этим я имею в виду то, что корейцы имеют равные возможности в образовании, промышленности и управлении»{211}. Чтобы успокоить бурю, Хара послал в Сеул нового генерал-губернатора. В августе 1919 г. этот пост занял адмирал Сайто Макото. С собой в Корею он привез инструкции по установлению эры бунка сэйдзи («культурного правления»). Они предписывали заменить жандармскую систему гражданской полицией, отменить Закон о компаниях и ослабить ограничения на издательскую и политическую деятельность. Пока Сайто успокаивал Корею, другие представители Японии отправились на Запад, чтобы разъяснить цели своей страны как колониальной державы. Во время своего турне по Соединенным Штатам Нитобэ Инадзо начинал свои выступления с изложения той идеи, что Япония принадлежит к числу государств, которые «мудро приспособили свое национальное самосознание к законам органического роста» и превратились в «колониальные державы». Корея в то же самое время оказалась среди тех стран, которые, «подобно глупым девам из притчи, оказались неготовыми к вызовам текущего столетия», и поэтому «лишились своей независимости»{212}. Далее Нитобэ замечал: «Я причисляю себя к истинным и самым лучшим друзьям корейцев. Мне они нравятся. Я считаю их очень способным народом, который в настоящее время проходит стадию обучения, а в дальнейшем сможет пользоваться широким самоуправлением». По словам Нитобэ, японская колониальная администрация уже достигла значительных успехов: «Добыча природных ископаемых, рыболовство, производство промышленных товаров уже достигли хорошего уровня развития. Горы, которые ранее были лысыми, теперь покрыты молодыми лесами. Стремительно развивается торговля». Новое японское «культурное правление» обещает еще больший прогресс в будущем. «Изучайте то, что мы делаем в Корее», — вещал Нитобэ аудитории, поскольку «Япония является тем управляющим, на плечи которого возложена тяжелейшая задача по подъему Дальнего Востока». Реакция слушателей на выступления ораторов, подобных Нитобэ, не была однозначной. В пределах самой колониальной империи критики презрительно отвергали риторику о добродетельном патернализме, доказывая, что Япония обычно действовала исходя из своих собственных интересов. Колониальные экономики повсеместно оказываются в подчиненном положении по отношению к потребностям метрополий, и в Корее наблюдается точно такая же ситуация. Программы индустриализации, предпринимаются ли они ЮМЖД, или Компанией по развитию Южных морей, или горнодобывающими и лесными компаниями Карафуто, основную прибыль приносят японским предпринимателям, а не туземным народам. Везде, за исключением Карафуто, колониальные администрации осуществляли жесткий контроль над внутренними делами подвластных им территорий, подавляли любое проявление политической воли, а образовательные программы, предлагаемые местным народам, были далеко не лучшего качества. От Маньчжурии до Южных морей обитатели японских колоний смотрели на империалистов, подобных Нитобэ, как на наивных людей, ослепленных глупой убежденностью в своем моральном превосходстве. Для тех, кто жил под колониальным управлением, не была нова жестокая истина: независимо от громогласных заявлений теоретиков о гуманности их политики, жизненные реалии определялись чиновниками-самодурами, грубыми полицейскими и жадными торговцами. Многие западные наблюдатели, наоборот, благосклонно смотрели на колониальную политику своих товарищей по империалистическому клубу. Американцы и европейцы, побывавшие на Тайване, говорили о «впечатляющем прогрессе», достигнутом благодаря японскому управлению. Они отмечали то «рвение», с которым колониальная администрация воплощала в жизнь свое «желание улучшить социальные и моральные условия обитания туземцев» в Микронезии. Что касается Кореи, то здесь, на их взгляд, Япония проводила политику «благотворительной ассимиляции», направленной на модернизацию страны после того, как в течение столетий «развращенные и слабые монархи… грабили, притесняли и доводили до деградации» свой собственный народ{213}. Даже несмотря на тот испуг, который вселили в них жестокости, проявленные по отношению к гражданскому населению во время Движения за независимость Самил, многие американские миссионеры в Корее приветствовали новую политику Хара и согласились с той оценкой ситуации, которую дал премьер-министр. «Наиболее разумные и предусмотрительные» корейцы, писал в мае 1920 г. епископ Методистской епископальной церкви, «убеждены, что не стоит надеяться на скорое обретение независимости и что они должны настроиться на долгий период усвоения корейским народом физических условий, знаний, морали и способности брать в свои руки рычаги управления»{214}. В начале 20-х гг. XX в. представителям западных наций было легко симпатизировать японцам. Японские колониальные администрации напоминали, как по своему темпераменту, так и по решаемым задачам, европейско-американские образцы. И когда Нитобэ говорил о «гигантской задаче духовного развития» туземных народов, он всего лишь повторял распространенную в то время формулу. Более того, жесткая политика Японии в Корее ничем не отличалась от политики, проводимой британцами, французами и американцами по отношению к ирландским диссидентам и другим колониальным бунтовщикам. Таким образом, несмотря на все ухабы и рытвины, которые японская колониальная администрация встречала на своем пути, многие зарубежные наблюдатели отмечали, что к концу периода Тайсо Япония принесла закон и порядок на территории, находившиеся под ее контролем, разработала многообещающие планы развития для Маньчжурии и Карафуто, приступила к проведению реформ в Корее и на Тайване, а на юге Тихого океана следовала своим обязательствам, предусмотренным мандатом.Городской средний класс
Новые начинания и ощущение перемен, которыми была наполнена атмосфера первых десятилетий XX в., заставили многих японцев по-новому взглянуть на себя, семью и общество. Победы над Китаем и Россией, установление близких отношений с Западом, зарождение парламентской демократии, продолжающийся индустриальный рост, введение всеобщего образования, появление новых видов средств массовой информации — все это, равно как и другие факторы, привели в 10-е и 20-е гг. XX в. к возникновению новых представлений об образе жизни. Стремление к экспериментам в социальной сфере впервые проявилось в крупнейших городских центрах Японии. Существовавшее статус-кво уже не устраивало как нарождавшийся средний класс, так и представителей прежних слоев среднего достатка. Они стремились пересмотреть социальные нормы, чтобы удовлетворить те свои чаяния и надежды, которые они связывали с новым столетием. Большинство газет, как и официальная статистика, включали в средний класс правительственных чиновников, врачей, учителей, полицейских, армейских и флотских офицеров, банковских служащих, корпоративных менеджеров и даже некоторых квалифицированных фабричных рабочих, проживавших в крупных городах, таких как Токио, Осака и Нагойя. В целом все эти люди были хорошо образованны и обладали относительно высоким заработком. Это касалось и женщин, которые проникали в ряды среднего класса в 10-е и 20-е гг. XX в. В основном это были учительницы, телефонистки, машинистки, конторские служащие, продавщицы из универсальных магазинов, автобусные кондукторши, акушерки, медсестры и даже докторши. Последние появились после того, как в середине эпохи Тайсо первое в Японии медицинское училище для женщин, основанное в 1900 г. Ёсиока Яёи, получило наконец полную аккредитацию. Соотношение между количеством работающих женщин и общей численностью городского среднего класса было не очень большим, но оно постоянно увеличивалось. В 1922 г. из 27 миллионов японских работающих женщин приблизительно 3,5 миллиона могли благодаря своим профессиональным занятиям ассоциироваться со средним классом. Эти показатели неуклонно возрастали. К 1926 г. насчитывалось 57 000 медсестер, в то время как в 1911 г. их было всего 13 000. С 1920 по 1930 г. количество женщин — «белых воротничков», работавших в правительстве, удвоилось. В целом, доля представителей среднего класса среди всей рабочей силы Токио выросла с чуть более 5 % в 1908 г. до 21,5 % в 1920-м. В это время представители среднего класса составляли уже 8,5 % населения всей Японии, которое насчитывало в то время 56 миллионов человек. Все это убедило горожан, принадлежавших к среднему классу, что теперь они могут задавать культурный тон для нации в целом. Новые рабочие места были в такой же степени частью японской современности, как и сама концепция среднего класса. В Токио большинство представителей среднего класса работали в деловой части города, в районах Гиндза, Касумигасэки и Маруноучи. Гиндза сохранял за собой репутацию банковского центра и места розничной торговли, приобретенную еще в период Мэйдзи. Расположенный рядом с ним квартал Касумигасэки приобрел популярность на рубеже веков, когда правительство возвело здесь величественные здания Верховного суда, управления городской полиции и большинства министерств. В 20-е гг. XX столетия многие ведущие корпорации начали размещать свои штаб-квартиры в Маруноучи, районе, расположенном на западе от Гиндза, где еще в 90-е гг. XIX в. обосновались предприятия «Мицубиси». Расцвет квартала Маруноучи символизировали два архитектурных сооружения. В 1914 г. было завершено строительство центрального вокзала Токио. Это богато декорированное здание, чьи башенки и галереи были выполнены во «французском стиле», появилось после того, как токийский мэр поручил архитекторам построить нечто такое, что могло бы потрясти весь мир. Вторым символом этого района стало Здание Маруноучи — построенный в 1923 г. крупнейший деловой центр Японии. Мужчины и женщины, принадлежавшие к среднему классу, шли на работу по разным причинам. Для многих решающим фактором были деньги. Большинство холостых мужчин работали для того, чтобы содержать себя, а женатые в большинстве случаев были главными кормильцами в семье. Подобным образом, по результатам опроса, проведенного в Токио в 1922 г., около 13 % женщин были холостыми, разведенными или вдовыми, и значительной их части приходилось содержать своих детей и родителей. Тот же опрос показал, что большинство замужних работающих женщин, принадлежавших к среднему классу, весь свой доход отдавали в семейный бюджет, чтобы их семьи могли повысить свой уровень жизни либо чтобы они просто могли свести концы с концами. Экономические потребности, однако, не были единственной мотивацией. Многие мужчины и женщины, семейные или одинокие, получали удовлетворение от карьерного роста. Других привлекала возможность оставаться холостыми, которую работа могла предоставить. «Я не собираюсь выходить замуж, — писала одна телефонистка, отвечая на вопрос анкеты 1922 г. — и я хочу приобрести такую профессию, которая позволила бы мне быть уверенной в себе»{215}. Новые журналы распространяли информацию об альтернативных возможностях поведения человека в семейной жизни. Наиболее популярным ежемесячным изданием, посвященным проблемам семейной жизни, был Фудзин но томо («Друг женщины»). К концу периода Тайсо его тираж достиг почти 3 миллионов экземпляров. Его основательницей и редактором была Хани (урожденная Мацукота) Мотоко. Она использовала измененные формы риесай кэнбо и хому для того, чтобы сформулировать новую концепцию, которая сочетала традицию с современными взглядами на социальные отношения. В частности, авторы статей, публикуемых в журнале, призывали женщин развивать свои способности и таланты, реализовывать свой потенциал и делать карьеры в образовании, медицине и других сферах профессиональной деятельности. В то же самое время Фудзин но томо приветствовал замужество и семейную жизнь, из публикации в публикацию рассказывая о том удовлетворении, которое может получать любящая мать и хорошая домохозяйка. Образ, создаваемый журналом, можно назвать «супермамой» эпохи Тайсо. Это была некая идеализированная женщина, способная сочетать свободу женского самосознания с бременем традиционных обязанностей и выдерживать баланс между потребностями карьеры и личной жизнью. Судьба Мотоко являлась отражением того образа, который был нарисован на страницах ее журнала. Она родилась в 1873 г. в семье бывшего самурая, основным занятием которого было разведение лошадей в префектуре Аомори. Мотоко была в первом выпуске Токийской Первой высшей школы для девочек, который состоялся в 1891 г. Приняв христианскую веру, она продолжила свою учебу в школе Мэйдзи для женщин (директором которой была Ивамото Ёсихару, впервые провозгласившая принцип хому), влюбилась в молодого человека из Киото, вернулась в Северную Японию, чтобы преподавать в начальной школе, а затем — в католической школе для девочек. В 1895 г. она вышла замуж за своего поклонника из Киото. Замужество не принесло ей ничего хорошего. «Будучи образованной женщиной с северо-востока», писала Мотоко в своей автобиографии, она с трудом переносила жизнь в «нестерпимо вульгарной» столице империи. После того как ее муж «начал пить», она переехала в Токио, чтобы «найти более осмысленный путь в жизни»{216}. Некоторое время она работала в качестве служанки в доме первой японской женщины-врача Ёсиока Яёи. Там она познакомилась со многими женщинами, ориентированными на профессиональную карьеру. В 1897 г. она получает место редактора в крупнейшей токийской газете Хони Синбун, Обладая великолепными способностями, Мотоко становится первой в Японии женщиной-репортером. Темы ее публикаций, такие как воспитание детей или роль религии в жизни простых людей, всегда были близки проблемам повседневной жизни читателей. В 1901 г. Мотоко вышла замуж за журналиста Хани Ёсикадзу, который был на семь летее младше. Впоследствии он стал ее партнером в журналистских и образовательных предприятиях. У них родились две дочери, а в 1903 г. они начали издавать Катэй но томо («Друг дома»), который они переименовали в 1908 г. в Фудзин но томо, Мотоко рассматривала публицистику как способ обсудить «привязанность к устаревшим ценностям», пробудить «новое видение» и вызвать к жизни «свободное развитие личности». В последующие годы появились статьи, комментирующие эмоциональную жизнь женщин, проблемы их устройства на работу. В них обсуждались важность союзов потребителей и избирательное право для женщин, а также приводились практические, хоть и с небольшим уклоном в дидактику, советы относительно семейных бюджетов, здоровья и обучения детей. Журнал приобрел огромную популярность, и в 1921 г. Мотоко и ее муж основали училище, Дзию Гакуэн, которое открылось в следующем году в здании, проект которого разработал Фрэнк Ллойд Райт. Слово дзию («свобода») в названии училища символизировало веру Мотоко в то, что женщины должны быть «свободными» в своих мыслях, брать на себя ответственность и верить в Христа. Ее достижения сделали ее образцом для многих женщин, однако в своей автобиографии она постоянно напоминала, что домашние обязанности и профессиональные занятия постоянно дополняли друг друга в ее жизни. «Наш дом был центром нашей работы, — писала она о себе и своем муже, — и наша работа являлась продолжением нашей домашней жизни. Мы оба трудились, не проводя границы между своими обязанностями. Я поистине благодарна этому идеальному союзу, который был сущностью нашей работы и нашего брака. Мы вместе искали свое место в жизни». В статьях в журналах, подобных Фудзин но томо, а также в основных городских газетах очень часто употреблялся термин «культурный» по отношению к новому городскому среднему классу. Типичная семья в них представлялась следующим образом. Проживала она в городе или в ближайших предместьях, где она имела свой собственный бунка дзютаку, двухэтажный «культурный дом», состоявший из четырех или более комнат и обладавший такими современными чертами, как кухня и гостиная европейского стиля. Муж, жена и дети, в свою очередь, представляли собой «культурную семью», основную ячейку, которая вела все более космополитичный образ «культурной жизни». Дом был важным элементом для этой идеализированной семейной жизни, а его наиболее существенными деталями, вокруг которых строилось совместное существование, стали пианино и радиоприемник. Первые радиостанции начали действовать в Токио, Осаке и Нагойе в 1925 г. В следующем году правительство преобразовало эти три независимые компании в национальную монополию, NHK (Nihon Hoso Kyokai, «Японскую радиовещательную корпорацию»), которая на протяжении двух десятилетий оставалась единственной радиовещательной корпорацией в стране. Между 1926 и 1932 гг. количество радиоприемников выросло с 350 000 до 1,4 миллиона. На протяжении этого времени радио оставалось преимущественно городским средством массовой информации. В 1932 г. приблизительно 25 % городских семей обладали радиоприемниками — против 5 % сельских жителей. В своем культурном доме семья представителей среднего класса могла собраться в гостиной, чтобы насладиться западной классической музыкой или послушать «радиороманы» или комедии, написанные специально для трансляции их по радио. Семья, принадлежавшая среднему классу, наслаждалась теми развлечениями, которые предоставлял ей ритм современного города. Если верить романам, газетным публикациям и гравюрам, по воскресным и праздничным дням мать, отец и их дети направлялись в центр города на общественном транспорте (в 1903 г. токийские конки были заменены трамваями, которые вскоре начали перевозить более чем по 100 000 пассажиров в день, а в первый год периода Тайсо в столице появились первые такси). В городе семья предавалась развлечениям в соответствии с сезоном. Это были те развлечения, которые были знакомы токийцам на протяжении поколений. Весной можно было прогуляться вдоль набережных реки Сумида, любуясь цветущими вишнями. Осенью в дни религиозных праздников люди посещали святилища, покупали у уличных торговцев амулеты и специальную еду. Постепенно семья периода Тайсо начала прокладывать маршруты в новые городские парки. Первый публичный парк, названный Уэно, был открыт в 1878 г. на северной окраине города. К эпохе Тайсо на его территории размещались зоологические сады, несколько художественных и научных музеев и первый в Японии зоопарк. Однако главным символом Тайсо был парк Хибийя, размещенный в центре столицы. Он был открыт в 1903 г. на месте бывшего плац-парада. В Хибийя, где в свое время собирались демонстранты, протестовавшие против Портсмутского мирного договора, семьи среднего класса могли любоваться самыми старыми деревьями города, а также валами и рвами бывшего замка Эдо. Однако для большинства посетителей наиболее привлекательными были те места парка, которые были оформлены в западном стиле: лужайки и сезонные клумбы; спортивная арена, посвященная самому модному помешательству тех дней — катанию на велосипедах; монументальный фонтан, представлявший собой фигуру журавля, из поднятого клюва которого била мощная струя воды; современная эстрада, накрытая сверху огромным куполом, на которой по воскресеньям и в дни национальных праздников играл оркестр; и, наконец, ресторан, в котором можно было отведать блюда, приготовленные по западным рецептам. Семья периода Тайсо также посещала и современные универсальные магазины. На небольшом расстоянии от парка Хибийя располагались огромные универмаги Мицукоси и Сирокийя, надо было лишь пройти пешком через квартал Гиндза. Эти два магазина стояли друг напротив друга по обоим концам моста в Нихонбаси, где ранее располагался торговый центр Эдо. Если их местонахождение было традиционным, то сами магазины были абсолютно современными. В 1911 г. Сирокийя (предшественник современной сети магазинов Токию) для привлечения покупателей возвел впечатляющее эклектичное четырехэтажное здание, снабженное первым в Японии лифтом. Обслуживали этот магазин женщины-продавщицы, одетые в одинаковую униформу западного образца. Три года спустя компания Мицукоси (в 1904 г. под этим названием был зарегистрирован бывший галантерейный магазин Мицуи) построила пятиэтажное сооружение в стиле Возрождения. Это было самое крупное здание к востоку от Суэца. В нем была система центрального отопления, первый в Японии эскалатор, несколько лифтов и бесконечные ряды стеклянных витрин. В универсальных магазинах семьи среднего класса могли приобрести самые последние новинки промышленности: молочный шоколад и карамель Моринага (в продаже с 1913 г.), мыло Мицува (с 1916 г.), авторучки Пилот (с 1918 г.), кальпис (безалкогольный напиток на основе молока, с 1920 г.) и швейные машинки с ножным приводом (с 1924 г.). Новые универсальные магазины, однако, привлекали к себе средний класс не только товарами, но и культурными развлечениями. В них располагались комнаты для игр, выставки, зимние сады и рестораны с западной кухней, которые превращали посещение Мицукоси или Сирокийя в приятное событие для всех членов семьи.Отчаянная молодежь
Вскоре семьи среднего класса столкнулись в глазах молодых людей с моги и любо. Это были культурные идолы для студентов и прочих молодых холостяков в главных городских центрах Японии. Сами слова, вошедшие в загадочный лексикон сленга конца периода Тайсо, являлись сокращенными формами от модан гаару и модан бои. которые, в свою очередь, произошли от английских словосочетаний modem girl («современная девушка) и modem boy («современный юноша»). В середине 1920-х этих молодых людей можно было узнать даже в толпе. Мога предпочитали носить короткую стрижку, оставлявшую открытыми уши и заднюю часть шеи, шокирующе короткие юбки с вызывающими узорами, туфли на высоком каблуке и прозрачные чулки, позволяющие любоваться их ногами. Что касается мобо. то в одной популярной песне тех лет говорилось, что они носят голубую рубашку с зеленым галстуком, брюки клеш, шляпу-котелок и ройдо (образовано от слова «Ллойд») — очки в роговой оправе, которые сделал популярными актер Гарольд Ллойд. Волосы свои они зачесывали назад, оставляя открытым лоб и не делая пробора. Токийские мога и мобо превратили свои прогулки по Гиндза в форму искусства. В это время они породили еще одну новую идиому — Гинбура. Ее первый слог был взят из слова Гиндза, а второй — из бу рабура. которое означало бесцельно шататься по улицам в поисках развлечений. На территории Гиндза молодые люди могли посетить пивные бары и кабаре, зайти в джазовые клубы, размяться на танцевальных площадках и посмотреть в театрах пьесы, авторами которых были как японские авторы, так и такие западные мастера, как Генрик Ибсен и Морис Метерлинк. Другим любимым местом посещения был район Асакуса, знаменитый своими кинотеатрами, которые были невероятно популярны. Тут находился первый японский стационарный кинотеатр «Дэнкикан» («Электрический дворец»), открытый еще в 1903 г. Не менее знаменитой была и «Опера Асакуса». Этим словосочетанием обозначались все музыкальные произведения, начиная от классических западных оперных произведений, таких как «Риголетто» и «Волшебная флейта», в исполнении японских артистов, до хорового пения и фарсов местного производства. Полусвет Гиндза и Асакуса дал жизнь многочисленным звездам кино и театральных подмостков, которые ухватили образ японской молодежи и способствовали распространению новой городской культуры по всей территории страны. Первой по-настоящему национальной звездой нового века была Мацуи Сумако. Она родилась в 1886 г. в сельской местности. В 1902 г. она приехала в Токио, работала швеей, дважды неудачно выходила замуж и в 1905 г. присоединилась к драматическому кружку, где и нашла свое настоящее призвание. В 1911 г. Нора из ибсеновского «Кукольного дома» в ее исполнении вызвала бурную дискуссию на страницах журналов и газет вокруг суждения, что ни замужество, ни власть мужчины в доме не должны расцениваться как священные догмы. Двумя годами позже молодая красивая актриса появилась в пьесе Германа Зудермана Die Heimat[33], которая в Японии шла под названием Магда (по имени главной героини). Во Франции и Италии эту роль исполняли величайшие актрисы того времени — Сара Бернар и Элеонора Дузе. А в Японии Мацуи вновь сотворила сенсацию, создав образ молодой женщины, которая, переступив через запреты отца, стала оперной певицей. Мацуи, с творческой и энергичной натурой, практически в одиночку создала абсолютно новый рынок индустрии звукозаписи. В 1914 г. она совершила турне по Японии со спектаклем по роману Льва Толстого «Воскресение» и сделала фонографическую запись «Песни Катюши». Всего было продано 20 000 копий этой записи, что явилось началом бума популярной музыки. В следующее десятилетие на страну хлынул поток новых музыкальных записей, увлекший за собой души тех молодых японцев, которых больше заботили сиюминутные развлечения, чем будущая ответственность. «Март в Токио» (Токио косин-кьоку), написанный в 1929 г. для одноименного кинофильма, исполнялся во всех кафе и барах столицы. Он ввел в японскую речь еще несколько неологизмов, образованных от западных терминов. Среди них были дзадзу (джаз), рикиюру (ликер) и данса (профессиональный партнер в дансинге):Хани Мотоко и Мацуи Сумако были космополитками. Им были хорошо известны те нормы поведения, социальные правила иинтеллектуальные тенденции, которые стали общими для всех представителей модернизированных наций. Они демонстрировали огромную жизненную силу и взрывную энергию, которые характеризовали эпоху Тайсо, когда японцы, независимо от своего происхождения и образа жизни, стремились воспользоваться новыми политическими, профессиональными и социальными возможностями, открывшимися перед ними. Но, если разобраться, эти две женщины занимали полярные позиции. Хани апеллировала к женщинам среднего класса, которые находили удовлетворение в семейной жизни, доме и своей профессии. На фоне их ценностей и их поведения мога выглядели толпой гедонисток, потакающих своим желаниям. Мацуи, наоборот, была блистательным культурным кумиром для тех молодых женщин, которые считали себя или хотели стать полностью независимыми личностями и чей образ жизни был насмешкой над традиционализмом буржуазных матрон. Деятельность как Хани, так и Мацуи, проходившая в одно и то же время, отражала те тенденции и разнообразие мнений, которые сопровождали появление новых устремлений в эпоху Тайсо. Для многих японцев либеральная демократия, сотрудничество с Западом, патерналистский колониализм и приобщенность к культурной среде, в которой Ибсен и Толстой «более не являлись чужаками», стали главным путем для развития, дорогой, ведущей к прогрессу, следуя по которой они в конце концов могли бы превратиться в граждан мира, оставаясь при этом японцами. Однако далеко не все их соотечественники разделяли эту точку зрения. Как образ жизни среднего класса не смог сочетаться с такими женщинами, как Мацуи, так и у некоторых представителей японской нации вызывали сомнения ценности демократии, капитализма и сотрудничества с западными державами. В 10-е и 20-е гг. XX столетия все громче звучал протест тех японцев, чаяния которых не находили удовлетворения. Споры и разногласия превратились в неотъемлемую часть того динамизма, которым была наполнена эпоха Тайсо.
ГЛАВА 11
Бурные двадцатые
Каваками Хадзимэ, один из ведущих японских экономистов, на заре нового столетия считал, что индустриализация принесет немалые выгоды его соотечественникам. Успехи экономического развития, по его мнению, уже сделали Японию более могущественной державой, а товары, производимые ее фабриками и мастерскими, значительно повысили уровень жизни. Предоставление всем жителям Японии, богатым и бедным, возможности приобретения материальных товаров, делающих жизнь более комфортной, в глазах Каваками имело первостепенную важность, поскольку он был по натуре своей гуманистом, исповедующим принцип абсолютного бескорыстия. В 1905 г., в возрасте 25 лет, он оставляет свою жену и ребенка и присоединяется к буддийской секте Сад Самоотверженности. Во время медитации он впадает в состояние глубокого мистического транса, «заглянув прямо в глаза смерти». В себя он пришел будучи охваченным непреодолимым желанием избавиться от всех личных желаний и посвятить себя служению обществу путем его просвещения. Как неоднократно повторял сам Каваками, сочетавший в своей вере различные религиозные традиции, сердцем его морального кредо были слова Нагорной проповеди Христа: «Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мат. 5, 42).
В 1908 г. он получил место преподавателя на экономическом факультете Киотского университета. В последующие годы он начал все чаше задаваться вопросами по поводу индустриализации, которая раньше вызывала в нем столько энтузиазма. Повсюду вокруг себя он видел проблемы и несправедливое распределение материальных благ. Сперва он объяснял для себя возникновение разницы между жалким существованием рабочего и сытой жизнью среднего класса неразвитостью японской экономики. Однако, посетив в 1913–1915 гг. Европу, он убедился, что бедность присутствует даже в самых развитых индустриальных обществах. Разница между богатыми и бедными всегда будет существовать, писал он в своей популярной работе Бинбо моногатари («Сказания о бедности», 1917 г.), поскольку индустриализация непосредственно связана с этикой преследования своих интересов, а капитализм превращает эксплуатацию в добродетель.
В поисках путей ускорения экономического развития Японии и ликвидации бедности, Каваками начал изучать социалистические теории. Постепенно он приблизился к марксистской теории. Наконец он обнаружил высказывание, что каждый индивид должен работать исходя из своих способностей и получать в соответствии со своими потребностями. Эта идея перекликалась с гуманизмом Нагорной проповеди. Для Каваками марксизм стал мощной альтернативой капитализму, поскольку он обещал как быструю индустриализацию, так и справедливое распределение материальных благ. В 1928 г., приняв близко к сердцу замечание студентов о том, что истинность любой теории проверяется на практике, кроткий профессор отказывается от своей должности в Киотоском университете. Теперь он ведет беседы с рабочими и оказывает помощь кандидатам от левых сил во время парламентских избирательных кампаний.
Путь Каваками от ученого до политического активиста был его собственной судьбой, но при этом он символизировал те перемены, которые произошли в головах многих японцев в период Тайсо. Как Хани Мотоко и Мацуи Сумако бросили вызов традиционному видению женщины и семьи, так и многие другие поднимали вопросы по поводу эффективности индустриального капитализма, разумности политики дипломатического сотрудничества и способности парламентской демократии найти решение тех проблем, с которыми столкнулись как нация в целом, так и отдельные люди. 20-е гг. стали временем бурных дебатов по поводу политического, экономического и социального будущего Японии.
Контрасты современной экономики
Несмотря на резкий скачок цен на рис для городских потребителей, Первая мировая война весьма благоприятно отразилась на многих сферах предпринимательской деятельности. Уход британских торговцев с рынков Индии и Китая открыл перед японскими фирмами возможности увеличения продаж текстиля и других потребительских товаров в этих регионах. В самой стране западный импорт, исчезнувший с прилавков магазинов, заменялся товарами местного производства. Более того, возникшие в начале столетия и едва оперившиеся предприятия тяжелой промышленности, такие как «Сталь Кобэ» (создана в 1905), Горнодобывающая компания «Мицуи» (1911), Электрические производства «Сумитомо» (1911) и государственная компания «Железные и стальные работы Явата» (1901), получили значительную прибыль от огромных заказов, размещенных на них западными союзниками. Они производили необходимые для действующих армий снаряжение, инструменты, химические вещества, цемент, сталь и железо. Торговым флотам воюющих держав требовались новые корабли, и японские судостроители увеличивали свои производства, чтобы удовлетворить все запросы заказчиков. В целом с 1914 по 1918 г. валовой национальный продукт Японии вырос на 40 %. Среднегодовой прирост составил приблизительно 9 %. Доходы росли, зачастую достигая у ведущих компаний 50 % оплаченной части акционерного капитала. По данным Японского ежегодника 1919–1920 гг. количество «миллионеров»-нирикин с 1915 по 1919 г. возросло на 115 %. Япония, получившая толчок к развитию во время Первой мировой войны, в 20-е гг. прошла несколько этапов на пути превращения из страны с экономикой, основанной на сельском хозяйстве и легкой промышленности, к державе, в экономике которой основную роль играет тяжелая промышленность и урбанистическое заводское производство. На протяжении 20-х гг. XX столетия доля промышленного производства в валовом национальном продукте сначала догоняла, а затем превзошла долю сельскохозяйственного производства, как это показано в таблице 11.1. В то же самое время недавно созданные предприятия тяжелой промышленности постоянно увеличивали выпуск продукции. В начале 1890-х, накануне войны с Китаем, Япония все еще оставалась крупным импортером промышленных товаров, в то время как на экспорт она поставляла сырье (см. таблицу 11.2). К концу Первой мировой войны ситуация претерпела значительные изменения. 90 % японского экспорта стали составлять промышленные товары, в импорте сырье начало преобладать над готовым продуктом. Многие наблюдатели стали склоняться к мнению, что структура японской экономики соответствует модели, присущей развитым индустриальным странам Запада. Несмотря на впечатляющий рост, развитие Японии как сформировавшейся индустриальной державы в период Тайсо сопровождалось возникновением серьезных проблем. Одна из них, вызывающая особое беспокойство, была связана с характером японской экономики, который напоминал американские горки. Несмотря на то что чистый внутренний продукт в эпоху Тайсо вырос в 1910-х гг. на 60 %, а в 1920-х — еще приблизительно на 30 %, Япония пережила резкие спады после войн с Китаем и Россией. Как показано в таблице 11.1, лихорадить ее продолжало и в 20-х гг. Развитие индустриализации и рост торговли Японии во время Первой мировой сделали островную нацию более чувствительной к колебаниям мировой экономики. Особенно сильно это ощущалось после того, как бум военного времени сменился резким сокращением потребности в японском экспорте, а западные торговцы вернулись на свои традиционные рынки Южной Азии. Едва японский бизнес выкарабкался из послевоенной ямы, на него обрушилась новая беда. 1 сентября 1923 г. Великое землетрясение Канто разрушило Токио и окрестные города. Толчки начались в тот момент, когда люди начинали готовить обед. Землетрясение и вызванные им пожары унесли более 100 000 жизней. В Токио было разрушено более 60 % жилых зданий. На пространстве от Токио до Иокогамы, которое являлось самой развитой индустриальной зоной Японии, не осталось практически ни одной фабрики или мастерской.

Чтобы стимулировать восстановление национальной промышленной базы, японское правительство предоставило банкам новые источники кредитования. За счет этих средств выделялись средства на восстановление различных производств. В стране вновь начался экономический рост. Но весной 1927 г. начали распространяться слухи о том, что банки, предоставлявшие ссуды, находятся на грани банкротства. В апреле запаниковавшие вкладчики стали забирать свои сбережения. Десятки кредитных учреждений захлопнули свои двери, и правительству пришлось объявить трехнедельный банковский мораторий. В следующем году финансовый сектор смог привести в порядок свои балансы, однако лишь для того, чтобы наблюдать, как японскую экономику засасывает воронка великой депрессии, возникшая в 1929 г после крушения американского рынка ценных бумаг. Другие проблемы проявились в тот момент, когда в период Тайсо производственный сектор японской экономики начал явственно распадаться на две половины. Верхний уровень дуальной структуры (как ее стали называть экономисты) состоял преимущественно из производств тяжелой промышленности, компаний, входивших в состав ведущих дзайбацу, а также некоторых крупных текстильных фирм, таких как Канэбо. Эта последняя возникла в 1887 г. под названием Канэгафучи Босэки, в 1889 г. вошла в состав дзайбацу Мицуи, а позднее перешла на производство косметики и парфюмерии. На нижнем уровне находились мелкие и средние фабрики, производившие текстиль и другие потребительские товары, которые они могли продавать по рыночным ценам, а также мелкие субподрядчики крупных фирм.

Еще одной характерной чертой модернизации японской экономики было то, что мелкий и средний бизнес продолжал существовать, приобретая все более конкретную форму. Даже в 1929 г. около 20 % производства промышленных товаров приходилось на фирмы, на которых трудилось не более 4 человек. Еще 40 % производили предприятия с количеством рабочих от 4 до 99. Более того, в 20-х гг. XX в. рост рабочих мест осуществлялся именно за счет подобных предприятий. По данным статистики, в 20-х гг. количество рабочих мест увеличилось на 11 %. В то же самое время количество рабочих мест на предприятиях с более чем пятью сотнями работников снизилось до 19 000 (16 % от аналогичного показателя 1920 г.). Таким образом, на протяжении почти всего периода Тайсо неожиданно большая доля японского промышленного производства приходилась на относительно небольшие мастерские или фабрики, которые имели много общего с предприятиями легкой промышленности эпохи Мэйдзи и совсем не напоминали бастионы современной тяжелой промышленности, дымящие трубы которых должны были доминировать в пейзаже Тайсо. Жизнь зачастую была трудна как для рабочих, так и для владельцев небольших предприятий, находившихся в нижней части дуальной структуры. Эти фирмы обычно располагали небольшими капиталами и скудным оборудованием. Поэтому сокращения заработной платы, увольнения и банкротства превращались в обычное явление во время периодических спадов в экономике. Более того, производительность и доходы на протяжении 1920-х оставались низкими. Ситуацию усугублял тот факт, что на каждое рабочее место претендовало несколько кандидатов, поэтому работодатели могли не утруждать себя повышением зарплат. К своему разочарованию, большинство мужчин и женщин, работавших на малых и средних предприятиях в послевоенную эпоху, обнаружили, что их реальный заработок снижается из-за повышения стоимости жизни. Разница в зарплате работников предприятий верхнего и нижнего уровня дуальной структуры достигала значительных размеров (см. таблицу 11.3).

Развитие японской экономики в эпоху Тайсо тормозили и недуги сельского хозяйства. В период между 90-ми гг. XIX столетия и концом эры Тайсо материальные условия существования в сельской местности значительно улучшились. Однако повышение уровня жизни в деревне не всегда приносило с собой экономическую стабильность. Земледелие продолжало оставаться рискованным предприятием, и неурожай или резкое падение цен на зерно могли привести к катастрофическим последствиям. Экономический бум времен Первой мировой войны, повлекший за собой повышение цен на рис и шелковые коконы, которые разводили две японские фермерские семьи из пяти, принес японским крестьянам хорошую выгоду. Послевоенное десятилетие, однако, было наполнено рисками. После 1918 г. доходы от продажи риса сильно упали, поскольку правительство стимулировало импорт дешевого риса из Кореи и Тайваня. Цены на коконы между 1925 и 1929 гг. упали на 30 %, а до 1931 г. они снизились еще на 3 %. В 20-х гг. по всему миру собирали богатые урожаи. Это означало, что японские крестьяне не могли рассчитывать на хорошее вознаграждение за выращенные ими продукты. Цены на сельскохозяйственную продукцию сначала упали, а потом в течение нескольких лет находились на крайне низком уровне. Поэтому 20-е гг. XX столетия превратились для сельского хозяйства в одну сплошную полосу спада. Психологические страдания, вызванные тяжелыми временами, усугублялись значительной разницей в доходах горожан и крестьян. Кроме того, многие сельские жители ощущали, что они не обладают таким доступом к образованию и культуре, каким располагали обитатели городов. Осознавая невыгодность своего положения, фермерские семьи и их представители все сильнее начинали выказывать недовольство сложившейся ситуацией, и их протест превратился в мощный фактор политики межвоенного периода.
Строптивые арендаторы
Главный удар спада в сельском хозяйстве приняли на себя те фермерские семьи, которые арендовали часть земли. С начала столетия наблюдался постепенный рост числа земледельцев, которые, владея своей землей, арендовали дополнительные поля. К 1917 г. около 41 % всех крестьянских семей были подобными владельцами-арендаторами. Еще 28 % были чистыми арендаторами, у которых не было своей земли. И только 31 % японских крестьян владели всей той землей, которую они либо обрабатывали сами, либо отдавали в аренду. Как владельцы-арендаторы, так и «чистые» арендаторы за пользование землей повсеместно платили высокую ренту. Обычно она достигала половины урожая. Такая рента была установлена еще в первые годы эпохи Мэйдзи. Однако на земледельцах Центральной и Западной Японии немедленно сказывались колебания рыночных цен, поскольку основной доход они получали от продажи таких имеющих коммерческую ценность продуктов, как рис, ячмень, пшеница, табак и коконы. Падение цен на зерно влекло за собой негативные экономические последствия и для арендаторов-владельцев и арендаторов, а послевоенный экономический спад не позволял компенсировать потери за счет устройства на работу на фабрику одного или нескольких членов семьи. Усугублял проблемы 20-х тот факт, что японские крестьяне были сильнее, чем прежде, связаны с внешним миром. Сезонные и временные работы на заводах и фабриках позволяли больше узнать об ином образе жизни. Знакомство с ним давало понять, что традиционные нормы, требующие от арендаторов почтительного отношения к землевладельцам, вовсе не являются неприкосновенной священной коровой. Подобным образом, всеобщая воинская обязанность способствовала повышению самомнения у юношей из семей арендаторов. Во время службы в армии их могли повысить в звании, и тогда они вели в бой выходцев из разных социальных групп, в том числе и сыновей богатых землевладельцев. Для всех сельских жителей посещение школы стимулировало появление интереса к таким темам, как социальная справедливость демократии и капитализма. Журнальные и газетные публикации вызывали у них потребность осмысления революции в России. Повсеместно обсуждались социализм, стоимость труда и общее положение крестьян. Падение доходов в 1920-х повлекло за собой целый набор проблем, с которым столкнулись самые бедные арендаторы, балансировавшие на грани нищеты. Небольшое количество владельцев-арендаторов, доходы которых, по сравнению с довоенным уровнем, также значительно понизились, оказались все-таки в более выгодном положении. Экономическое процветание 1910-х и космополитизм во взглядах породили новое представление о том, какой могла бы быть жизнь. Поэтому они не собирались смиряться с понижением ее уровня. Повсеместно, а в особенности в тех регионах Японии, где сильно развитым было коммерческое сельское хозяйство, владельцы-арендаторы и арендаторы объединялись в арендаторские союзы, чтобы совместными усилиями бороться с землевладельцами. Споры между арендаторами и землевладельцами спорадически возникали и в конце периода Мэйдзи, однако в 20-е гг. XX в. их количество резко возросло. За этот период власти отметили более 18 000 подобных споров (см. табл. 11.4).
Главной целью почти трех четвертей всех протестов, инициированных арендаторами в 1920-х, было снижение ренты. Претензии были адресованы в основном отсутствующим землевладельцам. Традиционно землевладельцы жили по соседству с теми, кто арендовал у них землю, и активно участвовали в их политической и социальной жизни. Они разбирали мелкие споры, выступали в качестве сватов, устраивали воскресные пиршества и оплачивали местные праздники. Более того, землевладельцы обычно заботились о наименее удачливых крестьянах, предоставляя им в межсезонье работу по ремонту инструментов и прощая им часть ренты в особенно тяжелые годы. Однако к периоду Тайсо большое количество землевладельцев, в отдельных экономически развитых районах — до 50 %, переехали из своих родных деревень в близлежащие города. Там они, получая плату за пользование их землей, либо находили себе занятие, либо просто наслаждались радостями городской жизни. Их отсутствие разрушало традиционные близкие связи, характеризуемые взаимными обязательствами, но, одновременно, это приводило к сплочению жителей деревень, которые подвергали критике землевладельцев, проживавших в городе. Протесты арендаторов в период Тайсо приводили к разным результатам. В подавляющем большинстве случаев, как это показано в таблице 11.5, жалобщики одерживали верх в спорах со своими землевладельцами или добивались от них уступок. С этой точки зрения протесты достигали выполнения непосредственных целей. В долгосрочной перспективе, однако, практика арендаторства продолжала существовать, вызывая сомнения по поводу последствий урбанизации и переходу к капиталистическому укладу и создавая ощущение кризиса, которое в конце концов привело к вмешательству государства в сельскую жизнь.

Довольные рабочие
В начале нового столетия рабочие, проживавшие в городах Японии, также демонстрировали стойкое желание изменить условия работы, которые многие из них считали несправедливыми и нищенскими. Женщины с текстильных фабрик боролись в крайне тяжелых условиях, положение мужчин на недавно появившихся заводах было немногим лучше. В XIX в. рабочие руки рекрутировались за счет мигрантов, и эта практика создала заводским рабочим репутацию пьяниц, игроков и домашних скандалистов. Такое отношение повергало некоторых мужчин в пучину сомнений. «Мир представляет собой странное место», — говорил молодой рабочий в 1913 г. «Когда я покрыт потом и маслом, мне кажется, что даже мое сердце запачкано, и мне странно, что рабочие являются человеческими существами, а не какими-то животными»{220}. Развитие практики наемного труда в тяжелой промышленности порождало чувство низкого самоуважения. К началу Первой мировой войны в крупных корпорациях существовало правило, согласно которому рабочие должны были носить невзрачную форменную одежду компании или иметь свои собственные робы. В результате внешний вид рабочих сильно отличался от костюмов западного покроя, которые предпочитали управленцы и технические служащие, составлявшие еще одну значительную группу наемных рабочих. Вдобавок, если большинство компаний, принадлежавших к верхнему слою дуальной системы, платили своим клеркам ежемесячно, а управленцам ежегодно, то рабочим их скудный заработок они выдавали ежедневно. Кроме того, рабочие были лишены льгот — корпоративного жилья, права на часть прибыли, медицинского обслуживания, — которыми обладали принадлежавшие к среднему классу управленцы и технические служащие. Несмотря на то что в общественном мнении сложился негативный образ рабочего класса, сами рабочие и те, кто относился с сочувствием к их ситуации, создавали ассоциации, которые боролись за улучшение их социального положения и вели переговоры об обеспечении более приемлемых условий работы. В этом ключе действовала Юайкай (Ассоциация дружбы). Она была создана в августе 1912 г. как основное объединение заводских рабочих. Кроме организации взаимопомощи, она была призвана содействовать улучшению характера, подготовки и статуса рабочих, а также устанавливать гармоничные отношения между трудом и управлением. К 1918 г. она объединяла в своих рядах 30 000 человек. Многие писали письма в бюллетень ассоциации, выходивший дважды в месяц, в которых призывали других рабочих вести более трезвую, умеренную и стабильную жизнь. Сердцевину философии Юайкай составляли представления о том, что рабочие должны быть усердными и демонстрировать почтительность по отношению к своим работодателям. А те, в свою очередь, брали на себя обязательство относиться к своим работникам благожелательно. «Мы, рабочие, являемся бессильными душами, рожденными и выросшими в жалких условиях», — говорилось в одной из статей, опубликованных в официальном органе Юайкай. «Нам необходимы могущественные защитники с теплыми человеческими чувствами. Мы просим вас открыть нам свои сердца, наполненные родительской любовью. Если вы сделаете это, мы откроем вам навстречу наши детские души, упорно трудясь на вашу пользу»{221}. К середине периода Тайсо многие трудящиеся и лидеры зарождающегося рабочего движения начали вкладывать в концепцию благожелательности более конкретное содержание. Они требовали от своих работодателей повышения зарплаты, улучшения условий труда и распространения на рабочих тех же льгот, которыми пользовалось руководящее звено предприятий. Если компании не могли удовлетворить требования о более гуманном отношении, трудящиеся прекращали говорить на тему сыновних чувств и переходили к более жесткой тактике и прямым действиям. Некоторые просто откладывали свои инструменты и покидали рабочие места, как это делали утратившие иллюзии рабочие в эпоху Мэйдзи. В 1918 г. лишь 50 % работниц текстильных предприятий проработали на одной и той же фирме более года. На одной из ведущих текстильных фабрик в Канэбо ежегодно, с 1905 по 1915 г., почти две трети работниц без дозволения покидали свои рабочие места. В тяжелой промышленности переход рабочих с одного предприятия на другое в поисках более высокой зарплаты или в стремлении повысить свое мастерство было обычным делом. В 1910-х количество рабочих, поменявших место работы, могло достигать в год 75 % от их общего числа. В 20-х гг. XX в. недовольные рабочие все активнее стали присоединяться к профсоюзам. На рубеже столетий статья 17 Закона об общественном порядке и полиции, принятого в 1900 г., сделал незаконным любое использование «насилия, угроз, публичной клеветы, агитации или подстрекательства» для того, чтобы побудить кого-либо вступить в профессиональный союз или принять участие в забастовке{222}. Хотя закон не запрещал профсоюзы и забастовки как таковые, тем не менее он принуждал большинство рабочих высказывать свои желания и надежды через такие общества, как Юайкай. Однако в 1919 г. кабинет Хара решил пересмотреть этот закон в сторону его смягчения. Отныне разрешались «мирные» профессиональные союзы и забастовки. После этого профсоюзы начали появляться как грибы после дождя (см. табл. 11.6). Вместо традиционных речей о благожелательности они начали демонстрировать свое высокое сознание, агрессивно выступая в поддержку прав рабочих. Даже Юайкай в 1921 г. изменила свое название, превратившись в Сёдёмэй (более официально — Нихон Родо Сёдёмэй, Японская федерация труда). Одновременно она заняла более конфронтационную позицию, начав кампанию за признание прав рабочих на заключение коллективных договоров, введение минимальной заработной платы и запрещение детского труда.
Сложившееся положение привело к росту стачек, как это показано в таблице 11.7. В них принимали участие рабочие всех уровней индустриальной иерархии. В марте 1921 г., например, на улицу вышли работницы Токийской муслиновой компании. Они требовали повышения оплаты труда, восьмичасового рабочего дня, ликвидации ночных смен и улучшения питания и условий жизни. Летом того же года состоялась самая крупная забастовка периода Тайсо. На этот раз свои инструменты отложили в сторону почти тридцать тысяч квалифицированных рабочих на верфях Кавасаки и Мицубиси в Кобэ. Подобным образом они хотели побудить свое руководство всерьез задуматься над повышением заработков и улучшением условий труда. А самой продолжительной акцией стала забастовка 1927–1928 гг. на скромной компании по производству соевого соуса Нода. Она располагалась в префектуре Чиба и производила популярный соус Киккоман.

Забастовка на предприятии Нода продемонстрировала, насколько жесткие формы приобрели трудовые споры в середине 20-х гг. и насколько трудно стало находить взаимопонимание рабочим и управляющим, если средняя продолжительность стачек в этот период достигала приблизительно 30 дней, в то время как в 1919 г. она составляла всего 12 дней. Конфликт в Нода начался 16 сентября 1927 г., когда около 2000 рабочих потребовали от владельцев компании поднять зарплату и официально признать их профсоюз, который являлся местным ответвлением Сёдёмэй. Хотя владельцы Нода, после того как в декабре 1927 г. рабочие создали свой союз, согласились удовлетворить требования сокращения рабочего дня и улучшения условий проживания, теперь они твердо намеревались оградить свои фабрики от разрушительного влияния профсоюза. В ответ на требования, выдвинутые профсоюзом, в конце 1927 г. руководство уволило всех работников, принявших участие в забастовке, и наняло временных рабочих. После этого события приняли скверный оборот. Уволенные рабочие напали на штрейкбрехеров и ослепили одного из них, плеснув ему в лицо кислотой, полиция грубо обошлась с рабочими, стоявшими в пикете, рабочие ответили угрозами в адрес управляющих, которые забаррикадировали свои дома и отослали семьи к дальним родственникам. Наконец обе стороны решили обратиться к посредникам, среди которых был и почтенный Сибусава Эиичи. 19 апреля 1928 г. владельцы Нода согласились принять обратно приблизительно треть уволенных рабочих и выплатить выходное пособие остальным. Однако оно добилось роспуска местного профсоюза. Рабочие, которые объединялись в профсоюзы и устраивали забастовки, в 10-20-е гг. XX в. добились значительных уступок со стороны руководства. По некоторым оценкам, более половины трудовых конфликтов 1920-х завершились тем, что руководство удовлетворяло все требования рабочих либо их значительную часть. В частности, рабочие предприятий тяжелой промышленности достигли значительных успехов в борьбе за повышение зарплат во время бума, наблюдавшегося в годы Первой мировой войны. Более того, в период Тайсо некоторые текстильные фабрики и многие крупные предприятия, входившие в верхний эшелон дуальной структуры, ввели для своих квалифицированных рабочих, помимо зарплаты, значительное количество льгот. Непосредственным ответом владельцев на рост рабочего движения был поворот к патернализму. Это было также попыткой убедить рабочих в том, что им нет нужды объединяться в профсоюзы, чтобы добиться улучшения жизни. Пионером патернализма в текстильной промышленности была Канэбо. Когда руководство компании осознало, что Япония не располагает неисчерпаемыми ресурсами молодых девушек, готовых рискнуть серьезно заболеть или даже умереть от туберкулеза во время пятилетней работы по контракту, оно приступило к разработке программ по созданию имиджа их фирмы как второй семьи. Чтобы облегчить общение между руководством и рабочими, на Канэбо были заведены ящики для предложений, куда работники могли опускать листки со своими предложениями или комментариями по поводу того, как улучшить условия на фабриках. Кроме того, компания начала издавать свой внутренний журнал, а также доставлять в родные деревни девушек бюллетени с новостями. Для одиноких работников были построены хорошие общежития, в столовых для них готовилась еда. Семейные сотрудники жили в домах, принадлежавших компании. К их услугам были потребительские кооперативы, дневные няни для детей и детские сады. Для всех своих работников Канэбо создала места отдыха, организовала вечерние курсы шитья, этикета, чайной церемонии, икебаны, каллиграфии и музыки. Подобным образом крупные предприятия тяжелой промышленности в эпоху Тайсо начали предоставлять своим квалифицированным рабочим различные льготы. Например, всего через три месяца после того, как Юайкай в 1915 г. создала свой филиал на машиностроительном предприятии Сибаура, руководство компании организовало кассу взаимопомощи для рабочих, которая формировалась за счет отчислений из фонда заработной платы и дотаций компании. Был создан лазарет, было объявлено о том, что любому, кто лишится трудоспособности, будет выплачен годовой оклад, а также введены пенсии. Некоторые верфи и сталелитейные предприятия во время Первой мировой войны ввели такие же льготы. Эти меры были направлены на то, чтобы преодолеть резкий отток рабочей силы и убедить опытных рабочих не переходить на работу в другие компании. Другие крупные предприятия вскоре последовали этому примеру, и к концу двадцатых обычный пакет предложений включал в себя обещание постоянной занятости, ежегодное повышение зарплаты, сезонные премии, выходное пособие, зависящее от выслуги лет, заботу о здоровье, программы по обучению и большое количество культурных учреждений, таких как библиотеки, игровые комнаты и спортивные сооружения. Предлагая все эти льготы, руководство предприятий использовало терминологию эпохи концепции благожелательности, заимствованную у рабочих. Таким образом они стремились создать образ компании как семьи, представляющей собой сплоченное единство, члены которого уважают и заботятся друг о друге. Как пояснял Гото Синпэй, когда он занимал пост министра коммуникаций во втором кабинете Кацура, «рабочие должны помогать и подбадривать друг друга, как если бы они были членами одной семьи. Семья должна исполнять распоряжения ее главы и, делая то, что он ожидает от нее, всегда должна действовать во имя чести и пользы семьи. Я пытаюсь привить моим рабочим идею самопожертвования во имя работы. Также я всегда превозношу принцип любви и доверия»{223}. Чтобы придать этой риторике конкретное выражение, на многих предприятиях тяжелой промышленности начали создаваться заводские советы. Обычно в них входило равное количество представителей управленческого звена и рабочих, которых выбирали их товарищи для обсуждения таких тем, как производительность труда, зарплата и пути увеличения благосостояния компании. Инициативы руководства Канэбо, машиностроительного предприятия Сибаура и других фирм привели к возникновению идеализированной модели, которая впоследствии получила название японской системы труда. Хотя введение патерналистских практик в эпоху Тайсо являлось поворотным пунктом в длительной эволюции отношений между трудом и управлением, Япония не превратилась в рай для рабочих. Существенным было то, что лишь небольшое количество «голубых воротничков» японских фабрик и совсем мизерное число неквалифицированных рабочих попали под действие новых программ. Большинство мелких предприятий, находящихся в самом низу дуальной структуры, просто не располагали достаточными средствами для того, чтобы предложить своим работникам такой же пакет льгот, каким могли пользоваться работники крупных предприятий. Более того, даже в тяжелой промышленности большие фирмы редко могли предоставить своим работникам весь набор услуг, и Канэбо представляла собой скорее исключение, нежели правило, среди текстильных предприятий, использующих в качестве рабочей силы в основном женщин. Вдобавок рабочие зачастую не могли воспользоваться благами образовательных и развлекательных программ. Проработав весь день, лишь немногие девушки в Канэбо еще сохраняли энергию для того, чтобы постигать тонкости чайной церемонии, составления букетов или других искусств, бывших в таком почете у дам, принадлежавших среднему классу. В противоположность довольно скромной пользе, извлеченной из ситуации 1910—1920-х гг. рабочими, работодатели собрали богатый урожай, полученный благодаря новой системе, даже на ранней стадии ее существования. Во-первых, текучесть рабочих кадров на предприятиях тяжелой промышленности в конце 1920-х резко снизилась, достигнув 15–20 %. Это было значительно ниже аналогичного показателя за предыдущую декаду, хотя некоторым фирмам по производству текстиля, включая Канэбо, стоило больших трудов удерживать у себя рабочих. Более того, стабильная рабочая сила позволяла повысить доходы, поскольку значительные средства экономились на наборе и обучении новых работников. Фирмы дополнительно снижали цену удерживания своих кадровых рабочих путем приписывания к их платежной ведомости большого количества временных и менее искусных рабочих, которые не пользовались дорогостоящими льготами и которых можно было уволить при первом же сбое делового цикла. Не менее существенным было и то, что новые практики уменьшали желание рабочих вступать в профессиональные союзы. Постоянные работники, получавшие значительные льготы помимо зарплаты и представители которых заседали в заводских советах, имели возможность прямого общения с руководством, чтобы разрешать возникающие проблемы и разногласия. Вследствие этого многие владельцы упорно отказывались признавать профсоюзы в качестве своих равноправных партнеров, как это сделали владельцы компании по производству соевого соуса Нода. Соответственно, в 1938 г. только 8 % рабочей силы, не принадлежавшей сельскохозяйственному сектору экономики, числились в профсоюзах. Но даже это количество постепенно уменьшалось на протяжении тридцатых.
Расширение пространства политических дебатов
Большинство трудящихся, принимавших участие в рабочем движении в эпоху Тайсо, приняли систему промышленного капитализма, которая прививалась Японии. И, подобно арендаторам, они включились в борьбу за то, что в 1918 г. одна из газет, касаясь рисовых бунтов, назвала справедливым распределением материальных благ. Другие японцы, в противоположность им, в течение 1910—1920-х гг. полностью утратили веру в капитализм. Они соглашались с Каваками Хадзиме в том, что капитализм эксплуатирует лишенных привилегий людей и уничтожает мечту Мэйдзи, которая, по их мнению, каждому обещала более комфортную и благополучную жизнь. Веря в неразрывную связь богатства и власти, представители более радикального крыла политического спектра превозносили преимущества других систем, таких как социализм и коммунизм. Некоторые создавали политические партии левого направления, чтобы улучшить положение своих соотечественников. Социалистическая мысль появилась в Японии почти одновременно с самим капитализмом. Еще в 90-х гг. XIX столетия такие люди, как Абэ Исоо, публицист и университетский профессор, высказывали мнение, что тесный контроль правительства над производством и распределением товаров отвечал бы интересам простых японцев. Весной 1901 г. Абэ и другие люди с подобным образом мыслей основали социал-демократическую партию (Сакай Минсуто). Это была первая, хотя и очень недолго просуществовавшая, социалистическая партия, платформа которой содержала положения, не имевшие отношения к экономике, которые занимали умы политиков левого направления в начале века: пацифизм и разоружение, ликвидация Палаты Пэров и введение всеобщего избирательного права. Другие носители левых идей призывали к более радикальным изменениям. Котоку Сусуи и Канно Суга были среди первых японских анархо-синдикалистов. Котоку, который в 1901 г. выступил в роли соучредителя социал-демократической партии, сперва выступал за использование конституционных методов в борьбе за замену «правительства политиков, биржевых игроков, милитаристов и аристократов правительством народа». Первым шагом в этом процессе, считал он, должно быть «распределение политической власти на все население страны» и, предлагал он, надо наконец «отменить частную собственность на землю и капитал и передать плоды производства в руки производителей»{224}. После встреч в Сан-Франциско с американскими радикалами в 1905 и 1906 гг., Котоку вернулся в Японию в твердом убеждении, что только прямое действие, масштабная всеобщая забастовка трудящихся, может свергнуть правительство и передать экономическую и политическую власть непосредственно в руки рабочего класса. Канно, журналист, заработавшая репутацию дотошного критика правительства, стала в 1909 г. сожительницей Котоку. Она постоянно подталкивала его к бунту против правительства. Сама себя она называла «радикальным мыслителем, даже среди анархистов». Однажды она заявила, что «необходимо пробуждать народ при помощи мятежей, осуществлять действия революционной направленности и политические убийства»{225}. Вскоре она охарактеризовала императора Мэйдзи как «причину всех совершенных преступлений, персону, которую следует убить». В 1910 г. она и Котоку в так называемом инциденте с государственной изменой попытались убить императора. Они были схвачены полицией. Суд, проходивший за закрытыми дверями, в январе 1911 г. приговорил Канно, Котоку и еще десять участников заговора к смертной казни через удушение. За день до приведения приговора в исполнение Канно сделала следующую запись в своем тюремном дневнике: «Снег лег на вершины сосен и мертвые ветви кипарисов. Мир за ночь оделся в серебро. Иди снег, иди! Фут, два фута. Нагромождайся все выше. Укутай этот грешный город Токио, похорони его, как под слоем пепла. Сделай весь этот пейзаж гладким и ровным». Инцидент с государственной изменой знаменовал собой для радикальных левых сил начало периода, который называли «зимними годами». Вскоре, однако, Осуги Сакаэ вновь вдохнул жизнь в дух анархизма, высказывая свои идеи на страницах нескольких журналов, редактором которых он являлся. По его мнению, общество состоит только из двух классов: завоевателей и завоеванных. Практически все институты, от правительства до религиозных организаций, служат в качестве инструментов порабощения человека человеком. «Общество прогрессирует», — писал Осуги, и, соответственно, «методы порабощения также развиваются». Затем он перечислил «способы насилия и обмана: Правительство! Закон! Религия! Образование! Мораль! Армия! Полиция! Суды! Парламенты! Наука! Философия! Искусство! Все остальные общественные институты!»{226}. Осуги, будучи сторонником самоосвобождения, решительно отвергал любые рассуждения о возможности проведения реформ через парламент. Вместо этого он призывал рабочих к забастовкам и другим акциям протеста, которые, как он считал, приведут к ликвидации государства и разрушению капитализма. Его анархизм провоцировал его на вызывающее поведение по отношению к социальным нормам. В 1916 г. он бросил свою жену и отверг любовницу, известную журналистку Камичика Ичико, ради известной феминистки и анархистки Ито Ноэ. Любовная связь Осуги и Ито стала главной темой газетныхзаголовков в ноябре того же года, когда взбешенная Камичика нанесла удар ножом Осуги, когда он вместе с Ито отдыхал на морском побережье. Утверждение парламентом в марте 1925 г. Акта об избирательном праве для всего взрослого мужского населения страны открыло новые возможности перед политиками левого крыла. Отныне они могли добиваться своих целей парламентскими методами. Инициатива отмены налогового ценза для участия в голосовании и распространения избирательного права практически на всех мужчин, достигших двадцатипятилетнего возраста, принадлежала премьер-министру Като Такааки и его коллегам по Кэнсэйкай. В определенном смысле, Като мотивировался в своих действиях тем, что привлечение широких слоев населения к участию в политическом процессе является «твердой общемировой тенденцией», как говорилось в популярной фразе тех дней. Япония должна была присоединиться к этой тенденции, если она желала сохранить свое место в ряду ведущих мировых держав. Инициатива Кэнсэйкай также являлась ответом на растущие требования народа обеспечить ему более широкую возможность высказывать свои политические идеи. На протяжении нескольких лет Ёсино Сакудзо и другие авторы либеральных журналов призывали к дальнейшей демократизации Японии. Организации рабочих начали проводить в крупнейших городах демонстрации, главным требованием которых было введение общего избирательного права для мужчин. Эти голоса, раздававшиеся снизу, в сочетании с рисовыми бунтами, растущей интенсивностью движений арендаторов и рабочих и призывами анархистов к революции, побудили даже самых консервативных парламентариев одобрить билль об избирательном праве, чтобы избежать дальнейшего народного недовольства. Не успели еще высохнуть чернила подписей под новым законом, как в стране возникло огромное количество «пролетарских партий», выступавших в защиту интересов рабочих и арендаторов. Особенно заметными были рабоче-крестьянская партия (Родо Номинто), созданная в марте 1926 г. представителями левого направления, такими как Абэ Исо, и японская рабоче-крестьянская партия (Нихон Роното), основанная в декабре того же года. Обе они придерживались относительно умеренных взглядов, обещая использовать демократические, парламентские методы для повышения уровня жизни рабочих и крестьян. Согласно уставу рабоче-крестьянской партии, ее члены намеревались «вытеснить старые политические партии», Сэйюкай и Кэнсэйкай, «которые представляют интересы только привилегированных классов», «использовать легальные методы» лечения «несправедливых систем землепользования и производства» и «добиваться политической, экономической и социальной самостоятельности для пролетарского класса»{227}. Несмотря на подобные заявления, места в парламенте на февральских выборах 1928 г., первых, проводившихся по новому закону о выборах, получили только два кандидата от рабоче-крестьянской партии и один от японской рабоче-крестьянской партии. Немного более успешной была социалистическая народная партия (Сакай Минсуто), основанная в декабре 1926 г. Первоначально эту партию возглавлял Абэ. Ее устав отвергал капитализм без вмешательства государства, который назывался несовместимым с экономическим, социальным и политическим благосостоянием простых людей. «Капиталистическая система производства и распределения, — утверждалось в уставе, — препятствует получению народом средств к жизни». Далее партия заверяла, что она будет использовать «разумные средства» при построении «политической и экономической системы, концентрирующейся на рабочем классе»{228}. На выборах 1928 г. в парламент вошли четыре представителя социалистической народной партии. Они начали призывать к национализации основных производств, проведению земельной реформы, которая передаст земельные участки арендаторам, разработке законодательства, благоприятного для рабочих и арендаторов, отмене ограничений гражданских свобод и предоставлению женщинам избирательного права. Далее на левом фланге размещалась японская коммунистическая партия, тайно созданная 15 июля 1922 г. небольшой группой журналистов и политических активистов, вдохновленных революцией в России. Объявленная правительством вне закона и раздираемая внутренними раздорами, ЯКП два года спустя заявила о самороспуске. Однако в декабре 1926 г. она вновь появилась и начала действовать в подполье. ЯПГ занималась в основном пропагандистской и просветительской деятельностью, и ее влияние было крайне ограниченным. Она смогла привлечь в свои ряды некоторых выдающихся деятелей, таких как Каваками Хадзимэ, который формально присоединился к ней в 1932 г., а также других интеллектуалов и студентов. Все они нашли в марксизме систематическую методологию для анализа того, как все нации могут осуществить переход от феодализма к капитализму и от капитализма к социализму.«День, когда горы двигаются, настал»
В дебатах эпохи Тайсо приняли участие также феминистки и студенты. Они присоединили свои требования социальной справедливости к борьбе за политическую и экономическую справедливость, ведшуюся на многих фронтах. Вскоре их видение будущего стало расходиться с теми взглядами, которых придерживались средний класс и правительственные чиновники. Многие смутьяны действовали в одиночку, значительно количество присоединилось к возникшим пролетарским партиям, миллионы других вступили в ряды новых организаций, созданных для отстаивания интересов определенных групп. Массовые социальные движения разнообразили атмосферу тех времен и подпитывали тот беспорядок, который наблюдался в 1920-х. Увидев осенью 1911 г. Мацуи Сумако в спектакле Кукольный дом, один из критиков назвал Нору выдуманным персонажем, который заставит реальных японских «новых женщин» пересмотреть свои роли в семье и обществе. Бурная дискуссия относительно того, что должна собой представлять идеальная Новая Женщина, развернулась на страницах Сэйто («Синий чулок»). Этот журнал был основан в сентябре 1911 г. Хирацука Райчо. В качестве названия она выбрала выражение, тесно связанное в общественном мнении с воинствующим международным феминизмом. Чтобы привлечь внимание к несчастному существованию женщин в XX столетии, Хирацука поместила в начале первого номера журнала волнующие поэтические строки, посвященные наиболее значительному божеству японского пантеона, солнечной богине Аматэрасу:Голоса меньшинств
Этнические меньшинства и приверженцы экзотических религий в 20-е гг. также стали требовать большего социального и экономического равенства. Притесняемые в период Токугава даймё и сёгунатом, айны продолжали страдать от различных форм дискриминации и в новую эпоху. Хотя правительство Мэйдзи и даровало им японское гражданство, но оно все равно продолжало подчеркивать их отличие от собственно японцев, официально называя их «бывшим туземным народом» и проводя кампанию по ассимиляции, которая подразумевала окончательное изгнание айнов с их земель и изоляцию их в замкнутых деревнях и гетто. Когда Япония в конце XIX — начале XX вв. начала поигрывать колониальными мускулами, новые представления о расовой идентичности и превосходстве японцев, столь очевидные при сравнении с корейцами и тайваньцами, стали переноситься и на отношение к айнам. Все большее количество японцев начало рассматривать айнов не в качестве национального меньшинства, обладавшего своими культурными обычаями, а как отдельную и низшую расу. В 1912 г. Нитобэ Инадзо, который в то время преподавал колониальную политику в Токийском университете, выразил это отношение словами, когда он написал, что айны — это «раса, подобная саамам», которая «до сих пор не вышла из каменного века» и «не владеет никаким искусством, за исключением примитивной формы садоводства»{234}. В том же духе высказывались и другие интеллектуалы и правительственные чиновники. Они говорили об айнах как о «косматых» допотопных дикарях, «вымирающей расе», неспособной найти ответы на вызовы современной цивилизации. У айнов, плохо образованных, задавленных нуждой, замкнутых в своих поселках и особых городских кварталах, не было особой возможности оспаривать подобное мнение или противостоять политике правительства. В результате в эпоху Тайсо несколько выдающихся представителей народа айнов увидели выход из ситуации в окончательной его ассимиляции. В 1930 г. они создали Общество айнов. Эта организация действовала под эгидой Социального отделения правительства префектуры Хоккайдо. Она должна была отстаивать интересы айнов и добиваться равного к ним отношения как к гражданам японского государства. Другие члены айнской общины предпочитали пассивно сопротивляться аккультурации и уничтожению традиций их народа. Они стали сохранять предания и эпические истории прошлого. В 1915 г. один антрополог записал фантастическое повествование о «давно забытом» нападении айнов на древнюю столицу империи Киото и о похищении женщин из аристократических семей. В 1922 г., незадолго до своей смерти в девятнадцатилетнем возрасте, Чири Юкиэ подготовила к публикации сборник устных произведений, в который вошла широко известная ныне «Песня бога-Совы». В ней говорится о мальчике, который «раньше был богатым, а потом обеднел». О его благородном происхождении узнал бог-Сова, который разглядел сущность мальчика, спрятанную под рваной одеждой, и вернул его на достойное место, поставив его над «теми, кто раньше был бедным, а теперь стал богатым»{235}. Борьбу с дискриминацией в период Тайсо начала и община отверженных. За сорок лет до этого, в 1871 г., правительство Мэйдзи отменило унизительные эпитеты эта и хинин и объявило, что «отныне люди, принадлежащие к этим сословиям, должны рассматриваться и по своим занятиям, и по своему социальному положению как обычные граждане»{236}. Но этот эдикт представлял собой палку о двух концах. Хотя теоретически он ликвидировал ограничения на выбор места жительства и вступление в брак, он также отменял монополии на убой скота и производство изделий из кожи, лишив таким образом многих буракумин, как предпочитали называть себя отверженные, средств к существованию. Социальное положение 800 000 буракумин, составлявших немного менее 2 % от общего населения Японии, ни капли не улучшилось. Опасаясь того, что загрязнение может распространиться и на их собственные общины, многие «обычные люди» выступили с протестом против правительственного эдикта. Они даже нападали на поселения меньшинств, убив и ранив 21 буракумин и разрушив три сотни домов во время одного подобного инцидента, произошедшего в мае 1873 г. В эпоху Мэйдзи лишь немногие буракумин смогли устроиться на работу на фабрики, если только они не скрывали от работодателей своего происхождения. Учителя отсаживали детей представителей меньшинств на задние ряды и так составляли группы для игры, чтобы учащиеся из числа отверженных не могли вступить в физический контакт со своими одноклассниками. Публичные бани и парикмахерские отказывались их обслуживать, и даже по прошествии нескольких десятков лет, в 1902 г., судья районного суда в Хиросиме отстаивал право жены, не принадлежавшей к буракумин, на развод с ее мужем из числа отверженных на том основании, что муж происходил из «низшей расовой группы». В начале нового столетия члены общин меньшинств начали создавать общества. Они должны были помогать буракумин получить образование более высокого качества и перенять обычаи среднего класса, чтобы затем можно было интегрироваться в основное японское общество. Эти попытки ассимиляции приносили мизерные результаты, и нетерпеливые буракумин начали переходить к более активной тактике. Будучи убежденными в том, что основное общество никогда не предоставит им возможности осуществить их мечты и надежды, молодые активисты собрались в 1922 г. в Киото, чтобы создать Суихэйса (общество сторонников равенства). Дав себе торжественное обещание «добиться полного освобождения своими собственными силами», члены Суихэйса, две сотни отделений которого начали «обвинительную кампанию», стали требовать, чтобы любой, кто оскорбит буракумин, принес бы публичные извинения{237}. Эта тактика дала определенный результат. В Осака некоторые землевладельцы начали давать отверженным землю в аренду, а в Хиросиме публичные бани открыли свои двери для всех категорий посетителей. Скромный триумф Суихэйса, однако, не мог принести удовлетворение всем членам общества меньшинств. В конце концов среди них укрепилась вера в то, что только революционное освобождение рабочего класса принесет свободу и им. В 1921 г. Сано Манабу, активный член Синдзинкай, который в следующем году вступил в ряды японской коммунистической партии, опубликовал эссе в журнале «Кайбо» («Освобождение»). В этом эссе, приобретшем широкую популярность, Сано поддерживал идею социалистической революции и призывал буракумин объединяться с другими рабочими, которые были такими же жертвами капиталистической эксплуатации. Разочарование в Суихэйса, которое демонстрировало свою неспособность достичь быстрых результатов, привело к тому, что все большее количество буракумин присоединялось к организациям рабочих и арендаторов, а также вступало в пролетарские партии. Политическими и экономическими маргиналами были также и переехавшие в Японию корейцы. С точки зрения закона, аннексия превращала граждан Кореи в японских подданных. Во время бума, связанного с Первой мировой войной, тысячи корейцев переехали на Японские острова в поисках лучшего образования и возможностей устроиться на работу. В 20-е гг. из южных корейских деревень в Японию хлынул поток бедных молодых людей. Широкомасштабные захваты земель, осуществляемые Компанией по развитию Востока и другими японскими корпорациями, превратили их семьи в арендаторов, и им пришлось отправиться за море в поисках работы. Многие корейцы, прожившие некоторое время в Японии, в конце концов вернулись на родину, однако есть достаточно свидетельств тому, что количество корейцев, осевших в Стране восходящего солнца, выросло с приблизительно 1000 человек во время аннексии до почти 300 000 в конце 20-х гг., как это показано в таблице 11.8.
За исключением нескольких тысяч студентов и небольшого числа рестораторов и лавочников, большинство корейских иммигрантов в 1920-х работали шахтерами на угольных копях, строителями и неквалифицированными рабочими на предприятиях, находившихся в нижней части дуальной экономики. Многие корейцы убеждались в своей обреченности на нищету, когда они обнаруживали, что их зарплата значительно ниже той, которую получали японские рабочие за ту же самую работу. Ситуация усугублялась еще и тем, что иммигрантам приходилось мириться с обвинениями в том, что они «воруют» работу у простых японцев и снижают заработки, соглашаясь работать за более низкую плату. Корейцы в Японии, кроме того, оказались жертвами социальной дискриминации. Газеты рисовали их ленивыми и склонными к совершению преступлений, и лишь немногие землевладельцы, принадлежавшие к среднему классу, позволяли им взять в аренду участки земли. «По своим обычаям, — говорилось в одном правительственном исследовании, — корейцы коренным образом отличаются от японцев и, поскольку их повседневная жизнь крайне неорганизованна, представляется вполне естественным, что их отвергают люди, живущие по соседству. Корейцы в основной своей массе простоваты, крайне подозрительны и завистливы и питают склонность к ссорам. Более того, среди японцев существует тенденция рассматривать их как представителей низшей расы»{238}. В условиях открытой враждебности и дискриминации корейцы селились компактными группами в районах промышленных зон вокруг Токио, Иокогамы, Нагойи, Кобэ и Фукуока. Самая крупная община корейцев была в Осака. В 1930 г. корейцы составляли почти 10 % городского населения. Условия их жизни были такими же, как и у отверженных-буракумин. Обитатели городских анклавов по-разному реагировали на те невзгоды и притеснения, с которыми им приходилось сталкиваться. Некоторые выпускали копившуюся в них ненависть, совершая преступления против японцев. Подобная реакция была вполне естественной для обескураженных иммигрантов, которые практически повсеместно смотрели на представителей притесняющего их общества как на свою законную добычу. Другие представители корейской общины предпочитали политические методы. С помощью Осуги Сакаэ, например, корейские студенты в ноябре 1921 г. создали общество Черной волны. Его целью была революция, которая создала бы новое общество, основанное на принципах равенства классов, полов и национальностей. Корейцы также начали создавать рабочие организации, и некоторые из них придерживались достаточно радикальных программ. Основатели Осакской конфедерации корейских трудящихся поклялись «добиться победы в классовой борьбе» и «ликвидировать капиталистическую систему»{239}. Более умеренные лидеры корейцев опасались, что политическая конфронтация и организации рабочих еще более усилят вражду со стороны японских властей. В 1921 г. они создали Соайкай (Общество взаимного действия), целью которого было улучшение имиджа иммигрантской общины и развитие корейско-японской дружбы. Организация носила примиренческий характер и признавала колониализм в качестве неизбежной реальности. Поэтому Соайкай отвергало радикальные действия как средство самообороны. Оно имело отделения в Токио и других основных городах и функционировало как общество взаимопомощи, которое помогало корейцам устроиться на работу, способствовало разрешению трудовых споров, обеспечивало едой и одеждой безработных и предлагало медицинское обслуживание. Корейская община очень тепло относилась к деятельности Соайкай, и к концу периода Тайсо в его рядах насчитывалось почти 100 000 членов. Новые религиозные секты, количество которых постоянно росло, служили убежищем для некоторых японцев, не находивших удовлетворения в реальной жизни. К 1924 г., по подсчетам правительственных чиновников, существовало 98 групп, которых они классифицировали как «новые религии». К концу десятилетия их количество значительно увеличилось, и в стране насчитывалось уже несколько миллионов адептов разнообразных сект. Как и те религии, которые возникали в конце эпохи Токугава, массовые религиозные движения XX столетия группировались вокруг харизматических лидеров, которые апеллировали к недовольству экономическим и социальным положением. Они обещали помочь людям превозмочь трудности земной жизни и поддерживали надежду на достижения царства небесного на земле. Наиболее заметной новой религией была секта Омото. Она была основана Дэгучи Нао, необразованной пожилой вдовой из сельской местности. Как и у многих других основателей сект, обещавших своим адептам тысячелетний рай на земле, жизнь Нао состояла из сплошных бед и трудностей. Сама она говорила о своей жизни как о существовании в «котле, кипящем на адском пламени»{240}. В 1892 г., в возрасте 65 лет, она впала в состояние транса и заявила, что ее посетил могущественный дух, наделив ее способностью излечивать боль других и давать советы по любому поводу, от житейских проблем семейной жизни до вопросов экзистенциального характера. Феноменальная популярность приходит к Омото в 1898 г., когда Нао встретилась с молодым Уэда Кисабуро. Талантливый и творческий интерпретатор религиозного учения Нао вскоре женился на ее дочери и, под именем Дэгучи Онисабуро, стал главой секты. Будучи сильной и эффектной личностью, Онисабуро часто надевал яркое кимоно женщины-шамана, чтобы подчеркнуть свою божественную силу. Он также любил смотреть на парады членов своей секты, восседая на белой лошади в позе, в которой император принимал парады японских войск. Центр новой секты размещался около Киото. Онисабуро посылал проклятья тому барьеру, который разделял бедных и богатых, обвинял капиталистов и землевладельцев в том, что они приносят нищету и несчастья простому народу. Он разработал эсхатологическую теорию, согласно которой в скором времени должен был наступить конец всему злу и произойти перераспределение богатств. Его слова встречали горячий отклик в сердцах женщин-работниц, неквалифицированных рабочих, лавочников и коробейников. Все они нуждались в новом ощущении общности и духовности, чтобы преодолеть трудности индустриализации и городской жизни. К концу эпохи Тайсо адептами Омото стали, по данным японского правительства, 400 000 человек, и около 3 миллионов человек, по подсчетам самой секты.
«Пастыри людей»
Обозленные арендаторы и разгневанные рабочие, неустрашимые феминистки и радикальные студенты, бурлящие общины меньшинств и отверженных, мога и мобо, анархисты и коммунисты — слишком многое указывало на то, что по стране проходит все больше трещин, угрожающих ее существованию. В 20-х гг. XX столетия разрушительные последствия модернизации — возникновение противоположных взглядов на действительность, неурядицы индустриализации, напряженность, связанная с новым образом жизни, и стрессы, сопровождающие империализм, — накладывались одно на другое. Проблемы, проявившиеся в двадцатых, вызвали беспокойство у бюрократов и членов основных партий, которые занялись поисками способов борьбы с крайними формами радикализма, которые, как казалось в то время, угрожают самому существованию государства. Временами некоторые чиновники прибегали к насилию, чтобы подавить предполагаемых противников и дисциплинировать меньшинства. «Смерть растеклась огромной красной полосой в восточной части неба» — так описывал очевидец событие, произошедшее в полдень 1 сентября 1923 г. В этот день Великое землетрясение Канто превратило землю в «красную выжженную пустыню». Реки и каналы были забиты десятками тысяч «плавающих тел»{241}. В атмосфере возникшего хаоса начали циркулировать слухи, что корейцы отравили колодцы, а полиция подлила масла в огонь, предупредив по радио, что корейцы «поджигают дома, убивают людей и забирают деньги», и призвав людей «использовать все необходимые меры» для защиты себя и своей собственности{242}. Хотя эти слухи не имели под собой основания, армейские резервисты и гражданские волонтеры начали патрулировать улицы Токио и других японских городов. Прежде чем волна насилия пошла на убыль, тысячи корейцев стали жертвами преследований и резни. В последующие дни полиция произвела массовые аресты японских социалистов и других политических активистов. Более десятка из них были убиты в тюремных камерах. В числе жертв оказались анархисты Осуги Сакаэ и Ито Ноэ, которых задушил полицейский капитан. Однако правительство в большей мере полагалось не на грубость, а на законные способы борьбы с проявлениями радикализма. В 1925 г., практически одновременно с введением общего избирательного права для взрослого мужского населения, парламент принял Закон о сохранении мира. Он был подготовлен чиновниками Министерства юстиции и устанавливал, что любой, «кто организует группу, целью которой будет изменение существующего государственного строя (кокутай) или ликвидация частной собственности, или любой, кто сознательно присоединится к такой группе», может быть брошен в тюрьму сроком на десять лет. Три года спустя наказание было ужесточено, и нарушителя данного положения ожидала смертная казнь{243}. 15 марта 1928 г. полиция прибегла к этому закону, когда они провели облаву на подозреваемых в принадлежности к коммунистической партии и радикально настроенных студентов. В итоге было задержано более 1600 человек. По следам «инцидента 15 марта» правительство запретило рабоче-крестьянскую партию за ее подрывную деятельность, а администрации университетов принудили Синдзинкай к самороспуску. В противоположность той части японского руководства, которая использовала насилие для поддержания социального и политического порядка, другие члены правящего класса предпочитали уговорами воздействовать на недовольных и интегрировать возникающие объединения в существующее политическое сообщество. Таким образом, «пастыри людей», как назвал себя и своих коллег один из сотрудников Министерства внутренних дел, начали разрабатывать тактику, которая позволила бы уберечь население страны от радикальных идеологий, разрешить «социальные проблемы» Японии и преодолеть раздробленность, которая была неизбежным спутником быстрой модернизации{244}. Для решения этих задач чиновники иногда обращались за помощью к существующим организациям. Достаточно часто лидеры подобных объединений сотрудничали с властями в деле контроля над деятельностью их рядовых членов. Обычной мотивацией сотрудничества с государством была возможность добиться осуществления своих требований. В 1919 г., как только появившиеся рабочие союзы и объединения арендаторов отразили тенденцию к расколу общества, правительство предприняло попытку ослабить радикальные настроения, существовавшие в общинах отверженных. С этой целью проводились конференции, на которых представители меньшинств, парламентарии и чиновники могли обсудить положение буракумин. Вскоре после этого Министерство внутренних дел начало выделять дополнительные деньги на осуществление программ общественных работ на территориях компактного проживания отверженных. В случае с корейскими иммигрантами правительство снабжало деньгами Соайкай, которое использовало эти средства для расширения своей деятельности. В свою очередь, лидеры Соайкай поддерживали тесные связи с полицией, сообщая о совершенных преступлениях и о деятельности организации. После Великого землетрясения Канто Соайкай даже организовало отряды корейцев, помогавшие в расчистке улиц Токио, надеясь уменьшить таким образом напряженность, существовавшую между корейцами и их японскими соседями. Чтобы остудить страсти, кипевшие в отношениях между рабочими и руководством предприятий, некоторые «пастыри» из Министерства внутренних дел оказывали давление на основные компании с целью улучшения положения рабочих и расширения патерналистских отношений. В 1919 г. правительство создало Общество гармонизации. Эго была полуправительственная организация, возглавляемая крупными предпринимателями и чиновниками Министерства внутренних дел, основной задачей которой было развитие сотрудничества и взаимопонимания между трудом и капиталом. Устав Общества объявлял, что «гармонизация» подразумевает уважение к правам других, стремление к достижению компромисса ради сообщества и индустриальное развитие путем взаимного сотрудничества. В частности, организация выступала в качестве арбитра в трудовых спорах, проводила исследование проблем труда и разрабатывала политические рекомендации правительству. Когда, вопреки возлагаемым на него надеждам, общество показало свою неспособность решать возникающие разногласия, правительство создало в рамках Министерства внутренних дел специальную секцию Трудовых дел и направило в префектурные отделения полиции офицеров, подготовленных для улаживания конфликтов. В 1926 г. подобные усилия правительства помогли найти решение в 40 % случаев разногласий, приведших к остановке работы. Сельская местность представляла собой благодатную почву для развития связей между населением и правительственными агентствами. В первые десятилетия XX в. фермерские семьи были сильно напуганы взлетами и падениями сельской экономики и опасными последствиями полномасштабной индустриализации. Ёкои Токиёси, профессор аграрных наук Токийского университета, стал выразителем антиурбанистических и антииндустриальных тенденций, царивших в японской деревне. Он считал, что рост современной экономики создает пропасть между зажиточными городами и обнищавшими селами. Несмотря на то что крестьяне представляли собой «единственный целостный класс», писал он, они переживают «ужасные страдания под гнетом богатеев. Зажиточные капиталисты используют любые средства для того, чтобы причинить беднякам дополнительные страдания, а горожане пренебрегают интересами деревенских жителей»{245}. Некоторых обитателей деревень шокировало поведение молодежи и «новых женщин». Проблему для них представляло и дальнейшее распространение западной культуры с ее упором на индивидуализм, торгашеством и гедонизмом. «Я случайно встретил женщину, которая очень коротко постригла свои волосы, а лицо ее было ярко раскрашено румянами, помадой и карандашом для бровей, — писал один фермер в 1928 г. — Но ни прическа, ни размалеванное лицо не шли ни в какое сравнение с ее одеждой. Казалось, она получала удовольствие только от того, что все обращали на нее внимание. Я нашел ее современной, но никаких чувств, кроме презрения, она во мне не вызывала»{246}. В начале XX столетия крестьянские семьи начали принимать меры защиты от натиска модернизации. Одним из способов, которые они использовали, была взаимная поддержка. Многие сельские общины в период между 1900 и 1914 гг. объединялись в сельскохозяйственные кооперативы, чтобы совместно сбывать урожай, приобретать инвентарь и семена по более низким ценам и вводить новые технологии. Другая стратегия подразумевала укрепление морального духа крестьян. По всей сельской местности действовали общества Хотоку («Возвращение добродетели»). На их создание японских крестьян вдохновило учение Ниномия Сонтоку, агронома эпохи Токугава. Члены этих обществ превозносили сельскую этику, построенную вокруг таких фундаментальных ценностей, как семейная сплоченность, общественный долг, принятие решений на основе всеобщего согласия, взаимопомощь, трудолюбие и умеренность. Многие бюрократы разделяли мнение, что будущее развитие Японии, ее способность поддерживать недавно обретенный статус мировой державы и империи, зависели от стабильной и процветающей деревни. Они внимательно прислушивались к словам Ёкои, что «в конце концов, защита слабого является долгом государства», а также к его утверждению, что только правительство имеет возможность осуществлять политику, которая позволит «одновременно и вместе процветать торговле, промышленности и сельскому хозяйству»{247}. Соответственно, чиновники Министерства внутренних дел поощряли распространение сельскохозяйственных кооперативов и создание обществ Хотоку. Все эти объединения были сведены в одну организацию национального уровня, которая была придана Министерству юстиции. Позднее, в 1924 г., когда деревня страдала от послевоенного спада, правительство издало Закон о примирении арендаторов. В этом законе прописывался механизм урегулирования споров между арендаторами и землевладельцами. Два года спустя правительством были изданы Правила для хозяйств владельцев-земледельцев. Согласно этому постановлению, арендаторы могли получить под небольшие проценты кредит для того, чтобы приобрести землю в собственность.Камо грядеши, Япония?
На Вашингтонской конференции 1921–1922 гг. Сидэхара Кидзуро одобрил вильсоновскую ортодоксальную теорию о свободной торговле, экономическом росте, обусловленном мирной конкуренцией, и прекращении агрессивного строительства империй. Он также согласился с тем, что наиболее могущественные державы мира должны сотрудничать между собой в деле поддержания международной стабильности. В основном это сотрудничество должно было осуществляться через систему многосторонних договоров, таких как Договор девяти держав. Великие державы также должны были отказаться от насильственного вмешательства во внутренние дела Китая и попыток его территориального и административного расчленения, если только они хотели сохранить мир в Азии. С июня 1924 по апрель 1927 г. Сидэхара имел возможность осуществлять эту политику, занимая пост министра иностранных дел в кабинетах Кэнсэйкай, возглавляемых Като Такааки иВакацуку Рэйдзиро. Однако идеи Сидэхара всегда оспаривались, а в конце десятилетия в результате дипломатического кризиса в Китае японская внешняя политика оказалась на распутье. Среди критиков Сидэхара были японские антиимпериалисты, многие из которых считали себя либералами или носителями левых взглядов. Большинство социалистов выступали против империализма с философских позиций. Для них расширение колониальных империй было частью повсеместного наступления на рабочий класс. Другие критики создания империи исходили из прагматичных интересов. Вклад колоний в японскую экономику был весьма незначительным, считали некоторые либералы, и сохранение империи лишь вызывает ненависть к Японии со стороны ее азиатских соседей. Были и такие, кто испытывал моральные страдания от того, что их страна приносит несчастья другим народам. В конце 20-х гг. Янайхара Тадао, выдающийся экономист, который занимал кафедру колониальной политики в Токийском университете, некогда занимаемую Нитобэ, с болью говорил об экономическом разладе, духовной деградации и ощущении политической безнадежности, которые охватили Корею после аннексии. Почему, задавался он вопросом, японские политики не могут понять той простой вещи, что корейцы сами хотят решать судьбу своей страны? «Отправляйтесь в Корею и посмотрите! — писал он. — Там каждый булыжник в мостовой кричит о свободе»{248}. Стремление Сидэхара сотрудничать с Западом встретило прохладный прием со стороны паназианистов, которые подчеркивали азиатские корни японцев и проводили непреодолимый рубеж между Востоком и Западом. Окакура Какудзо, основатель одного из самых замечательных японских университетов изящных искусств, а впоследствии — хранитель азиатской коллекции Бостонского музея изящных искусств, озвучил эту тему в своей работе «Идеалы Востока», опубликованной в начале века. «Азия едина. Гималаи разделяют, но только для того, чтобы подчеркнуть две могучие цивилизации. Но даже заснеженные барьеры ни на одно мгновение не могут остановить этот поток любви к Предельному и Универсальному, которая является интеллектуальным наследием каждой азиатской расы, дав им способность создать все великие религии мира и отделив их от морских народов Средиземноморья и Балтики, которые любят Отдельное и ищут способы жизни, а не ее конец»{249}. В период Тайсо многие паназианисты интерпретировали эти идеи в том смысле, что Япония сможет обеспечить себе безопасное и обеспеченное будущее только в том случае, если она будет помнить о своем азиатском прошлом и поддерживать тесные политические, экономические и культурные связи со своими соседями, в особенности с Китаем. Стремясь достичь взаимопонимания, некоторые паназианисты создавали организации, такие как Тоа Добункай (Восточноазиатское Общее Культурное Общество). Оно имело свою школу в Шанхае, где японцы могли изучать китайские язык и культуру, а также подготовительную школу в Токио для китайских студентов, желавших поступить на учебу в японские университеты. Недоверие к Западу было особенно высоким среди тех паназианистов, которые входили в состав японской делегации на Парижской мирной конференции. Память о демарше трех держав и других обидах, причиненных Западом, преследовала тех скептиков, которые с некоторой тревогой ожидали наступление вильсоновского нового мирового порядка. В частности, они опасались, что Запад будет использовать Лигу Наций в качестве инструмента господства белой расы. Принц Коноэ Фумимаро, член Палаты Пэров и японский посланник на конференции, отец которого был основателем Тоа Добункай, писал: «Мы по-настоящему боимся того, что Лига Наций может позволить великим державам экономически доминировать над слабыми народами и обречь нации, более поздно вставшие на путь развития, на вечное подчинение развитым нациям»{250}. Опасения по поводу западных предубеждений по отношению к азиатам приобрели в Париже такие масштабы, что японские представители подготовили специальный абзац о расовом равенстве, чтобы вставить его в договор Лиги. Этот абзац представлял собой декларацию, написанную в мягких выражениях, в которой говорилось, что нации, входящие в Лигу, не должны предпринимать дискриминационных действий по отношению друг к другу на основании расы или национальности и должны пытаться «настолько, насколько это возможно, обеспечивать равные условия» для иностранцев, проживающих на их территории. Некоторые наблюдатели подвергали сомнению право Японии на лидерство в борьбе с дискриминацией, припоминая ей о ее собственном отношении к Корее, однако большая часть японского общества считало расовое равенство лакмусовой бумажкой для проверки искренности Запада. В конце концов, как отмечалось в одной из передовиц, Лига может способствовать развитию международного сотрудничества и мирной конкуренции только в том случае, если нации будут честно относиться друг к другу. Однако ни одна западная держава не поддержала в Париже предложения японцев. Разочарованная японская делегация могла утешить себя лишь тем, что ей предоставили право произнести речь о расовом равенстве, которая вошла в официальный отчет о конференции. Наиболее яростными противниками Сидэхара были те японцы, которые, подобно паназианистам, считали, что будущее Японии связано с Азией, но при этом они отвергали идею сотрудничества, настаивая на более агрессивном отстаивании прав и интересов Японии на континенте. Вероятно, наиболее откровенным сторонником активной внешней политики был Танака Гиичи. Карьерный армейский офицер, доросший, под покровительством Ямагата Аритомо, до генеральского звания, Танака в 1925 г. принял предложение стать председателем Сэйюкай. Двумя годами позже, в апреле 1927 г., он стал премьер-министром, заняв одновременно и пост министра иностранных дел. Будучи ярым консерватором, Танака с ненавистью относился к растущему в Японии радикализму. Именно его кабинет санкционировал разгром коммунистов и других левых сил, состоявшийся 15 марта 1928 г. Во внешней политике Танака и его сторонники в Сэйюкай придерживались той позиции, что Япония является азиатской страной, интересы региональной безопасности которой часто не совпадают с интересами таких западных держав, как, например, Британия и Соединенные Штаты. События в Северо-Восточном Китае вызвали у Танака сильную озабоченность. К концу периода Тайсо японцы составляли значительную часть иностранной общины в Китае. По численности они превосходили всех выходцев с Запада вместе взятых. Японская община в Китае размещалась в основном в прибрежных городах между Шанхаем и Пекином и насчитывала в своих рядах 50 000 дипломатов, управляющих компаний, лавочников и строителей. Более того, Китай обладал для Японии гораздо большим экономическим значением, чем любая из ее формальных колоний. Китай снабжал островную нацию зерном, хлопком-сырцом, удобрениями и минералами. Более того, огромное, практически бесчисленное население Китая представляло собой необъятный рынок для японских производителей. Японские банки, торговые фирмы и фабрики охотно открывали свои представительства в открытых портах Китая. Основную часть японских компаний в Китае составляли фирмы по обработке хлопка. Количество намоточных станков, показанное в таблице 11.9, в значительной степени объясняло, почему Китай с экономической точки зрения стал более важен Японии, чем ее англо-американским конкурентам.
Территорию Маньчжурии, расположенную к северу от Пекина, Япония объявила зоной своих «особых прав и интересов». Такая позиция основывалась прежде всего на санкционированных международной общественностью Портсмутских договоренностях, а также на утверждении, что китайский суверенитет не распространяется севернее Великой стены. Более того, ценой неимоверных усилий Южная Маньчжурская железнодорожная компания превратила Квантунскую территорию в важную экономическую зону. Здесь осели десятки тысяч японцев, приехавших на континент в поисках лучшей доли. С точки зрения военной безопасности Маньчжурия представляла собой надежный буфер — новую «линию интересов», выражаясь словами Ямагата, — который защищал Корею и в конечном итоге саму Японию, от русского медведя. Наконец, память о многочисленных жертвах, понесенных во время русско-японской войны и великие победы генерала Ноги и адмирала Того создали вокруг Маньчжурии романтическую ауру, которая воздействовала на эмоции простых японцев. «Здесь, в далекой Маньчжурии, — начиналась одна популярная песня, — в сотнях лиг от родины / Наши товарищи лежат под каменистой равниной, / Освещенной красными лучами заходящего солнца»{251}. Толстый слой экономических и стратегических интересов, как считал Танака, делал отношения Японии с северной Азией отличными от отношений с этим регионом западных держав. Ни у одной из них не было так много поставлено на маньчжурскую карту, как у его островной нации. В будущем, рассуждал Танака, позициям Японии начнет угрожать более мощный потенциал Китая, объединенного под властью сильного центрального правительства. Это правительство может попытаться ограничить японский бизнес и вернуть Маньчжурию под свою юрисдикцию. После революции 1911 г., свергнувшей последнюю императорскую династию, началась борьба между военными правителями, которая повергла страну в хаос. К середине 20-х гг. один из претендентов на власть, Чан Кайши, установил свой режим в южном Китае. В 1926 г. его войска предприняли так называемый Северный поход. Это была попытка распространить власть Гоминьдана (Националистической партии), который служил Чан Кайши политическим аппаратом, на окружавшие Пекин провинции. Китайцы, проникнутые растущим чувством национализма, в 20-е гг. устраивали бойкоты иностранным товарам и проводили в главных городах демонстрации под ксенофобскими лозунгами. Главной целью националистически настроенных толп все чаще становились живущие в Китае японцы, которых начали считать воплощением внешней агрессии. В марте 1927 г., непосредственно перед тем, как Танака занял пост премьер-министра, во время волнений в Нанкине были убиты несколько японских бизнесменов. Танака, вступив в должность, начал проводить политику мобилизации войск для защиты предпринимателей и других японцев, проживавших на территории Китая. 28 мая 1927 г., после того как войска Гоминьдана вошли в провинцию Шаньдун, кабинет объявил о своем решении направить 2000 солдат из Дайрена в Циндао. Министерство иностранных дел назвало эту акцию «чрезвычайной мерой», на которую «было вынуждено пойти японское правительство в целях самообороны и для защиты своих граждан»{252}. В апреле следующего года Танака направил с японских баз дополнительный пятитысячный контингент, перед которым были поставлены те же цели. В мае 1928 г. в Дзиньани произошло столкновение этих войск с армией Чан Кайши. В кровавых схватках погибли сотни китайских солдат и мирных жителей. Сообщения о чинимых японцами зверствах, в том числе кастрации и ослеплении пленных, вызвали в китайских городах бурю антияпонских настроений. Дзиньаньский инцидент был зловещим предзнаменованием, завершающим десятилетие, которое начиналось с перспектив международного сотрудничества и невмешательства во внутренние дела Китая. Противоположные позиции во внешней политике, которые занимали Сидэхара и Танака, отражали фундаментальные различия в понимании будущего Японии в мире, где островная нация по-прежнему подвергается дискриминации со стороны западных расистов, несмотря на свой статус ведущей мировой державы. К спорам по поводу внешней политики присоединились две новые силы — антиимпериалисты и паназианисты. Они предполагали совсем иные пути взаимодействия Японии с ее соседями и искали безопасную нишу для себя. Еще больше вариантов предлагалось для развития внутренней политики. Новый век открыл новые возможности для дальнейшей модернизации Японии. Однако к концу периода Тайсо так и не был выработан единый взгляд на то, как ответить адекватно на вызовы индустриализации, справедливо распределить плоды экономического развития, компенсировать потери пострадавшим от развития промышленности, найти ответ на требования феминисток и молодежи, примирить городское и сельское население и так структурировать политическую систему, чтобы она, с одной стороны, делала возможным существования различных точек зрения, а. с другой, удовлетворяла бы самые широкие слои населения. События повернулись таким образом, что, когда споры о будущем Японии достигли своей кульминации в конце двадцатых, Великая депрессия и боевые действия в Маньчжурии потрясли нацию и сделали непредсказуемыми пути ее развития.
1 Thomas С. Smith, Native Sources of Japanese Industrialization, 1750–1920 (Berkeley: University of California Press, 1988), c. 242, n. 15. 2 Koji Taira, «Economic Development, Labor Markets, and Industrial Relations in Japan, 1905–1955», in John W. Hall et al., gen. eds., The Cambridge History of Japan, t. 6: Peter Duus, ed., The Twentieth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). cc. 631–632. 3 Andrew Gordon, Labor and Imperial Democracy in Prewar Japan (Berkeley: University of California Press, 1991), c. 81, n. 3. 4 Bryon K. Marshall, Capitalism and Nationalism in Prewar Japan: The Ideology of the Business Elite (Stanford: Stanford University Press, 1967), c. 72. 5 George Elison, Kotoku Shusui: The Change in Thought, in Monumenta Nipponica 32:3–4 (1967), c. 445. 6 Высказывания Канно приводятся по изданию: Mikiso Напе, ed. And tr., Reflections on the Way to the Gallows: Rebel Women in Prewar Japan (Berkeley: University of California Press and Pantheon Books, 1988), cc. 55–56 и 61. 7 Germaine A. Hoston, The State, Identity, and the National Question in China and Japan (Princeton: Princeton University Press, 1994), c. 148. 8 George Oakley Totten, HI, The Social Democratic Movement in Prewar Japan (New Haven: Yale University Press, 1966), cc. 207–208. 9 Robert A. Scalapino, The Early Japanese Labor Movement: Labor and Politics in a Developing Society (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, 1983), c. 243, n. 34. 10 Sharon L. Sievers, Flouwers in Salt: The Beginnings of Feminist Consciousness in Modem Japan (Stanford: Stanford University Press, 1983), c. 163. Laurel Rasplica Rodd, Yosano Akiko and the Taisho Debate over the «New Woman», in Gail Lee Bernstein, ed., Recreating Japanese Women, 1600–1945 (Berkeley: University of California Press, 1991), c. 180. \fera Mackie, Creating Socialist Women in Japan: Gender, Labor and Activism, 1900–1937(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), c. 96. Wra Mackie, Writing and the Making of Socialist Women in Japan, in Elise K. Tipton, ed., Society and the State in Interwar Japan (London: Routledge, 1997), cc. 134–135. Henry D. Smith II, Japan's First Student Radicals (Cambridge: Harvard University Press, 1972), c. 56. Nitobe Inazo, The Japanese Nation: Its Land, Its People, Its Life, with Special Consideration to Its Relations with the United States (New York: G. C. Putnam’s Sons, 1912), cc. 86–87. Richard Siddle, Race, Resistance and the Ainu of Japan (London: Routledge, 1996), c. 127. Shigeki Ninomiya, An Inquiry Concerning the Origin, Development, and Present Situation of the Eta in Relation to the History of the Social Classes in Japan», inTransactions of the Asiatic Society of Japan, 2d series, t. 10 (Декабрь 1933), c. 109. Ian Neary, Political Protest and Social Control in Pre-War Japan: The Origins of Buraku Liberation (Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press International, 1989), c. 68. Michael Wriner, The Origins of the Korean Community in Japan, 1910–1923 (Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press International, 1989), c. 85. Ibid., c. 107. Emily Groszos Ooms, Women and Millenarian Protest in Meiji Japan: Deguchi NaoandOmotokyo (Ithaca: Cornell University Press, 1993), c. 109. Mark J. McNeal, S.J., The Destruction of Tokyo: Impressions of an Eyewitness, Catholic World 118 (Декабрь 1923), cc. 308 и 311. Kim San and Nym Wales, Song of Ariran: The Life Story of a Korean Rebel (New York: John Day, 1941), c. 37. David J. Lu, ed., Japan: A Documentary History (Armonk, N.Y: M. E. Sharpe, 1997), c. 397. Sheldon Garon, Molding Japanese Minds: The State in Everyday Life (Princeton: Princeton University Press, 1997), c. 16. Thomas R. H. Havens, Farm and Nation in Modern Japan: Agrarian Nationalism, 1870–1940 (Princeton: Princeton University Press, 1974), c. 106. Mariko Asano Tamanoi, The City and the Countryside: Competing Ta iso «Modernities» on Gender, in Sharon A. Minichiello, ed., Japan's Competing Modernities: Issues in Culture and Democracy, 1900–1930 (Honolulu: University of Hawai’i Press, 1998), c. 93. 28 Stephen Vlastos, Agrarianism without Tradition: The Radical Critique of Prewar Japanese Modernity, in Vlastos, ed., Miror of Modernity: Invented Traditions of Modern Japan (Berkeley: University of California Press, 1998), c. 83. 29 Mark R. Peattie, Japanese Attitudes toward Colonialism, 1895–1945, in Ramon H. Myers and Peattie, eds., The Japanese Colonial Empire, 1895–1945 (Princeton: Princeton University Press, 1984), c. 117. 30 Okakura Kakuzo, The Ideals of the East, with Special Reference to the Art of Japan (Rutland, Vt.: Charles E. Tuttle, 1970), c. 1. 31 Oka Yoshitake, Konoe Fumimaro: A Political Biography, tr. Shumpei Okamoto and Patricia Murray (Lanham, Md.: Madison Books, 1992), c. 12. 32 Ikuhiko Hata, Continental Expansion, 1905–1941, in The Cambridge History of Japan, t. 6, c. 290. 33 Akira Iriye, After Imperialism: The Search for a New Order in the Far East, 1921–1931 (New York: Atheneum, 1969), c. 146.
ЧАСТЬ IV
Япония в войне
Хронология
1929 24 октября Крах биржевого рынка в Нью-Йорке, знаменующий начало Великой депрессии
1930 21 января В Лондоне открывается военно-морская конференция Лето Создается Общество цветущей вишни
1931 Март Члены Общества цветущей вишни составляют заговор 18 сентября Военнослужащие Квантунской армии взрывают железнодорожную линию около Мукдена, что служит началом Маньчжурского инцидента 19 сентября Квантунская армия захватывает Мукден и Чанчунь; премьер-министр Вакацуки провозглашает политику нераспространения военных действий 21 сентября Подразделения японской Корейской армии вступают на территорию Маньчжурии, чтобы оказать помощь Квантунской армии 21–25 сентября Толпы народа приходят в общественный парк в Осаке, чтобы посмотреть кинохронику сражений в Маньчжурии 22–23 сентября Квантунская армия захватывает Цзилинь 24 сентября Кабинет Вакацуки официально одобряет захват Цзилиня 17 октября Члены Общества цветущей вишни арестованы за составление заговора 20 ноября Квантунская армия вступает в Цицикар 11 декабря Кабинет Вакацуки слагает с себя полномочия 13 декабря Инукаи формирует свой кабинет, новый министр финансов Такахаси Корэкийо отменяет в Японии золотой стандарт 31 декабря Квантунская армия оккупирует юго-запад Маньчжурии
1932 7 января Госсекретарь США Генри Стимсон провозглашает «доктрину непризнания» 28 января Начало Шанхайского инцидента 5 февраля Квантунская армия входит в Харбин 9 февраля Член Кровного братства убивает бывшего министра финансов 29 февраля В Японию прибывает комиссия Литтона 1 марта Объявление Мань-чжоу-Го независимым государством 5 марта Члены Кровного братства убивают директора-распорядителя предприятий Мицуи 15 марта Молодые морские офицеры убивают премьер-министра Инукаи 15 сентября Японско-Маньчжоу-Гоский протокол официально признает существование Маньчжоу-Го 2 октября Комиссия Литтона представляет свой доклад, осуждающий действия японцев в Маньчжурии
1933 12 января Полиция арестовывает Каваками Хадзиме 28 января Квантунская армия входит в Рэхэ 20 февраля Кобаяси Такидзи умирает от пыток после ареста за «замышляемые преступления» 24 февраля Лига Наций принимает доклад комиссии Литтона 27 марта Императорский указ официально объявляет о выходе Японии из Лиги Наций 6 мая Начинаются сражения к югу от Великой стены 31 мая Заключается Тангуское перемирие, которое подразумевает демилитаризацию восточной части провинции Хэбэй между Великой стеной и линией Пекин — Тяньцзинь 7 июня Сано Манабу отрекается от своей веры в коммунизм и одобряет действия Японии в Маньчжурии
1934 28 марта Правительство принимает Закон о нефтяной промышленности
1935 18 февраля Члены Палаты Пэров предпринимают атаку на теорию управления Минобэ Тацукичи 9 апреля Министерство внутренних дел запрещает три книги Минобэ 10 июня Соглашение Хэ-Умедзу предусматривает вывод сил Гоминьдана из провинции Хэбэй 27 июня Соглашение Дойхара-Цин предусматривает отвод войск Гоминьдана и гражданских чиновников из Чахара 12 августа Подполковник Аидзава Сабуро убивает генерала Нагата Тэцудзан 18 сентября Минобэ Тацуки-чи выходит из Палаты Пэров 8 декабря Полиция разрушает главный храм и штаб-квартиру секты Омото
1936 1 января Новостное агентство Домэй начинает свою работу 26 февраля Первая дивизия начинает инцидент Двадцать шестого февраля 29 мая Парламент принимает Закон об автомобильной промышленности (вступает в действие 11 июля) 3 июля Подполковник Аидзава расстрелян 5 июля Вынесен приговор зачинщикам инцидента Двадцать шестого февраля, казни начинаются 12 июля 12 декабря Чан Кайши соглашается присоединиться к объединенному фронту для отражения японской агрессии
1937 30 марта Министерство образования издает Кокутай но хонгу («Основополагающие принципы национальной политики» 4 июня Коноэ становится премьер-министром 7 июля Сражение на мосту Марко Поло 8 августа Конфликт перекидывается в Шанхай 14 августа Чан Кайши объявляет всеобщую мобилизацию 28 сентября Суфражистские и феминистские организации объединяются в Лигу организаций японских женщин 5 октября Рузвельт высказывается против «эпидемии международного беззакония» 25 октября При кабинете создается Совет по планированию, в задачи которого входит экономическое планирование 11 ноября Начинается отступление войск Гоминьдана из Шанхая 13 декабря Японские войска вступают в Нанкин. В городе и окрестных населенных пунктах начинаются грабежи и мародерство 14 декабря В Пекине приступает к исполнению обязанностей Временное правительство Республики Китай 27 декабря Нисан переводит свою штаб-квартиру в Мань-чжоу-Го и меняет свое название на Маньчжурскую корпорацию тяжелой промышленности
1938 11 января Правительство объявляет о создании Министерства здоровья и благосостояния 1 апреля Парламент принимает Закон о национальной всеобщей мобилизации, который вступает в силу 5 мая 10 апреля Вступает в действие Акт об электрической промышленности 1 июля Американское правительство объявляет «моральное эмбарго» на продажу Японии самолетов и их частей 30 июля Создается Промышленная патриотическая федерация 21 октября Японские силы оккупируют Кантон 27 октября Японские войска берут Ханкоу 3 ноября Коноэ объявляет, что конечной целью войны в Китае является установление «нового порядка в Восточной Азии»
1939 10 февраля Япония захватывает остров Хайнань 11 марта Японские силы оккупируют острова Спартли 5 апреля Вступает в действие Закон о фильмах 8 апреля Закон о религиозных организациях ставит религиозные объединения под контроль правительства 8 июля Правительство издает указ о плане национальной службы 26 июля Вашингтон уведомляет Токио о своем намерении аннулировать Договор о коммерции и мореплавании, заключенный в 1911 г. 20 октября Указы о Контроле за ценами и о Временных мерах весов замораживают все цены, меры весов, оклады, арендную плату и стоимость перевозок
1940 30 марта В Нанкине Ван Цзинвэй создает Реорганизованное национальное правительство Республики Китай 23 июля Коноэ призывает к созданию движения за новый порядок 26 июля Кабинет утверждает «Очерк основных национальных принципов», предназначающийся для Движения за новый порядок 1 августа Министр иностранных дел Мацуока Ёсукэ объявляет о желании Японии создать Великую Восточноазиатскую сферу сосуществования 6 августа Соединенные Штаты запрещают продажи Японии авиационного бензина и смазочных материалов 15 августа Политические партии объявляют о самороспуске и о присоединении к созданию Ассоциации способствования императорскому правлению 30 августа Французское правительство дает согласие на ввод японских войск во французский Индокитай 11 сентября Министерство внутренних дел создает по всей стране ассоциации соседей 23–29 сентября Япония завершает оккупацию северных провинций французского Индокитая 27 сентября Италия, Германия и Япония подписывают Тройственный пакт 12 октября Создается Ассоциация способствования императорскому правлению 16 октября Соединенные Штаты вводят эмбарго на продажу Японии металлического лома 31 октября Правительство запрещает исполнение джаза и закрывает в Токио все дансинги 23 ноября Промышленная патриотическая федерация преобразовывается в Санпо, или Великую японскую промышленную патриотическую ассоциацию 7 декабря Кабинет одобряет добровольное создание ассоциаций контроля
1941 16 января Армия создает Молодежный корпус Великой Японии 13 апреля Япония и Советский Союз заключают пакт о ненападении 16 апреля Халл возвещает свои «четыре принципа» 22–28 июля Япония оккупирует южную часть французского Индокитая 25 июля Рузвельт замораживает все японские активы на территории Соединенных Штатов 26 июля Соединенные Штаты наращивают свои воздушные силы на Филиппинах 14 августа Рузвельт и Черчилль подписывают Атлантическую хартию 6 сентября Имперская конференция принимает решение перейти к военным действиям, если дипломатические методы не принесут результатов к середине октября 2 октября Халл информирует японского посла, что встреча между Рузвельтом и Коноэ не представляется возможной 8 октября Император утверждает на посту премьер-министра Тодзо Хидэки и поручает ему предпринять еще одну попытку организации переговоров 1–2 ноября Во время конференции, продолжавшейся 72 часа, японские лидеры решили в последний раз предложить мирное решение и крайним временем его принятия назначить полночь 30 ноября 7 ноября Номура представляет Халлу Предложение А 15 ноября Халл отвергает Предложение А 26 ноября Халл отвергает Предложение Б, и Япония принимает решение начать войну 1 декабря Решение о начале боевых действий подтверждается императорской конференцией 7 декабря Япония атакует Перл-Харбор (8 декабря по японскому времени) 12 декабря Правительство объявляет, что конфликт в Китае и Тихом океане будет назван Великой Восточноазиатской войной 25 декабря Японские войска оккупируют Гонконг
1942 2 января Японские войска входят в Манилу 2 февраля Правительство создает Женское общество Великой Японии 15 февраля Японские войска захватывают Сингапур 5 марта Японские силы оккупируют Батавию 8 марта Японские войска входят в Рангун 30 апреля Проводятся выборы в нижнюю палату парламента 20 мая Большинство членов парламента присоединяются к недавно созданной Политической Ассоциации способствования императорскому правлению 26 мая Создание Японской патриотической литературной ассоциации 4–6 июня Американцы пускают на дно 4 японских авианосца в битве у Мидуэя 9 июня Тодзо реформирует АСИП, включив в ее состав все массовые патриотические организации 7 августа Американские силы высаживаются в Гуадалканале 31 декабря Японцы принимают решение оставить Гуадалканал
1943 Январь В Чуо корон («Центральное обозрение») начинается публикация романа Танидзаки «Сестры Макиока», после выхода двух выпусков военные настаивают на приостановке публикации 18 апреля Американцы сбивают самолет адмирала Ямамото 12 мая—29 июля Американские силы отбивают у японцев Атту и Киска 23 сентября Кабинет объявляет о том, что женщины могут заменить мужчин в семнадцати отраслях промышленности 1 ноября Тодзо создает Министерство военного имущества 11 ноября Американцы высаживаются на Тараве
1944 10 февраля Действие законов о трудовой регистрации распространяется на всех мужчин в возрасте от двенадцати до пятидесяти девяти лет и на незамужних женщин в возрасте от двенадцати до тридцати девяти лет 75 июня — 7июля Американцы берут Тайпан 30 июня Кабинет принимает решение об эвакуации школьников из крупных городов 18 июля Тодзо уходит в отставку с поста премьер-министра Июль Правительство приостанавливает выход Чуо корон и Кайдзо («Перестройка») 20 октября начинается сражение в заливе Лейте 25 октября В небо поднимается первый пилот-камикадзе
1945 14 февраля Коноэ представляет императору меморандум с требованием скорейшего выхода из войны 19 февраля Американцы высаживаются в Иводзима 9-10 марта Бомбардировки Токио уносят 100 000 жизней 17 марта Падение Иводзима Март Падение Манилы 1 апреля Американские войска вторгаются на Окинаву 21 июня Американские силы захватывают Окинаву 26 июля Потсдамская декларация призывает Японию к безоговорочной капитуляции 6 августа Соединенные Штаты атомной бомбой разрушают Хиросиму 8 августа Советский Союз атакует Маньчжурию, Курильские острова, Южный Сахалин и Корею 9 августа Соединенные Штаты подвергают ядерной бомбардировке Нагасаки 15 августа Император по национальному радио объявляет о капитуляции Японии
ГЛАВА 12 «Период чрезвычайной ситуации»
Капитан Кавамото Суэмори осторожно уложил 42 желтых пакета со взрывчаткой. Вскоре после 22.00 18 сентября 1931 г. он взорвал их, разрушив участок железнодорожного полотна Южной Маньчжурской железной дороги к северу от Мукдена. Кавамото и его сообщники намеревались пустить под откос Дайренский экспресс, который должен был пройти здесь через несколько минут. Таким образом они хотели поставить под удар местного китайского военачальника, Чжан Сюэляна. Чудесным образом поезд, достигнув поврежденного места полотна, лишь немного качнулся, после чего невредимым проследовал дальше. Невозмутимый Кавамото отправил на свою базу заранее подготовленное сообщение: «Вступил в бой с китайскими силами, закладывающими взрывчатку под железнодорожное полотно»{253}. В ответ на эту «неспровоцированную агрессию» подразделения японской Квантунской армии немедленно атаковали казармы солдат Чжана в Мукдене и Чанчуне. В течение 48 часов японские войска оккупировали оба города. Доихара Кэндзи, полковник Квантунской армии, провозгласил себя главой комитета по управлению Мукденом, эффектно выведя эту столицу провинции из-под китайского контроля. Боевые действия в Маньчжурии вспыхнули в то время, когда Япония увязла в депрессии. 29 октября 1929 г. произошел обвал нью-йоркской фондовой биржи, и Токио в скором времени ощутил на себе последствия этого события. В период между 1929 и 1931 гг. японский экспорт уменьшился наполовину, валовой национальный продукт сократился на 18 %, инвестиции в заводское производство и оборудование сократились на треть. Крупный бизнес сократил операции, фирмы средних размеров обанкротились, а владельцы некоторых мелких компаний отказались платить за уже выполненную работу и даже скрылись с теми деньгами, которые оставались в кассе. В результате всего этого в японских городах более миллиона человек остались без работы. В условиях низких зарплат и отсутствия работы многие молодые рабочие возвращались в свои родные деревни, чтобы переждать там депрессию. Однако там они обнаруживали, что положение их родителей было не лучше. В 1930-м спрос на шелк сильно упал, и фермеры, занимавшиеся разведением коконов, получили лишь половину от прошлогоднего дохода. Цены на рис упали так резко, что в некоторых регионах фермеры получали за урожай меньше денег, чем они потратили на его выращивание. Если доходы крестьян в 1926 г. принять за сто, то в 1931 г. они составили лишь тридцать три. Ситуация усугубилась неурожаями, которые случились в 1931 и 1934 гг. Продовольствия не хватало до такой степени, что, как отмечали некоторые путешественники, крестьянские семьи зимой обдирали кору с деревьев, чтобы добраться до съедобных личинок насекомых. Тысячи голодающих семей продавали своих дочерей в городские публичные дома. Депрессия отразилась даже на мертвых: в некоторых регионах жители деревень использовали любую возможность для того, чтобы избежать приглашения на похороны, а те, кто все-таки шли к своим соседям на поминки, вместо традиционного денежного подношения оставляли долговые расписки, объясняя, что «когда экономическая ситуация улучшится, я обязательно принесу деньги»{254}. Маньчжурский инцидент и Великая депрессия — два потрясения, постигшие Японию в начале 30-х гг. XX столетия, — вновь породили сомнения по поводу эффективности капитализма и способности партийных кабинетов справиться с ми-риалами политических, экономических и социальных проблем, с которыми сталкивалась нация. Все понимали одно: что Япония вступила в «период чрезвычайной ситуации», и у многих появились свои ответы на вопрос: «Камо грядеши, Япония?»Маньчжурский инцидент
Главным архитектором Маньчжурского инцидента был Исивара Кандзи. Окончив в 1909 г. японскую Военную академию, молодой младший лейтенант был направлен для несения службы в Корею, после чего поступил в училище Армейского штаба. Его он окончил в 1918 г., показав второй результат в своем классе. Затем его ждала стремительная карьера. Прослужив год в Китае, он получил направление в Германию для исследований и изучения языка. Вернувшись в Японию в 1925 г., он, в звании майора, начал преподавать историю войн в училище Армейского штаба. Исивара, склонный к донкихотству и обладавший нестандартным мышлением, рисовал во время своих лекций апокалиптические картинки будущего. Нужно усвоить очень простой урок, говорил Исивара курсантам: война становится все более жестокой и всеобъемлющей. Изобретение отравляющих газов, неуязвимых танков и аэропланов с их возможностью доставлять смертоносные грузы на большие расстояния, означает, что любая война в будущем затронет всех — военнослужащих и гражданских, невинных женщин и детей и вооруженных мужчин. Используя популярный в германских военных кругах термин der total Krieg[35], Исивара объяснял, что следующий конфликт, если он произойдет, будет тотальной войной. Разрушения будут выходить за вообразимые пределы, и нация сможет пережить подобный холокост только в том случае, если она будет способна мобилизовать все свои материальные, людские и духовные ресурсы. Глупо было бы воображать, говорил он, что Первая мировая война была «войной, которая положила конец всем войнам». Будучи адептом религиозного учения Ничирэн, спорного и, в некоторых моментах, воинствующего ответвления буддизма, возникшего в XIII столетии, Исивара принял его фундаментальную идею: в конце концов, «гигантский мировой конфликт, беспрецедентный в человеческой истории», очистит земной шар и положит начало всеобщему и вечному миру. Его собственная интерпретация древнего учения предполагала, что эта катастрофа произойдет во время его жизни. Его видение стратегической ситуации конца 20-х гг. XX в. привело его к выводу, что две новые мировые державы, представляющие противоположные исторические и религиозные традиции, окажутся в центре этого противостояния. По одну сторону Тихого океана, объяснял Исивара аудитории, находятся Соединенные Штаты, которые идут во главе западных обществ. На противоположной стороне океана располагается Япония, ставшая бесспорным лидером азиатской цивилизации. В конце концов, неизбежно, и скорее раньше, чем позже, предрекал он, эти две носительницы противоположных идеологических систем встретятся не просто в тотальной войне, но в окончательной войне, и только одна из них выживет, чтобы доминировать в эру вселенского мира. Япония, заключал он, должна немедленно приступить к приготовлениям к грядущему Армагеддону. Этот императив означал, что Япония должна доминировать в Восточной Азии, а в Маньчжурии ей следует создать мощную промышленную базу, которая обеспечит ресурсы и индустриальную мощь, необходимые для победы в грядущей войне на уничтожение с Соединенными Штатами. В октябре 1928 г. Исивара добился своего перевода в Квантунскую армию. С того самого дня, когда он ступил на берег в Порт-Артуре, он неустанно повторял о том, что Япония должна взять под контроль весь этот регион. Он быстро подружился с другими молодыми офицерами, которые также желали распространить «особые права и интересы» Японии на маньчжурские провинции, чтобы создать стратегическую буферную зону на пути распространения советского влияния и приобрести обширные, богатые территории, на которых могут размещаться японские поселенцы, не нашедшие счастья на родине. Офицеры быстро достигли между собой согласия. Они могли бы оказать неоценимую услугу исторической миссии Японии, если бы они скинули военного правителя Чжан Сюэляна и объявили власть Японии над территориями, лежащими к северу от Великой Китайской стены. «Результаты военной оккупации Маньчжурии и Монголии, — писал Исивара в 1931 г., — будут иметь важность не только для будущей войны, но и определять развитие Японской империи на сто лет вперед»{255}. К весне 1931 г. Исивара понял, что для Квантунской армии наступает удобный момент для военной оккупации Маньчжурии. В самой Японии кабинет Минсэйто подвергался критике за неспособность справиться с проблемами, вызванными всемирным экономическим кризисом. Тем временем справа раздавались голоса, что премьер-министр поставил под угрозу будущее страны, согласившись на ограничения военно-морских сил во время Лондонской военно-морской конференции, проходившей в прошлом году. Во всем мире, рассуждал Исивара, не найдется государства, которое смогло бы противостоять решительным действиям Японии в Маньчжурии. Капиталистические страны Запада продолжают пребывать в депрессии. Советский Союз занят борьбой за выполнение пятилетнего плана, а Северный поход Чан Кайши лишь частично завершился успехом, после чего лидер китайских националистов переключил все свое внимание на сохранение власти в Южном Китае, где он 10 октября 1928 г. создал формальное националистическое правительство. Все, что нужно в такой ситуации, заключил Исивара весной 1931 г., это приемлемый повод, который оправдает захват Маньчжурии Квантунской армией. События, произошедшие в Маньчжурии в ночь с 18 на 19 сентября, шокировали гражданское правительство в Токио. Встревоженный премьер-министр Вакацуки Рэйдзиро 19 сентября в 10.30 созвал кабинет на чрезвычайное заседание. Министр иностранных дел Сидэхара Кидзуро высказал подозрения, что на самом деле в инциденте повинны не китайские войска, а Квантунская армия. Осознавая важность момента, он потребовал от военного министра Минами Дзиро гарантий, что «события не выйдут за рамки теперешней ситуации»{256}. Вакацуки, которого также беспокоил авантюризм военных и который разделял точку зрения Сидэхара, что сотрудничество с Западом и невмешательство во внутренние дела Китая в большей степени отвечают интересам Японии, заставил Минами «проинструктировать командующего Квантунской армией не расширять зону конфликта». Минами и ряд других генералов центрального штаба не испытывали симпатий по отношению к молодым офицерам Квантунской армии, но они и не собирались отказываться от мысли, что Японии необходимо распространить свои влияние и власть на Маньчжурию. У высшего военного руководства были на этот счет другие соображения. Некоторые генералы боялись возможности интервенции Советского Союза, которая бы нарушила статус-кво в Северном Китае. Другие не желали нарушать молчаливого соглашения, достигнутого во время участия Японии в подавлении боксерского восстания тремя десятилетиями ранее. Оно заключалось в том, что войска не будут перебрасываться за море без предварительного согласия кабинета и императорского приказа. Были и такие, кто опасался недовольства правительства и парламента. В итоге вскоре после полудня Вакацуки покинул заседание кабинета, чтобы сообщить ожидавшим его журналистам о своей политике нераспространения военных действий. Минами вернулся в штаб и по телеграфу отправил приказ командующему Квантунской армией удерживать прежние позиции и избегать втягивания в дальнейшие боевые действия. Запреты, поступившие как со стороны гражданского, так и со стороны военного руководства, слабо подействовали на молодых офицеров Квантунской армии. Исивара и его окружение были убеждены в сакральном характере их миссии. Они оправдывали свои действия, заявляя, что они пользуются «прерогативой полевого командования», то есть временным правом местных командиров самостоятельно проводить операции в чрезвычайных ситуациях, не дожидаясь приказов центрального штаба. Таким образом, через 3 дня после атак на Мукден и Чанчунь, Исивара направил своих агентов в Цзилинь. Их задачей было провоцирование беспорядков, так чтобы могло сложиться впечатление, что жизням и имуществу 900 японцев, проживавших в городе, угрожает опасность. Использовав возникшие в связи с этим мелкие инциденты в качестве повода, Исивара и его последователи 21 сентября обратились к генералу, в подчинении которого находились, с требованием направить войска в город, предположительно охваченный волнениями. Генерал отказался это сделать, сославшись на приказ военного министра Минами. После этого молодые офицеры целую ночь продержали своего командира буквально в осаде. На рассвете наконец генерал отдал распоряжение о выступлении войск. Затем заговорщики начали действовать быстро и решительно. Вторая дивизия взяла Цзилинь без единого выстрела, после чего была объявлена независимость всей провинции. Эти события осложнили положение Вакацуки и японского генерального штаба. В поведении Квантунской армии не было ничегохорошего (равно как и в поведении японских полевых подразделений в Корее, которые перешли реку Ялу, чтобы оказать поддержку Квантунской армии), а штабные генералы не спешили призвать полевых офицеров к дисциплине. Кроме того, Вакацуки обнаружил, что значительная часть японской публики с восторгом приветствует действия Квантунской армии. Начиная с вечера 21 сентября, огромные толпы людей на несколько ночей оккупировали общественный парк в Осака. Там размещалась экспозиция фотографий, сделанных во время боев в Маньчжурии. Более того, средства массовой информации абсолютно некритично восприняли заявление, что инициаторами конфликта были китайцы. В передовой статье номера от 20 сентября ежедневной газеты Асахи синбун сообщалось, что конфликт вокруг Мукдена был простым «ответом на взрыв китайскими войсками Южной Маньчжурской железной дороги». Китай, отмечалось в передовице, «должен понести всю ответственность за этот инцидент. Реальность такова, что перед лицом этой очевидной угрозы нашим жизненным интересам и правам в Маньчжурии и Монголии, Япония должна защищать свои права даже ценой многочисленных жертв»{257}. Взрыв народного патриотизма не позволил Вакацуки отречься от действий Квантунской армии. 24 сентября премьер-министр вновь созвал кабинет и одобрил оккупацию Цзилиня, а Министерство иностранных дел издало коммюнике, в котором излагалась новая позиция правительства по данной проблеме. Целями действий Японии, объяснял всему миру Вакацуки, является защита «установленных законом прав и интересов» японских граждан в Маньчжурии. Япония, говорилось далее в этом документе, не выдвигает «никаких территориальных претензий», а правительство по-прежнему «готово сотрудничать с китайским правительством, чтобы предотвратить превращение настоящего инцидента в опасную ситуацию для обеих стран, а также разрабатывать такие конструктивные планы, которые раз и навсегда ликвидируют саму возможность возникновения трений в будущем»{258}. К сожалению, «конструктивные планы» было очень трудно выработать, и модель локальной независимой акции, за которой следуют скупые объяснения из Токио, продолжала повторяться в Маньчжурии на протяжении всей осени 1931 г. Стремясь расширить зону японского контроля, Исивара утром 8 октября лично, надев летную форму, повел пять самолетов на бомбардировку города Цзиньчжоу, расположенного к юго-западу от Мукдена. Этот неспровоцированный рейд на беззащитный город потряс весь мир, но высшее командование в Токио вновь постфактум оправдало действия своих офицеров. Чтобы успокоить международное общественное мнение, японский генштаб по телеграфу отправил очередной приказ, запрещающий дальнейшее распространение боевых действий. Однако спустя всего несколько недель Исивара нашел новый повод для активных действий. Китайские вооруженные силы разрушили железнодорожные мосты около Цицикара, а затем обстреляли японские ремонтные бригады. На этот раз генеральный штаб по телеграфу передал Квантунской армии приказ выделить подразделения для охраны мостов. Исивара истолковал этот приказ более широко, оправдав им оккупацию Цицикара. К концу осени Квантунская армия контролировала три маньчжурских провинции — Цзилиня, Ляонина и Хэйлунцзяна. По мере того как Квантунская армия распространяла сферу своего контроля, молодые заговорщики составили новую схему развития событий, согласно которой Маньчжурия превращалась в независимое государство. Оно, согласно распространенной фразе того времени, должно было стать «раем для всех народов региона». Планы его создания в значительной мере были разработаны полковником Доихара, который предполагал, что новое государство будет республикой, управлять которой будут известные люди из числа китайцев. Однако было абсолютно понятно, что они будут всего лишь марионетками в руках Квантунской армии, на которую возлагались задачи по защите нового государства, осуществление внешней политики, контроль над транспортом и связью. Доихара надеялся добавить легитимности своему детищу, поставив во главе его Пуи, последнего императора Китая. Первоначально гражданское руководство в Токио сопротивлялось созданию нового государства. Однако в декабре 1931 г. Вакацуки, главный противник проекта, ушел в отставку, и маньчжурские заговорщики возобновили продвижение своих планов. Инукаи Цуёси, преемник Вакацуки на посту премьер-министра, возглавлял Сэйюкай и был одним из корифеев политического Олимпа Японии. На протяжении всей своей долгой карьеры Инукаи был сторонником парламентской демократии. Пятьдесят лет тому назад, в 1882 г., он помогал Окума Сигэнобу создавать партию Конституционных реформ. В 1890 г., на первых выборах в парламент, он получил мандат депутата Палаты Представителей, который сохранял за собой 18 сроков подряд. Создавая в 1931 г. свой кабинет, патриарх японской политики надеялся переговорами добиться мирного разрешения Маньчжурского инцидента. Однако слабый здоровьем Инукаи, разменявший восьмой десяток, не смог противостоять напору молодых и сдавал одну позицию за другой. Более того, новый военный министр, энергичный Араки Садао, придерживался ультранационалистических взглядов и в открытую поддерживал действия молодых полевых офицеров по созданию нового независимого государства под японским контролем. Совсем скоро, к концу декабря, Квантунская армия оккупировала большую часть юго-запада Маньчжурии. В феврале 1932 г. японские войска наводнили Харбин, и 1 марта формально было объявлено о создании Маньчжоу-Го с Пуи в качестве регента.Внутри страны: революционное право и терроризм
Если в 20-е гг. громче всего звучал голос левых, то в начале 30-х стали давать знать о себе радикальные правые. Как и их двоюродные братья, принадлежавшие левому флангу, студенты, сельские активисты и офицеры, являвшиеся сторонниками революционного права, заявляли, что причиной всех бед и проблем страны являются эгоистические махинации некоторых привилегированных групп, а в особенности — партийных политиков и лидеров крупного бизнеса. Но если анархисты, вожди пролетарских партий и студенческий авангард Синдзинкай рисовали в своем воображении эгалитарное утопическое общество рабочих и крестьян, то крайне правое крыло призывала к Реставрации Сева, используя название новой эры, которая началась в 1926 г. с восшествием на престол императора Сева. Большинство правых радикалов с трудом представляли себе, что должна представлять собой эта Реставрация. Но почти все они сходились в том, что им необходимо, как это было необходимо для сиси, «людей высоких намерений», в 60-х гг. XIX столетия, очистить страну от порочного и некомпетентного режима, доказавшего свою неспособность решить проблемы нации. Поскольку старые формы управления потерпели крах, то должны появиться новые лидеры, как это произошло в эпоху Мэйдзи. Они будут осуществлять волю императора и строить более сильную и более процветающую Японию. Устав Общества цветущей вишни, созданного в конце лета 1930 г. подполковником Хасимото Кингоро, отражал основные положения идеологии правого крыла, а также основную цель Реставрации Сева:«Огладывая современные социальные тенденции, мы приходим к выводу, что высшее руководство ведет себя аморально, политические партии погрязли в коррупции, капиталисты и аристократы не понимают нужд простого народа, деревни опустошены, безработица и депрессия достигли серьезных масштабов. Далее, в отношениях с внешним миром правители пренебрегают долгосрочными интересами нашей страны, стараясь заслужить поощрение со стороны иностранных держав и не желая осуществлять внешнюю экспансию. Позитивный дух предпринимательства, который был характерен для периода, последовавшего за реставрацией Мэйдзи, совершенно угас. Народ вместе с нами ищет образ добродетельного и чистого правительства, которое в реальности будет опираться на народные массы и группироваться вокруг императора. Хотя мы, военные, никак не можем непосредственно участвовать в работе правительства, наше стремление служить стране при любых обстоятельствах может проявить себя и способствовать улучшению правления и увеличению национальной мощи»{259}.Кроме озабоченности по поводу тяжелых социальных и экономических последствий Великой депрессии, сотня, или около того, гражданских лиц и молодых офицеров, вступивших в Общество цветущей вишни, разделяли презрительное отношение Исивара Кандзи к «бесхребетной» китайской политике кабинетов Минсэйто. Но если Исивара выражал свое несогласие путем осуществления непосредственных акций на континенте, Хасимото и его соратники готовили революцию дома. Свое выступление они назначили на 20 марта 1931 г. План был разработан на уровне театральной постановки. Члены Общества должны были возглавить десятитысячное шествие к зданию парламента. «Смертоносные эскадроны» должны были закидать бомбами офисы ведущих политических партий и резиденцию премьер-министра. Ведущие генералы в то же время должны были потребовать отставки кабинета и назначение на пост премьер-министра генерала Угаки Кадзусигэ, известного противника партийного правительства. К сожалению потенциальных мятежников, Угаки отказался от участия в заговоре. Генерал опасался, что в случае провала мятежа пострадает репутация армии и, что было более существенным, он, как и большинство военных, по-прежнему придерживался той твердой позиции, что военные не должны вмешиваться во внутреннюю политику. Когда Угаки понял, что готовилось в стране, он быстро принял меры по подавлению заговора. Несколькими месяцами позже, осенью 1931 г., дерзкие акции Квантунской армии заставили членов Общества цветущей вишни вновь воспрянуть духом. Они приступили к составлению нового заговора. На этот раз планы были даже более грандиозными, чем прежде. Заговорщики решили уничтожить кабинет одной-единственной бомбой, сброшенной с самолета. Теперь в наивных мечтах конспираторов новым премьер-министром виделся генерал Араки, а лидеры Общества должны были получить основные министерские посты. И вновь планы Реставрации Сёва были сорваны старшими генералами. Вечером 16 октября Араки пригласил главарей заговора в дом-ресторан гейши для серьезного разговора по поводу неприемлемости их деятельности. На следующий день военная полиция поместила под стражу Хасимото и нескольких его товарищей. Позднее появился приказ о роспуске Общества цветущей вишни. Атмосферу кризиса начала 30-х гг. XX в. усугубляли убийства, совершаемые членами Кровавого братства. Это была радикальная гражданская организация, состоявшая из идеалистически настроенных студентов и сельской молодежи. К активным действиям их побудила трагедия Великой депрессии. Члены братства избрали своим лозунгом фразу: «Один участник, одна смерть». Они поклялись очистить Японию от политиков и бизнесменов, которые, по их мнению, обогащались за счет крестьян и бедных рабочих. В начале 1932 г. братство составило список потенциальных жертв, в который вошли 22 заметные персоны, в том числе бывший премьер-министр Вакацуки, ведущий политик Саёндзи Кинмочи и глава семьи Мицубиси. 9 февраля член братства застрелил бывшего министра финансов, политика которого, как считал двадцатитрехлетний убийца, ввергла японских крестьян в голод и нищету. В следующем месяце членами братства был убит исполнительный директор предприятий Мицуи. Его застрелили около штаб-квартиры корпорации, в самом сердце деловой части Токио. Пик политического террора пришелся на 15 мая 1932 г. В тот воскресный вечер группа молодых офицеров военно-морского флота ворвалась в официальную резиденцию И нукай и застрелила премьер-министра. Другие политики, убийство которых планировалось на тот же день, смогли избежать гибели, однако столица пребывала в ужасе, поскольку члены братства закидали ручными гранатами центральные отделения полиции, Банк Японии, штаб-квартиру Сэйюкай и ряд электростанций. Манифест, обнародованный участниками инцидента 15 мая, был пропитан ненавистью, которую испытывали мятежники, призывающие к Реставрации Сева: «Посмотри честно на ситуацию в твоей отчизне, Япония! Где, спрашиваем мы, можешь ты найти подлинное проявление благочестия Императорской Страны Японии? Политические партии слепо рвутся к власти и преследуют свои эгоистические интересы. Крупные предприятия, сосущие кровь и пот народа, находятся в очевидном сговоре с политиками. Бюрократы и полиция стоят на страже коррумпированного политико-промышленного комплекса. Дипломатия бесхребетна. Образование прогнило до самого основания. Пришло время радикальных, революционных перемен. Вставайте и действуйте сейчас!»{260} Маньчжурский инцидент и террористические акции, предпринятые правыми организациями в 1931–1932 гг., знаменовали собой кардинальный поворот как во внешней, так и во внутренней политике Японии. На континенте идея создания на части китайской территории нового государства, управлять которым будут японские военные, не позволяла надеяться на улучшение китайско-японских отношений. Она положила начало изоляции Японии от разъяренного Запада, который расценил ее действия как ничем не прикрытую агрессию. Акции в Маньчжурии подтолкнули островную нацию на скользкую дорожку, которая вела к еще более опасной международной конфронтации. В самой стране политические убийства и попытки государственных переворотов продемонстрировали хрупкость японской политической структуры, привели к обвальному падению доверия к партийным политикам и вдохновили тех идеологов, которые романтизировали имперское прошлое и пытались создать новую национальную политику.
Пройти все это в одиночестве
Исивара Кандзи вместе с генеральным штабом могли верить, что Япония отстаивает в Северной Азии свои законные интересы. Однако за пределами Японского архипелага лишь немногие разделяли эту точку зрения. Большинство китайцев были оскорблены. На дипломатическом фронте националистическое правительство Чан Кайши 20 сентября 1931 г., когда Квантунская армия готовилась к вторжению в Цзилинь, направило петицию в Лигу Наций с просьбой о заступничестве. Несколько сотен китайских студентов, учившихся в Японии, собрали свои вещи и вернулись домой. По всему Китаю проходили антияпонские выступления. 5 октября тысячи демонстрантов вышли на улицы Кантона, чтобы отметить день траура, 10 декабря в этом же городе состоялась десятитысячная демонстрация студентов. В Шанхае бойкот японских товаров сопровождался столь бурными эмоциями, что муниципальный совет был вынужден 28 января 1932 г. ввести режим чрезвычайного положения. Многие западные страны присоединились к критике действий Японии. Особенно активны в этом отношении были Соединенные Штаты. 7 января 1932 г. госсекретарь Генри Стимсон заявил, что Соединенные Штаты не признают законности военных захватов, осуществленных Японией, поскольку эта страна нарушила существующие договоренности и попрала нормы международного поведения. Чтобы подтвердить серьезность «доктрины непризнания», президент Герберт Гувер направил часть кораблей американского Тихоокеанского флота с Западного побережья в Перл-Харбор. Еще большее раздражение вызвала у западных стран высадка японских морских пехотинцев в Шанхае, якобы для защиты японцев, проживавших в городе. Вскоре начались бои с Девятнадцатой армией Гоминьдана, закрепившейся в малонаселенной части города. 29 января 1932 г. японские самолеты подвергли этот район бомбардировке, во время которой погибли несколько мирных жителей. После бомбардировки японцы направили в Шанхай дополнительные полки. К тому моменту, как в мае было заключено перемирие, общие потери обеих сторон составили 20 000 убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Внешний мир, шокированный потерями среди мирного населения, смотрел на китайцев как на героев, мужественно и упорно защищавших свою страну от безжалостного врага. Мировое общественное мнение расценивало действия Японии как агрессию. Возмущение поведением японцев росло, и в дело решила вмешаться Лига Наций. В ноябре 1931 г. для изучения ситуации она создала комиссию, которую возглавил британский политик лорд Литтон. Вместе со своими коллегами он прибыл в Японию 29 февраля 1932 г., всего через несколько дней после того, как Кровавое братство застрелило бывшего министра финансов кабинета Вакацуки и за считанные часы до создания Маньчжоу-Го. К октябрю 1932 г. комиссия завершила свое расследование. Его результаты были представлены в отчете. Несмотря на то что тональность отчета была тактичной и сдержанной, в нем начисто отвергались заявления японцев о том, что военная интервенция в Маньчжурию представляла собой акт самозащиты. «Без объявления войны, — говорилось в отчете Литтона, — значительная часть земель, бесспорно являющихся китайской территорией, была захвачена и оккупирована силами Японии, и, вследствие этой операции, была отделена и объявлена независимой от Китая»{261}. Выяснение отношений между Лигой Наций и Японией произошло в феврале 1933 г., во время представления отчета Литтона. Делегацию Японии на этой сессии возглавлял Мацуока Ёсукэ. Он родился в 1880 г. в маленьком портовом городе на западе Японии. В тринадцатилетнем возрасте он вместе со своим двоюродным братом покидает Японию и поселяется в Портленде, штат Орегон. Будучи усыновленным семьей американцев, он учился в ряде общественных школ западного побережья, а затем окончил Орегонский университет. Вернувшись после учебы в университете в Японию, он посвятил себя общественной деятельности. За 17 лет работы в Министерстве иностранных дел он побывал в Китае, России и Соединенных Штатов. В 1921 г. Мацуока перешел в Южноманьчжурскую железнодорожную компанию. Сначала он выполнял обязанности директора, затем — вице-председателя. В 1930 г. он получил мандат депутата Палаты Представителей от партии Сэйюкай. Весной 1932 г. правительство направило его в Китай для ведения переговоров по поводу Шанхайского инцидента. В том же году он возглавил японскую делегацию в Лиге Наций. Мацуока был блестящим оратором, в одинаковой степени владевшим как японским, так и английским языком. Выйдя на трибуну Лиги Наций 24 февраля 1933 г., он ринулся на защиту действий Японии в Маньчжурии. В Китае, утверждал он, отсутствует законное правительство, которое могло бы поддерживать закон и порядок. Эта страна, говорил Мацуока, является слабой и «отсталой», находящейся в «состоянии распада и упадка», в которой «десятки миллионов людей потеряли свои жизни в ходе междоусобной войны, тирании, разгула преступности, голода и наводнений». Япония, в противоположность ей, является «великой цивилизованной нацией», которая «была и будет оплотом мира, порядка и прогресса на Дальнем Востоке». В погрязшем в хаосе регионе, утверждал Мацуока, Япония превратила Маньчжурию в остров стабильности и процветания. В духе мирного сосуществования его нация надеется установить дружественные отношения с Китаем. «Наши теперешние усилия по оказанию помощи Маньчжоу-Го, — сказал он в завершение, — однажды приведут, я верю, к осуществлению желания и долга Японии по оказанию помощи Китаю. Я настоятельно прошу вас рассматривать наши поступки, исходя из наших позиций, и оказать нам доверие»{262}. Красноречие Мацуока, однако, не показалось достаточно убедительным, и Лига приняла отчет Литтона 41 голосом «за» при 1 голосе «против» (Япония) и 1 воздержавшемся (Сиам). При полном молчании японская делегация, ведомая Мацуока, покинула зал заседаний. 27 марта 1933 г., после «многих бессонных ночей», император издал эдикт, объявлявший о формальном выходе Японии из Лиги Наций, а правительство заявило об отказе от всех международных договоренностей, заключенных во время Вашингтонской конференции в начале предыдущего десятилетия. Ровно через месяц после императорского эдикта, Мацуока вернулся в Японию. По дороге он остановился в Портленде, где установил памятный знак и посадил дерево на могиле «моей американской матери». В Иокогаме его корабль встречали толпы японцев под национальными флагами. Каждый хотел хоть мельком увидеть своего нового героя. Вокруг Мацуока роем носились газетные репортеры, a NHK организовала прямую радиотрансляцию. Все свидетельствовало о горячей общественной поддержке решения Японии пройти все это в одиночестве.Защищая Маньчжоу-Го, расширяя боевые действия
Изоляция от международного сообщества утвердила среди представителей узкого круга лидеров японской политики мнение, что выживание страны зависит от создания в Азии режима безопасности, в котором Японии будет отведена ведущая роль. Поэтому правительство приступило к укреплению связей с марионеточным государством Маньчжоу-Го. В сентябре 1932 г. две страны подписали Японско-Маньчжоу-Гоский протокол. Он знаменовал дипломатическое признание нового государства, а на Японию возлагалась ответственность за его внутреннюю и внешнюю безопасность. 1 марта 1934 г. Пуи отказывается от титула регента и в торжественной обстановке вступает на Небесный Престол как император Маньчжоу-Го. Реальная власть императора, однако, была мизерной. Делами заправлял находившийся в тени командующий Квантунской армией, который одновременно был послом Японии в Маньчжоу-Го. Под бдительным присмотром этого военачальника, обладавшего правом назначать членов правительства Маньчжоу-Го, каждую среду происходило заседание Совета общих дел, который принимал государственные законы и определял политику страны. Все его решения автоматически утверждались Народным конгрессом. Доминирование японцев в новом государстве было очевидным. Место председателя совета, равно как и многие ведущие должности в бюрократическом аппарате Маньчжоу-Го, занимали японцы. Квантунская армия успешно проникла в аппарат управления Маньчжоу-Го. Тем не менее защита нового государства представлялась весьма трудным делом. В стратегическом отношении старшие военные чины в Токио продолжали рассматривать Советский Союз в качестве главного врага Японии. Военный министр Араки постоянно говорил о необходимости превентивного удара по Советам. Он хотел подготовить нацию к «кризису 1936 г.», когда, по его мнению, угроза войны приобретет наибольшие масштабы. Советский Союз был встревожен подобными заявлениями, равно как и возникновением нового недружелюбного государства на его границах. В период, прошедший с Маньчжурского инцидента и до конца 1935 г., он почти вдвое увеличил количество своих дивизий на Дальнем Востоке — с 8 до 14. Число боевых самолетов выросло с 200 до 940. Руководство Японии и Маньчжоу-Го также было озабочено возрастающим количеством проявлений китайского национализма. Банды вооруженных мародеров постоянно обстреливали патрули Квантунской армии и нападали на японские посты к северу от Великой стены. В глазах китайцев партизанская война была честным и справедливым ответом на внешнюю агрессию. Японская пресса, в противоположность этому, писала о «бандитах» и грубых и жестоких головорезах. В реальности эти отряды состояли из лишившихся собственности крестьян и бывших сторонников Чжан Сюэляна, который главные свои силы перебросил на запад, в провинцию Рэхэ. В целом весной 1932 г. насчитывалось около 350 000 партизан. Многие японские подразделения, размещенные в отдаленных городках Маньчжурии или вдоль железнодорожной магистрали, зачастую оказывались в кольце вооруженных и враждебно настроенных китайцев. Проблемы Квантунской армии доставляли и коммунисты — приверженцы Мао Цзэдуна. В октябре 1935 г. они завершили свой длительный поход, обосновавшись в Яньани в северной провинции Шэнси, и приступили к организации антияпонской кампании. Перед лицом укрепления советских сил и роста китайского сопротивления, центральный военный штаб и гражданское правительство в Токио отдали приказ об увеличении численного состава Квантунской армии, как это показано в таблице 12.1. Кроме того, армии было приказано активизировать «кампанию по подавлению бандитизма» и создать демилитаризованные буферные зоны вокруг Маньчжоу-Го. Выполняя это распоряжение, армия в январе 1933 г. вошла в Рэхэ. Это произошло незадолго до того, как Лига Наций приняла доклад Литтона. Вторжение в Рэхэ мало способствовало успеху Японии в авторитетной международной организации, но к середине марта войска достигли уже Великой стены, передав всю провинцию под контроль правительства Маньчжоу-Го.
Вскоре, однако, Квантунская армия обнаружила, что постоянно требуются все новые и новые буферные зоны. По логике оборонительной теории Ямагата, каждое новое империалистическое приобретение и военная конфронтация требуют дальнейшего расширения линии интересов. Соответственно, когда на западе к территории Маньчжоу-Го присоединилась Рэхэ, Квантунская армия, чтобы обеспечить защиту этого государства, должна была очищать от бандитов и армий китайских военачальников территории, расположенные к югу от Великой стены. Весной 1933 г. маньчжурская армия, подготовленная и возглавляемая японцами, вошла в провинцию Хэбэй. Там она осуществила несколько акций военного и психологического характера. Несколько китайских военачальников были подкуплены, по радио передавались ложные приказы китайским генералам, а боевые самолеты долетали до Пекина, терроризируя мирное население. В итоге китайские силы отошли к югу, оказавшись между Тяньцзинем и побережьем океана. Деморализованные китайцы запросили мира, и 31 мая 1933 г. в прибрежном городе Тангу начались переговоры. В море барражировали японский линкор и эскадра эсминцев: в таких условиях японцам было легко добиться заключения позорного для Китая мира. Договор Тангу устанавливал демилитаризованную зону между Великой стеной и линией Пекин-Тяньцзинь. В результате в руках японской армии оказались проходы в горах, с востока прикрывавших Пекин. Кроме того, китайцев обязали установить «жесткий контроль над антияпонской деятельностью, которая являлась основной причиной китайско-японского конфликта»{263}. Хотя японские силы обрели прочную опору на территории собственно Китая, к югу от Великой стены они не могли ощущать себя в безопасности. В конце 1934 г. китайские войска задерживали и подвергали физическим оскорблениям солдат японских патрулей около Тяньцзиня. Местные чиновники за январь — май 1935 г. насчитали около пятидесяти антияпонских акций. В свою очередь, Доихара Кэндзи получил прозвище Лоуренса Маньчжурского[36], за то, что он создал так называемое Движение за автономию Северного Китая. Это была сложная схема по отделению пяти северных провинций от территории, находившейся под контролем Чан Кайши, и созданию «автономных» прояпонских и проманьчжурских администраций, которые номинально возглавлялись бы китайцами. «Борьба с бандитизмом» и интриги Доихара привели к двум дополнительным соглашениям с китайцами. Благодаря этим договорам японское влияние распространилось на северные области Китая. Первый из них, подписанный 10 июня 1935 г. генералом Квантунской армии Умэдзу Ёсидзиро и генералом Хэ Инцинем, который был представителем Чан Кайши на севере Китая, предусматривал уход партии Гоминьдан и националистической армии из провинции Хэбэй. Второй, заключенный двумя неделями позже между Доихара и генералом Цинь Дэчунем, предусматривал те же условия для провинции Чахар в Монголии[37].
Кончина партийного правительства
После убийства премьер-министра Инукаи, произошедшего в мае 1932 г., влияние политических партий и партийных политиков неуклонно сокращалось. По обычаю, место премьер-министра должно было достаться председателю Сэйюкай, которая обладала большинством в парламенте. Однако те времена были далеки от нормы в представлениях дзюсин («главных политиков»), как в народе называли тогда группу придворных чиновников и бывших премьер-министров. Они унаследовали от гэнрё задачу представления императору кандидатуры премьера для утверждения. Затяжные последствия Великой Депрессии, Маньчжурский инцидент и проявления политического терроризма привели главных политиков к заключению, что партийные кабинеты не могут ни обеспечить эффективный контроль над внешней политикой, ни совладать с хаосом внутри страны, предоставив Японии самостоятельно выбираться из постигших ее экономических проблем. По их мнению, единственным способом преодоления кризиса начала 30-х было возвращение к практике кабинетов народного единства, которая позволяла более широко привлекать к управлению государством способных людей, не состоявших в каких-либо политических партиях. Главные политики не были убежденными противниками партий. Их председатель, Саинодзи Кинмочи, почти три десятилетия боролся за партийные правительства. Но они ощущали необходимость поставить на должность премьер-министра человека, обладавшего неоспоримой репутацией, свободного от партийных связей, который мог бы обуздать политическое неповиновение, удержать от военных авантюр и проводить внешнюю политику, способную сохранить мир между народами. Саинодзи с мрачным выражением на лице отправился во дворец, чтобы доложить императору об этом решении. Сам монарх не разделял мнения главных политиков. У него были свои мысли относительно того, что должен представлять собой человек, возглавляющий кабинет национального единства. Новый премьер-министр, согласно императору, должен быть «сильной личностью». Он должен уважать конституцию и восстановить «воинскую дисциплину»{264}. Чтобы выполнить задачу, поставленную императором, Саинодзи и его коллеги обратились к Сайто Макото, отставному адмиралу. У него была репутация храброго и рассудительного человека, которую он приобрел на посту морского министра с 1906 по 1914 г., а также будучи генерал-губернатором Кореи, принеся туда «культурное правление» после мятежей 1919 г.Когда партийная сторона качелей пошла вниз, вверх взлетели позиции военных и гражданских чиновников, которые начали оказывать наиболее сильное влияние на ситуацию в стране. За эпоху партийных правительств, с 1924 по 1932 г., сменилось семь кабинетов. Каждый из них возглавлялся премьер-министром, который одновременно был главой одной из двух главных политических партий. В этих кабинетах среднее число партийных политиков равнялось 8,7 из 12 министров, которые обычно входили в состав кабинета. В 8 кабинетах, сформированных с 1932 по 1940 г., ни один из премьер-министров не был партийным, а среднее количество министров из числа гражданских и военных чиновников составляло 9,9 (из 13 портфелей). Более того, партийцы постепенно оказались в изоляции от внутреннего круга творцов японской политики. Ни один из них не занимал такой должности, которая позволила бы ему принимать участие в конференциях пяти министров. Эти встречи начали проводиться с 1933 г., во время премьерства Сайто. В них принимали участие министры иностранных дел, финансов, военный министр, министр флота и премьер-министр. Они занимались выработкой и обсуждением основных направлений дипломатии, фискальной сферы и национальной обороны. Подобным образом военные и гражданские чиновники преобладали и в новых правительственных организациях, таких как Кабинетное бюро расследований, созданное в качестве органа, параллельного существующим юридическим институтам, а также для лучшей координации работы различных министерств.

Все эти новые бюро и агентства превратились в оплоты «обновленцев», или «новых» бюрократов, как их называли в газетных и журнальных статьях. Несмотря на эпитет «новые», не все эти бюрократы были недавними выпускниками ведущих университетов. В реальности значительное их количество были ветеранами — «пастырями людей», которые экспериментировали в поисках решений экономических и социальных проблем в период Тайсо. Но, вне зависимости от срока службы, обновленцы середины 30-х с подозрением относились к капитализму, симпатизировали сельской бедноте, были убеждены в отсутствии у партийных политиков достаточной моральной устойчивости и умственных способностей для управления Японией в «период чрезвычайного состояния» и стремились сделать чиновничество центральным элементом формирования и осуществления национальной политики. Бюрократы-обновленцы своей первоочередной целью сделали подъем японской экономики и повышение обороноспособности страны. Для большинства из них наилучшим методом достижения этих целей было увеличение контроля над экономикой со стороны государства. Двумя первыми мероприятиями, появившимися на этой волне, были Законы о нефтяной промышленности и об автомобильной промышленности. Первый был принят летом 1934 г. Он наделял правительство правом регулировать импорт и очищение нефти, а в случае военного положения позволял чиновникам устанавливать фиксированные цены и распоряжаться запасами нефтепродуктов. Автором Закона об автомобильной промышленности был молодой и амбициозный чиновник, Киси Нобусукэ. Задачей этого закона было стимулирование роста промышленности, которая была крайне важна как для экономики в целом, так и для военных приготовлений Японии в частности. Сам закон, принятый парламентом в мае 1936 г., требовал обязательного государственного лицензирования производств автомобилей (лишь два производителя — Тойота и Нисан — получили лицензии в 1936 г.), а также предусматривал финансовую поддержку со стороны правительства, налоговые льготы и защиту от иностранных конкурентов. Хотя политическая инициатива перешла к другим элитам, политические партии не исчезли окончательно с политической сцены. Как показано в таблице 12.3, Сэйюкай и Минсэйто продолжали доминировать в парламенте и в 30-е годы. Партийные депутаты играли значительную, хоть и немного ограниченную, роль в национальной политике. Они принимали законы, голосовали по бюджетам, обсуждали все «за» и «против» политики государства, а также делали запросы по поводу членов кабинета и военных и гражданских чиновников. Иногда члены парламента использовали свое положение для критики военной политики и действий кабинета. Например, представители от обеих партий осудили проект бюджета на 1934 г., поскольку он предусматривал преимущественное финансирование военной сферы, вместо того чтобы направлять средства на преодоление упадка в сельском хозяйстве.

Споры между парламентариями и правительственными чиновниками не была, однако, обычным явлением. Крупнейшие партии в основном принимали те позиции, которые были близки политике премьер-министра Сайто и его преемника, Окада Кэйсукэ, который также был отставным адмиралом. Одной из причин этого было то, что лидеры Мин-сэйто и Сэйюкай не собирались играть ва-банк, ставя на карту будущее политических партий, когда военные пользовались огромной популярностью в обществе. Но не менее важным было и то, что многие партийцы разделяли мнение, что Япония должна проводить более «позитивную» внешнюю политику в процессе поисков своего пути в Северной Азии. Одним из проявлений подобного патриотизма среди законодателей был пассаж из резолюции, принятой парламентом 14 июня 1932 г. Он требовал от кабинета немедленного дипломатического признания Маньчжоу-Го, несмотря на то что премьер предпочитал дождаться окончания работы комиссии Литтона. Более того, на протяжении 30-х партии в парламенте ни разу не проголосовали против принятия бюджета, в котором военные расходы постоянно росли. В 1931 г. на военные нужды было выделено 462 миллиона йен, в 1934-м — 953 миллиона йен, а в 1936-м — 1,089 миллиарда йен. Партии приняли новую политику и расстановку сил 30-х. Их действия вызывали ассоциацию с 20-ми, когда партийные кабинеты урезали расходы на военную сферу, и когда Минсэйто осуждало вмешательство Танака Гиичи во внутренние дела Китая.
Обуздание политической мысли
Хотя газетные и радиорепортажи, сообщавшие о ликующих толпах, приветствовавших Мацуока в Иокогаме, создавали образ страны, сплоченной вокруг своего правительства, многие мужчины и женщины выражали недовольство по поводу агрессивных действий на континенте. Они считали, что победы на поле боя не помогут найти выход из экономического кризиса, охватившего страну. В 1931 и 1932 гг. либеральные журналы были заполнены статьями, в которых подвергались критике действия Квантунской армии. В апрельском номере 1932 г. журнала Кайдзо («Восстановление») Яниахара Тадао, специалист по колониальной политике, преподававший в Токийском университете, назвал военные акции в Маньчжурии самоубийственными и заявил об их неизбежном поражении в борьбе с растущим китайским национализмом. Социалистка Ямакава Кикуэ в ноябре 1931 г. на страницах главного женского журнала Фудзин корон («Женское обозрение») задавалась вопросом: следует ли матерям рожать больше детей, если их отпрыски все равно обречены стать пушечным мясом для милитаристского правительства. Даже в региональных газетах звучали критические нотки. Камисина дзихо, издававшаяся сельской молодежью префектуры Нагано, в апреле 1932 г. спрашивала своих читателей: «Маньчжурия теперь принадлежит Японии, но что изменилось от этого в вашей жизни? Стало ли вам легче? Можете ли вы вернуть деньги, взятые в кредит? Могут ли ваши сестры приобрести хоть одно кимоно, а ваши братья — сходить в кафе и послушать джаз? Я знаю, что вы ответите — это будет многократно повторяющееся «Нет!»{265}. Но, как бы горячо ни выступали диссиденты, они все менее ощущали эффективность своих действий. Проявления народного патриотизма, такие как прием, оказанный Мацу-ока во время его возвращения, наносили мощный удар по антивоенным настроениям. Более того, многие выдающиеся либералы публично демонстрировали свое согласие с новыми принципами внутренней и внешней политики, появившимися в начале 1930-х. Это наносило дополнительный удар по проявлениям нонконформизма. Даже Ёсино Сакудзо, один из известнейших японских приверженцев демократии, похоже, был близок к капитуляции. Многие японцы, писал он в 1932 г, предпочитают смотреть на действия Квантунской армии как на долгожданную альтернативу «неэффективных переговоров» времен партийных кабинетов. Вдобавок они, и даже сам он, осознали тот факт, что партийное правительство в Японии «представляет собой порочный союз между беспринципными лидерами партий и такими же беспринципными лидерами крупного бизнеса». Вследствие этого официальная политика обслуживает «интересы крупного бизнеса, в то время как маленький человек, а в особенности — крестьянин, все глубже погружается в нищету». Этого было достаточно, чтобы привести в отчаяние кого угодно, особенно если учесть, что одновременно шла атака на демократию в Европе. «Среди японцев существует мнение, — писал в заключение Ёсино, — что демократия не является достаточно хорошей даже для тех, кто приветствует ее. А для японца, который всегда ей слегка не доверял, нет никакого резона держаться за нее и впредь»{266}. Более шокирующим для многих было обращение к милитаризму Ёсано Акико. Известная феминистка эпохи Тайсо, Ёсано впервые появилась на публике в начале века. В 1904–1905 гг. она опубликовала серию антивоенных стихотворений, посвященных русско-японскому конфликту. Наибольшее впечатление оставляли строки одного из этих стихотворений, в которых она обращалась к своему младшему брату:
Полиция и общественные обвинители, осуществлявшие репрессии, бросали за решетку коммунистов и других левых в надежде побудить их к тонко. Этот термин означал «изменение направления», однако в 1930-х под ним понималось публичное отречение от прежних идеологических взглядов. Как пояснял один из ведущих обвинителей, ни один из сторонников левой идеологии не является абсолютно «безнадежным». «Поскольку все они являются японцами, рано или поздно они все придут к осознанию ошибочности своих идей» и вернутся в ряды лояльных и преданных граждан{273}. Для достижения этой цели полиция подвергала арестованных бесконечным допросам. При этом оказывалось психологическое давление с целью внушения задержанным чувства вины за то, что они не поддерживают свою семью-нацию. Если все это не приносило результата, обращались к телесным наказаниям. Первым великим достижением было отречение Сано Манабу, высокопоставленного функционера японской коммунистической партии, арестованного в 1929 г. Его обвиняли в «преступных мыслях», поскольку он возглавлял организацию, которая выступала за свержение кокутай. Суд приговорил его к пожизненному заключению. В июне 1933 г. Сано ошеломил левое сообщество, объявив о переходе в новую веру. В длинном меморандуме, написанном в тюрьме, он называл ЯКП «негативной силой, движущейся в неверном направлении», превозносил императора за то, что тому «принадлежит центральная роль в построении единой Японии» и одобрял действия Японии в Маньчжурии. При этом он писал, что «проникновение японской нации в страну, очевидно отсталую в культурном плане по сравнению с Японией, соответствует принципам исторического прогресса»{274}. Власти опубликовали заявление Сано, и в течение месяца более 500 других членов партии, что составляло приблизительно треть от общего числа японских коммунистов, оказавшихся за решеткой, последовали его примеру Полиция, довольная достигнутыми результатами, к концу десятилетия обвинила еще более 2000 человек в «преступных мыслях», и большинство из них в конце концов написали заявления тэнко. Не все из тех, кто был арестован, поддались полицейской тактике. Кобаяси Такидзи, известный пролетарский писатель, предпочел смерть отречению от своих взглядов. Левое политическое крыло особенно отмечало его работу «Кани косэн» («Фабричный корабль», 1929). Она представляла собой живой отчет о жестоком подавлении императорским флотом забастовки команд рыболовецких траулеров, вызванной тяжелыми условиями труда в рыбной промышленности. Это была иллюстрация к сотрудничеству капиталистов и военных в деле эксплуатации рабочих. Кобаяси был арестован утром 20 февраля 1933 г. Он умер в тюремной камере в тот же день, не дожив до заката. По словам полиции, причиной смерти была обыкновенная сердечная недостаточность. Однако те, кто осматривал его тело, утверждали, что у него были сломаны пальцы, на лбу остались ожоги от раскаленных щипцов. На теле было и множество других повреждений, включая более дюжины отверстий в бедре, проделанных либо гвоздем, либо сверлом. Каваками Хадзиме, арестованный 12 января 1933 г., не подвергался пыткам. Но четыре года, проведенные в тюрьме, подорвали его здоровье. Он никогда не отрекался от своей приверженности марксистской идеологии, но в качестве условия своего освобождения, состоявшегося в июне 1937 г., он молча признал новые границы политических дискуссий, согласившись отказаться от политической деятельности.
Оживление экономики и деловое сообщество
По иронии судьбы, при всей злобной критике, раздававшейся в начале 1930-х в адрес партийных политиков, именно Такахаси Корэкийо, один из самых старых и уважаемых членов узкого круга вершителей японской политики, разработал стратегию выхода страны из состояния депрессии. Он был незаконнорожденным сыном безвестного актера и девочки-подростка из Эдо. Родился он в тот самый год, когда коммодор Перри «открывал» Японию. Детство его прошло в крайней нужде, однако, когда он достиг подросткового возраста, счастье улыбнулось ему. Он был принят в самурайскую семью из Сэндай, и даймё этого домена отправил проявлявшего недюжинные способности Такахаси в Америку, где тот проучился с 1867 по 1869 г. По возвращении на родину новым правительством Мэйдзи Такахаси был направлен на государственную службу. Он сделал неплохую карьеру в Министерстве финансов, а в 1892 г. перешел в Банк Японии. В 1913 г. он связал свою судьбу с Сэйюкай, и в 1913 и 1914 гг. занимал пост министра финансов. Эта должность принадлежала ему и в кабинете Хара Такаси, с 1918 г., пока в 1921 г. сам Такахаси не стал премьером. После падения своего кабинета, Такахаси получил на выборах место в парламенте, в 1925 г. стал первым главой только что созданного Министерства торговли и промышленности, а весной 1927 г. вновь, в течение нескольких недель, исполнял обязанности министра финансов. В декабре 1931 г. Инукаи ввел ветерана Такахаси в свой кабинет, чтобы тот помог в поисках способов преодоления губительных последствий Великой депрессии. Можно сказать, что Такахаси был кейнсианцем еще до Кейнса. Он самостоятельно разработал теорию эффективного требования и понял на интуитивном уровне, что единственным путем вывода страны из состояния упадка является путь затрат. Занимая с 1931 по февраль 1936 г. пост министра финансов, Такахаси осуществлял программу увеличения дефицитных трат. Расходы центрального правительства были снижены с 1,74 миллиарда йен в 1929 г. до 1,48 миллиарда йен в 1931 г. Такахаси кардинально изменил этот курс, увеличив расходы в 1932 г. на 32 %, до 1,95 миллиарда йен, а в 1933 г. — еще на 15 %, доведя сумму расходов до 2,25 миллиарда йен. При этом три четверти дополнительных расходов правительства приходилось на облигации и другие формы дефицитного финансирования. Значительная доля новых расходов состояла из проектов общественных работ, призванных оживить расстроенный аграрный сектор японской экономики. С 1932 по 1934 г. правительство выдало сельским жителям кредитов на 800 миллионов йен под низкие проценты. Такая же сумма была потрачена на создание сезонных рабочих мест для наиболее бедных сельских жителей. Правительство и далее продолжало подбрасывать дров в топку национальной экономики, удвоив военный бюджет в период с 1931 по 1936 г., как это показано в таблице 12.5. Чтобы сделать мероприятия по выходу из кризиса более эффективными, Такахаси в день своего вступления на пост министра финансов в 1931 г. отменил в Японии золотой стандарт. За год курс йены по отношению к доллару упал со старой фиксированной отметки в 48,87 доллара до 28,12 доллара за 100 йен. Девальвация составила более 40 %. Последовавшее за этим падение стоимости японских товаров на заморских рынках дало толчок к развитию японского экспорта. За границу хлынул поток хлопковой нити, текстильных товаров, керамики, игрушек, железа и стали. Это явилось дополнительным стимулом для оживающей японской экономики. В результате Япония оказалась первой страной, преодолевшей в своей промышленности последствия Великой депрессии, как это показано в таблице 12.6. С учетом химической и машиностроительной отраслей, получивших значительные прибыли благодаря военным заказам, японский чистый внутренний продукт на протяжении 1930-х вырос более чем на 70 %. На тот момент это было лучшее десятилетие в современной истории страны. Ведущие корпорации — Мицуи, Мицубиси, Сумитомо и Ясуда — сохраняли свои доминирующие позиции в экономике и в начале 1930-х. Большие резервы наличных денег позволили им относительно легко перенести удар Великой депрессии. Этот катаклизм практически не нанес им серьезного ущерба. Как следует из таблицы 12.7, всего за семь лет, с 1930 по 1937-й, большая четверка увеличила оплаченную часть акционерного капитала в различных своих предприятиях почти на 60 %. Чтобы еще более поднять показатели своих бухгалтерских балансов[38], корпорации направили значительную часть новых инвестиций в химическую и тяжелую промышленности, развивавшиеся стремительными темпами.

Но при всей своей очевидной успешности дзайбацу, однако, обнаружили, что в 30-е гг. прежние методы ведения дел уже не приносили ожидаемый эффект. Жестокая, безжалостная атака со стороны правых радикалов была, пожалуй, самым характерным проявлением того широко распространенного в народе цинизма, рисующего корпорации как алчных до наживы хищников, для которых и рабочие, и потребители были в одинаковой степени жертвами. Гиганты бизнеса и сами не особенно старались исправить этот имидж. Осенью 1931 г. они с таким азартом кинулись скупать доллары, что сам процесс вскоре начал больше напоминать оргию, чем деловое мероприятие. Учуяв, что правительство собирается девальвировать йену, дзайбацу расхватывали доллары, чтобы затем, после того как 13 декабря министр финансов Такахаси отменил золотой стандарт, вновь поменять их на йены, позволив национальной японской валюте скатиться на ее рыночный уровень. Прибыли дзайбацу получили огромные. Одна только Мицуи на спекуляциях валютой заработала 50 миллионов долларов. Японская публика была в ярости. Лишь рост критики в адрес корпораций и убийство членами Кровавого братства директора-распорядителя предприятий Мицуи в марте 1932 г., заставили дзайбацу занять более примирительную позицию. Когда в сентябре 1933 г. Икэда Сэйхин стал главным исполнительным директором Мицуи, он начал кампанию, которую комментаторы охарактеризовали как «тэнко для бизнеса». Для начала он с треском уволил служащих компании, которые вызывали наибольшее раздражение у японской публики и военных. Немедленно изгнан был президент Торговой компании Мицуи, чья жажда наживы была до такой степени огромна, что он продавал соль Чжан Сюэляну уже во время боевых действий в Маньчжурии, а в 1932 г., во время Шанхайского инцидента, снабжал проволокой китайскую Девятнадцатую армию. Более того, Икэда объявил, что Мицуи более не будет холодной машиной по добыванию денег. Наоборот, название корпорации отныне должно было стать синонимом альтруизма. К концу 1936 г. фирма раздала 3 миллиона йен безработным, выделила 30 миллионов йен на создание благотворительного фонда, известного как Пожертвования Мицуи на доброе общество, и еще 60 миллионов йен было потрачено на подобные мероприятия. Сумитомо и Мицубиси также начали выделять пожертвования безработным. Они последовали и другому примеру Икэда, использовав на многих дочерних предприятиях труд членов одного клана, отвечая, таким образом, на критические высказывания в свой адрес, что они притесняют семейный бизнес. В 1930-х крупные корпорации пережили и еще одно изменение. К их числу добавились еще несколько гигантов. Среди последних были Ниссан, Ниттицу (Японская компания азотных удобрений) и самолетостроительная компания Накадзима. Всех их по привычке называли дзайбацу. однако в некоторых аспектах они значительно отличались от традиционных корпораций. Лишь немногие из них были исключительно семейными предприятиями, и, в отличие от традиционных дзайбацу. начинавших свою деятельность с горнодобывающей отрасли или в таких сферах, как банковское дело или кораблестроение, новые корпорации, в большинстве своем, начинали с промышленного производства. Новые дзайбацу также демонстрировали больше желания с военными и с бюрократами-обновленцами, в то время как старые корпорации были более осторожны в выборе партнеров. Ниттицу, например, под руководством японских оккупационных властей в 20-е гг. строила в Северной Корее гидроэлектростанции. Спустя 10 лет эта корпорация станет одной из самых могущественных в Японии, благодаря в основном прибылям, получаемым от производства сульфата аммония, оружейного пороха и метанола. Все эти товары обладали высокой конкурентоспособностью, поскольку производились на дешевой корейской электроэнергии. Наибольших высот из новых дзайбацу достиг Ниссан. Создал Ниссан Аикава (Аюкава) Ёсисукэ в 1928 г., после того как приобрел у своего шурина горнодобывающую компанию. К середине 30-х Ниссан под управлением Аикава превратился в огромную империю. В ее состав входили 77 компаний, в том числе такие ведущие производства, как Моторная компания Ниссан, Химические производства Ниссан, Хитачи Лимитед и Осакская верфь. К 1937 г. Ниссан обогнал по своим размерам и мощи Сумитомо и Ясуда. И произошло это благодаря тесным связям, которые Аикава в начале 30-х, во время резкого роста расходов на военную сферу, установил с военными и бюрократами-обновленцами. Этот новый альянс в полной мере проявил себя в Маньчжоу-Го, где Квантунская армия выступала в качестве мощного стимула к быстрому индустриальному развитию, поскольку в таком случае это марионеточное государство лучше будет функционировать в качестве японской «дороги жизни» (новый термин, появившийся с легкой руки Мацуока Ёсукэ). Чтобы помочь событиям развиваться в нужном ключе, Совет Общих дел создал новые учреждения банковского типа и начал осуществлять политику привлечения инвестиций из Японии. Эти мероприятия принесли кое-какие плоды. Хотя старые дзайбацу с подозрением относились к военным, зная их предубеждение к ним, они все-таки присоединились к тем фирмам, которые вкладывали капиталы в Маньчжоу-Го. В результате эта страна получила 1,25 миллиарда йен. К концу 1936 г. марионеточное государство стало для Японии ведущим поставщиком угля, чугуна в чушках и соевых бобов. Но уровень достижений не удовлетворял тех офицеров Квантунской армии, которые занимались планированием. По сравнению с количеством вкладываемого в Маньчжоу-Го капитала масштабы экспорта в Японию оставались незначительными. Как заметил один иностранный наблюдатель, марионеточное государство для Японии скорее «станет помехой, чем дорогой жизни»{275}. В надежде вдохнуть жизнь в затухающую кампанию по индустриализации, чиновники Мань-чжоу-Го приняли пятилетний план. Новый документ предусматривал замену либерального капитализма «контролируемой экономикой», при которой управление важными предприятиями находится в руках государственных чиновников. Квантунская армия убедила Министерство торговли и промышленности направить в Маньчжоу-Го одну из самых ярких молодых звезд, Киси Нобусукэ, чтобы он осуществлял контроль над выполнением плана. Киси, который только что стал автором Закона об автомобильной промышленности, был тесно связан с Ниссаном. Он немедленно предложил Аикава перевести свои высокотехнологичные фирмы на континент. Аикава не преминул воспользоваться возможностью. В конце 1937 г. он перевел штаб-квартиру своей корпорации в Маньчжоу-Го, дав Ниссану название «Корпорация маньчжурской тяжелой промышленности». Правила требовали, чтобы половина корпорации Аикава принадлежала маньчжурскому правительству, которое бы диктовало ей свои условия. Взамен государство гарантировало ему чистую прибыль в 6 % и кредиты под минимальные 7,5 %. Более того, с государственного благословения новая корпорация проглотила большую часть Южноманьчжурской железнодорожной компании. В результате она сделалась ведущей индустриальной силой в Северной Азии.
Инцидент 26 февраля
Напряжение начала 1930-х прорвалось наружу ранним утром 26 февраля 1936 г., когда состоявшая из 21 человека группа младших офицеров знаменитой Первой дивизии вывела из казарм почти 1400 солдат в попытке свергнуть правительство. Все утро шел снег, укрывая столицу белым одеялом, а в это время отрядами убийц были застрелены министр финансов Такахаси, бывший премьер Сайто Макото и генерал-инспектор военного образования. Премьер-министр Окада избежал той же участи совершенно случайно. Молодые офицеры, ворвавшиеся в его резиденцию, по ошибке убили его шурина. Жена Окада спрятала премьера. в клозете, а затем, переодев его в женское платье, помогла ему выбраться из здания, после того как его покинули заговорщики, унося с собой «тело моего мужа». Несмотря на этот провал, к полудню солдаты Первой дивизии захватили центр Токио. Они окружили здание парламента, армейский штаб и заняли высоты, господствовавшие над императорским дворцом. Вдохновленные успехом своих первых атак, главари заговора потребовали формирования нового кабинета, во главе которого они намеревались поставить генерала, симпатизировавшего их миссии. Подобно лидерам бесплодных попыток переворотов начала 30-х, зачинщики инцидента 26 февраля заявляли об отсутствии у них персональных амбиций. Они, по словам одного из участников, «всего лишь хотели разбудить народ и вызвать Реставрацию Сева»{276}. Свое представление об этой реставрации они выработали, проштудировав книгу «Нихон кайдзо хоан тайко» («Общий план перестройки Японии»), написанную в 1923 г. Кита Икки, идеологом национализма. В своей работе Кита призывал к военному перевороту, приостановке действия конституции и к введению на 3 года военного положения. В это время правительство, возглавляемое военными, должно оттеснить от власти политические партии, национализировать основные промышленные предприятия, разделить крупные землевладения между бедными крестьянами-арендаторами и «убрать барьеры, отделяющие народ от императора»{277}. По достижении этих целей, заключал он, Япония сможет осуществить свою благородную миссию в качестве цивилизаторской силы для всей остальной Азии. Кита установил тесные взаимоотношения с военными из Первой дивизии. Его совет действовать ради спасения нации именно в этот момент и явился одной из причин того, что молодые люди выбрали для своей попытки переворота февраль 1936 г. На их решение повлияли и другие соображения. Молодые офицеры уже успели прожить около 4 лет при кабинетах национального единства, возглавляемых Сайто и Окада. Ни один из этих двух отставных адмиралов, считали радикалы, не проявили достаточной настойчивости при отстаивании японских интересов в Северной Азии. Еще больше претензий было у революционеров к министру финансов Такахаси, чья программа оздоровления экономики принесла пользу корпорациям, но, на их взгляд, не сделала ничего существенного для японских фермеров и мелких предпринимателей. Еще одним фактором стало появление двух фракций в армейской среде. Одна из них, ведомая генералом Араки Садао, гордо именовала себя Фракцией императорского пути. Многие из ее членов были преданны императору почти на мистическом уровне. Их привлекали заявления Араки, что Япония может усилить свою национальную оборону только опираясь на традиционные воинские ценности, тренировку духа и личную храбрость и отвагу людей в форме. Члены так называемой Контрольной фракции, объединявшиеся вокруг генералов Минами Дзиро, Угаки Кадзусигэ и Нагата Тэцудзан, придерживались совершенно иных взглядов. Будучи прагматиками с холодным рассудком, они на первый план выносили механизацию армии и экономическое планирование. «Боевому духу» традиционных японских воинов они предпочитали огневую мощь и современные технологии. Сенсационный судебный процесс над подполковником Аидзава Сабуро подбросил дров в огонь. Аидзава, приверженец Фракции императорского пути, 12 августа 1935 г. убил генерала Нагата, который был сторонником модернизации армии. Суд, начавшийся 28 января 1936 г., явился одним из самых мелодраматических моментов десятилетия, и без того оставлявшего впечатление театрального спектакля. Скамью подсудимых подполковник волшебным образом превратил в народную трибуну. Он гипнотизировал нацию, представляя ей те темы, которые были наиболее актуальны в годы кризиса. Император, дескать, окружен «испорченными советниками, теория Минобэ помогает партиям и плутократам использовать императорские прерогативы в своих собственных интересах, и даже среди высших военных чинов существует небольшая «клика», которая угрожает национальной безопасности. «Я выделил Нагата, — заявлял Аидзава, — потому что он, вместе с верховными чиновниками государства и финансистами, а также с членами старой армейской клики, в которую входят такие люди, как генерал Минами и генерал Угаки, является ответственным за разложение армии. Он являлся средоточием всего зла»{278}. Подавая себя как простого солдата, единственной заботой которого была реформа армии и страны, Аидзава добился того, что им восхищались люди по всей Японии. Тысячи соотечественников писали ему подбадривающие письма. Другие присылали ему отрубленный кончик пальца — вызывающий ужас традиционный символ поддержки. Спектакль суда над Аидзава побудил молодых офицеров Первой дивизии к действию. Падающий снег вызвал в их головах ассоциацию с другим снежным утром — утром третьего месяца 1860 г., когда идеалистически настроенные молодые самураи, убив Ии Наосукэ, подтолкнули страну к революционным переменам. Поле у ворот Вишневых Деревьев, рядом с которыми встретил свою смерть главный политик сёгуната, теперь находилось в пределах лагеря современных мятежников, занявших центр Токио. Но в 1936 г. надежды «людей решения» из Первой дивизии растаяли вместе со снегом. Генеральный штаб флота был ошеломлен самой возможностью попытки переворота. Кроме того, его привел в ярость тот факт, что мишенями для убийц стали два его члена. 26 и 27 февраля 40 кораблей Первого флота прервали плановые учения, вошли в Токийскую бухту и направили свои орудия на позиции мятежников. Ситуация была настолько серьезной, что император Сева, которого с молодости учили необходимости сохранения монархии и конституционной системы Мэйдзи, приказал армии подавить мятеж. «Я глубоко скорблю по поводу того, что они убили самых преданных и верных мне министров, — сказал он одному из своих адъютантов. — Они пытаются затянуть шелковую веревку на моей шее. Они нарушили и конституцию, и указы императора Мэйдзи. Я никогда не прощу их, каковы бы ни были их мотивы»{279}. На следующий день после того как император отдал свои распоряжения, армейский генеральный штаб перебросил в Токио 10 батальонов. Позиции мятежников были окружены танками и артиллерией. Это вернуло путчистов к реальности, и к полудню 29 февраля мятеж был подавлен. Армия простила почти всех унтер-офицеров и рядовых солдат, однако младших офицеров, стоявших во главе бунтовщиков, ожидала скорая и беспощадная расправа. Все они оказались за решеткой, а 13 из них были приговорены к смертной казни. Идеологический лидер мятежников, Кита Икки, также оказался перед расстрельной командой, хоть он и не принимал реального участия в путче. Инцидент 26 февраля отрезвил нацию. После 1936 г. японская государственная власть больше не получала подобного вызова. Гражданское правое крыло отвернулось от политического терроризма и актов мученичества. В военной среде приверженцы Фракции императорского пути оказались задвинутыми на второй план или были переведены на менее значительные должности. В то же время менее идеологически озабоченные генералы, связанные с Контрольной фракцией, выдвинулись вперед. В коридорах гражданского правительства в 1936 г. также произошли изменения. Главные политики страны отдали пост премьер-министра уважаемому карьерному чиновнику Хирота Коки. С 1933 по 1936 г. он был министром иностранных дел. На этом посту он придерживался жесткой политики по отношению к Китаю и оказывал давление на Чан Кайши, чтобы тот признал Маньчжоу-Го. Став премьером, Хирота по-прежнему придерживался точки зрения, что продолжительное существование зависимого государства является основополагающей аксиомой японской внешней политики. Однако не чурался он и роли миротворца. В своих публичных выступлениях он заявлял о своей вере в то, что дипломатические средства являются лучшим способом разрешения споров между Японией и Китаем и восстановления стабильности в Восточной Азии. Даже простые жители Японии, казалось, остановились, чтобы перевести дыхание в нормальных условиях 1936 г. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать на основании дневника Ямадзи Яэко, незамужней дочери хозяина гостиницы из маленького городка на острове Кюсю. У нее был диплом высшей школы, что делало ее хорошо образованной по меркам того времени. В семнадцатилетнем возрасте она написала о той «жалости», которую она испытала по отношению к подполковнику Аидзава, когда тот 3 июля 1936 г. был выведен на расстрел. Это произошло всего за девять дней до того, как была казнена первая группа зачинщиков инцидента Двадцать шестого февраля. После этого, однако, события в стране больше не вторгались в мир Яэко. Ее жизнь летом и осенью 1936 г. разнообразилась посещениями местного кинотеатра, взглядами, брошенными украдкой на те трюки, которые вытворяли мальчишки на своих велосипедах у соседнего велосипедного магазина, а также сменой времен года. «Совсем скоро мы увидим золотой урожай на рисовых полях», — писала она{280}. Но летом 1937 г. спокойствие ее мира было нарушено новыми боевыми действиями, развернувшимися в Китае. И по мере того как Япония погружалась в полномасштабную войну со своим соседом по Азии, нацию все сильнее опутывал милитаризм, призывы к экономическому планированию и большему контролю над бизнесом со стороны государства казались весьма уместными, а идеи правого политического крыла, ставившего императора в центр жизни японского общества, нашли свою новую форму в качестве ортодоксальной идеологии японского государства.
ГЛАВА 13
В поисках «нового порядка»
В 1930 г. кинотеатры по-прежнему служили отдушкой для тех, кто стремился хотя бы на один вечер забыть о тяготах Великой депрессии. Фильмы, отображавшие печали и радости городской жизни, продолжали притягивать зрителей. Мастером этого жанра был Одзу Ясудзиро, снявший такие фильмы, как «Жизнь конторского служащего» (Кайсин сэйкацу) и «Я родился, но…» (Умарэта ва мита кэрэдо). Эта классическая комедия, снятая в 1932 г., повествовала о двух токийских мальчиках, попавших в новый квартал, новую школу и обретших новых друзей. Более действенным средством бегства от жизни были «фильмы-бессмыслицы». Типичными для этого жанра были такие эротические фарсы, как «Хроника молодоженов» (Синкон ки), снятый молодым режиссером Нарусэ Микио, и «Суета вокруг возбуждающей клецки» (Ирокэ данго содоки). Герои этих лент, практически лишенных сюжета, прыгали по экрану, попадая в различные комические ситуации и романтические недоразумения.
Летом 1937 г. японские авантюры в Северной Азии переросли в полномасштабную войну с Китаем. Вскоре островная нация послала на поля сражении почти миллион молодых людей. Япония оказалась в чрезвычайной ситуации, которая требовала мобилизации всех усилий для ведения войны на континенте. Поэтому правительство начало публиковать призывы к «новому порядку», при котором политическая власть должна оказаться в руках технократов и честных людей. «Новый порядок» также подразумевал более эффективное использование экономических ресурсов страны, превращение метрополии и колоний в автаркию, способную работать на победу, а также использование психологических и моральных качеств народа.
В стремлении достичь эту цель, правительство в 1939 г. издало Закон о фильмах, призванный обеспечить «здоровое развитие киноиндустрии»{281}. В переводе с казенного языка на человеческий это означало кончину как фривольных эротических кинолент, так и тех фильмов, которые затрагивали сложные социальные проблемы. Вместо них, как говорилось в одной из директив Министерства внутренних дел, кино-компании должны были производить фильмы, которые «поднимают национальное самосознание, утверждают общественную мораль, вырабатывают правильное понимание внутренней ситуации и внешнеполитического положения Японии и иными путями способствуют повышению народного благосостояния». И 400 миллионов зрителей, которые ежегодно в конце 30-х посещали кинотеатры, сталкивались, нравилось им это или нет, с вереницей жестоких, реалистичных батальных картин, таких как «Пять разведчиков» (Гонин но сэккохэй), снятая в 1938 г., и «Грязь и солдаты» (Цуни то хэйтай) 1939 г. По иронии судьбы, попытка правительства усилить единомыслие и обеспечить поддержку военным усилиям не помогла разрешить конфликт с Китаем. Но она ухудшила отношение к другим потенциальным врагам, трагическим следствием чего было начало войны Японии против Соединенных Штатов в 1941 г.
Сползание в войну
Ни армейский генштаб, ни премьер Коноэ Фумимаро, только что назначенный на этот пост, не были особо встревожены дошедшими до Токио подробностями последнего инцидента, произошедшего в Китае. Конфронтация казалась всего лишь еще одним незначительным происшествием, которое можно быстро разрешить в рутинном порядке. В ночь на 7 июля 1937 г. группа японских солдат, принадлежавших к одному из международных подразделений, размещенных в районе Пекина в соответствии с Боксерским протоколом[39], проводила обычные полевые учения около знаменитого моста Марко Поло, расположенного приблизительно в 10 милях к западу от старой столицы императорского Китая. Солдаты добавили немного реализма в свои войсковые занятия, стреляя холостыми патронами из пулеметов. Это было обычной практикой, однако в ту ночь, к их великому изумлению, в ответ они получили очереди вполне боевых выстрелов, произведенных, предположительно, китайскими войсками. Во время проведения переклички выяснилось, что один из японских военнослужащих пропал. Командир роты испросил разрешения провести поиски в районе соседнего городка, и когда китайцы отказали ему в этом, японцы попытались войти в поселок с использованием силы. После этой второй стычки каждая из сторон направила к месту действия по пехотному батальону, даже несмотря на то, что потерявшийся солдат вскоре обнаружился и благополучно вернулся в свое подразделение. Когда генеральный штаб в Токио утром 8 июля получил рапорт о происшедшем, начальник штаба решил разрядить обстановку и направил по телеграфу приказ местному японскому командиру выработать соглашение со своим китайским коллегой. Это также было привычной практикой разрешения мелких конфликтов в Северном Китае. Решение начальника генштаба встретило понимание у некоторых штабных офицеров, которые считали, что Япония должна избегать вооруженных конфликтов в Китае, которые могут привести к полномасштабной войне. Интересно отметить, что одним из наиболее активных противников интервенции был Исивара Кандзи — импульсивный и самоуверенный вдохновитель Маньчжурского инцидента. В 1935 г, его перевели в Токио, в оперативный отдел генерального штаба. Там Исивара принял сторону тех своих коллег, которые считали, что самой актуальной проблемой стратегического характера для Японии в Северной Азии является Советский Союз. При этом, правда, он не отказался от своей концепции «последней войны» с Соединенными Штатами. Существующие угрозы, утверждал Исивара, требовали от страны долгой промышленной и военной подготовки, и этот факт оправдывал создание Маньчжоу-Го, поскольку новое государство могло помочь Японии в достижении автаркии, или экономической самодостаточности. Но в данный момент, в середине 30-х, Японии необходимо было поддерживать мир, чтобы выиграть время для реализации своих экономических и военных возможностей. С этой точки зрения, считал Исивара, дальнейшее развитие вооруженного конфликта в Китае просто вызовет «того же рода беду, которая постигла Наполеона в Испании, то есть медленное погружение в трясину»{282}. Япония должна быть начеку, утверждали противники агрессии. Нельзя недооценивать набирающий силу китайский национализм и ту стойкость, с какой будет сражаться армия Чан Кайши, если ее загнать в угол. Континент был той трясиной, которая могла поглотить людские и экономические ресурсы Японии, сделав страну беззащитной.
В 3 часа пополудни 8 июля, всего через несколько часов после того как начальник генштаба приказал урегулировать конфликт, премьер-министр Коноэ созвал кабинет для рассмотрения ситуации. Коноэ еще не обладал достаточным опытом, однако его подготовка к исполнению роли премьера была безупречной, равно как и его родословная. Он родился в 1891 г. в одной из самых известных аристократических семей. По окончании Киотского университета его ожидала карьера государственного служащего. Почтенный Саёндзи Кинмочи включил молодого принца в состав японской делегации на Парижской мирной конференции 1919 г. Повзрослев, Коноэ последовал по стопам отца, став энергетическим центром Палаты Пэров, которую он возглавил в 1933 г. Саёндзи и другие вершители японской политики впервые обратились к нему с просьбой занять пост премьера после инцидента Двадцать шестого февраля. Их мотивацией было то, что харизматичный принц вызывал уважение широкого спектра японских политических элит и был способен поддерживать авторитет конституционного правительства на высоком уровне. В 1936 г. Коноэ отклонил предложение Саёндзи, но в июне 1937 г., когда его покровитель вторично обратился к нему, он дал свое согласие. Коноэ вступил в должность в твердом намерении найти дипломатическое решение ноющей «Китайской проблемы». Той же позиции придерживался и предыдущий премьер Хирота Коки, вернувшийся в правительство в качестве министра иностранных дел. Соответственно, на заседании кабинета 8 июля Коноэ приветствовал решение армейского руководства мирным путем урегулировать инцидент у моста Марко Поло и поддержал принципы «нераспространения» и «решения на местном уровне». К радости членов кабинета, к 11 июля китайский и японский командиры, подразделения которых участвовали в инциденте, достигли временного соглашения. Китайцы должны были принести свои извинения, наказать офицеров, ответственных за происшедшее, и дать обещание бороться с коммунистическими партизанскими формированиями в данном регионе. Однако, к разочарованию Токио, Чан Кайши отказался завизировать это соглашение. Прежде генералиссимус признавал все договора, заключенные на местах с японскими военными. Но летом 1937 г. он решил провести черту в песках Северного Китая. Он мог пойти на такой риск, поскольку Гоминьдан находился в значительно лучшей военной и экономической форме, чем десятью годами раньше. Его слова обрели дополнительный вес, поскольку он выступал в роли главы нового националистического режима, созданного в Нанкине в 1928 г. и получившего известность как правительство Гоминьдана, так как именно эта партия определяла политику страны. Среди его соотечественников господствовали воинственные анти-японские настроения. Лишь немногие китайцы были готовы и далее терпеть издевательства над их суверенитетом, такие, например, как соглашения Хэ-Умэдзу и Доихара-Цинь. Все это подстегивало старого главнокомандующего. Дополнительное давление шло со стороны коммунистов Мао, которые приобретали все большую популярность среди народа благодаря своему требованию, адресованному Чан Кайши, остановить гражданскую войну и создать «объединенный фронт» для отпора японским агрессорам. Если Чан хотел осуществить свою мечту и превратить правительство Гоминьдана в политическую силу, принимаемую всеми китайцами, ему следовало примерить плащ националиста и отказаться от своей политики умиротворения японцев и сосредоточения всех сил на «истребительных кампаниях», направленных против его коммунистических оппонентов. Чжан Сюэлян, который, после того как его втеснили из Рэхэ, создал для себя новую базу в Сиани, окончательно прояснил ситуацию в декабре 1936 г. Чан тогда направился в его штаб-квартиру, чтобы наказать своего старого союзника за симпатии к коммунистам. К удивлению Чана, Чжан посадил его под арест и отказывался признать лидера Гоминьдана, пока тот не согласился принять стратегию объединенного фронта. На следующее утро после стычки у моста Марко Поло коммунисты обратились с воззванием ко всем китайцам, в котором призывали оказать сопротивление «новой японской агрессии». Через несколько дней Чан продемонстрировал свою преданность «духу Сиани», направив в Пекин офицера с отказом от тех условий, которые предлагали японцы. Одновременно генералиссимус начал переброску четырех своих лучших дивизий на север, в провинцию Хэбэй. Это было прямым нарушением соглашения Хэ-Умэдзу и Договора Тангу. 17 июля, через десять дней после первого инцидента, Чан с крыльца своей летней резиденции обратился к народу. В своем послании он объявил, что никакой договор с Японией не будет возможен,пока она не прекратит нарушать суверенные права Китая. «Если мы позволим себе потерять хотя бы еще один дюйм нашей территории, — сказал в заключение генералиссимус, — мы будем повинны в непростительном преступлении против своей страны»{283}. Заняв конфронтационную позицию, Чан преувеличил значение инцидента у моста Марко Поло, заявив, что разрешение подобных конфликтов должно осуществляться на уровне национальных правительств, а не местных администраций. Японцы также не приложили усилий к тому, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Коноэ, все еще надеясь на мирное соглашение, но абсолютно не желая позволить Японии продемонстрировать слабость, ответил на риторику китайской стороны своей собственной пресс-конференцией и обращением по радио. В нем он призвал генералиссимуса «извиниться» за «незаконные, антияпонские действия». Высокопоставленные генералы, такие как Тодзо Хидэки и Койсо Куниаки, выступили за нанесение удара по силам Чана. Они разделяли точку зрения тех своих коллег, которые видели в Советском Союзе величайшую угрозу безопасности Японии. Но они презирали войска Гоминьдана и считали, что стремительная атака быстро поставит Чана на колени, развязав армии руки и позволив ей концентрироваться против Советов. В воображении подобная решительная демонстрация силы должна была заставить Чана пойти на попятную. 27 июля кабинет Коноэ отдал распоряжение направить в Китай три дивизии. На следующий вечер около моста Марко Поло вновь разгорелось сражение. В начале августа японская Китайская Гарнизонная армия захватила Пекин. Практически немедленно боевые действия вспыхнули к югу от Шанхая. В начале августа Чан ввел около 100 000 войск в демилитаризованные зоны, установленные после Шанхайского инцидента 1932 г. Ситуация сложилась напряженная. Японцы располагали на данной территории всего 2500 морскими пехотинцами, при этом гражданский японский резидент в Шанхае знал, что почти 200 японских переселенцев были убиты одиннадцатью днями раньше, когда сражение вспыхнуло в провинциальном городе около Пекина. В результате, когда сотрудники китайской службы безопасности напали 9 августа в Шанхае на двух морских пехотинцев, японский адмирал запросил у Токио немедленной помощи. Утром 14 августа кабинет одобрил отправку на континент дополнительных дивизий, а Коноэ выступил с заявлением, что Китай занял «надменную и оскорбительную» позицию по отношению к Японии и что у его страны нет иного выхода, как «прибегнуть к решительным действиям», чтобы «наказать» «ужасных» китайцев. Вечером того же дня бомбардировщики Гоминьдана ответили на заявление Коноэ, пролетев над кварталом иностранцев в Шанхае и подвергнув бомбардировке объекты военного флота Японии. Спустя несколько часов Чан объявил о всеобщей мобилизации и заявил, что «Китай обязан защищать себя и существование своей нации»{284}. Обе стороны и не предполагали, что стычка у моста Марко Поло перерастет в полномасштабную войну. И хотя ни Япония, ни Китай так и не объявили о состоянии войны, боевые действия продолжались восемь лет и один день.
Китайский тупик
В противоположность Исивара Кандзи, большинство японских стратегов предрекали легкую победу над врагом, которого они презирали. Быстрым захватом важных городов и железнодорожных линий — «пунктов» и «линий» на языке военных — они надеялись принудить Чана запросить мира. Однако, к своему удивлению, японская Императорская армия обнаружила, что серьезно просчиталась в оценке Гоминьдана, который смог направить на оборону Шанхая почти полмиллиона солдат. Японцы почти на 3 месяца увязли в жестоких рукопашных схватках на улицах города. Верх они смогли взять только после того, как в 30 милях к югу от города на неохраняемом пляже высадились войска, которые смогли отбросить китайцев. Теперь в японском экспедиционном корпусе насчитывалось 600 000 человек. С этими силами японцы направились на запад, надеясь блокировать Чана в его столице — Нанкине. Японские войска захватили город 13 декабря 1937 г., однако Чан уже успел переехать в Ханкоу, расположенный приблизительно в 600 милях вверх по течению Янцзы. Все предложения японцев о переговорах и заключении соглашения он отвергал. В начале 1938 г. Коноэ объявил, что он больше не признает националистический режим Чана в качестве китайского правительства. Японские генералы, все еще искавшие способ нанести завершающий удар, решили направить на китайский театр военных действий дополнительные восемь дивизий. В мае японские армии прорвали фронт, который удерживали более сотни дивизий Гоминьдана, развернутые вокруг Сюйчжоу, и взяли этот древний город, расположенный к северу от Нанкина. Обладание им на протяжении столетий служило показателем легитимности династий китайских императоров. Чан по-прежнему не собирался капитулировать. Удвоив свои усилия, японские войска 21 октября взяли Кантон. В ходе 5-месячных боев за этот город погибли, вероятно, 200 000 китайских и японских солдат. После этого японские легионы вошли в Ханкоу, но, как оказалось, только для того, чтобы выяснить, что Чан успел эвакуировать все фабрики, школы и больницы на запад, в Чонцин. Новая столица Гоминьдана располагалась в глубине Юго-Западного Китая, за знаменитыми порогами Янцзы. В конце 1938 г. японцы оказались в тупике. Даже имея под ружьем в Китае около 850 000 человек, Императорская армия на юге так и не смогла пробиться к Чонцину. А на севере японцам не давали покоя коммунисты Мао. Они нападали на утратившие бдительность патрули и даже вступали в бой с более крупными подразделениями. Началась война на истощение, и количество потерь сразу увеличилось. К 1941 г. были убиты 300 000 японцев и, согласно рапортам, 1 миллион китайцев. А конца боевым действиям все еще не было видно. Япония, как и предсказывал Исивара, по уши увязла в китайской трясине. Армии императора контролировали почти все важные китайские города, но они не могли ни разбить войска Гоминьдана, ни уничтожить коммунистических партизан. Коноэ отказался от попыток найти способ заставить Чана сесть за стол переговоров, а национальная гордость не позволяла японцам отступить. Китай превратился для Японии в ночной кошмар Наполеона, в войну, которая не имеет завершения. Японские средства массовой информации превозносили храбрость японских солдат и воспевали каждую новую победу. Однако плотная сеть правительственной цензуры скрывала от публики другую сторону войны в Китае, а именно — зверства по отношению к мирному населению. Даже при более благополучных обстоятельствах многие японские солдаты ощущали свое превосходство над остальными азиатами, которые представлялись «отсталыми» из-за неспособности модернизировать свои страны столь же быстро, сколь это сделала Япония. Такое отношение, усугубленное ведением боевых действий на негостеприимной чужой земле и военным кодексом поведения, призывавшим не обращать внимания на права вражеского населения, делало японских солдат способными совершать шокирующие преступления против простых китайцев. Наиболее известным примером зверств японцев была резня в Нанкине. На протяжении нескольких недель после вступления в город японских войск в декабре 1937 г. в нем с неослабевающей яростью бушевал ураган пожаров, зверств, изнасилований и бессмысленных убийств безоружных людей. Вся полнота ужаса, который довелось пережить жителям Нинкина и соседних городков и деревень, так никогда и не станет известна. Иностранные наблюдатели по горячим следам сообщали, что жертвами резни стали 40 000 человек, позднее эта цифра была увеличена до 200 000, а современный мемориал в Нанкине, посвященный памяти погибших во время этих чудовищных злодеяний, говорит о десятках тысяч изнасилованных и 300 000 убитых. И события в Нанкине не были чем-то уникальным. По всей оккупированной территории Китая японские солдаты присваивали собственность китайцев, убивали скот и насиловали женщин всех возрастов. На севере, где постоянные нападения коммунистических партизан создавали впечатление, что каждый крестьянин причастен к партизанскому движению, для японцев стало обычным делом подвергать пыткам и издевательствам жителей китайских деревень. Их обливали бензином и поджигали, штыками закалывали беременных женщин, а детей заставляли ходить по тем местам, где, как подозревали японцы, располагались минные поля. В предместьях Харбина японцы разместили свое гнусное подразделение 731. Оно было прикрыто невинным наименованием «Подразделение по предупреждению эпидемий и снабжению питьевой водой». На самом деле это была группа по разработке бактериологического оружия. Эксперименты проводились на живых людях, которых заражали бубонной и легочной чумой, тифом, сифилисом и другими заразными болезнями. Целью этих экспериментов были поиски наиболее смертоносных бактерий и создание эффективных методов их распространения. «Если бы мы не обладали чувством расового превосходства, мы бы не были способны совершить это», — признался один из сотрудников подразделения, занимавшийся тем, что вскрывал еще живых и находившихся в сознании людей, чтобы выделить из их внутренних органов бактерии чумы{285}. Ко времени завершения войны несколько тысяч китайцев стали жертвами этой исследовательской программы, хотя ни одно японское правительство так и не признало официально ее существование. Пока измученные японские солдаты брели по нескончаемым дорогам китайской войны, политики в Токио пытались дать определение и законное обоснование тому конфликту, который начинался как попытка «покарать» Чан Кайши. Когда в сентябре 1937 г. Китай обратился в Лигу Наций, министр иностранных дел Хирота заговорил о самообороне. Япония, пояснял он, просто пыталась заставить Гоминьдан прекратить антияпонские действия. Неутомимый оратор Мацуока Ёсукэ, занимавший осенью 1937 г. пост в консультативном совете кабинета, состоявшем из ведущих публичных фигур, пытался изобразить китайских политических лидеров в виде коварных злодеев, угрожавших не только Японии, но и всей Азии. «Пьяная оргия военных правителей Китая» и «красный коммунизм», писал он, слились в «гнойную язву на теле Восточной Азии», и эта язва грозит «всем азиатским народам неизбежной гибелью». Япония «взяла скальпель», заключал он, чтобы провести «героическую операцию», которую требует от нее сложившаяся ситуация{286}. Премьер-министр Коноэ, который с юности был убежденным паназиатистом, предлагал более благородный образ Японии как законного лидера нового азиатского порядка. Еще со времени своей поездки в Париж Коноэ был безусловным противником вашингтонской договорной системы, которую он трактовал как попытку Запада заморозить международный статус-кво, чтобы и впредь обеспечить белой расе господствующее положение в мире. Запад, по его мнению, теоретически мог признавать за Японией статус ведущей державы, однако на практике островное государство оставалось субъектом, присутствие которого в мире, управляемом западными империалистами, было нежелательным. Ограничение вооружений, установленное на Вашингтонской конференции и подтвержденное в Лондоне в 1930 г., просто ставило Японию в подчиненное положение по отношению к западным державам, в особенности по отношению к Великобритании и Соединенным Штатам. Выживание нации, согласно Коноэ, зависело от достижения Японией экономической самодостаточности и разрушения злонамеренной системы международных отношений, основанной на теории расового превосходства, которая рассматривает азиатские народы как второстепенные объекты на международном поле. 3 ноября 1938 г. правительство Коноэ отметило взятие Кантона и Ханкоу формальным объявлением «нового порядка» в Восточной Азии. В тот же вечер премьер по радио обратился к нации. «То, чего добивается Япония, — торжественно объявил он, — это установление нового порядка, который способен обеспечить постоянную стабильность в Восточной Азии. В этом заключается конечная цель нашей теперешней военной кампании»{287}. Установление «нового порядка» явилось бы «установлением тройственных отношений между Японией, Маньчжоу-Го и Китаем, основанных на взаимопомощи и координации своих действий». К несчастью, сожалел Коноэ, Чан Кайши является всего лишь марионеткой Запада, у которой лишь одно желание — сохранить свою власть на как можно больший период времени. Трагическим следствием этого является то, что китайскому народу теперь угрожают коммунизм и западный империализм. Простым китайцам нечего бояться японцев, говорил Коноэ. Наоборот, он с симпатией относится к «горячим национальным чувствам» великого китайского народа, который просто хочет освободиться от распутного режима Чан Кайши. И он предвидит поражение Чана, после которого Китай сможет заключить союз с Японией и Маньчжоу-Го, чтобы «усовершенствовать совместную защиту от коммунизма, создать новую культуру и установить прочные экономические связи по всей Восточной Азии». Это была хорошо подготовленная, отточенная речь, произнесенная находчивым и изощренным политиком. Коноэ одновременно выводил военные акции Японии за пределы отстаивания собственных интересов и создавал ясный образ моральной, принципиальной и самоотверженной нации, чье самопожертвование освободит китайский народ от двойного гнета со стороны Гоминьдана и западного империализма, создав, таким образом, «новую структуру мира, основанную на истинной справедливости».Новый политический порядок
Красноречие Коноэ оказало сильное воздействие на его соотечественников. Тем не менее премьер-министр по-прежнему был не в состоянии перевести свое видение «нового порядка» в Восточной Азии в реальное военное и дипломатическое решение, которое положило бы конец войне с Китаем на приемлемых для Японии условиях, и в январе 1939 г. разочарованный принц покинул пост главы правительства. Полтора года спустя Коноэ согласился вновь стать премьером. При этом он прежде всего руководствовался желанием создать Движение «нового порядка». Под ним он понимал набор коренных изменений в национальной политике, которые помогли бы разрешить давний кризис как внутри страны, так и за ее пределами. 23 июля 1940 г., на следующий день после формирования кабинета, он выступил по радио с обращением, озаглавленном «Получение Императорского мандата». В нем он заявлял о крахе прежнего мирового порядка и о волнах перемен, захлестнувших берега Азии. Чтобы выжить в меняющемся мире, говорил он стране, Япония должна пройти через процесс омоложения, который предусматривает перестройку политических и экономических структур. Тремя днями позже его кабинет утвердил «Очерк основных национальных принципов», который явился основой Движения «нового порядка». Интеллектуальными отцами Движения «нового порядка» в значительной степени были члены мозгового треста, созданного Коноэ в 1933 г., через год после убийства премьер-министра Инукаи. Целью его создания было развитие конституционной политики Японии. К тому времени, как Коноэ в 1937 г. сформировал свой первый кабинет, члены этого треста были известны как Ассоциация исследований Сева. В их число входили более сотни выдающихся интеллектуалов, ученых, журналистов, политиков, предпринимателей и служащих. Все они были разбиты на дюжину или более того комитетов, которые снабжали премьер-министра ценными советами относительно практически всех аспектов внутренней и внешней политики Японии. Рояма Масамичи, ученый из Токийского университета, внес, вероятно, наибольший вклад в разработку новых направлений в политике. Сильнее всего его заботила необходимость сплочения нации вокруг Коноэ как премьер-министра, желающего установить в Восточной Азии «новый порядок». Рояма был очарован способностью харизматических европейских лидеров манипулировать могучей эмоциональностью фашистской идеологии и с ее помощью завоевывать симпатии населения. Он желал, чтобы и Япония «достигла внутреннего единства, подобного нацистскому»{288}. Заявляя, что либеральная демократия устарела в стремительно меняющемся мире, Рояма утверждал, что в Японии следует насаждать фашизм «сверху» путем создания новой «национальной организации», которая должна основываться на том, что он благоговейно называл «тоталитарными принципами» и что способно заменить прежние органы государственного управления и определять политику страны. В августе 1940 г. Коноэ назначил 37 представителей различных секторов японского общества в состав специального Подготовительного комитета «нового порядка». Основываясь на текстах Рояма и предложениях Ассоциации исследований Сева, комитет рекомендовал создать новую организацию, которая впоследствии стала известной как Ассоциация способствования императорскому правлению. АСИП в представлении комитета должна была представлять собой народную и псевдоправительственную партию, возглавляемую премьер-министром. Одновременно на муниципальных, окружных и префектурных уровнях должны были формироваться советы, создаваемые по профессиональному принципу или по принципу культурных интересов. В их задачи входило «обеспечение непосредственного контакта с народом». На национальном уровне эта новая структура должна была венчаться национальным советом, который, как подразумевалось, в конце концов заменит парламент в качестве органа обсуждения и утверждения национальной политики. Результатом всех этих мероприятий, по мнению членов комитета, должно было стать создание массовой политической ассоциации, которая могла бы «помогать» премьер-министру и его кабинету в осуществлении программ управления. Коноэ, убежденный в том, что разделение политической власти, санкционированное конституцией Мэйдзи, более не отвечает потребностям Японии, подкрепил выдвинутые предложения своим политическим весом. Автономия военных служб и распыление власти между несколькими группами элит, считал он, порождают хаос и политические конфликты между гражданской и военной ветвями правительства. А это может оказаться фатальным для Японии в условиях чрезвычайного внешнего кризиса конца 1930-х. Коноэ надеялся, что новая политическая система, подкрепленная руководством массовой политической ассоциации, усилит его позиции в отношениях с парламентом, военными и профессиональными чиновниками. Таким образом, можно будет осуществлять более скоординированную политику, которая будет иметь поддержку со стороны населения, мобилизованного через АСИП. Его предложения вызвали смешанную реакцию. Прежде всего, его с энтузиазмом поддержала любопытная смесь из армейских генералов, которые надеялись использовать ассоциацию для обеспечения народной поддержки военным мероприятиям в Китае, и партийных политиков, ожидавших, что новая массовая партия позволит им вновь перехватить инициативу из рук бюрократии и военных. Разумеется, основные политические партии страны объявили о добровольном самороспуске. Это произошло 15 августа 1940 г., еще до того как была создана АСИП. Несмотря на такие проявления поддержки, множество других организаций и персон куда менее тепло отнеслись к детищу Коноэ. Такие консерваторы, как Хиранума Киичиро, 8 месяцев в 1939 г. занимавший премьерский пост, утверждал, что предлагаемая тоталитарная АСИП является не чем иным, как «новым сёгунатом», который узурпирует власть императорского правительства. Японисты заявляли, что национальная государственная идея, почтенная кокутай, уже объединяет императора с его подданными, которые исполняют свой естественный долг по «способствованию императорскому правлению». Старшие чины Министерства внутренних дел, которые мыслили более приземленными категориями, боялись утраты бюрократами их влияния и высказывали опасение, что предлагаемая сеть ячеек, созданная по профессиональному принципу, будет служить помехой в работе местных администраций в столь важный период национальной истории. Коноэ, склонный к компромиссам и не любивший политических рукопашных, быстро уступил своим критикам (позднее сам принц назвал себя «благонамеренным сыном судьбы», ни одному из планов которого не суждено было осуществиться). Когда 12 октября 1940 г. АСИП была создана, ее местные отделения не основывались на профессиональных или культурных принципах. Они превратились в ответвления существующих административных учреждений, оказавшись к тому же под юрисдикцией местных чиновников. Именно этого и желали бюрократы из Министерства внутренних дел. Осенью 1940 г. министерство прибрало к рукам практически все рычаги управления АСИП. В конце декабря Коноэ сделал еще один реверанс в сторону своих оппонентов. Он назначил Хиранума на пост министра внутренних дел, отдав АСИП в руки одного из самых стойких своих противников. Никогда ассоциация не угрожала и прерогативам парламента, который продолжал заседать и однажды даже выразил свое недоверие новой организации, отказавшись выделить ей денежные средства. «В Японию пришел фашизм», — сокрушался Ёсино Сакудзо в 1932 г.{289} Этот почтенный либерал опасался, что путчисты и «антидемократические» движения насадят в Японии «фашизм снизу». Его слова напоминали о том, что Япония имеет исторические параллели с Германией и Италией. Все три страны сравнительно поздно начали развивать капиталистическую экономику. В каждой из них демократия брала верх лишь на короткий промежуток времени и пыталась укорениться в тот момент, когда в этих странах бушевали жестокие экономические кризисы. И все три страны боялись, что британцы или американцы не позволят им создать империи, которые столь необходимы для обеспечения экономической самодостаточности. В этом смысле Ёсино был совершенно прав, считая, что японские фашисты могут проложить себе путь к власти, отменить парламентское правление и ввести экономические принципы национал-социализма, как это уже проделали их европейские коллеги. Но в конце концов Японии так и не суждено было пережить эпоху фашизма. Да, были японцы, которые называли себя фашистами, были и личности, подобные Рояма Масамичи, которых привлекала фашистская идеология. Несмотря на все это и несмотря на очевидную значимость в Японии правых группировок, фашисты так и не довели до конца основные реформы и фашизм как движение никогда не достиг успеха. Поражение зачинщиков инцидента Двадцать шестого февраля ликвидировало возможность распространения фашизма снизу, а мертворожденная АСИП продемонстрировала невозможность насадить фашизм сверху. Исторический путь Японии, ее стремление к модернизации по-прежнему оставались чисто японскими. В отличие от Германии и Италии, в Японии правое крыло политического спектра никогда не порождало движение, способное свергнуть правящие элиты, ни одна партия или массовая организация не приходила к власти и во главе государства никогда не оказывался харизматический лидер. На протяжении 30-х конституция Мэйдзи оставалась жизнеспособной, а решением политических вопросов продолжали заниматься те же элитарные группы, которые управляли страной с 90-х гг. XIX столетия. Япония в конце 30-х отличалась от Японии конца периода Мэйдзи и эпохи Тайсо. Всем было понятно, что внутренние проблемы и внешняя угроза, перед лицом которых нация оказалась в конце 20-х — начале 30-х гг., подорвали прежнюю веру японцев в парламентское правление и экономический либерализм. Более того, наблюдаемые в 30-е гг. агония политических партий, падение значимости парламента и растущее влияние гражданских и военных бюрократов на кабинет породили такой стиль управления, который был более напористым, авторитарным и милитаристским, чем прежде. Если термин «фашизм» не подходит для описания тех изменений, которые происходили в 30-х гг. XX в., то самым подходящим определением процессов, наблюдаемых в это время в Японии, будет понятие «государство национальной обороны». В нем политическая культура и экономика были реорганизованы таким образом, чтобы позволить Японии преодолеть экономический кризис 30-х и мобилизовать свои силы для широкомасштабной войны.Новый экономический порядок
Неразделимая триада, состоящая из тотальной войны, автаркии и создания государства национальной обороны, впервые появляется во второй половине 1910-х гг. на страницах работ Угаки Кадзусигэ и Коисо Куниаки. Эти два молодых полковника, бывшие свидетелями войны в Европе, разделяли ту точку зрения Исивара Кандзи, что в современной войне нельзя сохранить нейтралитет, а сам конфликт будет продолжительным и потребует значительных ресурсов, и любая страна, не являющаяся экономически самодостаточной, обречена на поражение. В своей брошюре Коисо предложил новые, революционные способы подготовки своей страны к разрешению международных конфликтов. Его программа включала в себя две составляющих: развивать японские колонии в качестве «сырьевой базы» (эту миссию в 1931 г. взял на себя Исивара вместе с Квантунской армией) и установить централизованный правительственный контроль над экономикой страны, так чтобы службы вооружений могли немедленно и эффективно отреагировать на возникновение военной угрозы. В 30-х бюрократы-обновленцы и некоторые ученые-экономисты также начали восхвалять достоинства управляемой экономики. Для них бег по кругу в 20-х гг. и тернии Великой депрессии явились очевидным доказательством несостоятельности экономики, основанной на принципах невмешательства со стороны государства. Они занялись поисками более эффективного способа преодоления стрессов и неурядиц, сопровождавших модернизацию. По мере погружения Японии в пучину войны с Китаем, сторонники плановой экономики все громче заявляли о том, что богатая сырьем империя и непосредственное государственное управление экономикой являются необходимыми условиями выживания нации. В 1934 г. экономист Арисава Хироми писал: «В современной войне победа или поражение определяются не только боевой мощью на полях сражений, но, в первую очередь, мощью военной промышленности. Государство должно использовать любые экономические инструменты и отдавать все материальные ресурсы борьбе за выживание»{290}. Тремя годами позже, когда Япония оказалась втянутой в полномасштабную войну, он добавил: «Государство должно использовать свою власть и непосредственно взять на себя руководство экономической деятельностью. В состоянии полувойны экономика, управляемая государством, должна носить принудительный характер». Принц Коноэ во время своего первого премьерского срока превратил самодостаточность и экономическое планирование в первоочередные задачи для японской нации. Осенью 1937 г. новый премьер, одновременно с отправкой японских войск на войну в Китай, преобразовал бывшее Кабинетное Бюро исследований в агентство на уровне кабинета. Новый орган получил название Совет по планированию при кабинете (СПК). В его задачи входило формулирование и координирование экономической стратегии. Ведущие позиции в нем занимали бюрократы-обновленцы и армейские стратегические планировщики. Они в скором времени создали Министерство народного благосостояния и осуществили национализацию электрической промышленности. Каждое из этих мероприятий сочетало в себе как гражданские, так и военные аспекты. Министерство здоровья и благосостояния было создано 11 января 1938 г. Оно было призвано осуществлять руководство всей медицинской помощью и социальными программами. В его задачи входили поиски путей улучшения здоровья японской молодежи, что было особенно важно для военных, поскольку, к их удивлению, большое количество новобранцев по своему состоянию здоровья оказались не годными к службе в армии. Акт об электрической промышленности, утвержденный парламентом, вступил в действие 10 апреля 1938 г. В соответствии с ним все предприятия данной промышленности объединялись в 9 компаний, которые передавались под управление Министерства коммуникаций. Эта мера была направлена на то, чтобы обеспечить дешевой электрической энергией экономически отсталые регионы. Одновременно она гарантировала военным заводам получение такого количества энергии, какое им было необходимо. Коноэ держал в голове еще более захватывающие дух прожекты. Во время подготовки к 73-й сессии императорского парламента, назначенной на 26 декабря 1937 г., СПК разработало законопроект о национальной мобилизации. Это мероприятие предоставляло правительству право использовать «человеческие и материальные ресурсы таким образом, который дает государству возможность в полной мере использовать свою силу для реализации задач национальной обороны во время войны»{291}. В частности, закон, состоявший из 50 статей, делал правительственные агентства ответственными перед кабинетом за распределение между производствами основных государственных заказов, предусматривал сведение всех производств в картели, которые будут заниматься выполнением правительственных планов, и вводил мобилизационные планы на случай войны для всех фабрик и земель. Оппозиция отреагировала на это незамедлительно. Многие члены парламента, даже те, кто поддерживал войну против Китая и Гоминьдана, не желали рисковать, экспериментируя подобным образом с индустриальной структурой страны во время международного конфликта. Крупный бизнес был изумлен этой атакой на частную собственность и другие основополагающие принципы либерального капитализма. Даже наставник Коноэ, принц Саинодзи, заявил, что «законопроект противоречит конституции», и это обвинение было подхвачено многими ведущими консерваторами{292}. Будучи, как всегда, реалистом, Коноэ пошел на ряд компромиссов, чтобы добиться одобрения со стороны парламента. Он дал личные гарантии того, что правительство не будет прибегать к наиболее спорным положениям, пока не завершится китайский инцидент, а затем позволил создать проверочный комитет, в состав которого входили 50 человек, занимавшиеся проверкой всех законопроектов. Успокоенный парламент утвердил Закон о всеобщей национальной мобилизации 1 апреля 1938 г. Когда Коноэ летом 1940 г. формировал свой второй кабинет, он вновь вернулся к попыткам поставить экономику под государственный контроль. В той самой речи, произнесенной 23 июля, в которой он наметил планы по созданию Нового политического порядка, принц коснулся и Нового экономического порядка. Он также сказал о необходимости построения государства национальной безопасности, если только Япония желает достичь успеха в Китае. Идеи Коноэ на этом этапе развития пошли дальше положений мобилизационного закона. На этот раз принц задумал более фундаментальную реконструкцию экономики, в результате которой будет окончательно сломлена ее капиталистическая ориентация. Как и в случае с Новым политическим порядком Коноэ черпал вдохновение в Ассоциации исследований Сева, а в особенности — в работах Рю Синтаро, популярного экономического обозревателя газеты Асахи, на которые принц впервые обратил внимание в 1939 г. Находясь под впечатлением от успехов Германии в деле повышения производительности и борьбы с безработицей, Рю выступал за использование опыта нацистов при реформировании японской капиталистической системы. В частности, он предлагал правительству ввести лимиты на прибыли и следить за инвестированием средств, сформированных за счет излишков доходов. Еще более спорный характер носила его рекомендация правительству оставить основные производства в частных руках, но при этом передать управление ими государственным чиновникам. Это он называл отделением капитала от управления. Его план, который СПК впоследствии воспринимал как свой собственный, призывал фирмы во всех отраслях экономики организовываться в картелеподобные контрольные ассоциации. Правительство будет предоставлять этим ассоциациям инструкции относительно размещения ресурсов и определять квоты производства для каждой фирмы. Более того, Высший экономический совет, подчинявшийся правительству, должен был взять контрольные ассоциации под свою юрисдикцию. Таким образом, бюрократии была бы гарантирована ведущая роль в координации экономической политики. Предложения Коноэ вновь натолкнулись на противодействие. Лидеры японского бизнеса злобно окрестили Новый экономический порядок «красным заговором», составленным тайными коммунистами, проникшими в СПК и желавшими «разрушить нашу экономику и превратить нашу страну в Россию»{293}. Японская экономическая федерация, в которую входило большинство крупнейших фирм страны, заявила, что правительственные бюрократы являются известными растяпами. Она также заявила, что правительственный контроль над прибылью неизбежно вызовет «сокращение деловой активности, падение производства и резкое уменьшение налоговых поступлений». Это была тщательно организованная атака, и 7 декабря 1940 г. Коноэ отступил. В этот день его кабинет принял план Новой экономической системы, который был значительно менее масштабным, чем того хотелось обновленцам. Премьер-министр смог только «поддержать» создание контрольных ассоциаций. Ни одно производство и ни одна компания не были национализированы. Традиционная прослойка управленцев осталась на своих местах, прибыли были разрешены, а национальные координационные агентства так и не были созданы. Коноэ умылся кровью во время сражения за Новый экономический порядок, но он был далек от того, чтобы проиграть войну. Между весной 1938 г., когда вступил в силу Закон о всеобщей национальной мобилизации, и осенью 1941-го, когда Коноэ окончательно покинул пост премьер-министра, кабинет и бюрократы-обновленцы как с цепи сорвались. В этот период они приняли более 100 законов и декретов, которые различными способами способствовали проникновению государства в экономическую деятельность. В это время премьер искал у парламента поддержки своей деятельности. Но, если депутаты упорствовали, Коноэ и его сторонники обращались к императору или задействовали один из пунктов Закона о всеобщей национальной мобилизации, несмотря на торжественное обещание не прибегать к нему до окончания конфликта с Китаем. Например, когда в конце 1938 г. японские войска продвигались к Кантону и Ханкоу, только что принятый закон о производстве механического оборудования и производстве самолетов обеспечил правительственными субсидиями эти важные в стратегическом отношении направления. Правда, при этом они попала-ли под плотный контроль со стороны государства. В ноябре того же года армия успешно продавила постановление о введении максимального уровня прибылей для крупнейших корпораций. 20 октября 1939 г. были приняты Постановления о контроле над ценами и о временных ограничениях заработной платы. Они устанавливали максимальный уровень зарплаты, розничных цен и арендной платы. В 1940 г. правительство ввело фиксированные нормы на продажу риса, сахара и спичек. Почти за каждым листком календаря в конце 1930-х стояло новое мероприятие по усилению контроля над экономикой. Несколько раз это десятилетие становилось свидетелем глубоких, почти революционных изменений в отношениях между частным капиталом и государственной бюрократией. Гражданские бюрократы-обновленцы и военные планировщики создали новую могучую коалицию, которая предоставляла им возможность доминировать в агентствах, созданных под эгидой кабинета, и выдвигать большое количество предложений, которые побуждали правительство перейти от мероприятий косметического характера, столь популярных в 20-е гг. среди пастырей людей, к более радикальным действиям, поддерживаемым сторонниками управляемой экономики. За годы, прошедшие со времени Мукденского инцидента, правительство практически полностью поменяло свой набор инструментов по вмешательству в экономическую жизнь. Была дана путевка в жизнь контролю над заработными платами и ценами, введена практика распределения сырьевых ресурсов и потребительских товаров. Все это способствовало росту обороноспособности государства и побуждало основные японские корпорации к принятию новых путей ведения бизнеса. Тем не менее, несмотря на усиление контроля со стороны бюрократии, Коноэ в конце концов оставил должность премьера. Это произошло осенью 1941 г., спустя десять лет после начала военного конфликта в Маньчжурии. Но японцы так и не попали в условия тоталитарной экономической системы. Не был установлен в их стране и фашистский политический режим. Сторонники государственного планирования не могли праздновать окончательную победу. Дзайбацу по-прежнему украшали собой экономический пейзаж, а управляющие компаний сражались за сохранение концепции частной собственности в бизнесе. Как и политика и общество, экономика осталась частично свободной, а частично — контролируемой.Преобразование империи
Призыв Коноэ к установлению нового порядка как внутри страны, так и по всей Азии основывался на желании сломить зависимость Японии от международной капиталистической системы, управляемой в соответствии с британскими и американскими интересами. На протяжении 30-х мир разделился на две зоны, в одной из которых доминировал доллар, в другой — фунт. В ответ на это многие японские планировщики предлагали создать зону йены. Это бы стало противовесом сползания Японии во все большую зависимость от Англии и Америки, а также от их колоний, в плане сырья, рынков, капитала и технологий. Разрастающийся конфликт в Северной Азии добавлял убедительности их аргументам. После создания Маньчжоу-Го Япония попыталась осуществить интеграцию своей экономики с экономиками своих колоний и зависимых от нее стран, чтобы создать автаркию. В некоторых местах эти усилия приносили определенные плоды. К 1939 г. около 99,9 % экспорта Карафуто направлялось в Японию. Для Нанъё и Тайваня этот показатель составлял соответственно 93,2 и 86 %. В Маньчжоу-Го пятилетний план, завершение которого приходилось на 1937 г., был выполнен лишь частично. Но к 1940 г. этот сателлит Японии начал снабжать своего патрона большим количеством угля, чугуна, стали, золота, химических удобрений и других важных товаров. С более существенными трудностями японские планировщики и военные столкнулись в Китае. Когда в 1937 и 1938 гг. Императорская армия пробивала себе путь в глубь китайской территории, казалось возможным создание «приемлемою» режима, который со временем завоюет признание китайского народа, хотя и сохранит при этом верность Японии. На севере Китая японская армия создавала комитеты по сохранению мира, в состав которых входили видные представители китайского народа. Эти комитеты были призваны санкционировать оккупационную политику. 14 декабря 1937 г. на их основе было создано Временное правительство Республики Китай со столицей в Пекине. Во главе коллаборационистского режима стоял Ван Кеминь, банкир, прежде служивший советником по финансовым вопросам у Чжан Сюэляна. Несколькими месяцами позже, в марте 1938-го, японцы создали второй марионеточный режим — Правительство реформ Республики Китай. Оно размещалось в Нанкине. В его задачи входило управление центральными и южными провинциями оккупированной китайской территории. Разумеется, осуществлять это управление китайцы должны были под бдительным надзором японских «советников». 30 марта 1940 г. оккупационные власти распустили и Временное правительство, и правительство реформ. Их функции были переданы Реорганизованному национальному правительству Республики Китай, возглавляемому Ван Цзинвэем. Ван получил образование в Японии, в Хосэйском университете. Долгое время он был соперником Чан Кайши в Гоминьдане. Ван был убежден, что Китай и Япония являются естественными союзниками. Поэтому он выступал за подписание соглашения с Японией, несмотря на все кровопролитие и кошмары 1930-х. Многие соотечественники проклинали его за изменническое сотрудничество с врагом, но сам Ван, будучи патриотичным, хоть и наивным человеком, верил, что сотрудничество с японцами позволит ему смягчить наиболее жесткие моменты оккупации и сохранить, по крайней мере, видимость китайского суверенитета на захваченных территориях. Имея перед собой задачу присоединить Китай к блоку йены, японские оккупанты позаботились о налаживании эксплуатации его ресурсов. В некоторых случаях японские военные просто экспроприировали то, что они считали нужным. Те китайские компании, которые имели хоть какое-нибудь стратегическое значение, конфисковались и передавались под управление японских фирм или военных подразделений. В конце 1938 г. правительство Коноэ издало указ о создании Корпорации развития Северного Китая и Корпорации развития Центрального Китая. Средства на их создание выделялись как частными предпринимателями, так и государством. Эти организации достигли определенного успеха, занимаясь разработкой железных рудников и угольных копей, выплавкой стали, строительством гидроэлектростанций и гаваней на Севере Китая, а также восстановлением железнодорожных путей, сильно пострадавших во время боев в долине реки Янцзы. В результате количество угля, добываемого в Северном Китае и Монголии, выросло в промежуток времени между 1937 и 1941 гг. с 10,7 миллиона до 22,8 миллиона тонн. В 1939 г. в обоих этих регионах, вместе с Центральным Китаем, было добыто 1 миллион тонн железной руды, а в 1942 г, на который приходится пик горных разработок, этот показатель составил 5 миллионов тонн. Корея, находившаяся под японским владычеством, была для японских планировщиков костью в горле. На протяжении 20-х так называемое культурное правление слегка успокоило полуостров. Но прибытие в страну генерала Угаки Кадзусигэ, вступившего в должность генерал-губернатора в июле 1931 г., и Маньчжурский инцидент, произошедший осенью того же года, знаменовали собой изменения в политике. С этого времени Япония начала перестраивать корейскую экономику под нужды зоны йены. С энтузиазмом и определенной успешностью японское оккупационное правительство начало увеличивать производствоэлектроэнергии, удвоило протяженность железнодорожных путей, построило 31 000 миль автомобильных дорог и создало условия для роста новых промышленных производств, как это показано в таблице 13.2. Некоторые традиционные японские корпорации вкладывали свои капиталы в эти проекты, однако более активно действовали новые дзайбацу, такие как Ниттицу, которая заняла ведущие позиции в развитии химической промышленности. Она же построила на полуострове 90 % мощностей по производству электроэнергии, в том числе и огромную дамбу на реке Ялу, которая по своим размерам могла соперничать с дамбой Гувера[40] и Великой дамбой Кули в Соединенных Штатах.
Генерал-губернатор Угаки также начал проводить политику активной ассимиляции, которую его преемник, генерал Минами Дзиро, довел до логического завершения в промежуток времени между августом 1936 и маем 1942 г. Угаки и Минами стремились использовать при осуществлении программ индустриализации энергию корейского населения. Поэтому их особенно заботила проблема послушания народа, который в прошлом частенько насилием выражал свое несогласие с оккупацией своей страны. Оба генерала хотели уничтожить культурную уникальность корейцев и насадить среди них японские ценности. Именно это и подразумевал новый лозунг, звучавший следующим образом: «Корея и Япония — как единое целое». Основными задачами новой кампании являлись создание «патриотических групп» для поддержки военных усилий, побуждение корейцев к посещению синтоистских святилищ и к произнесению клятвы верности императору, введение новых школьных программ с преобладанием преподавания японского языка, японских истории и этики. В 1938 г. в рамках этой программы было издано постановление, разрешающее корейцам вступать в ряды императорской армии на правах «особых добровольцев». Результаты программ индустриализации и ассимиляции подвел генерал-губернатор Минами. В заявлении, подготовленном его администрацией в 1941 г., говорилось:
«Благодеяния нашей Императорской Семьи достигли Кореи и даровали корейскому народу мирную жизнь. Почему случилось так, что правление Кореей достигло такого процветания всего за 30 лет? Это произошло потому, что каждый последующий губернатор целиком посвящал себя достижению духа единства. Сельское хозяйство и горные разработки достигли значительного прогресса, промышленное производство демонстрирует замечательное развитие. Бизнес и коммерция процветают. Объемы торговли растут с каждым годом. Образование было усовершенствовано, и, по мере культурного прогресса, обычаи и одежда корейского народа демонстрировали все меньше и меньше отличий от японских. Была создана особая военная система, и в результате многие корейские добровольцы ныне исполняют свой долг по защите Империи{294}.В то время как генерал поздравлял себя с сошествием императорской благодати на корейскую землю, большинство корейцев негодовали по поводу японской спесивости. Несомненно, инвестиции в промышленную инфраструктуру, сделанные в 1930-е гг., обеспечили долгосрочные перспективы экономического развития Кореи. Однако не менее очевидным было и то, что японская политика накладывает значительные ограничения на деятельность самих корейцев. Большинство корейских компаний не могли выдержать конкуренцию с японскими фирмами, многие из которых пользовались налоговыми льготами и располагали правительственными гарантиями, исключавшими потери. Даже прядильная и ткацкая компания Кьёнсон, которая была первым крупным промышленным предприятием, принадлежавшим корейцам, находилась в зависимости от японских поставщиков сырья, технической поддержки и маркетинга. Лишь немногие корейцы выиграли от развития производства механического оборудования, которое занималось в основном изготовлением предметов военного назначения, или от химической промышленности, которая также поставляла свою продукцию Императорской армии. Более того, хотя многие корейцы нашли себе места на новых японских фабриках, большинство из них выполняло черную работу. Они были вынуждены подчиняться японским мастерам и прорабам. Таким образом, между рабочими местами была проведена граница по национальному принципу. Но даже если кореец выполнял ту же работу, что и японец на этом же заводе, его заработок составлял лишь одну треть или, в лучшем случае, половину от заработка японца. Разумеется, жилищные условия в колонии оставались очень тяжелыми. Бедность была всеобщим бедствием. Лишь в немногих домах было электричество, уровень детской смертности достигал в некоторых регионах 50 %. Колониальная администрация тратила почти в 50 раз больше средств на обучение ребенка японских поселенцев, чем на образование корейского ребенка. Банки выдавали корейцам ссуды под большие проценты, чем японцам. Но больше всего корейцев раздражали попытки японцев искоренить их культурные традиции. Наибольшую ненависть вызвал указ, изданный в 1939 г., который «всемилостивейше дозволял» всем корейцам отказаться от своих имен и заменить их японскими. Этот грубый акт сделал и без того жесткую колониальную систему практически непереносимой и продемонстрировал софистический характер заявлений Японии о том, что ее миссия на полуострове заключается в развитии промышленности и насаждении современных ценностей.
Жизнь в тридцатых
Кинофильмы были не единственным выражением популярной культуры, подвергшимся изменениям на протяжении 1930-х. В начале десятилетия хитами стали песни «Мои голубые небеса» и «Спой мне песню Аравии», звучавшие по-японски как Ватакуси но аодзора и Арабиа ноута. В то же время новая волна увлечения западной музыкой запустила джаз в дансинги даже самых провинциальных городов Японии. Однако по мере углубления китайского кризиса, на радиочастотах начали преобладать песни патриотического и военного содержания. Классика Мэйдзи переживала возрождение. «Марш боевых кораблей» (Гунканмачи), написанный в 1897 г., начинался словами: «Защищаясь или нападая, мы полагаемся на плавучую крепость из черной стали»{295}. Еще более популярными были песни, воспевавшие смерть, такие как «Лагерная песня» (Роэй ноута). Эта песня, написанная в 1937 г. и присланная на конкурс в одну из газет, отражала меланхоличную озабоченность смертью, но всего за 6 месяцев было продано 600 000 экземпляров этого произведения. В подтверждение серьезности своих намерений, правительство запретило джазовые концерты и в ночь Всех Святых 1940 г. закрыло в Токио все дансинги. Исчезновение этих заведений означало лишь одно: изменение городского пейзажа отражает суровость десятилетия. Новое здание парламента, на строительстве которого трудились в основном корейцы, и здание компании по страхованию жизни Да-Ичи, построенные в Токио в 1936 и 1938 гг. соответственно, явили собой примеры той железобетонной архитектуры в стиле Баухауза[41], которая была столь популярна в Берлине. До некоторой степени культурная чистка конца 1930-х проистекала из усилий правительства по унификации поддержки военных приготовлений со стороны гражданского населения и созданию государства национальной обороны. Эти импульсы ощущались и в области образования. Кампания по очистке нации от «опасных идей» продолжалась даже после того, как профессор Минобэ Тацукичи с позором покинул парламент. В 1937 г. Янайхара Тадао под давлением властей предпочел оставить свою кафедру колониальной политики Токийского университета, побоявшись продолжать критику поведения японцев в Китае. В следующем году Министерство юстиции предъявило обвинения еще нескольким либеральным профессорам Токийского университета за «распространение опасных идей», после того как они осудили инцидент 26 февраля и подвергли порицанию «тоталитарную политику» конца 1930-х. Помимо затыкания ртов критикам правительство искало способы насаждения «правильных мыслей» среди школьников. Этому был призван способствовать новый учебник, Кокутай но хонги («Основополагающие принципы национальной государственности»), изданный Министерством образования 30 марта 1937 г. Он представлял собой официальное изложение концепции кокутай. Целью этого учебника, по его собственным словам, было преодолеть социальные волнения и «создать новую Японию, основываясь на добродетели имперского пути, который твердо стоит в веках как в стране, так и за ее пределами, и таким образом, сильнее, чем прежде, защищать и поддерживать процветание императорского трона, возникшего одновременно с небесами и землей»{296}. Вслед за кратким историческим обзором, в котором особо подчеркивалось божественное происхождение императорской династии, располагалась серия эссе националистического содержания. В них разбирались достоинства «особых и единственных в своем роде» обычаев, культуры, религии, морали и образа жизни. На страницах учебника песнями в прозе звучали описания достижений прошлого, приписываемых мудрости императорского дома. Одновременно в книге содержались призывы к молодому поколению японцев готовить себя к любым жертвам, необходимым для поддержания единства императора и нации. Наряду с изучением новых текстов, ученикам следовало обращать больше внимания на физическую подготовку и занятия боевыми искусствами, такими как дзюдо и кэндо, которые заменили собой бейсбол в программе физического воспитания. Даже свободное от школьных занятий время было заполнено новыми обязанностями. После того как Коноэ объявил о стремлении Японии к установлению Нового порядка в Восточной Азии, ученики должны были посвящать свое свободное время общественным работам, таким как поддержание чистоты в парках и уборка листьев, до которых не доходили руки у взрослых по мере перевода страны на военные рельсы. Более того, с 1939 г. подростки в возрасте от 12 до 19 лет, которых не оставили в школе после окончания шестилетней программы начального образования, должны были посещать специальные вечерние школы. Занятия в них предусматривали военную подготовку для мальчиков, ведение домашнего хозяйства для девочек и общие курсы по истории Японии и этике для всех. Правительство протянуло свою руководящую и направляющую руку также и новостной индустрии. Министерства иностранных дел и коммуникаций совместными усилиями создали новую телеграфную службу, Агентство новостей Домэй. Свою работу это агентство начало в первый день 1936 г. Ему было предоставлено право распространения всех международных и большей части японских новостей по газетам и радиостанциям. Устав Домэй также позволял двум министерствам утверждать в должности его руководителей и брать руководство на себя в случае, если того требовали «общественные интересы». По мере углубления кризиса 1930-х, правительство ввело дополнительные ограничения для газет. В июле 1937 г. власти приказали редакторам избегать публикации антивоенных материалов, а также изображать Японию воинственной и агрессивной. Спустя год правительство запретило печатать статьи, мнения авторов которых расходились с официальной точкой зрения, подразумевая при этом, что подобные публикации могут повредить единству нации в период военных приготовлений. Одновременно было запрещено преувеличивать проблемы, с которыми сталкивались семьи призывников, представлять кричащие направления моды или приукрашивать городской полусвет баров, кафе и дансингов. Правительство не обошло своим вниманием и содержимое национального эфира. И для этого у него были весьма веские причины, поскольку в 30-е гг. радио превратилось в основное средство распространения новостей и другой информации. В 1937 г., вскоре после инцидента у моста Марко Поло, Министерство коммуникаций, восприняв нацистский лозунг «Один дом, одно радио», распространило свое влияние на NHK. Оно даже установило бесплатные приемники ча рынках, в святилищах и других общественных местах в наиболее бедных деревнях. К 1941 г. количество радиоприемников выросло с 2,9 миллиона до 6,6 миллиона, выведя Японию на четвертое место по этому показателю после Соединенных Штатов, Германии и Великобритании. В результате лишь немногие японцы остались вне пределов досягаемости дикторов NНК. Чиновники прекрасно понимали, что контроль над радиопередачами дает им в руки мощный инструмент влияния на общественное мнение. Поскольку NHК действовала под юрисдикцией Министерства коммуникаций, то создание Агентства новостей Домэй давало бюрократам полную власть над содержанием новостных программ. Неудивительно, что все новостные репортажи, вышедшие в эфир 26 февраля 1936 г., представляли собой дословное цитирование заявлений официальных властей. А две трети из 1844 новостных передач июля 1937 г. были посвящены началу боевых действий в Китае, и информация, которая в них звучала, поступала в NHK либо из Домэй, либо непосредственно из правительства. К концу десятилетия даже развлекательные программы приобрели нравоучительный тон, когда NHK начала ежедневно транслировать «драмы положений» и, дважды в неделю, «культурные пьесы», посвященные военному кризису. В стране все сильней ощущалось напряжение, которое побудило многих людей, ранее стоявших в оппозиции к государству, пересмотреть свои цели и тактику. Одним из проявлений этой тенденции стало вступление в начале 30-х тысяч рабочих в так называемые японистские профсоюзы, руководство которых надеялось улучшить условия труда путем отказа от жесткой конфронтации и демонстрации своей преданности императору и нации. Камино Синъичи, который первоначально был мастером на верфях Исикавадзима, создал один из наиболее влиятельных японистских профсоюзов. Совместно с другими представителями консервативного правого крыла, он и его последователи считали политические партии рассадниками коррупции, называли либерализм и демократию обанкротившимися идеологиями загнивающего Запада и стремился построить новый индустриальный порядок, основанный на «единстве императора и подданного», при котором рабочие и капиталисты должны руководствоваться «едиными помыслами и душевными устремлениями, слившись в нераздельное целое»{297}. В результате, надеялись они, труд и управление оставят в стороне свои различия и будут сотрудничать ради повышения производительности и улучшения условий для фабричных рабочих. В противоположность прежним профсоюзам, количество членов которых в процентном отношении к общему числу рабочих постоянно уменьшалось, японистские профсоюзы завоевали поддержку со стороны металлургов и кораблестроителей промышленной зоны вокруг Токио и Иокогамы. Их также поддерживали сталевары Кюсю и транспортные рабочие региона Осака — Кобэ. Бюрократы из Министерства внутренних дел также страстно желали установления эры «индустриального мира», когда и рабочие, и управляющие сотрудничали бы ради достижения «общественных целей», а не распыляли бы свои силы в «частных схватках» между собой. Эти чиновники, имевшие очень низкий порог терпимости к беспорядкам социального характера, считали, что гармония будет достигнута лишь в том случае, если им удастся подавить воинственность профсоюзов. В то же время следует обеспечить рабочих безопасными условиями труда и достойной зарплатой, чтобы они были готовы подставить свое плечо государству, столкнувшемуся с проблемами. В июле 1938 г. правительство издало указ о создании полуофициальной Промышленной патриотической федерации. Эта федерация, на совет директоров которой значительное влияние оказывали чиновники Министерства внутренних дел, призвала профсоюзы к добровольному самороспуску. Их место должны были занять «дискуссионные советы», состоящие из представителей рабочих и управляющих. В задачи этих советов входило разрешение возникающих споров и кризисных ситуаций. К концу 1939 г. федерация объединяла порядка 19 000 советов, представлявших почти 3 миллиона рабочих. В июле 1940 г. последние профсоюзы были преобразованы в подобные промышленные патриотические ассоциации. Ичикава Фузаэ, равно как и многие другие феминистки, когда атмосфера 30-х утратила свой либерализм, также пересмотрела свои позиции. Закат политических партий лишил Женскую суфражистскую лигу Ичикава наиболее влиятельных покровителей в правительственных кругах, у которых больше не было необходимости искать голоса избирателей. Будучи убежденной в том, что кампании за расширение политических прав не будут пользоваться большим успехом, Ичикава изменила тактику и попыталась укрепить позицию женщин в японском обществе, добиваясь улучшения положения матерей и детей. Через два месяца после инцидента у моста Марко Поло, семь суфражистских и феминистских организаций откликнулись на призыв властей создать «Объединенный фронт» путем формирования Лиги японских женских организаций, целью которых было «преодоление ситуации, возникшей в результате национального кризиса, и подготовка к восстановительной работе, которая будет необходима по завершении инцидента»{298}. В феврале 1938 г. Ичикава и еще 10 женщин продемонстрировали свое новое отношение к ситуации в стране. Они присоединились к 19 выдающимся национальным деятелям, которые призвали японских женщин поклоняться Солнечной богине в святилище Исэ, почитать императорскую семью, оберегать семейный бюджет от необдуманных трат, быть хорошими соседями, одеваться просто и удерживаться от употребления алкоголя. Правительство также прибегло к методу кнута и пряника, чтобы побудить Суихэйса к совершению «организационного тэнко». В 1931 г. эта ассоциация отверженных публично выразила свое несогласие с развертыванием боевых действий в Маньчжурии, объявив о своей солидарности с китайскими рабочими и крестьянами. Двумя годами позже она подвергла критике дрейф Японии в сторону фашизма. Реакция Министерства внутренних дел не заставила себя долго ждать. В 1933 г. полиция арестовала более сотни наиболее активных членов организации, а затем власти сыграли на интересах Суихэйса, утроив в промежуток между 1935 и 1937 гг. размеры субсидий, направляемых на решение проблем семей японских отверженных. В ответ на это организация умерила свой оппозиционный пыл и откликнулась на призыв правительства к установлению национального единства. Организация буракумин согласилась «подчиниться духу кокутай и вносить свой вклад в дело процветания нации путем способствования примирению людей». На своем 15-м национальном съезде, состоявшемся в ноябре 1938 г., организация заявила о своей безусловной поддержке воины{299}. Но никакая другая категория общественных организаций не подвергалась такому жесткому прессингу, какому подверглись представители новых религий. Бюрократы Министерства внутренних дел объявили крестовый поход, чтобы «искоренить дьявольские культы», основным преступлением которых было оскорбление величия. Как можно было судить по таким книгам, как Кокутай но хонги, правительство в 30-е гг. проповедовало официальную ортодоксию, концентрирующуюся вокруг священной особы императора, который выступал одновременно в двух ипостасях — как глава государства и как отец всех жителей Японии. Многие новые религии хотя и не занимали открытых антиимператорских позиций, но тем не менее их доктрины ставили под угрозу центральную позицию особы императора. Противники, например, обвиняли секту Омото в почитании не Солнечной богини, а других божеств. Самым драматическим моментом правительственной кампании против «шарлатанских религий» явились события 8 декабря 1935 г., когда сотни полицейских взяли штурмом штаб-квартиру Омото. При этом было уничтожено здание главного святилища, взорван вспомогательный зал, священные статуи были обезглавлены. Арестованы были почти 1000 членов секты. Спустя 4 года парламент утвердил Закон о религиозных организациях, дававший правительству право распускать любую религиозную организацию, учение которой не соответствует «Императорскому Пути», после чего чиновники быстро подавили все еще сохранявшиеся «новые религии». Отвращение к социальному беспорядку и стремление «объединить желания людей» вокруг национальных целей побудили чиновников либо подавить, либо склонить к сотрудничеству те организации, которые выступали против политики правительства. Некоторые из этих организаций, в частности секта Омото, предпочли ликвидацию капитуляции, однако большинство просто умерили свои требования, избрали менее радикальные цели или же объявили о самороспуске. Хотя давление со стороны правительства было, вероятно, наиболее важной побудительной причиной для трансформации, но существовал также набор других причин, заставлявших людей и организации менять на противоположные свои политические и социальные взгляды. В некоторых случаях феминистские и рабочие группы видели в сотрудничестве новую возможность для осуществления определенных программ, которые имели для них важность. Национализм также был мощной мотивацией во время поисков путей модернизации Японии. Многие японцы в 30-е гг. считали совершенно естественным то, что интересы нации и императора ставятся выше их собственных интересов. В результате сложился новый образ жизни, в котором предпочтение отдавалось конформизму и послушанию, в то время как политический плюрализм и социальное многообразие эпохи Тайсо полностью отвергались. В конечном итоге переносом акцента на преданность и безоглядную службу государству был порожден практически слепой национализм, который все глубже заталкивал Японию в китайскую трясину и, наконец, швырнул страну в трагическую войну против Соединенных Штатов и их союзников.Япония идет на юг и сталкивается с Америкой
Когда в июле 1940 г. Коноэ Фумимаро во второй раз стал премьер-министром, он вновь столкнулся все с тем же вызовом, который столь досаждал его первому кабинету. Это было «невиданное, великое испытание» Китайским инцидентом. Его поиски выхода из этой нескончаемой агонии приведут к тому, что японские войска будут посланы не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии. В своем радиообращении 23 июля 1940 г., в том самом, в котором он призвал к формированию Нового политического порядка, Коноэ подчеркнул, что если Япония хочет «идти во главе перемен» в коренным образом меняющемся мире, она должна укрепить свои узы сотрудничества с Маньчжоу-Го и Китаем и даже рассмотреть возможность «экспансии в южные районы Тихого океана». Во время пресс-конференции, проведенной 1 августа, новый министр иностранных дел, Мацуока Ёсукэ, предложил новый термин, который будет обозначать новое явление. У Японии, сказал он, есть благородная ответственность за создание «Великой Восточноазиатской сферы совместного процветания». Ядром этой зоны должны были стать Япония, Китай и Маньчжоу-Го, кроме которых в ее состав должны войти большая часть Французского Индокитая и Голландской Ост-Индии[42]. Коноэ и Мацуока добавили привлекательности протяженной в географическом отношении сфере совместного процветания, завернув ее в яркую имперскую бумажку. Любое продвижение к югу, утверждали они, должно производиться «мирно» и в соответствии, как аккуратно выразился Коноэ в своем радиообращении, «с высоким духом хакко ичиу». Это был еще один риторический оборот, мастерски сработанный ветераном словоблудия. Каждый японский школьник, читавший Кокутай но хонги, знал наизусть, что хакко ичиу означает «восемь веревок, одна крыша». Впервые это выражение появилось в хронике VIII столетия Нихон секи. С его помощью описывалось, как первый легендарный император Дзимму распространял свою власть на древние японские кланы, населявшие архипелаг. Впоследствии все эти кланы вступили в полосу процветания и беспечного существования, и все это — благодаря добродетельности императора. В 1940 г. этот термин был реанимирован. Применительно к Азии он подразумевал псевдосемейное объединение наций, ведомых Японией и ее отцом-императором. «Императорский путь», заливался соловьем Мацуока, позволит «каждой нации и каждой расе» найти «свое собственное место в мире». Тяга на юг была связана не только и не столько с возвышенным идеалом растягивания восьми веревок мира под сенью единой крыши. Согласно Коноэ, националистическое правительство в Чонцине так цепляется за жизнь только потому, что Соединенные Штаты и Великобритания используют колониальные владения западных держав в Юго-Восточной Азии и поставляют Чан Кайши материалы, необходимые для ведения войны. Премьер-министр, безусловно, все знал лучше всех. В конце 30-х лишь незначительное количество военного снаряжения было переброшено в Чонцин по Бирманской дороге, а также через немногие порты Южного Китая, все еще остававшиеся открытыми. Разумеется, в 1939 г. более существенная помощь поступила с северо-запада, из Советского Союза. Но и ее объемы с трудом достигали 25 000 тонн в месяц, что равняется весу груза, перевозимого всего двумя кораблями. Тем не менее японская военщина, не преуспевшая в своих попытках «покарать» Чан Кайши, не могла противостоять соблазну превратить Запад в козла отпущения. Осенью 1938 г., еще до того как Коноэ выступил со своей идеей создания сферы совместного процветания, заместитель военного министра Тодзо Хидэки произнес зажигательную речь перед благодарной аудиторией армейских резервистов. Его выступление получило широкий отклик в японской прессе. Тодзо заявил, что японская армия могла бы быстро и с честью для себя завершить Китайский инцидент, если бы не грубое вмешательство Лондона и Вашингтона. Если перерезать линии снабжения, идущие из Юго-Восточной Азии в Чонцин, объяснял он, режим Чан Кайши лопнет как мыльный пузырь. Однако независимо оттого, способен или не способен Гоминьдан противостоять японской агрессии без помощи со стороны западных наций, суть всех этих заявлений была в другом. В этой новой идее, что Англия и Америка представляют собой наибольшую угрозу Японии, была скрыта неоспоримая экономическая истина, а именно то, что Япония могла бы использовать ресурсы колоний западных стран, расположенных в Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, в своих собственных интересах. К разочарованию многих японских экономистов, в конце 30-х Япония по-прежнему зависела от Соединенных Штатов. Треть всего японского импорта — от хлопка до стали и нефти — поступала именно из этой страны, и эта ситуация грозила дальнейшим ухудшением. С 1929 по 1932 г. Япония получала из Соединенных Штатов 36 %, или 163 500 метрических тонн, всей своей стали в болванках, которая затем шла на изготовление военного снаряжения и кораблей. К 1938 г. американцы поставляли 74 % металлического лома, перерабатываемого в Японии (1 006 700 метрических тонн). Подобным образом, в 1938 г. 60 % импортируемого механического оборудования, а также практически все редкие металлы, такие как молибден и ванадий, Япония получила из Соединенных Штатов. Традиционно, Япония сама себя обеспечивала медью. В 1939 г. в Японии было добыто 90 000 тонн этого металла, однако промышленности было необходимо значительно большее его количество для производства взрывателей и гильз, что в том же году страна была вынуждена импортировать дополнительно 105 000 тонн меди, и 93 % от этого количества поступили опять-таки из Соединенных Штатов. Ситуация с нефтью, с точки зрения военных стратегов, была самой критической. Из Америки Япония получала почти 80 % своего топлива, а что касается специальных дистиллятов, то тут зависимость достигала 90 %. С точки зрения экономистов и военных стратегов, к лету 1940 г. западные колонии в Юго-Восточной Азии превратились в сырьевую сокровищницу, доступ к которой позволил бы Японии, по выражению Коноэ, попасть в разряд экономически обеспеченных стран и, таким образом, освободиться от зависимости от все более враждебно настроенного Запада. Позиция Японии относительно ужесточения конкуренции с Соединенными Штатами в Тихоокеанском регионе недолго оставалась незамеченной. Мироощущение простых американцев придало их реакции очевидный моральный оттенок. Если многие японцы вообразили себя освободителями Китая и Юго-Восточной Азии от белого империализма, то подавляющее большинство американцев воспринимало их как опасных угнетателей, ставших жертвами самообмана. Более, чем что-либо другое, раздражение и злобу у американцев вызывали душераздирающие картины зверств, совершенных японцами в Нанкине и других местах. Судя по опросам общественного мнения, проведенным в конце 1930-х, три четверти американцев испытывали симпатии к Китаю, и значительно большее количество респондентов желали, чтобы Соединенные Штаты более четко выразили свою позицию по поводу китайско-японского конфликта, причем эта тема волновала их больше, чем любые события, связанные с Европой. Ни президент Франклин Д. Рузвельт, ни американское правительство не испытывали сочувствия к японским претензиям в Азии. ФДР рассматривал японское вторжение в Китай и стремление заполучить ресурсы Юго-Восточной Азии как недвусмысленную угрозу базовым принципам его внешней политики. Он свято верил в то, что каждая нация должна иметь право на политическое самоопределение и на свободную и равную торговлю со всем остальным миром. С практической точки зрения советники президента говорили, что Соединенные Штаты должны сохранять для себя доступ к ресурсам Юго-Восточной Азии. «Голландская Ост-Индия, — публично заявлял госсекретарь Корделл Халл, — производит значительную часть мировых объемов важнейших товаров, таких как резина, олово, хинин и копра. Многие страны, в том числе и Соединенные Штаты, в значительной степени зависят от этих товаров»{300}. Американский генеральный консул в Батавии, столице Голландской Ост-Индии, был сильнее встревожен сложившейся ситуацией. Американские «предприятия в значительной степени зависят от сырья, поставляемого из Малайзии», писал он в одном из своих меморандумов, и потеря этих источников «повергнет все наши промышленные и экономические организации в хаос». Когда две великие тихоокеанские державы погружались в пучину взаимных претензий и недоверия, кабинет Коноэ и высшее военное командование приняли судьбоносное решение о продвижении к югу. 1 августа 1940 г. министр иностранных дел Мацуока предъявил французскому послу требование, чтобы администрация Французского Индокитая предоставила японским войскам свободный проход через ее территорию для проведения операций против Китая, а также позволила бы им использовать свои аэродромы для нанесения ударов по линиям снабжения. «Если французские власти не примут наших требований, — заявил Мацуока послу, страна которого только что капитулировала перед Германией, — мы будем вынуждены нарушить ваш нейтралитет»{301}. 30 августа французы согласились с требованиями Токио лишь с одним условием, что Япония ограничит свои операции территорией тех провинций, которые расположены вдоль китайской границы. К концу сентября японцы завершили оккупацию северного Французского Индокитая. Приободренный министр Мацуока приступил к осуществлению того, что он сам называл «дипломатией блицкрига». 27 сентября 1940 г. он встретился в Берлине с представителями Германии и Италии и подписал с ними Тройственный пакт. Согласно этому документу, все три страны обязывались оказывать военную и экономическую помощь любой из них, если она станет жертвой агрессии со стороны любой другой державы. Мацуока надеялся, что это соглашение сделает сдержанной реакцию американцев на вторжение Японии во Французский Индокитай Он еще больше усилил свои позиции, подписав 21 декабря со юзный договор с Таиландом, согласно которому обе страны бра ли на себя обязательства развивать «тесные и неразрывные от ношения» и помогать друг другу в случае нападения со стороны третьей державы. Следующий вояж Мацуока предпринял в Москву, где 13 апреля 1941 г. заключил советско-японский пакт о нейтралитете. Обезопасив свои северные тылы, японские власти в июле 1941 г. принудили Францию дать разрешение на оккупацию южной части Французского Индокитая. Американское правительство не оставляло без ответа ни один из шагов Японии. Когда в 1937 г. ситуация в Китае ухудшилась, госсекретарь Халл превратился в главного сторонника объявления Японии экономической «холодной войны». С его точки зрения, зависимость Японии от американского рынка стратегических материалов делает маленькую нацию особенно чувствительной к экономическим санкциям. Систематическое применение определенного давления, считал он, в конце концов приведет японцев в чувство. Госсекретарь понимал, что он должен быть аккуратным в определении масштабов санкций. Он вовсе не желал подталкивать Японию к войне с Соединенными Штатами, но он хотел довести до сознания руководства страны всю абсурдность затеянной ими игры, в которой Соединенные Штаты в экономическом отношении в любом случае окажутся сверху. В определенный момент, верил Халл, умеренные политики вернутся к власти в Токио, Япония успокоится, и мир станет возможным. Санкции начали действовать 5 октября 1937 г., когда президент Рузвельт с маской страдания на лице (который, кстати, уже назвал к этому времени Германию и Италию «бандитскими нациями») произнес свою знаменитую карантинную речь в Чикаго. Выступая против «эпидемии» «террора и международного беззакония», президент, не произнося названия Японии, смутно намекнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в объединении других наций для противостояния странам, повинным в «создании ситуации международной анархии и нестабильности». В июле следующего года, после того как почти 1 000 кантонцев погибли во время трехдневных воздушных напетое, президент Рузвельт попросил американских производителей и экспортеров ввести «моральное эмбарго» на поставку самолетов тем странам, которые бомбят мирное население. Когда в феврале 1939 г. Япония оккупировала остров Хайнань, а затем аннексировала острова Спартли, расположенные посередине между Французским Индокитаем и британским Северным Борнео, Рузвельт наложил формальный запрет на продажу Японии самолетов и деталей самолетов, а также перевел часть американского флота с атлантических баз на тихоокеанское побережье. 26 июля 1939 г. Вашингтон аннулировал Договор о торговле и мореплавании, заключенный в 1911 г., который регулировал торговлю с Японией. Таким образом, Рузвельт получил возможность расширить сферу действия эмбарго, включив в нее алюминий, молибден, никель и вольфрам. Следующим летом, когда Япония готовилась войти в северный Французский Индокитай, президент и госсекретарь запретили продажу авиационного керосина и смазочного масла, а когда Мацуока в сентябре 1940 г. подписал Тройственный пакт, Вашингтон к длинному списку запрещенных товаров добавил и сталь в болванках. Действенность американской политики возрастающего экономического давления была проверена в 1941 г. В апреле, всего через несколько дней после того как Япония подписала с Советским Союзом Пакт о ненападении, Халл передал японскому послу в Вашингтоне список условий, необходимых для нормализации экономических отношений между двумя странами. Эти условия, известные как «четыре принципа Халла», включали в себя требования уважения к территориальной целостности других стран, невмешательства во внутренние дела других государств, признания равных торговых возможностей для всех и изменения статус-кво только при помощи мирных методов. После того как в июле 1941 г. Япония направила свои войска в южную часть Французского Индокитая, продемонстрировав, таким образом, нежелание принимать условия Халла, ФДР подписал распоряжение о замораживании всех японских активов в Соединенных Штатах. Опираясь на этот документ, американские власти ввели полное эмбарго на продажу Японии нефти. К началу августа такие же меры были приняты Великобританией, Голландией, Новой Зеландией и Филиппинами. Для того чтобы никто не мог превратно истолковать решимость Америки защищать свои интересы в Азии, Рузвельт 26 июля 1941 г. назначил Дугласа МакАртура командующим американо-филиппинскими силами и направил в американскую тихоокеанскую колонию несколько эскадрилий современных истребителей и дальних бомбардировщиков. Спустя две недели Рузвельт и Черчилль встретились на американском линкоре близ побережья Ньюфаундленда. Во время этой встречи они скрепили свой стратегический союз, подписав 14 августа Атлантическую хартию. Этот документ, состоявший из восьми положений, реанимировал вильсоновский интернационализм. В нем утверждалась вера в выгоду открытой и свободной торговли и содержался призыв к умиротворению тех «наций, которые угрожают, или могут угрожать, агрессией за пределами их границ». Более того, подчеркивалось в документе, Соединенные Штаты и Великобритания рассматривают как святую святых «право всех народов на выбор той формы правления, при которой они хотят жить; и они желают видеть восстановление суверенных прав и самоуправления в тех местах, которые силой были лишены этого»{302}.Осенью 41-го
Двойной удар — введение эмбарго на поставку нефти и подписание Атлантической хартии — не на шутку разозлил японский кабинет и высшее военное командование. Одновременно японская верхушка поняла всю фатальную неизбежность войны с Соединенными Штатами. В августе 1941-го Коноэ провел серию согласительных конференций с ключевыми фигурами японской политики, в которых, кроме премьера, принимали участие министры финансов и иностранных дел, военный министр и министр военно-морского флота, а также начальники генштаба. Во время этих встреч обсуждались стратегические и дипломатические вопросы. Все выступали против Англии и Америки. Атлантическая хартия, говорилось в одном выступлении, равносильна объявлению войны, поскольку она навязывает нациям англо-американский взгляд на мировой порядок, а несогласных ожидает возмездие. Две хищные державы, возмущался другой оратор, желают вытеснить Японию из Китая. Но если Япония уступит, последствия приобретут характер снежной лавины: Северный Китай попадет в лапы коммунистов, Маньчжоу-Го и Корея окажутся под угрозой, а Япония будет изолирована и низведена до статуса третьеразрядной страны. Все людские и материальные жертвы, понесенные японцами с 1931 г., окажутся напрасными. Во время дебатов было обращено внимание на экономические трудности, с которыми столкнулась Япония. Армейский генеральный штаб сокрушался по поводу того, что страна находится в окружении держав АБГК (Америка, Британия, Голландия, Китай). Япония, заявляли штабисты, может быть задушена до смерти. Война необходима, чтобы добраться до ресурсов Юго-Восточной Азии, без которых Япония не сможет защитить себя. Флот подхватывал эту тему. Сухопутные операции в Китае, говорили адмиралы с сарказмом, так выдоили стратегические запасы нефти, что ее оставшегося количества хватит флоту менее чем на 20 месяцев морских операций. Если начнутся боевые действия, Япония не сможет рассчитывать на проведение наступательных операций после января 1942 г. Для начальника штаба морского флота Нагано Осами выбор был очевиден: либо Япония сидит и ничего не предпринимает, что означает мучительную агонию, а затем неизбежную капитуляцию перед англо-американскими требованиями, либо она незамедлительно начинает боевые действия, и тогда вероятность победы будет составлять 70–80 %. Премьер-министр Коноэ согласился с тем, что Япония отчаянно нуждается в ресурсах Юго-Восточной Азии. Однако принц, всегда рассматривавший все стороны любого вопроса, опасался за последствия вступления Японии в войну, в которой она, возможно, не победит. К началу осени японское руководство достигло консенсуса, и в начале сентября Коноэ и другие участники согласительных конференций отправились в восточное крыло императорского дворца на императорскую конференцию. Во время Русско-японской войны правительство использовало встречи с императором, во время которых в присутствии монарха собиралось вместе высшее гражданское и военное руководство, в качестве возможности для премьер-министра пояснить свои политические решения и получить монаршее одобрение. В 1938 г., когда Япония увязла в Китае, Коноэ возродил эту практику, чтобы его политика воссияла неопровержимым светом законности, который могла ей придать лишь императорская санкция. Императорская конференция 6 сентября 1941 г. проходила в формальной и мрачной обстановке. Несмотря на неопределенность ситуации, сказал Коноэ, его правительство хочет предпринять последнюю попытку прийти к соглашению с Соединенными Штатами. Он сообщил, что собирается повторить свое предложение президенту Рузвельту о личной встрече, которое он уже посылал ему несколькими неделями раньше. С американским президентом он мог бы встретиться в любом месте Тихоокеанского бассейна и предложить ему «разумные» мирные условия. Япония, со своей стороны, будет говорить о своей готовности вывести войска из Французского Индокитая и о согласии не распространять военные операции за территорию Китая. Взамен Коноэ будет настаивать на том, чтобы Соединенные Штаты и Великобритания «не вмешивались и не препятствовали разрешению Китайского инцидента нашей Империей», «удерживались от действий, которые ставят под угрозу оборону нашей Империи на Дальнем Востоке» и «восстановили коммерческие отношения с нашей Империей и поставляли те товары со своих территорий в юго-восточной части Тихого океана, в которых наша Империя остро нуждается для поддержания себя»{303}. Если Рузвельт останется непреклонным и переговоры не принесут результатов, бесстрастно продолжал премьер-министр, Япония начнет войну: «В случае, если у наших требований не появится перспектив в виде дипломатических переговоров, упомянутых выше, на протяжении первых десяти дней октября, мы немедленно начнем боевые действия против Соединенных Штатов, Британии и Нидерландов». Выслушав все мненияотносительно сделанных предложений, император высказал свое желание. Оно заключалось в том, чтобы руководители страны больше времени отвели на работу дипломатии, а не пушек, для чего он им советовал перечитать стихотворение, написанное его дедом, императором Мэйдзи:Путем переговоров с Соединенными Штатами наша Империя надеялась сохранить мир, идя на одну уступку за одной. Но, к нашему удивлению, американская позиция от начала до конца состояла в том, чтобы говорить то, что хотел от нее услышать Чан Кайши. Соединенные Штаты были до крайности самонадеянны, упрямы и непочтительны. Разумеется, это вызывает сожаление. Мы просто не можем допускать подобного отношения.
Если бы мы уступили, мы бы одним махом отказались не только от наших завоеваний, достигнутых во время Китайско-японской и Русско-японской войн, но также и от тех выгод, которые мы получили после Маньчжурского инцидента. Мы этого допустить не можем. Мы не хотим подвергать наш народ страданиям, бблыпим, чем ему довелось пережить за последние 4 года, с начала Китайского инцидента. Но сейчас всем ясно, что существование нашей страны поставлено под угрозу, что великие достижения Императора Мэйдзи могут быть сведены к нулю и что мы ничего больше не можем сделать. Поэтому, я считаю, что если переговоры с Соединенными Штатами не имеют перспектив, то начало войны неизбежно{307}.
Во время произнесения этой речи японский флот уже был в море. Он направлялся к Гавайям, имея приказ нанести удар по Перл-Харбору 7 декабря по местному времени, 8 декабря — по токийскому, поскольку Япония располагается за линией смены дат.
ГЛАВА 14 Великая Восточноазиатская война
В понедельник, 8 декабря, помощник еще до рассвета разбудил премьер-министра Тодзо. Штаб императорского флота только что получил кодированный сигнал: «Тора! Тора! Тора!» Это означало, что осуществляется атака на Перл-Харбор, и что все идет к ее успешному завершению. В течение утра поступали и другие сообщения, благодаря которым постепенно начали вырисовываться масштабы триумфа Японии. Последняя депеша сообщала, что японские пилоты пустили на дно или сильно повредили восемь вражеских линкоров и дюжину других кораблей, уничтожили почти две сотни американских самолетов и убили около четырех тысяч американских военнослужащих. И все это было достигнуто ценой потери всего двадцати девяти самолетов и шестидесяти четырех человек, погибших во время акции. В Токио Тодзо «ликовал» и «благодарил богов» за этот «чудесный успех», за «благоприятное начало». В десять минут восьмого император получил детальный отчет о происшедшем и разделил радость Тодзо. «В течение всего дня, — писал помощник в своем дневнике, — император носил свою морскую униформу и, как казалось, был в великолепном расположении духа»{308}. Японское общество узнало об этом великом событии в 7.00, когда NHK передала загадочное сообщение о том, что Императорская армия «вступила в состояние войны с британскими и американскими силами в западной части Тихого океана». Все утро эфир был заполнен бодрыми патриотическими песнями. На всех углах звенели колокольчики разносчиков газет, привлекавших внимание публики к специальным выпускам. В полдень дикторы NHK зачитали томившимся в ожидании гражданам Имперский Рескрипт, официально объявлявший войну Соединенным Штатам и Великобритании, после чего прозвучало короткое выступление Тодзо. Целью Японии, как подчеркивали и император, и премьер-министр, является установление мира и стабильности в Восточной Азии. Упаковав свою риторику в оболочку высокой морали, они подвергли критике Китай за то, что он не понял истинных намерений Японии, и осудили попытки американцев и британцев установить империалистическое господство над всей Азией. Император в своем послании отмечал, что «логика развития событий», если ее не изменить, в конце концов «поставит под угрозу само существование нашей нации». У Японии, заключал он, «нет иного выбора» как взять в руки оружие и «сокрушить все препятствия на своем пути». Вначале японская военная машина казалась непобедимой. В первое утро новой войны, спустя всего несколько часов после Перл-Харбора, японские летчики на Филиппинах уничтожили большую часть самолетов генерала МакАртура, которые даже не успели подняться со своих аэродромов. Двумя днями позже японские бомбардировщики, взлетевшие с Малайского полуострова, потопили новый британский линкор Принц Уэльский и тяжелый крейсер Рипалс. С точностью часового механизма, японские войска 25 декабря оккупировали Гонконг, 2 января 1942 г. вошли в Манилу и спустя всего несколько недель принудили к капитуляции все американские и филиппинские силы («Я еще вернусь», — поклялся МакАртур, вылетая в сторону Австралии). Подразделения Императорской армии, продвигаясь по Малайскому полуострову, захватили Сингапур — бриллиант в британской короне, «неприступную крепость». Это произошло вечером 15 февраля, в тот самый день, когда японские парашютисты взяли под свой контроль нефтяные поля Суматры. Экспедиционные силы, практически не делая остановок, 5 марта оккупировали Батавию, через три дня после этого вошли в Рангун, а к концу весны оккупировали Соломоновы острова и острова Гилберта и даже атолл Уэйк, расположенный в центральной части Тихого океана. Японский флаг развивался над одной четвертой частью земного шара, и император, прогуливаясь по своему парку, заметил, что плоды победы приходят так быстро, что даже не успеваешь ощутить их вкуса. Но так не могло продолжаться вечно. Пока японские корабли рыскали по Тихому океану, Америка собиралась с силами. К концу 1942 г. Императорские флот и армия начали ощущать эффект от американских контратак. Всего через три года Япония потерпит страшное поражение, планы создания Великой Восточноазиатской сферы совместного процветания будут разбиты вдребезги. За несколько месяцев до Перл-Харбора японские лидеры беспокоились по поводу судьбы их страны, если она не сможет выстоять в борьбе с «самодовольным, упрямым и непочтительным» врагом. Победа американцев в 1945 г. оставила Японию в прострации, и отголоски этого поражения оказались более важными для простых японцев, чем это могли себе вообразить участники согласительных конференций в конце 41-го.
Война, политика и мобилизация экономики
Пока нация окончательно погружалась в войну с западными сверхдержавами, премьер-министр Тодзо занимался укреплением своих премьерских прерогатив и координировал программу национальной мобилизации. Когда в 1941 г. Тодзо стал премьер-министром, он не оставил пост военного министра. Кроме того, он назначил себя и министром внутренних дел (эту должность он занимал до 17 февраля 1942 г.). На короткое время в его руках оказывались и другие министерские портфели, а в 1943 г. он возглавил только что созданное Министерство военных имуществ, что давало ему надежный доступ к рычагам экономического планирования. К середине войны Тодзо сосредоточил в своих руках беспрецедентную комбинацию должностей, став самым могущественным премьером за всю историю Японии. Но, независимо оттого количества власти, которым он обладал, Тодзо так и не смог установить полный контроль над поведением других японских элит. Вероятно, более, чем любой другой фактор, его усилия по установлению контроля над военными подрывала доктрина независимости верховного командования. Основополагающим принципом японского правления, начиная с раннего периода Мэйдзи, являлась относительная автономия военных. Четыре руководителя военной сферы, военный министр, министр флота и начальники соответствующих генеральных штабов, обладали правом доклада непосредственно императору. В результате премьер-министр никогда не выступал в роли реального главнокомандующего, даже после Перл-Харбора. Поскольку Тодзо не обладал достаточной властью, чтобы влиять на оперативные решения, флот зачастую действовал в Тихом океане по своему собственному разумению, отказываясь координировать свои действия с армией. Разумеется, когда Императорский флот потерпел первое поражение в июне 1942 г. у атолла Мидуэй, потеряв несколько авианосцев, начальник генштаба флота сообщил о разгроме премьеру лишь спустя месяц после морского сражения. Армейские корни Тодзо давали ему больше власти над сухопутными войсками, но и здесь его авторитет был довольно шатким. Его товарищи по униформе, особенно те, кто обладал высоким чином, считали, что он должен советоваться с ними. Некоторые из них имели свои взгляды на то, каким образом следует достигать военные цели, и эти взгляды могли коренным образом расходиться с мнением премьер-министра. В 1942 г. генеральный штаб затребовал 620 000 тонн снаряжения для войск, находившихся на Гуадалканале, а Тодзо хотел направить все это имущество на другой театр военных действий. Когда премьер отказался осуществить поставки, один из руководителей генштаба ворвался в его кабинет, назвал его «тупым придурком» и потребовал, чтобы он изменил свое решение. Позже в том же году Исивара Кандзи, считавший Тодзо простаком, повергшим Японию в ужасную войну, которую та неизбежно проиграет, поскольку не может тягаться с Америкой в плане материальных ресурсов, вошел в кабинет премьера и предложил ему либо уйти в отставку, либо застрелиться. Тодзо обладал властью в среде военного истеблишмента, но не доминировал в нем. Гражданская бюрократия в военные годы также продолжала пользоваться определенными прерогативами. Некоторые агентства, ответственные за массовую мобилизацию, даже расширили свои властные полномочия. Как и в довоенное время, правительство представляло собой конгломерат из министерств и агентств, каждое из которых ревностно оберегало свои привилегии и соперничало с другими за субсидии, ресурсы и власть. Более того, руководящие бюрократы были ярко выраженными индивидуалистами, и Тодзо ничего не мог с ними поделать. В феврале 1944 г. Тодзо вызвал к себе нескольких ведущих судей, бывших назначенцами Министерства юстиции, и приказал им вынести самые суровые приговоры тем, кого признали виновными в мятежной деятельности. Судьи просто отвернулись от предписаний Тодзо. Один из них прямо заявил, что приказ премьер-министра нарушает положение конституции о независимости юстиции, а другой призвал его отказаться от должности. Даже парламентские политики выдержали атаки Тодзо и остались существенной деталью политического пейзажа военного времени. В отличие от немецкого рейхстага, японский парламент регулярно проводил заседания на протяжении всей войны, собираясь каждый год 26 декабря на свою трехмесячную сессию. Этот институт сохранил за собой прерогативы рассмотрения законопроектов и утверждения бюджетов и посылал Тодзо и его министрам запросы относительно военной и гражданской политики. К счастью для премьер-министра, члены парламента, избранные в 1942 г., были патриотами. Под сводами здания парламента раздавались страстные речи, в которых депутаты клеймили злонравных англо-американских врагов. Большинство законодателей присоединились к Политической Ассоциации способствования императорскому правлению (ПАСИП), которая являлась ответвлением АСИП. Подобным образом они продемонстрировали свою преданность государству. Под руководством ПАСИП парламент военного времени утвердил все важнейшие законы, которые вносил кабинет, а также ставил свою подпись под каждым годовым бюджетом, предлагаемым премьер-министром. Внешне Тодзо смог выстроить гармоничные отношения с парламентом, который зачастую просто механически одобрял его инициативы. Военные годы определенно были временем упадка влияния парламента на политическую жизнь Японии. Но за фасадом единства и послушания всегда можно было найти примеры несогласия с позицией Тодзо. Некоторые либералы с довоенным стажем отказались вступить в ПАСИП, а многие члены парламента подвергали резкой критике определенные аспекты политики (власти убрали почти сотню пунктов из официальных записей Восемьдесят четвертой сессии, продолжавшейся с декабря 1943 по март 1944). Тодзо, подвергавшийся нападкам мелочной парламентской оппозиции и окруженный врагами из числа гражданских и военных бюрократов, сильно ему досаждавших, так и не стал диктатором нацистского типа. Он пользовался властью премьер-министра настолько полно, насколько мог, но в итоге его авторитет был ниже, чем авторитет Рузвельта и Черчилля в своих правящих кругах. Несмотря на все те различия, которые существовали между Тодзо и другими правящими элитами, все они стремились полностью перевести экономику Японии на военные рельсы путем усиления своей власти над частным сектором. Все настойчивей правительство обращалось к созданию картелеподобных контрольных ассоциаций, предусмотренных Планом новой экономической системы, принятым кабинетом Коноэ в декабре 1940 г. Первой подобной организацией явилась Контрольная ассоциация железа и стали, созданная в апреле 1941 г. Став в октябре премьер-министром, Тодзо быстро начал создавать контрольные ассоциации в определенных областях бизнеса, в том числе в сферах добычи угля, производства цемента, машиностроения, точного приборостроения, автомобилестроения, внешней торговли и кораблестроения. В соответствии с новыми правилами, за каждой ассоциацией присматривало определенное министерство. Право владения и прибыль оставались в частных руках, но каждая контрольная ассоциация становилась ответственной за выполнение заданий, поставленных перед ней соответствующим министерством. С этой целью каждая ассоциация выбирала своего директора, который обычно был председателем одной из компаний, входивших в нее. Директор Мицуи, например, руководил Угольной контрольной ассоциацией, а главный исполнительный директор Мицубиси возглавлял Контрольную ассоциацию промышленности армейской авиации. Также создавался совет, который занимался планировкой и исследованиями, направленными на координацию деятельности компаний, входивших в ассоциацию. Штаб Контрольной ассоциации железа и стали насчитывал три сотни сотрудников, работавших на постоянной основе. Они собирали информацию у отдельных компаний, распределяли между ними сырье, руководили внутренним соревнованием, устанавливая нормы производства продукции и отвечали за то, чтобы все компании действовали в соответствии с национальными целями и задачами. В некоторых случаях ассоциации соответствовали своему предназначению. Контрольная ассоциация железа и стали в 1941 и 1942 гг. на 90 % выполняла поставленные перед ней задачи. И это несмотря на нехватку сырья, возникшую в результате введения Соединенными Штатами эмбарго на продажу металлического лома и непредсказуемого роста судостроения, связанного с распространением боевых действий по Тихоокеанскому бассейну. Тем не менее Тодзо никогда не был удовлетворен их деятельностью. С его точки зрения, некоторые контрольные ассоциации, особенно те, во главе которых стояли директора могущественных дзайбацу, действовали слишком независимо. Он также выражал недовольство по поводу того, что жесткое соперничество за обладание сырьем, развернувшееся между министерствами и ассоциациями, плохо отражается на военных усилиях. Один правительственный чиновник утверждал, что из-за этой конкуренции производство самолетов в годы войны сократилось наполовину. Разочарованный Тодзо создал в ноябре 1943 г. Министерство военных имуществ. Целью этой акции было установить более централизованный контроль над предприятиями, выпускавшими продукцию военного назначения. Но и этот шаг не принес пользы, даже несмотря на то, что новый орган соединил в себе функции Кабинетного совета по планированию и Министерства коммерции и промышленности, а Тодзо стал его первым главой. Киси Нобусукэ — бюрократ-обновленец, одна из ключевых фигур в Маньчжоу-Го и старший советник Тодзо по экономическим вопросам — также выражал недовольство по поводу бюрократической инерции. «Обычно два или три месяца требуется Министерству военных имуществ для выработки важного решения, — говорил он. — Затем решение должно быть обсуждено на заседании кабинета, который, в свою очередь, издает распоряжение, которое будет исполняться на различных правительственных и производственных уровнях. Таким образом, может пройти полгода до того, как это решение вступит в силу. Даже самое мудрое решение подчас ничего не стоит из-за того, что пока оно будет выполнено, ситуация коренным образом изменится»{309}. Тодзо и его кабинет столкнулись с дополнительными трудностями, вызванными необходимостью организовывать труд и эффективно направлять его на производства, связанные с войной. Правительство поставило заработную плату под свой контроль еще в 1939 г. Когда после Перл-Харбора началось стремительное распространение боевых действий, власти увеличили сумму компенсации и содержания в определенных секторах промышленности, чтобы привлечь рабочих в стратегически важные области производства. Но огромные потребности войны — к концу 1941 г. на службу были призваны 2,4 миллиона человек, а к августу 1945 количество солдат в японской армии составило 7,2 миллиона — вскоре сделали необходимыми поиски новых методов, основанных на принуждении, и власти обратились к практике призыва на работу на фабриках. Закон о национальной мобилизации, принятый в 1938 г., и Постановление о наборе на государственную службу от 8 июля 1939 г. предоставляли правительству право регистрировать всех мужчин в возрасте от шестнадцати до сорока лет и незамужних женщин в возрасте от шестнадцати до двадцати пяти. По мере роста числа призванных в армию, правительство начало призывать мужчин для выполнения трудовых повинностей. К концу войны почти 1,6 миллиона молодых людей получили ордера, означавшие приказ явиться на фабрику для выполнения трудовой повинности. Эти предписания белого цвета не менее сильно воздействовали на психику, чем красные повестки, призывающие на военную службу.
Первоначально японское правительство воздерживалось от призыва на работу женщин, предпочитая, чтобы они оставались дома, где они могли заниматься воспитанием будущих граждан, способствуя тем самым созданию Великой Восточноазиатской сферы взаимного процветания. В своей речи, произнесенной перед парламентом в 1942 г., Тодзо назвал японских женщин «теплым источником», который поддерживает всех остальных членов семьи. А затем Тодзо Кацуко помогла осуществлению новой кампании по увеличению рождаемости, объявленной ее мужем, бодро заявив из своего дома, расположенного в фешенебельном районе Токио, что «иметь детей — это удовольствие»{310}. Все сильнее ощущавшаяся нехватка рабочих рук заставила правительство пересмотреть свое отношение к призыву женщин на работы. Осенью 1943 г. кабинет решил, что женщины могут заменить мужчин на добровольной основе в семнадцати отраслях промышленного сектора. В январе следующего года Тодзо объявил, что женщины могут работать и в других важных отраслях. Месяцем позже правительство распространило правила национальной трудовой регистрации на женщин в возрасте от двенадцати до тридцати одного года (и на мужчин — от двенадцати до пятидесяти девяти лет). Государство в конечном итоге так никогда и не объявило призыв женщин на работы, но патриотизм, чувство гражданского долга и, зачастую, давление со стороны семьи и соседей привели на фабрику многих молодых женщин. Ко времени захвата японской армией Сингапура в феврале 1942 г. 42 % от всей рабочей силы Японии составляли женщины (в то время как в 1930 г. этот показатель равнялся всего лишь 36 %). К октябрю 1944 г. на стратегических производствах работало больше женщин, чем когда бы то ни было. Женщины составляли 60 % работников электрических коммуникаций и фармацевтической промышленности, 40 % — на артиллерийских заводах и 30 % — на производстве самолетов. Сокращение рабочей силы было во время войны явлением постоянным, и правительство продолжило свои поиски новых ее источников. С 1944 г. оно начало призывать учеников средних школ. В конце концов более трех миллионов мальчиков были призваны на работы на фабрики, связанные с военным производством. К августу 1945-го почти пятую часть всех промышленных рабочих составляли подростки, не достигшие двадцатилетнего возраста. Японское правительство использовало даже иностранных рабочих и военнопленных. В 1945 г. в Японии трудились, вероятно, пятьдесят тысяч военнопленных и тридцать тысяч наемных китайских рабочих. Грязная и опасная добыча угля особенно нуждалась в иностранных рабочих руках. Лишь очень немногие японцы выказывали желание заменить шахтеров, призванных в армию, на их рабочих местах. Поэтому Угольная контрольная ассоциация обратилась со специальным призывом к делегации иностранных рабочих, отметив, что несчастные случаи и длинный рабочий день породили «плохое отношение» японцев «к работе под землей». Каждый год, на протяжении всей войны, японское правительство направляло генерал-губернатору Кореи квоты на количество рабочих, которые должны были быть отправлены в Японию. Некоторые из них ехали добровольно. Большинство, однако, отлавливалось по фермам и городским улицам агентами японской оккупационной жандармерии. Затем этих бедняг переправляли в порты Западной Японии, откуда их везли на шахты или фабрики. В период с 1941 по 1945 г. от 600 000 до 1 миллиона корейцев было вывезено в Японию. Наибольшее количество попадало в шахты (в 1945 г. каждый второй шахтер на Хоккайдо был корейцем). Однако корейских рабочих можно было найти практически в любом секторе японской экономики, от кораблестроения до производства военного снаряжения и сельского хозяйства. Их присутствие способствовало изменению в пропорциях японской рабочей силы. Если в 1941 г. практически все рабочие ключевых отраслей промышленности были взрослыми японцами-мужчинами, то к 1944 г. приблизительно половину из них составляли корейцы, школьники и женщины. Несмотря на все сложности, связанные с контрольными ассоциациями, спорами между министерствами и проблемами поисков рабочей силы, совместные усилия государственных учреждений позволили поставить под контроль правительства всю экономику, а также людские и материальные ресурсы. До определенных пределов, экономика соответствовала тем требованиям, которые к ней предъявлялись. Несмотря на нехватку сырья и проблемы производства, которые ощущались даже на начальных этапах войны с Америкой, жители Японии оставались сытыми и одетыми, японская военная машина работала в 1942 г. слаженно, и даже в 1944 г. многие производственные показатели превосходили уровень 1937 г., как это показано в таблице 14.2.

Организация внутреннего фронта
На протяжении недель и месяцев после Перл-Харбора правительство разрабатывало новую риторику — риторику войны. Перед ней ставились две задачи — объединить народ вокруг иональных целей и оправдать свои действия перед народами Азии. Неудивительно, что формулирование военных задач Японии шло в русле заявлений времен кабинетов Коноэ. Говорилось, что Япония сражалась не только за себя, но и за всю Азию. Запад рисовался «аморальным» — плутократическим, расистским, империалистическим, обладающим «неуемными амбициями доминирования на Востоке», как отмечалось в императорском рескрипте об объявлении войны. Миссия Японии, было сказано в политическом заявлении, сделанном кабинетом спустя всего несколько часов после атаки на Перл-Харбор, заключалась в ведении «священной войны» против Запада, освобождении народов Азии, находившихся в колониальной зависимости, и обеспечить «мирное существование всем нациям и народам». Чтобы каждому стали понятными цели войны, японское правительство 12 декабря 1941 г. объявило новое название конфликта в Китае и Тихоокеанском регионе — Великая Восточноазиатская война. Чтобы убедиться, что японский народ усвоит правильную идеологическую линию, чиновники усилили свой контроль над прессой. К счастью правительственных цензоров, большинство репортеров были патриотами, и они по своей собственной инициативе работали над тем, чтобы преподать военные новости в самом лучшем свете. В соответствии с директивой правительства, изданной в 1942 г., они выискивали по всей Японии истории, которые сделали бы все новости и каждую радиопрограмму «соответствующими целям государства». Спустя много лет один корреспондент Асахи синбун, ежедневной газеты национального уровня, вспоминал, что его коллеги были бдльшими «шовинистами» и «милитаристами», чем те солдаты, которыми он, будучи старшим лейтенантом, командовал на Китайском фронте. Штатный сотрудник Ёмиури синбун — конкурента Асахи синбун — рассказывал, как он проводил дни, посещая семьи солдат, погибших на фронте, надеясь найти особенно душещипательные истории о скорбящих матерях и героических поступках юных солдат. Не все истории устраивали правительство. Недовольство властей вызывали сообщения, свидетельствовавшие о несогласии людей с экономическим контролем, критика политики государства и те материалы, которые носили пессимистический характер. Чиновники для таких случаев располагали набором инструментов, от цензуры отдельных репортажей до приостановки публикации материалов, шедших вразрез с официальной линией. Японская издательская ассоциация, контролирующий орган для журнальных и книжных издательств, запретила июльский выпуск 1943 г. ежемесячника Чуо корон («Центральное обозрение»), поскольку в нем содержались две первые части романа Танидзаки Дзинъичиро «Сестры Макиока» (Сасамэюки). В юности Танидзаки восхищался гравюрами, освещавшими ход Китайско-японской войны 1894–1895 гг. В 1920-хон стал одним из признанных японских мастеров прозы. Его главной темой было тлетворное влияние Запада и модернизации. Однако в эпоху Великой Восточноазиатской войны правительственные ищейки от идеологии определили его роман «Сестры Макиока», ныне ставший классикой, как «неуместный» и «негативный». Они посчитали, что его «сентиментальный» сюжет, посвященный «мещанской семейной жизни», не имеет ничего общего с военными усилиями нации. Год спустя контрольная ассоциация принудила Чуо корон и Кайдзо («Перестройка»), которых называли «бесподобной двойной звездой» японской периодики, объявить о «добровольном» закрытии, после того как полиция выбила признания из сотрудников, подозреваемых в симпатиях к коммунистам. При этом одна женщина была изнасилована, а двое сотрудников-мужчин Чуо корон были убиты. И этот пример санкционируемой государством жестокости не был единственным в своем роде. Когда в начале 1944 г. репортер ежедневной газеты Майничи синбун назвал военную стратегию Тодзо «ненаучной», Бритва приказал отстранить от работы редакторов и лично проследил, чтобы несчастный репортер был призван в армию и направлен прямо на фронт. Для того чтобы добиться поддержки со стороны широких слоев населения, некоторые правительственные агентства создавали массовые организации. К концу войны, похоже, не осталось ни одного японца, который бы не входил в состав той или иной подобной организации. 23 ноября 1940 г., вдень, который в настоящее время отмечается как день Трудового благодарения, правительство переименовало Промышленную патриотическую федерацию в Промышленную патриотическую ассоциацию Великой Японии. Под присмотром Министерства внутренних дел Санпо (так в народе сократили ее официальное название — Дай Нихон Сангъё Хококукай) пыталась убедить рабочих в необходимости выполнения производственных заказов и стойко переносить все тяготы, связанные с этим. Это было непростой задачей, которая становилась все сложнее по мере роста числа призванных для выполнения трудовых повинностей. С этой целью представители Санпо доносили правительственную пропаганду до каждого рабочего места. Они организовывали лекции, массовые митинги и дискуссии, которые они использовали для разъяснения задач, стоявших перед Японией в военное время. Чтобы заручиться поддержкой со стороны рабочих и гармонизировать условия труда, подразделения Санпо на предприятиях не оставляли без внимания ни одного аспекта жизни рабочих, создавая то, что получило название «единых коммун предприятия». Кроме раздач дополнительных порций сакэ и риса старательным рабочим, Санпо создавало потребительские кооперативы, осуществляло программы по экономии средств, руководила системами страхования здоровья и создавала центры, где рабочие могли получить совет по вопросам семейного и юридического характера. Благодаря такой активности, количество членов Санпо к концу войны выросло с приблизительно 3,5 миллиона человек в 1940 г. до 6,4 миллиона человек. Правительство приказало создать патриотические организации, подобные Санпо, практически для всех профессиональных групп, существовавших в стране. Крестьяне объединились в Сельскохозяйственную патриотическую ассоциацию Великой Японии, писатели — в Японскую литературную патриотическую организацию и так далее. На фоне всех этих организаций выделялось Женское общество Великой Японии, созданное 2 февраля 1942 г., после того как власти объединили Лигу японских женских организаций с другими самыми разнообразными женскими группами, возникшими в довоенные годы для достижения суфражистских целей, защиты прав потребителей и контроля над рождаемостью. Вступить в ряды новой организации должны были одинокие женщины в возрасте свыше двадцати лет, а также все замужние женщины. К 1943 г. Женское общество насчитывало в своих рядах девятнадцать миллионов членов, которые, по словам его директора, представляли собой «одну огромную армию, созданную для сражений Тотальной войны, армию в форме женщин Великой Японии»{311}. Если говорить более конкретно, то члены Женской организации Великой Японии организовывали проводы солдат, уходящих на фронт, давали торжественную клятву отказаться на время от ювелирных украшений и пышных свадебных церемоний, стирали белье в армейских госпиталях, рассказывали друг другу о питательной ценности тех или иных продуктов и по меньшей мере раз в месяц кормили своих детей «обедом Восходящего Солнца». Он представлял собой простой вареный рис, украшенный красной маринованной сливой, помещенной в центр блюда, напоминая, таким образом, расцветку японского флага. Армия, со своей стороны, создавала по всей Японии молодежные группы, сведенные в единый Молодежный Корпус Великой Японии. Он был создан 16 января 1941 г. и вскоре объединял под своими знаменами четырнадцать миллионов юношей в возрасте от десяти до двадцати одного года. Сначала все члены Корпуса продолжали заниматься той же добровольной деятельностью, что и прежде, то есть следили за чистотой в парках, ремонтировали дороги и школы. Под присмотром военных, молодые люди также посещали кинотеатры, а в выходные дни принимали участие в спортивных состязаниях. Эти мероприятия позволяли наладить прочную связь между молодежью и государственными чиновниками. После Перл-Харбора правительство чаще давало членам Корпуса задания, связанные с поддержкой военных усилий, то есть к проведению митингов, организации парадов и агитации среди соседей за оказание содействия властям. Министерство внутренних дел опасалось того, что новые массовые организации могут нанести ущерб его власти над гражданами страны. Чиновники министерства, будучи закаленными ветеранами бюрократических сражений, в марте 1940 г. установили свой контроль над АСИП, а в марте 1942 г. они убедили кабинет влить в состав АСИП большую часть патриотических организаций. К концу 1943 г. эта судьба постигла и Молодежный Корпус. К этому времени Министерство внутренних дел включило в состав АСИП почти 1,3 миллиона соседских ассоциаций. Постановление, изданное правительством 11 сентября 1940 г., предписывало каждой ассоциации (в состав которых в среднем входило около двенадцати домовладений) «заниматься моральной подготовкой людей и воспитывать в них чувство духовного единства», а также «способствовать осуществлению национальной политики». После начала Великой Восточноазиатской войны министерство возложило на соседские ассоциации ответственность за распределение карточек на пищу и одежду, оглашение правительственных постановлений, продажу облигаций воинских займов, организациюместной гражданской обороны, коллективных прослушиваний специальных передач NHK, в которых освещались цели Японии в этой войне, проверку отношения членов ассоциации к войне, а также бесчисленные другие обязанности, призванные поддерживать общественный дух и обеспечивать национальное единство. К середине войны Министерство внутренних дел превратилось в лицо государственной власти для большинства японцев. Практически все население страны принадлежало к одной или нескольким патриотическим организациям, входившим в состав АСИП. Однако, несмотря на успехи, достигнутые АСИП в деле мобилизации нации и воспитания характера тотального национального единства, роль этой ассоциации нельзя сравнить с ролью нацистской партии в Германии. АСИП так никогда и не стала массовой партией, не обладала она и возможностью влиять на выработку политического курса. Более того, руководство Министерства внутренних дел постоянно должно было делиться властью с другими элитами, особенно с премьер-министром, армией и флотом. На протяжении всей Великой Восточноазиатской войны японская политическая система продолжала представлять собой многоголовую гидру, порожденную конституцией Мэйдзи. Но даже в таких условиях лидеры Японии времен войны смогли создать государство национальной обороны, что сделало власть правительства более широкой. Кроме того, они более, чем когда бы то ни было ранее, преуспели в деле объединения людей вокруг военных усилий.Управляя Великой Восточноазиатской сферой совместного процветания
Взаимосвязанные понятия Нового Порядка и Великой Восточноазиатской сферы совместного процветания являлись чисто японским изобретением, созданным теми стратегами, которые занимались поисками идеологических подпорок для своей позиции, противопоставленной англо-американской угрозе национальной безопасности Японии. Но эти концепции были больше, чем причудливые, но пустые комбинации слов. Они ухватывали идеалистическую сущность многих японцев. «Какого типа договора получили желтая и черная расы от белой?» — в ноябре 1941 г. задавался вопросом один из студентов. «Что белая раса сделала с американскими индейцами? Что происходит с 400 миллионами индусов в их родной стране? Что происходит с 500 миллионами человек в соседнем с нами Китае? А как насчет невежественных, но ни в чем не повинных индонезийцев?» Миссия Японии, продолжал он, является «моральной», она «основывается на идеалах гармоничных отношений между расами». Каждая нация, делал он вывод, должна «иметь свое собственное место для мирного проживания, удовлетворять свои запросы и развиваться вместе с другими нациями. Вот этого мы и ожидаем от Нового Порядка для Восточной Азии. Вместе мы построим Азию для азиатских народов»{312}. Перспективы возрождения Азии находили отклик и в душах тех обитателей региона, которые находились под владычеством Запада. Разумеется, националистические лидеры во многих южно-азиатских странах приветствовали приход японских армий, видя в них способ избавления от гнета западного империализма. Например, всего через несколько часов после атаки на Перл-Харбор правительство Таиланда разрешило японцам использовать базы, размещенные на территории страны, для вторжения в Бирму и на Малайский полуостров, находившихся под властью англичан. Спустя месяц Таиланд объявил войну Соединенным Штатам и Великобритании. В Бирме Аунг Сан, известный противник британского империализма, создал Армию независимости Бирмы, чтобы сражаться на стороне японцев во время их похода на Рангун в 1942 г. В то же время Ба Мау, другой радикальный националист, сбежавший из британской тюрьмы, возглавил государство во время японской оккупации. Далее на юг и восток, в Голландской Ост-Индии, выдающиеся борцы с колониализмом Сукарно и Мохаммед Хатта, один из которых вернулся из изгнания, другой — из голландской тюрьмы, служили советниками в японской военной оккупационной администрации. Японское правительство ловко играло на надеждах азиатских националистов. В 1943 г. оно предоставило независимость Бирме и Филиппинам. В ноябре того же года Тодзо пригласил в Токио представителей Маньчжоу-Го, Таиланда, Филиппин, Бирмы и Правительства Реформ Китая для участия в Великой Восточноазиатской конференции. По завершении заседания Ба Мау поднялся, чтобы поблагодарить японцев за то, что они помогли азиатам вновь ощутить чувство всеобщего братства и одной судьбы. По итогам работы конференции было составлено коммюнике, в котором объявлялось, что автаркическая сфера совместного процветания является единственным путем к «всеобщему пониманию, миру и стабильности». За цветистыми речами об азиатском братстве иногда терялся тот факт, что Великая Восточноазиатская война означала конец западного колониализма на обширных просторах Азии, включавших в себя Бирму и Французский Индокитай, Малайский полуостров, Филиппины, Голландскую Ост-Индию и Новую Гвинею. Хотя западные колонизаторы должны были исчезнуть с большей части территории Азии, многие лидеры националистов, даже те, кто первоначально приветствовал приход японцев, вскоре на своей шкуре ощутили то, что корейцы и китайцы уже знали по своему горькому опыту. А именно то, что японские колонизаторы могут вести себя столь же грубо и жестоко, как и их западные «коллеги». Японское правительство предоставило военным право управлять оккупированными территориями. Сущность оккупационной политики была сформулирована на согласительной конференции в ноябре 1941 г., когда Япония готовилась к войне с Соединенными Штатами. Согласно ей, японские администрации на оккупированных территориях должны были осуществлять строгий контроль над местными экономиками, «чтобы удовлетворить наши потребности в важных военных материалах». Год спустя один из членов кабинета выразился еще резче: «Для нас не должно быть никаких ограничений. Это вражеское имущество. Мы можем взять его и делать все, что пожелаем»{313}. Притесняемые ранее Западом, народы и территории Великой Восточноазиатской сферы совместного процветания, ныне отдавали все свои энергетические ресурсы, стратегические материалы и промышленную продукцию военного назначения японской армии. Нефть из Голландской Ост-Индии была весьма ценна для Японии, и к 1943 г. оккупационное правительство так мощно сжало острова своими тисками, что Тодзо хвастливо объявил об окончательном завершении в Японии эпохи нефтяного голода. С Филиппин военные снабженцы и частные торговцы получали хром, медь, железо, руду и магнезию, из Бирмы — свинец, кобальт и вольфрам, из Таиланда и Французского Индокитая — резину и олово, из Малайи — бокситы. Корея продолжала поставлять значительное количество легких металлов и ферросплавов, а уголь поступал из копей Северного Китая и Маньчжоу-Го. Во время войны две трети всей энергии вырабатывалось из угля, около 20 % которого в 1943 г. импортировалось. Жители Японии также зависели от поставок важных продуктов питания, особенно риса, как это показано в таблице 14.3.
Торговый обмен с Японией обычно заканчивался плачевно для местных экономик. Японское правительство устанавливало такие цены на импорт и экспорт, а также такой обменный валютный курс, которые благоприятствовали йене. Оккупационные власти на недавно захваченных территориях не обращали практически никакого внимания на развитие тех промышленных производств, которые могли бы способствовать повышению благосостояния местных жителей. Оккупационная политика была направлена лишь на удовлетворение нужд Японии. В Индокитае армия по своему желанию отбирала у крестьян урожай. Когда ей понадобился материал для униформы, японские военные заставили некоторых крестьян распахать их рисовые поля и засадить их джутом. В конце концов даже те, кто раньше симпатизировал японцам, например, начали утрачивать иллюзии. Ба Мау позднее с сожалением говорил, что в то время существовали «только одни задачи и интересы — японские интересы. Для восточноазиатских земель существовала только одна судьба — превратиться в бесчисленное множество Маньчжоу-Го и Корей, навсегда привязанных к Японии»{314}. Эго стало горькой реальностью совместного процветания. Экономическая эксплуатация была лишь одной стороной многогранного оккупационного правления, которое было призвано утверждать превосходство японцев и принижать местное население. Военные правители, целиком находившиеся под влиянием исторических мифов, трактовавших японцев как мировую «ведущую расу», самые лучшие отели и дома отводили исключительно для оккупационной армии. Большинство глав военных оккупационных администраций также осуществляли программы «японизации», согласно которым местные жители должны были кланяться каждому японцу, одетому в военную форму, отмечать японские праздники (29 апреля, день рождения императора, был превращен во всеобщий праздник всей сферы совместного процветания), а также заменить свое летосчисление японским официальным календарем. Таким образом, 1942 г. превратился в 2602-й с момента легендарного основания имперского государства, произошедшего в 660 г. до нашей эры. Еще более неприятными были акты физического насилия. Опыт китайского фронта научил солдат японских сил вторжения настороженно относиться к «освобожденным жителям деревень», которые всегда, как казалось, плетут против них заговоры. И солдаты Императорской армии несли это подозрительное отношение к местному населению с собой в Юго-Восточную Азию и на тихоокеанские острова, а вместе с ним — и веру в свое расовое превосходство, а также склонность к антигуманным поступкам. По всей Азии и в Тихоокеанском регионе японские солдаты завоевали дурную славу за плохое обращение с местным населением. По малейшему поводу они пороли, избивали и словесно оскорбляли представителей других народов. В Голландской Ост-Индии японские оккупанты арестовывали известных националистов, устраивали облавы на крестьян, которых затем отправляли на работы в другие места, а также казнили тех индонезийцев, которые слушали по коротковолновому радио передачи союзников. После захвата Сингапура японские власти арестовали более семидесяти тысяч проживавших там китайцев, заподозренных в антияпонской деятельности. Тысячи этих несчастных, по словам очевидцев, связали вместе, вывезли на судах на середину гавани и выбросили там за борт. На Малайском полуострове оккупационная армия закрывала школы и превращала их здания в армейские казармы. Местное население получало лишь половину оттого рисового пайка, который предназначался японцам. Малайцам, пойманным за кражу с военных складов, даже самую незначительную, отрубали головы. Страшные страдания выпали на долю женщин. Систематические унижения женщин наиболее интенсивными были в Корее. Рекрутеры, работавшие по заданию Императорской армии, набирали молодых девушек якобы для работы на японских текстильных фабриках. Вместо этого их отправляли в примитивные армейские бордели, разбросанные по азиатским просторам. Подобная судьба ожидала и многих других молодых корейских женщин, многим из которых еще не было и пятнадцати, которых отлавливали на улицах корейских городов и деревень, чтобы использовать их в качестве «женщин для отдыха» для японских солдат и сотрудников колониальной администрации. К подобной работе принуждались также китаянки, филиппинки, малайки и голландки, захваченные в Сингапуре. В целом в борделях Императорской армии оказались от 100 000 до 250 000 женщин. Десятки тысяч из них погибли от болезней и недоедания, другие были застрелены или заколоты японскими солдатами в последние дни войны. Кровавая бойня в Азии, связанная с боевыми действиями и оккупационной политикой, выходила за все мыслимые рамки. Вдобавок к женщинам для отдыха, не менее 70 000 корейских мужчин погибли на работах в Японии или в качестве «добровольцев» Императорской армии. По подсчетам филиппинского правительства, страна потеряла 125 000 мирных жителей и военнослужащих. Индия оценила свои военные потери в 180 000 погибших во время боев на Бирманском фронте. Французы заявили, что на каждых двадцать вьетнамцев пришелся один погибший, в основном вследствие японской сельскохозяйственной политики, вызвавшей страшный голод в 1945 г. В отчете Организации Объединенных Наций говорится о 3 миллионах погибших на Яве, а также об еще одном миллионе индонезийцев, убитых японцами или умерших от голода, болезней и отсутствия медицинской помощи. Вероятно, погибла половина индонезийцев из числа тех 300 000 или 1 миллиона, которые были угнаны японцами на принудительные работы. В одном из отчетов утверждается, что из 130 000 европейцев, интернированных в Голландской Ост-Индии, в заключении умерли 30 000, в том числе 7000 женщин и детей. Самая страшная картина наблюдалась в Китае. Официальные сведения о количестве китайских солдат, погибших в период с 1937 по 1945 г., называют цифру в 1,3 миллиона. Однако к этому количеству следует также добавить неисчислимое количество погибших гражданских лиц, вероятно — от 9 до 12 миллионов. Все эти цифры представляют собой приблизительные данные и могут лишь намекнуть на тот ужас, ту варварскую жестокость, которая обрушилась на головы ни в чем не повинных жителей Азии. Такова была абсурдная реальность паназиатского братства.
Поворот на полях сражений
Вдохновившись первыми успехами, которые превзошли самые оптимистичные прогнозы, японское военное командование весной 1942 г. приступило к разработке новых военных операций, которые должны были выйти за пределы первоначального «оборонительного периметра» адмирала Ямамото. Стратеги планировали боевые действия в Китае и Восточной Индии, разрабатывали вторжение на Алеутские острова, и даже предлагали атаковать Австралию и оккупировать Гавайи. Некоторые из новых предприятий принесли свои плоды. В июне японские силы захватили острова Атту и Киска Алеутской гряды. Однако вскоре японцы обнаружили, что они слишком распылили свои силы. 18 апреля 1942 г. американский авианосец Хорнет появился в шестистах милях от японского побережья, и подполковник Джеймс Г. Дулиттл повел шестнадцать бомбардировщиков Б-25, поднявшихся с борта авианосца, на Токио, Нагоя, Осаку и Кобэ. Рейдеры Дулиттла нанесли в большей степени моральный, чем материальный ущерб. Но двумя месяцами позже, в начале июня, атака незаметно подкравшегося американского оперативного соединения американских кораблей стоила адмиралу Ямамото четырех авианосцев, когда он направлялся к острову Мидуэй, рассчитывая использовать его как базу для нападения на Гавайи. И эти потери были для японцев невосполнимы. Летом 1942 г. американская морская пехота высадилась на Гуадалканале. Накануне Нового года, после нескольких месяцев войны в джунглях, японцы решили эвакуировать свои силы. Быстрее, чем кто-либо мог подумать, Императорские армия и флот были вынуждены перейти к обороне. Более страшным было то, что кровавая война стояла уже на пороге самих японцев. К началу 1943 г. стало понятным, что предположения, сделанные в Японии до Перл-Харбора, оказались неверными. Великобритания не пала под ударами немцев, а американцы не демонстрировали ни слабости духа, ни желания сесть за стол переговоров. Капиталистическая этика не подкосила американскую промышленность, которая с удивительной проворностью реагировала на те вызовы, которые ставила перед ней мировая война. С 1940 по 1942 г. валовой национальный продукт США вырос более чем на треть, а расходы правительства на военные цели увеличились с 17 до 30,5 % от ВНП. Несмотря на то что японская экономика в первые годы войны функционировала удовлетворительно, тем не менее, империя оказалась в условиях односторонней схватки с экономическим Голиафом, производственные возможности которого значительно превосходили ее собственные. Пророчества Исивара Кандзи относительно китайской трясины оказались верными. Он также был прав и относительно способностей Америки значительно превзойти Японию в области производства. Даже в 1942 г., первом полном году войны в Тихоокеанском регионе, американская военная промышленность опередила по своей производительности японскую. А к 1945 г. военные заводы США производили в десять раз больше оружия, чем аналогичные японские предприятия. В огромных количествах, которые японцы даже вообразить себе не могли, американцы посылали на тихоокеанский театр военных действий самолеты, крейсера, линкоры и субмарины. На протяжении 1943 г. МакАртур предпринял атаки на Соломоновы острова и острова Бисмарка, а также на побережье Новой Гвинеи. В то же время адмирал Честер Нимиц использовал американские силы для продвижения в центральной части Тихого океана, перепрыгивая при этом с острова на остров, обходя сильно укрепленные оборонительные пункты японцев и нанося удары по уязвимым базам. В результате этого продвижения американские военно-воздушные силы оказались очень близко к жизненно важным морским маршрутам, соединявшим Японские острова с Юго-Восточной Азией. Для Императорских японских армии и флота 1943 г. не был успешным. Армия потеряла более десяти тысяч человек во время отступления с Гуадалканала. 18 апреля погиб командующий флотом Ямамото, самолет которого был сбит американскими пилотами над Соломоновыми островами. В мае, в результате контратаки американцев, японцы были выбиты с Алеутских островов, а в ноябре пала Тарава — главный оплот японцев в центральной части Тихого океана. «Реальная война, — сказал Тодзо парламенту 27 декабря, — началась сейчас». В 1944 г. японская оборона затрещала по всем швам, когда на полную мощь заработала машина американского контрнаступления. В начале лета тяжелые потери понесла японская авиация. Во время провалившейся попытки защитить Сайпан флот потерял 405 самолетов из 430. Эта неудача стоила Тодзо его профессиональной карьеры. В узких кругах вершителей японской политики уже за некоторое время до этого начали появляться критические замечания в адрес Тодзо-премьера и Тодзо-военного лидера. В том же году, немного позже, бывший премьер Окада Кэйсукэ отправил во дворец письмо, требуя отправить Тодзо в отставку. Премьера сильно ошеломили направленные против него выступления, прозвучавшие во время официального приема, состоявшегося 25 марта 1944 г. Спикер парламента громко призвал его «взять на себя ответственность» за военные неудачи Японии и «уйти в отставку». После этих заявлений, как было отмечено в некоторых дневниках, в зале раздались аплодисменты. 17 июля, всего через десять дней после падения Сайпана, главные политики отказали Бритве в дальнейшем доверии. На следующий день Тодзо отказался от поста премьер-министра и ушел с государственной службы.
По рекомендации старших политиков император назначил на должность премьер-министра генерала Коисо Куниаки. Но этот старый вояка, служивший с 1942 г. генерал-губернатором Кореи, преуспел не больше, чем Тодзо. «Ад приближается к нам», — сказал начальник штаба флота после падения Сайпана. Той же осенью Нимиц и МакАртур встретились на Филиппинах. В битве в заливе Лейте, произошедшей в октябре, японские капитаны потеряли шесть авианосцев. Разорванный в клочья, некогда гордый Императорский флот перестал быть решающим фактором в битве на Тихом океане. Сдержав свою клятву вернуться, МакАртур в начале 1945 г. освободил Манилу. Американская победа на Филиппинах окончательно отбросила японцев из Юго-Восточной Азии, превратив юго-западную часть Тихого океана в стратегический тыл. Теперь американцы двигались прямо на Японию, взяв в марте Иво Дзиму и ворвавшись на Окинаву в первый день апреля 1945 г. Потеря Филиппин имела губительные последствия для японской экономики. После битвы в заливе Лейте был перекрыт мощный поток сырья из колоний и оккупированных территорий. В 1942 г. танкеры доставляли в японские порты 40 % нефти Юго-Восточной Азии. В 1944 г. этот показатель упал до 5 %, а в 1945 г. полностью сошел на нет. В 1941 г. Япония импортировала 5,1 миллиона тонн железной руды, в 1944 г. — 1,7 миллиона тонн, а в первой четверти 1945 г. только 144 000 тонн достигли японских фабрик. Лишившись жизненно необходимых ресурсов, производство начало падать. Таблица 14.2 позволяет увидеть, насколько резким было падение производства в сталелитейной, машиностроительной и химической отраслях в последний год войны. Связанный с этим закат производства вооружений, показанный в таблице 14.5, парализовал деятельность военных планировщиков. Эти цифры на поле боя превращались в непреодолимые препятствия. Во время войны военно-воздушные силы стали самым мощным оружием разрушения. В январе 1943 г. против 3537 американских самолетов Япония могла поднять в воздух 3200 своих. В январе 1945 г. это соотношение выглядело как 21 908 против 4100. Получив мощные удары со стороны наступающих американских войск, лишившись ресурсов, японское военное руководство перешло к тактике отчаяния, десятками тысяч посылая на верную смерть своих солдат, матросов и летчиков, которые совершали героические, но совершенно бессмысленные попытки замедлить продвижение врага, а то и заставить его, путем нанесения тяжелых людских потерь, сесть за стол переговоров. Начиная с 1943 г., с событий на острове Атту, японские солдаты отказывались сдаться, предпочитая сражаться до последнего человека. Японский устав полевой службы запрещал солдатам «переживать позор плена». В любом случае, многие думали, что их непременно убьют американцы, если они сдадутся в плен. Этот страх имел под собой основания. Во время морского сражения за Тараву звучал лозунг «Пленных не брать!» Чарльз Линдберг, гражданский обозреватель, находившийся в американских войсках, базирующихся в Новой Гвинее, 26 июня отметил в своем дневнике, что из нескольких тысяч попавших в плен японских солдат выжило всего две сотни. С остальными произошел «несчастный случай». Кроме естественного желания защищать свою страну и стремления избежать смерти в плену, японское военное руководство решило положиться на тактику, которая требовала самопожертвования. В центральном районе Тихого океана армейские командиры оставляли пляжи американским войскам, а сами отводили свои подразделения в горные и лесные районы. Окопавшись в пещерах и подземных бункерах, японские солдаты стояли насмерть. Потери были высокими с обеих сторон. На Атту японцы потеряли убитыми 2600 человек, при этом в плен попало всего 28. На Таваре 4600 солдат погибли, 100 сдались в плен. Более 300 000 японцев было убито во время операций на Филиппинах в 1944 и 1945 гг. На Окинаве погиб практически весь японский гарнизон, насчитывавший 110 000 человек, в то время как потери американцев составили 50 000 человек убитыми и ранеными (из общего количества в 172 000 военнослужащих).

Появление осенью 1944 г. пилотов-камикадзе знаменовало собой превращение самоубийства в стратегию. В октябре того года вице-адмирал Ониси Такидзиро, занимавший высокий пост в Министерстве военных имуществ, прибыл на Филиппины для координации подготовки к американскому вторжению. Сильно озабоченный безнадежным отставанием Японии в производстве самолетов, Ониси обратился с просьбой к пилотам, находившимся под его командованием, чтобы кто-нибудь из них добровольно направил свой нагруженный бомбами «нуль»[43] на американский линкор. 25 октября двадцать четыре пилота отправились на выполнение первого самоубийственного задания. Им сопутствовал невероятный успех. Они потопили один авианосец сопровождения и повредили несколько других. Вдохновленный этими результатами, Ониси набрал еще несколько эскадрилий. Этому примеру последовала и армейская авиация. Власти назвали эти новые подразделения Специальным атакующим корпусом Божественного Ветра, в честь тайфунов, вызванных японскими богами и уничтожившими в 1274 и 1281 гг. армады монгольских захватчиков. Среди американцев более популярным стал термин камикадзе, образованный прочтением двух идеограмм, означавших «божественный ветер». С разгромом флота и сокращением авиации японцы в последний год войны избрали Специальный атакующий корпус в качестве своего основного средства защиты. Для командования, страдавшего от резкого недостатка материалов, эскадрильи самоубийц представлялись неким чудом, возможностью мобилизовать последний ресурс Японии, еще остававшийся в ее распоряжении, — боевой дух юношества — в отчаянной попытке нанести ошеломляющий удар по противнику. Ярким блеском сияла отвага тех, кто вступал в Специальный атакующий корпус, но их самопожертвование практически не замедлило продвижения американцев. К моменту завершения боевых действий, почти пять тысяч молодых людей погибли в самоубийственных миссиях. В результате же их действий было выведено из строя всего несколько кораблей. По иронии судьбы, самый значительный успех был достигнут в первый день подобных операций. Но настоящий тайфун, обрушившийся на побережье Филиппин в декабре 1944 г., нанес более сильный ущерб «американскому флоту, чем самая свирепая атака Божественного Ветра. В 1945 г. молодые мученики начали понимать, что их смерти не изменят существенно ход войны. Лишившись иллюзий, некоторые из них отправлялись на смерть, выкрикивая по радио проклятия в адрес своих командиров и политических лидеров страны. Большинство, однако, посылали домой последние стихотворения и письма, в которых выражали веру в семью, императора и нацию. Эти ценности сохраняли свое значение для многих их соотечественников и в последний, мрачный год войны. Непосредственно перед тем, как отправиться в последний полет, один молодой летчик писал своему отцу: «Японский образ жизни, несомненно, прекрасен, и я горжусь этим, как горжусь японской историей и мифологией, в которых отражается чистота наших предков и их вера в прошлом. Этот образ жизни является продуктом всех тех лучших вещей, которые наши предки передали нам. И живым воплощением всех чудесных вещей из нашего прошлого является Императорская Семья, которая также представляет собой кристаллизацию великолепия и красоты Японии и ее народа. Это честь — иметь возможность отдать мою жизнь ради защиты этих прекрасных и величественных вещей»{315}. Другой молодой человек писал: «Мы должны с радостью служить нашей стране в теперешней страшной битве. Мы должны бросаться на вражеские корабли, наслаждаясь той мыслью, что Япония была и будет тем местом, где существовать позволено только восхитительным домам, отважным женщинам и прекрасной дружбе».
Жизнь в осаде
Благородство юношеского самопожертвования не смогло избавить население Японии от ужасов прямых американских атак. В июне 1944 г. начались налеты суперкрепостей Б-29 для нанесения «точечных ударов» по определенным промышленным целям, таким как сталелитейный завод Явата на острове Кюсю и авиационный завод Накадзима, расположенный в западных предместьях Токио. Однако несовершенство наводящих на цель радаров и другие технические трудности не позволяли достигнуть желаемых результатов (за восемь налетов обширный комплекс Накадзима получил лишь незначительные повреждения). Это заставило генерал-майора Куртиса Э. ЛеМея, возглавлявшего Двадцатое бомбардировочное командование, изменить тактику. Он начал загружать суперкрепости зажигательными бомбами. Самолеты, летевшие на низкой высоте, сбрасывали их на японские города, вызывая пожары. Подобные атаки принесли некоторый успех человеку, который координировал американские бомбардировки Дрездена и других немецких городов. Большая часть мелких предприятий Японии была разбросана среди жилых кварталов, плотно застроенных легковоспламеняющимися домами. В результате новой Тактики американских бомбардировщиков, городам причинялся значительный ущерб. Но не только разрушение домов было целью таких налетов. В ту войну жестокость по отношению к мирному населению вообще была явлением общепринятым, и ЛеМей и его штаб, приказывая сыпать бомбы на головы мирных жителей, рассчитывали, что массовая гибель горожан сломит моральный дух японцев и подорвет веру в их лидеров. ЛеМей полностью перешел к новой стратегии, начиная с ночи с 9 на 10 марта. В ту ночь со своих баз, расположенных на Марианских островах, в воздух поднялись 334 Б-29. Каждый из них нес на своем борту почти по шесть тонн нефти, фосфора, желеобразного бензина и напалма. Весь этот ливень зажигательных материалов был обрушен на токийский район Аса-куса, расположенный в северо-восточной части города и отличавшийся высокой плотностью населения. Последствия были катастрофичными. Жар, вызванный восемью миллионами фунтов зажигательных средств, был настолько сильным, что в реках и каналах закипела вода, а металлические конструкции расплавились. От 80 000 до 100 000 человек погибли, «сгорев, сварившись или задохнувшись», как, попыхивая сигарой, отметил Ле Мей в своих мемуарах{316}. На площади в шестнадцать тысяч квадратных миль, там, где раньше располагался Асаку-са, не осталось ни одного предмета, стоящего вертикально. За одну-единственную ночь Токио лишилось пятой части своих промышленных предприятий, миллион токийцев лишились крова. Б-29 вернулись на свои базы, залили топливо в баки и вновь поднялись в воздух. В следующие десять дней они принесли ужас, смерть и кровь войны в дома жителей Осаки, Кобэ и Нагоя. Японцы не могли ничего предпринять, чтобы остановить эти атаки. У них не было эффективных радаров, а зенитные орудия были устаревших образцов. К весне 1945 г. в их распоряжении осталось только две эскадрильи ночных истребителей. На протяжении долгого лета 1945 г. суперкрепости продолжали свои налеты. Их бомбовые отсеки несли в себе все больше и больше зажигательных веществ. 26 мая пять сотен бомбардировщиков сбросили четыре тысячи тонн зажигательных веществ на жилые кварталы на северо-западе Токио. 10 июня воздушная армада, состоявшая из двух тысяч бомбардировщиков и истребителей, смешала с землей города от Кюсю до Северного Хонсю. К августу атаки Б-29 превратили в руины шестьдесят шесть японских городов. Интенсивные бомбардировки разрушили 40 % Осака и Нагоя, 50 % Токио и Кобэ, 90 % Аомори и весь Сэндай. Б-29 уничтожили половину японских коммуникаций, выжгли 40 % промышленных зон, сделали практически невозможным движение поездов и каботажное плавание. В стране было уничтожено почти 25 % всех жилищ, почти 250 000 японцев погибли, и еще 300 000 получили ранения и увечья. Выжившие столкнулись с мириадами проблем. Летом 1945-го не хватало буквально всего. В 1941 г. потребительские товары составляли 40 % от ВНП, в 1945-м — всего 17. То, что еще оставалось, стоило больших денег. На протяжении войны зарплаты рабочих увеличивались, но цены росли еще быстрее, так что, с учетом инфляции, реальная заработная плата в 1945 г. была на треть меньше, чем в 1939-м. Одежда выдавалась по карточкам, но текстиль был в таком дефиците, что большинство женщин одевались в однообразные монпэ, представлявшие собой простые штаны, которые обычно носили крестьянки на северо-востоке страны. Мужчины носили потертые костюмы, оставшиеся еще с довоенных времен. Дрова стали настолько дорогими, что помыться хотя бы раз в неделю могли себе позволить только состоятельные люди. Некоторые учителя жгли свои библиотеки, чтобы просто согреться. Пища стала скудной. Холодная погода стала причиной плохого урожая в 1944 г. Это совпало с морской блокадой, перерезавшей пути снабжения империи. К весне 1945 г. продовольствия уже ощутимо не хватало, и отчаявшиеся домохозяйки стали обращаться на черный рынок. Толпы горожан втискивались в поезда и ехали в сельскую местность. Там они узнавали, что сладкий картофель, который был для японцев новым, но весьма желанным продуктом питания, стоит в двадцать раз больше, чем в официальной продаже, соевые бобы — в тридцать раз, а рис — в семьдесят. Несмотря на дороговизну, семьи токийцев были вынуждены приобретать на черном рынке почти 10 % своего риса, 40 % рыбы и 70 % овощей. Одиночество и разделенные семьи добавляли темных красок в картину военного лихолетья. Еще в конце 1943 г. кабинет предписал всем, кто не занят на работах на военных заводах — матерям с малолетними детьми, старикам и нетрудоспособным, — покинуть крупные города, хоть и не все последовали этому. После начала в 1944 г. бомбардировок, правительство приказало вывести из дюжины городов 350 000 учеников начальных школ, весной следующего года за ними последовали еще 100 000 подростков. Их размещали в пустых гостиницах и сельских храмах. Подавленные и тоскующие по дому дети пытались продолжать учебу, а также объединялись в бригады добровольцев, чтобы помогать соседним фермерам. В то время как сельская местность была переполнена людьми, города Японии приобрели вид пустыни. В течение нескольких недель после ночи на 10 марта, Токио покинули более 3 миллионов горожан. Из других городов выехали 6 миллионов человек. В целом за годы войны население Токио уменьшилось с 6,8 до 2,8 миллиона человек, Осаки — с 3,4 до 1,1 миллиона, Кобэ — с 967 000 до 379 000. Те, кто остался в городах, отправив свои семьи в деревню, не имели никакой возможности снять напряжение или развеять тоску жизни в осаде. Дансинги и бары в кварталах развлечений давно закрыли свои двери. Гейши и другие женщины, с которыми обычно проводили досуг, теперь трудились на фабриках. Вероятно, немногие токийцы расстроились по поводу закрытия балета (по крайней мере, после того, как основным репертуаром стали такие вещи, как «Сюита решительной воздушной войны»). Однако многих повергло в уныние сокращение до недели сроков проведения майского турнира по сумо, а также его перенесение на открытый воздух, после того как бомбардировщики ЛеМея повредили традиционную арену и убили двух сумоистов высшего ранга — Тоёсима и Мацуурагата. Летом 1945 г. функционировали лишь немногие места, где можно было освежиться. Это были «народные бары» — государственные предприятия, работавшие один день в неделю. В них продавалось дешевое пиво и бутылки сакэ, в которое для крепости был добавлен метиловый спирт. В народе эти бутылки назывались «бомбами», поскольку рисовое вино буквально «взрывалось» во рту и обжигало глотку. К лету 1945 г. многие японцы окончательно утратили иллюзии относительно Великой Восточноазиатской войны. В Японии никогда не существовало организованного антивоенного движения, актов нелегального сопротивления было совсем мало, проводили их немногочисленные коммунисты и социалисты, которые обычно заканчивали в тюрьме. Как правило, те, кто был не согласен с войной, просто презрительно молчали, меняли профессии или просто продолжали работать так, как будто войны не было. Выдающийся экономист Каваками Хадзиме во время войны уединился в своем доме в Киото. Танидзаки тихонько заканчивал своих «Сестер Макиока», в надежде на будущую публикацию, а ученый-конституционалист Минобэ Тацукичи, работы которого по теории конституционализма были запрещены в 1935 г., в 1944 г. упорно добивался публикации своей книги «Базовая теория криминального экономического законодательства». По мере развития военных событий, простые японцы возвращались к практике граффити и анонимных писем, чтобы выразить свое недовольство войной, которая оказалась, по их мнению, страшной ошибкой. Люди писали на фонарных столбах и стенах фабрик фразы типа «Убей императора», «Долой правительство» и «Прекратить войну». По сообщению одного киотского журналиста, его газета в последние месяцы войны получала почти по двести писем в день, в большинстве которых критиковались «чиновники и военные за их очевидное нежелание разделить с народом все трудности войны». Другие просто высказывали свое растущее разочарование своим соседям. «Что есть такого святого в этой войне, которая уничтожает товары и десятки тысяч жизней соотечественников в жестокой схватке», — спрашивал один отец, ребенок которого был убит в Сингапуре. «Вообще, есть хоть один, кто на самом деле хотел бы стать солдатом?»{317} В целом полицейское управление Министерства внутренних дел зафиксировало 406 случаев серьезных антивоенных высказываний с марта 1943 по март 1944 г. и еще 607 за следующий год. Фабричные рабочие являлись особой проблемой для государства. Производительность падала из-за плохой работы и прогулов. Даже еще до того, как в 1944 г. начались бомбардировки, посещаемость представляла собой серьезную проблему. В 1945 г. падение морали, трудности с транспортом и необходимость тратить время на поиски продуктов питания за городом, увеличили масштабы прогулов до угрожающего уровня, как это показано в таблице 14.6. Те рабочие, которые все-таки приходили на работу, не обладали достаточными навыками (в условиях отчаянной ситуации с летательными аппаратами, военные были вынуждены забраковать 10 % самолетов, произведенных в 1944 г.). Кроме того, они часто прекращали работу, по разным поводам, в основном — из-за недовольства маленькими зарплатами и плохого обращения со стороны управляющих. В 1941 г. чиновниками были зафиксированы 159 случаев забастовок. В 1943 г. их было уже 695, и 550 — за первые одиннадцать месяцев 1944 г. Было совершенно ясно, что создание с помощью Санпо гармоничного производственного сообщества оказалось недостижимым идеалом. В ответ на эти трещины, появившиеся в линии внутреннего фронта, правительство призвало людей работать еще упорнее и жертвовать бóльшим. На удивление много японцев были готовы продолжать сражаться, даже несмотря на бомбардировки, лишения, разлуку с близкими и растущий пессимизм. Не последнюю роль при этом играли страх перед полицией и давление со стороны государства, но также важными факторами являлись влияние соседских ассоциаций и патриотических организаций АСИП. Как отметила в январе 1945 г. одна домохозяйка, никто не хотел оказаться первым обвиненным в лени или трусости. Наконец, большинство японцев были лояльными гражданами, которые из любви к своей родине просто не хотели оставлять страну в кризисные времена.
Они отважно перенесли последнюю мобилизацию. 13 июня 1945 г. правительство распустило АСИП, чтобы все гражданские мужчины в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет и все женщины от семнадцати до сорока смогли вступить в подразделения Народного патриотического добровольческого корпуса, которые формировались по месту жительства и по месту работы. Эти подразделения, подчиненные военному командованию, проводили совместные тренировки, отрабатывая упражнения с бамбуковыми палками, а также строили для себя на побережье долговременные огневые сооружения, готовясь к американскому вторжению, которое ожидалось осенью. Все японцы, согласно бесстрастной констатации нового правительственного лозунга, должны были выступить все вместе как Ичиоку Токко, «Стомиллионный специальный атакующий корпус».
Капитуляция
Американское вторжение на Окинаву привело к появлению иностранных войск на территории Японии. Старшие политики поняли, что настало время поисков выхода из войны. Армия, однако, отказывалась принимать в этом участие. На удивление удачная сухопутная кампания предыдущего года против Чан Кайши добавила еще несколько китайских провинций к контролируемой японцами зоне, а также повысила чувство собственного достоинства и решимость военных. Ко времени высадки американцев на Окинаве события на китайском театре военных действий более не оказывали влияния на ход Великой Восточноазиатской войны. Однако в армии находилось 5,5 миллиона людей в униформе и с оружием, и они предпочитали сражаться до последнего и не соглашаться на капитуляцию, которая, по их мнению, могла угрожать целостности Японии или поставить под вопрос дальнейшего существования института императорской власти. Старшие политики, раздраженные армейским упорством, в апреле 1945 г. посоветовали императору принять отставку премьер-министра Коисо и назначить Судзуки Кантаро главой кабинета, который бы занялся поисками мира. Отставной адмирал был близок к монарху — жена Судзуки, Така, была кормилицей императора, а сам Судзуки с 1929 по 1936 г. был великим камергером. Поэтому старшие политики надеялись, что Судзуки, используя свой престиж, заставит армию подчиниться своим решениям. Сторонникам переговоров и заключения соглашения потребовалось некоторое время для консолидации своих сил. Еще в 1942 г., в условиях военных побед Японии, Ёсида Сигэру и ряд влиятельных членов узкого круга лидеров японской бюрократии и бизнеса тайно обсуждали возможность начала мирного диалога с Соединенными Штатами. Ёсида в 30-х был послом в Великобритании и рассматривал сотрудничество с этими двумя державами в качестве важного условия безопасности Японии. Как и все остальные сотрудники довоенного Министерства иностранных дел, с симпатией относившиеся к Америке и Англии, Ёсида был убежденным антикоммунистом. Его страхам были присущи два направления. С одной стороны, он считал, что чем дольше продлится война, тем с большей вероятностью политика Тодзо с ее организационным контролем и централизованным экономическим планированием превратит Японию в подобие коммунистического государства. С другой стороны, Ёсида не был сбит с толку ранними победами Японии в Великой Восточноазиатской войне. Он предвидел окончательное поражение и боялся, что в наступившем вслед за этим хаосе в стране может возникнуть революционное движение, которое разрушит традиционную государственную модель. Таким образом, заключал он, Япония обязана заключить джентльменское соглашение с американцами, которые, как он был уверен, предложат благородные условия мира. Ёсида сплотил вокруг себя группу людей, рассуждавших подобным образом. Полиция, отслеживавшая ее деятельность, назвала ее «ЁХАНСЕН» (от сокращенного «Ёсида, антивоенная группа»). Контакты с ЁХАНСЕН поддерживали такие известные личности, как бывший премьер-министр Вакацуки Рэидзиро, отставной директор-распорядитель дзайбацу Мицуи Икэда Сэйхин и даженепредсказуемый Коноэ Фумимаро. Первоначально, Коноэ рассматривал свой Новый Порядок для Восточной Азии как бастион, с одной стороны, против коммунизма, с другой, против западного империализма. Но в середине войны он умерил свою критику в адрес Соединенных Штатов. Все в большей степени трижды премьер-министра охватывал страх того, что ухудшающаяся военная ситуация каким-то образом позволит коммунистам, возможно, скрывающимся в рядах армии, АСИП и университетах, осуществить в Японии революцию. При поддержке Ёсида, Коноэ подготовил длинный меморандум, представленный императору 14 февраля 1945 г. В нем Коноэ обращал внимание императора на успехи Советского Союза в войне в Европе и высказывал «определенные опасения, что Советский Союз в конце концов вмешается во внутренние дела Японии»{318}. Более того, предупреждал принц императора, «внутри страны я вижу все условия, необходимые для наступления коммунистической революции»: падение уровня жизни, недовольство среди рабочих, «просоветские настроения» и «секретные маневры левых элементов, которые манипулируют всем этим». Но самая большая угроза, туманно намекал Коноэ, исходит от «множества молодых военных, которые считают, что наше кокутай и коммунизм могут сосуществовать». Единственным выходом из сложившейся ситуации, заключал он, было «как можно скорее» завершить войну. Страх Коноэ по поводу дальнейшей судьбы Японии не подтолкнул императора к действиям в феврале, но весной, когда Судзуки стал премьер-министром, Коноэ вновь материализовался, предложив свои советы и службу. Япония была в огненном кольце, ее города разрушались, и в этих условиях Судзуки и другие умеренные политики, входившие в состав его кабинета, решили обратиться к Советскому Союзу, с просьбой выступить в роли посредника между Японией и Соединенными Штатами. Поколением раньше сами Соединенные Штаты использовали свое влияние, чтобы способствовать заключению договора между Россией и Японией. В июне император дал понять, что поддерживает этот план, продемонстрировав тем самым, что в настоящее время он желает найти достойный способ завершения боевых действий. Даже когда Кремль отверг первое обращение Японии, Судзуки продолжал надеяться. В начале июля премьер-министр попросил Коноэ отвезти в Москву личное письмо императора, в котором выражались надежды Его Величества на мир. Выполнить эту просьбу Коноэ согласился после личной встречи с монархом. Однако, прежде чем Коноэ смог завершить свои приготовления к поездке в Москву, Сталин, Черчилль и Трумэн собрались в Потсдаме для обсуждения условий капитуляции Японии. Американский президент был обеспокоен японскими поисками мира. У него вызывала сомнения их искренность, и он не хотел идти с ними на контакт. Не имел Трумэн и желания проявлять сострадание по отношению к Японии, особенно после того, как ему стали известны результаты успешного испытания атомного оружия в Аламогордо, штат Нью-Мексико. 26 июля союзники опубликовали Потсдамскую декларацию, требующую от Японии «безоговорочной» капитуляции. В противном случае ее ожидало полное разрушение. Декларация призывала японское правительство очистить свои ряды от милитаристов, разоружить армию, ограничить свой суверенитет теми территориями, которые входили в ее состав в начале периода Мэйдзи, а также согласиться на оккупацию страны союзниками. По поводу судьбы императора, который был центральным понятием японского кокутай, в ней ничего не было сказано. Судзуки был загнан в угол. Армия по-прежнему была полна решимости сражаться до конца. Более того, независимо от силы желания некоторых членов кабинета добиться заключения мира, они не могли заставить себя согласиться на капитуляцию, которая позволит чужеземной оккупационной армии демонтировать имперскую систему и, если та пожелает, выставить правящего японского монарха обычным военным преступником. Судзуки, опасавшийся, что прямой отказ принять Потсдамские условия спровоцирует Трумэна на дальнейшую эскалацию боевых действий, просто «проигнорировал» декларацию. Семидесятивосьмилетний премьер-министр неудачно подобрал выражение. Это слово звучит по-японски как «моку-сацу» и передает оттенок «относиться с молчаливым презрением». Поэтому Трумэн ответил усилением натиска на Японию, и так находившуюся на краю пропасти. 24 июля Трумэн приказал стратегическим военно-воздушным силам армии США использовать против Японии «специальную бомбу», если Судзуки не примет Потсдамскую декларацию. С окончанием войны в Европе в Америке все сильнее проявлялись желания вернуться к обычной мирной жизни, и глава исполнительной власти был полон решимости как можно скорее положить конец боевым действиям на Тихом океане. Кроме стремления избежать дальнейших потерь среди американских солдат, президент был обеспокоен поведением России. Советы концентрировали силы вдоль границ Маньчжоу-Го и на океанском побережье, напротив Хоккайдо. Трумэну было необходимо успеть закончить войну на Тихом океане до того, как они в нее вмешаются. Тогда он избежал бы перспективы раздела Японии и тем самым ликвидировал бы возможность возникновения таких проблем, которые уже появились в послевоенной Европе в связи с разделом Германии. Более того, Трумэн лишь недавно занял пост президента, а проект, приведший к появлению атомной бомбы, уже близился к своему завершению. Все, кто был связан с его осуществлением, ожидал, что бомба будет использована. Вот почему Америка потратила столько денег и усилий на его развитие. Трумэн, все еще неуверенно себя ощущавший в роли президента, не видел оснований для того, чтобы ставить под сомнение проведение подобной операции. Не приходили ему в голову и решения, альтернативные атомной бомбардировке Японии, такие, например, как демонстрационный взрыв на пустынном острове или простое продолжение огненных атак американских самолетов в сочетании с морской блокадой, что рано или поздно вынудить Японию капитулировать. Вдобавок он отсеял все моральные сомнения, которые он мог бы иметь относительно использования нового оружия. Он просто собирался использовать лучшую технологию для того, чтобы как можно скорее положить конец ужасной войне. «Пусть это не будет ошибкой, — писал он. — Я рассматриваю бомбу как военное оружие и не имею никаких сомнений в том, что она будет использована»{319}. Позднее Трумэн и его советники заявляли, что использование атомной бомбы спасло множество жизней. В 1947 г. Гарри Л. Стимсон, военный министр в администрациях Рузвельта и Трумэна, опубликовал в Harper's Magazine специальное эссе, которое стало официально утвержденной точкой зрения на события. Вторжение на Кюсю в конце 1945-го с последующей Ьысадкой на Хонсю, которое планировалось на весну следующего года, писал Стимсон, «только американским силам стоило бы миллиона жизней»{320}. Очевидно, что министр с потолка взял эту цифру, поскольку, по прикидкам военных, представленных Трумэну в июле 1945 г., предполагаемая высадка на Кюсю стоила бы американцам всего 33 500 погибших, раненых и пропавших без вести. В то же время Трумэн знал, что когда его воздушные силы сбросят атомную бомбу на беззащитный японский город, взрыв «вызовет разрушения и жертвы, представить которые невозможно». Опять же, в войне, в которой очень мало людей считали противоположную сторону такими же человеческими существами, как и они сами, Трумэн и Стимсон расценивали такие жертвы разумными и приемлемыми. В восемь пятнадцать утра 6 августа Б-29 Энола Гэй сбросил «специальную бомбу», 3 метра длиной и 70 сантиметров в диаметре, на мужчин, женщин и детей Хиросимы. Атомный заряд взорвался на высоте приблизительно пяти километров над землей. Температура на поверхности под эпицентром достигла семи тысяч градусов по Фаренгейту. В радиусе двух километров от этого места все было выжжено. Те, кто находился в пределах этого смертельного круга и попал под воздействие тепловой волны, погибли. Их кожа и внутренние органы разорвались от невообразимого жара. Стена ударной волны, распространявшаяся со скоростью звука, уничтожала здания из бетона, сметала деревянные постройки, и отрывала конечности от тел. Огненная буря пронеслась по городу. Влага, сконденсировавшаяся на пепле, вернулась на землю радиоактивным «черным дождем». Точных данных относительно количества погибших в Хиросиме нет, хотя в 1977 г. правительство назвало цифры от 130 000 до 140 000. 8 августа радисты Министерства иностранных дел перехватили советскую радиограмму, в которой сообщалось о готовности объявить войну Японии и вторгнуться в Маньчжурию, Корею и на Курильские острова. Непосредственно перед полуднем следующего дня, 9 августа, американцы сбросили вторую атомную бомбу на Нагасаки, убив еще от 60 до 70 тысяч человек. В целом, таким образом, количество погибших от американских бомбардировок гражданских лиц в японских городах достигло 500 000. На протяжении всей этой агонии военный министр и начальники штабов армии и флота отказывались откликнуться на просьбу Судзуки согласиться на капитуляцию. Они настаивали на том, что полного поражения еще можно каким-то образом избежать и что дальнейшее сопротивление может выбить из американцев согласие на сохранение трона после войны. В ночь с 9 на 10 августа и еще раз утром 14 августа Судзуки собирал императорские конференции и просил императора вмешаться и сломать тот тупик, в котором оказались премьер-министр и военные руководители. Каждый раз император высказывался за мир, а во время второй встречи он приказал военным уступить его желаниям. Вечером того дня он поставил свою подпись под рескриптом, завершающим войну, а затем записал свое выступление, которое прозвучало по радио на следующий день. В полдень 15 августа японцы собрались вокруг радиоприемников у себя дома или у репродукторов, висевших на деревенских площадях, чтобы услышать слова императора. Впервые в японской истории полубожественный монарх обращался непосредственно к своим подданным, и многие не могли понять его в чем-то архаичный язык, когда он говорил о тех идеалах, за которые сражалась и страдала Япония. Затем он призвал их «перенести непереносимое» и принять поражение, чтобы «вымостить путь к великому миру для всех грядущих поколений». По всей измученной войной стране японцы, те, кто приветствовал Великую Восточноазиатскую войну, и те, кто страдал от ее ужасных последствий, раздумывали над посланием императора относительно будущего нации. В Токио вице-адмирал Ониси, вновь назначенный в генштаб флота, в последние часы войны настаивал на немыслимости капитуляции. Прослушав обращение императора, Ониси вернулся домой и написал открытое письмо молодежи Японии. Он выразил свою признательность душам погибших пилотов его детища, Специального атакующего корпуса, извинился за свою неспособность достичь победы и призвал молодых людей следовать словам императора и прилагать все усилия к достижению мира во всем мире. Затем Ониси вынул из ножен свой меч и покончил с собой традиционным способом, вспоров крест-накрест себе живот. Умирая, своей кровью он написал на татами, покрывающем пол, последнее стихотворение:
ЧАСТЬ V
Современная Япония
Хронология
1945 15 августа Император объявляет о капитуляции Японии 25 августа Ичикава Фузаэ вместе с другими активистками создает Женский комитет послевоенных контрмер 30 августа МакАртур прибывает в Японию 2 сентября Япония подписывает Акт о капитуляции 27 сентября Император посещает МакАртура в штаб-квартире SCAP 11 октября МакАртур издает постановление, призывающее к эмансипации женщин, поощрении создания профсоюзов, проведению реформы образования и «демократизации» экономических институтов 13 октября Премьер-министр Сидэхара назначает Мацумото Дзодзи на пост председателя комиссии по пересмотру конституции 3 ноября С помощью Ичикава Фузаэ создается Новая лига японских женщин 6 ноября МакАртур принимает план Ясуда по «ликвидации дзайбаиу» 16 декабря Коноэ Фумимаро совершает самоубийство 17 декабря Женщины получают право голоса 22 декабря Парламент принимает Закон о профессиональных союзах (вступил в действие 1 марта 1946 г.)
1946 1 января Император издает свою «Декларацию о человеческой природе» 4 января SCAP распространяет директивы по проведению чистки 3 февраля МакАртур приказывает GHQ подготовить проект конституции 13 февраля SCAP представляет свой проект конституции комитету Мацумото 3 мая SCAP созывает Международный военный трибунал по Дальнему Востоку 7 мая Ибука Масару и Морита Акио основывают Токио Цусин Кьёго (переименованный в «Сони» 1 января 1958 г.) 27 сентября Вступает в силу Закон о регулировании трудовых отношений 1 августа Проводится установочный съезд Японской федерации профсоюзов 16 августа Начинает функционировать Кэйданрэн (Федерация экономических организаций) 7 октября Парламент утверждает новую конституцию 21 октября Парламент принимает Билль о земельной реформе 3 ноября Император объявляет новую конституцию
1947 31 января МакАртур запрещает всеобщую забастовку, назначенную на следующий день 31 марта Обнародован Основной закон об образовании 14 апреля Парламент принимает Антимонопольный закон 3 мая Вступает в действие новая конституция Июль МакАртур распускает главные торговые компании «Мицубиси» и «Мицуи» 1 сентября Вступает в силу Закон о трудовых стандартах, начинает работу Министерство труда 18 декабря Парламент принимает Закон о ликвидации чрезмерной концентрации экономической власти (закон о разукрупнении) 22 декабря Обнародован новый Гражданский кодекс (вступил в силу 1 января 1948 г.)
1948 12 ноября Международный военный трибунал по Дальнему Востоку выносит свой вердикт 23 декабря Тодзо и шестеро других, приговоренных к смерти Международным военным трибуналом по Дальнему Востоку, повешены
1949 7 марта Джозеф М. Додж издает свои экономические предписания для Японии 24 мая Создается ММТП 1 октября провозглашается Китайская Народная Республика
1950 Май — декабрь «Красная чистка» лишает работы тысячи предполагаемых коммунистов 25 июня Начало Корейской войны 8 июля МакАртур приказывает японскому правительству создать Национальный полицейский резерв
1951 11 апреля Трумэн убирает МакАртура с постов SCAP и командующего сил Объединенных Наций в Корее 8 сентября Япония подписывает в Сан-Франциско Мирный договор и американояпонский Договор о безопасности
1952 28 апреля Вступают в силу Мирный договор Сан-Франциско и американо-японский Договор о безопасности 13 августа Япония присоединяется к МВФ и Всемирному банку
1955 20 июля Кабинет создает Агентство экономического планирования 13 октября Партии левого крыла объединяются в Японскую социалистическую партию (ЯСП) 11 ноября Консервативные партии создают Либерально-демократическую партию (ЛДП) Всеяпонский комитет по освобождению бураку, основанный в 1946 г. в качестве преемника довоенного Суихэйса, меняет свое название на Лигу освобождения бураку Начало эры «стремительного роста»
1956 19 октября Представители Москвы и Токио подписывают Советско-японскую Совместную декларацию
1960 Май — июнь По всей стране проходят демонстрации протеста против американо-японского Договора о безопасности, вынуждая уйти в отставку премьер-министра Киси 23 июня Парламент одобряет обновленный американо-японский Договор о безопасности 27 декабря Кабинет Икэда принимает План по удвоению доходов в качестве официальной политики
1961 1 октября Открывается движение «поездов-пуль» 10 октября В Токио открываются Олимпийские игры
1965 22 июня Токио и Сеул заключают Корейско-японский договор 3 августа Вступает в действие Базовый закон о предотвращении загрязнения окружающей среды
1968 17 октября Кавабата Ясунари получает Нобелевскую премию в области литературы По производству товаров и услуг Япония обгоняет Западную Германию и все остальные капиталистические страны, за исключением Соединенных Штатов
1969 10 июля Правительство принимает Закон о специальных мерах и предпринимательстве относительно ассимиляции
1972 5 мая Окинава возвращается Японии 29 сентября Япония признает КНР в качестве законного правительства Китая
1973 Нефтяной кризис положил конец эре «стремительного роста»
1976 4 февраля С заявлений в сенате Соединенных Штатов о коррумпированности бывшего премьер-министра Танака и других японских политиков начинается скандал вокруг Локхида
1978 12 августа Китайско-японский Договор о мире и дружбе нормализует отношения между двумя странами
1980 Декабрь Нантонаку, курису-тару («Некоторым образом, кристалл») становится бестселлером
1983 26 января Танака Какуэй признается виновным в получении взяток от Локхида
1984 27 мая Общество Утари создав проект закона, согласно которому гражданские права айнов значительно увеличивались
1985 17 мая Парламент принимает Закон о равных возможностях при найме на работу (вступил в действие 1 апреля 1986 г.) 22 сентября Основные торговые нации подписывают Соглашение Плаза
1986 1 апреля Вступает в действие Закон о равных возможностях при найме на работу
1987 По доходам на душу населения Япония обогнала Соединенные Штаты
1989 7 января Умирает император Сёва 8 января Хэйсэй официально становится новым монархом 3 июня Скандал с новобранцами приводит к падению кабинета Такэсита 26 июня Ассоциация корейской молодежи в Японии отправляет письмо Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций, в котором излагались основные требования корейцев, проживающих в Японии
1990 На бирже Никкэй отмечено падение на 40 % по сравнению с уровнем декабря 1989 г.; начинается десятилетие экономического недомогания
1993 27 марта Заместитель премьер-министра Канэмару Син арестован по обвинению во взяточничестве 9 августа Хосокава Морихиро становится первым с 1954 г. премьер-министром, не принадлежащим к ЛДП
1994 10 декабря Оэ Кэндзабуро вручают Нобелевскую премию в области литературы Серия самоубийств среди учащихся средних школ привлекает общественное внимание к проблеме насилия в школе
1995 17 января Великое землетрясение Хансин уносит тысячи жизней обитателей Кобэ и его окрестностей
1997 3 января «Саны», седьмой по значимости брокерский дом Японии, объявляет о своем банкротстве 17 ноября Падение «Хоккайдо Такусоку», вызванное невозможностью вернуть взятые кредиты 26 ноября «Ямаичи», один из четырех крупнейших брокерских домов Японии, заявляет о своем добровольном закрытии 15 декабря Квартальный обзор Банка Японии уровня делового доверия отмечает в корпоративном секторе наличие глубокого пессимизма по поводу экономических перспектив Японии Молодежная преступность вырастает на 20 % по сравнению с уровнем предыдущего года, достигая наибольших масштабов с 1975 г.
ГЛАВА 15
Годы оккупации
30 августа 1945 г. самолет генерала Дугласа МакАртура поднялся в воздух с Филиппин и взял курс на Японию. Во время этого путешествия МакАртур то дремал, то беседовал со своими адъютантами о своем видении грядущей оккупации поверженной вражеской страны. Его он выражал просто: искоренить в сознании и поведении японцев те моменты, которые порождают агрессивность, а вместо них посеять зерна демократии. Когда в 14.05 его самолет приземлился на военно-воздушной базе Ацуги, расположенной к югу от Токио, МакАртур впервые продемонстрировал японцам свою невероятную способность к драматическим жестам, которая определит тональность его дальнейших действий. Дверь самолета открылась, и генерал МакАртур, чьи войска поставили Японию на колени, появился из нее без оружия и в рубашке. Он медленно огляделся, а затем не спеша спустился на покрытую гудроном взлетно-посадочную полосу. «Из Мельбурна в Токио. Это был долгий путь», — эти лаконичные фразы были первыми словами, произнесенными им в Японии{323}.
Прибытие МакАртура — без речей, шумихи и парада войск — с одной стороны, успокоило тех японцев, которые боялись грубой военной оккупации, а с другой — продемонстрировало, что генерал рассчитывает на сотрудничество со стороны своих врагов в деле демократизации страны и возвращения ее в разряд мирных наций. МакАртур на протяжении последующих нескольких дней продолжал общаться с внешним миром посредством символических жестов. Когда 2 сентября японские и американские представители собрались на борту американского линкора «Миссури», стоявшего в Токийском заливе, для подписания официального акта о капитуляции, единственным украшением аскетически оформленной палубы являлись два американских флага. Одним из них был тот, который развивался над Белым домом в то утро, когда было совершено нападение на Перл-Харбор. Вторым был флаг Старой Славы, на котором была изображена тридцать одна звезда. Именно этот флаг был поднят на мачте корабля коммодора Перри, когда он почти сто лет назад входил в эту же самую бухту, чтобы заставить сёгунат отказаться от политики национальной самоизоляции. Мы одержали победу, намекал МакАртур, и начинается второе открытие Японии.
Американцы и японцы, МакАртур и Ёсида
На бумаге оккупация Японии являлась совместным предприятием союзнических сил. Комиссия по Дальнему Востоку (Far Eastern Commission, FEC), состоявшая из представителей 11 (впоследствии — 13) стран и размещавшаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, занималась выработкой общей политики. В подчинении FEC находились Союзнический совет по делам Японии (Allied Council for Japan, ACJ, согласно сложной терминологии периода оккупации) и его представитель, Высшее командование союзных держав (Supreme Commander of the Allied Powers, SCAP). Этим термином обозначалась как персона, так и возглавляемая ею служба, занимавшаяся осуществлением повседневной оккупационной политики. Роль исполнительного органа при FEC играл размещенный в Токио Союзнический совет по делам Японии, в состав которого входили представители Соединенных Штатов, Советского Союза, Китая и Австралии. Созывался он по мере необходимости, для обсуждения насущных вопросов и выработки рекомендаций для SCAP по поводу наилучших способов осуществления стратегических мер, разработанных FEC. Практика, однако, не всегда соответствовала теории. Соединенные Штаты вынесли на своих плечах основную тяжесть войны на Тихом океане, и они стремились взять на себя всю полноту ответственности за разработку и осуществление оккупации своего бывшего врага. Государственный департамент начал разрабатывать планы оккупации еще в 1942 г., когда американские силы на Тихом океане все еще находились в состоянии обороны. К лету 1945 г. разработчики американской политики пришли к согласию по ряду приоритетов, которые они официально представили в «Первоначальной политике Соединенных Штатов по отношению к Японии после капитуляции». На первое место были поставлены задачи по расчленению Японской империи, пересмотру конституции в сторону усиления роли парламента, ликвидация конгломератов дзайбацу и разрыв связей между синто и руководством страны. Завершив свои приготовления, американское правительство сделало все, чтобы превратить FEC в машину для утверждения своей политики. Ни одно из решений FEC, например, не могло быть осуществлено без одобрения со стороны представителя США. Еще одно положение предоставляло Соединенным Штатам право издавать «односторонние временные директивы» в случае, если комиссия не сможет быстро реагировать на возникшие проблемы. К этой мере Соединенные Штаты прибегали несколько раз. Более того, МакАртур превратил ACJ, который в годы оккупации собирался 162 раза, в дискуссионный клуб, лишенный всякого влияния. 14 августа 1945 г. МакАртур был назначен на должность SCAC. Он был согласен с ранними политическими рекомендациями, разработанными Вашингтоном, видя в них те меры, которые позволят осуществить его собственную масштабную задачу по превращению Японии в развитую демократическую страну и мирного соседа для всех. Соответственно, он обычно избегал участия в заседаниях ACJ, а когда он все-таки на них появлялся, то особо не прислушивался к тому, что говорят делегаты. Подобным образом МакАртур обычно клал под сукно меморандумы ACJ. Вместо них он посылал совету короткие записки, информирующие делегатов о том, что он уже принял меры в соответствии со своими собственными планами. Вскоре он отказался и от этого проявления вежливости. «Директивы SCAP первоначально поступали в письменном виде, затем их стали передавать устно, а потом они и вовсе перестали приходить», вспоминал один из чиновников. В конце концов влияние ACJ перестало выходить за пределы помещения, где он собирался на свои заседания. Находясь между FEC и ACJ, МакАртур использовал любую возможность для того, чтобы лично влиять на события. Как SCAP, он и на самом деле обладал значительной властью, включая право распускать парламент, подвергать цензуре прессу, распускать политические партии и издавать административные директивы, имевшие силу закона. Он был, как о нем кто-то сказал, голубоглазым сёгуном. МакАртур и не собирался ломать подобный свой имидж в глазах японцев. Он совершенно сознательно выбрал в качестве своей штаб-квартиры здание страховой компании «Даи-Ичи». Это также было символом. Здание «Даи-Ичи», расположенное напротив императорского дворца, было одним из немногих сооружений европейского стиля, сохранившихся в разбомбленном Токио. Его отчетливый силуэт возвышался надо рвом, окружавшим императорскую резиденцию. Более того, когда советники монарха пригласили SCAP на встречу с императором, МакАртур вместо этого вызвал его в личную резиденцию генерала, расположенную в здании бывшего американского посольства. На знаменитой фотографии, запечатлевшей это событие, изображен долговязый генерал, одетый в защитного цвета рубашку с открытым воротом и без галстука. Он возвышается над миниатюрным монархом, аккуратно одетым в официальный фрак. Это было графическое сопоставление фигур и костюмов, которое не должно было оставлять сомнений по поводу того, кто является победителем, а кто — побежденным. «Скажите императору…» — начал МакАртур свою речь через переводчика. При всей высокопарности его языка и публичном позерстве, МакАртур, однако, не мог в одиночку определять сущность и направление реформ. Вашингтон решил, что оккупация Японии должна быть опосредованной. Это значило, что японская бюрократия оставалась на месте. Она получала инструкции со стороны параллельных агентств, или секций, входивших в состав Генеральной штаб-квартиры союзных держав (Allied Powers General Headquarters, или GHQ). Ее штат состоял из приблизительно 3000 американцев, находившихся под началом МакАртура. Сам он предпочитал относиться к сотрудникам GHQ так же, как он относился к своим боевым офицерам, ставя перед ними задачу, а затем отправляя их в сражение. К счастью для него, большинство ключевых фигур в его организации разделяли его мнение относительно того, что толкнуло Японию на путь войны и тоталитаризма. Их энтузиазм и упорный труд зачастую быстрее продвигали реформы, чем того можно было ожидать. Годы оккупации были наполнены такими примерами самоотверженной работы, как история лейтенанта Этель Уид. Она входила в состав Секции гражданской информации и образования GHQ. Будучи горячим защитником прав женщин, она в 1945 и 1946 гг. исколесила на своем джипе всю Японию, встречаясь с женщинами разных возрастов и социального происхождения, посещая вместе с ними бани в жаркую весеннюю погоду, и рассказывала им о тех перспективах, которые открывали перед ними новые права. Япония, как отмечала помощница-японка лейтенанта Уид, «была для нее листом белой бумаги, на котором она могла изобразить то, чего желало ее сердце». Несмотря на доминирование МакАртура и энергию сотрудников американских оккупационных органов, японцы в первые послевоенные годы также пытались отстаивать свою позицию. Они отнюдь не были пассивными объектами манипуляции со стороны американских планировщиков, а играли активную роль в определении своего будущего. Японская бюрократия была могучей силой, которая помогала оккупационной администрации выбрать то или иное направление деятельности. Правительство Японии продолжало функционировать, и те чиновники, которые не испытывали симпатий к SCAP, имели хорошие возможности пустить под откос или, по крайней мере, затормозить осуществление планов МакАртура. Другие министры, однако, сплачивались вокруг реформ, предлагаемых оккупационными органами и имевшими сходство с мерами, которые они и их предшественники предпринимали ранее, в довоенные годы. Так, уже в октябре 1945 г. сотрудники Министерства сельского и лесного хозяйства разработали проект земельной реформы. При этом они не пользовались указаниями со стороны GHQ. Проект земельной реформы включил в себя многие положения, связанные с проблемами арендаторов, проявившихся в довоенный период. С японской стороны символическим противовесом МакАртуру был Ёсида Сигэру, который семь лет занимал пост премьер-министра, в период с весны 1946 г., когда он сформировал свой первый кабинет, и до декабря 1954 г. Будучи дипломатом, Ёсида до войны занимал различные посты в японских представительствах в Китае и западных странах. Пика его дипломатическая карьера достигла в 1936 г., когда он был назначен послом в Великобританию. В 20-е и начале 30-х Ёсида был сторонником решительной политики по отношению к Китаю. По его мнению, она помогла бы сохранить мир и, одновременно, позволила бы Японии расширить свое экономическое влияние на Северную Азию. Но он также настаивал на сотрудничестве с Западом, которое было необходимо для того, чтобы добиться подтверждения роли Японии на азиатском континенте. Он был членом «англо-американской группы», существовавшей в Министерстве иностранных дел, и в таком качестве Ёсида выступал резко против Тройственного пакта, заключенного в 1940 г. Раздраженный союзом Японии с Германией, он провел военные годы как простой гражданин, а весной 1945 г. даже оказался в тюрьме, где провел 2 месяца за свою роль в создании группы ЁХАН-СЕН. Имидж Ёсида как «интернационалиста» и тюремное заключение обусловили хорошее к нему отношение со стороны SCAC. Благодаря оккупационным властям, в первых двух послевоенных кабинетах он занимал пост министра иностранных дел. Возможно, по причине своего почтенного возраста (ему было 67 лет, когда он впервые получил эту должность) Ёсида не терпел выступлений против своей политики. Об этом свидетельствовала и его кличка, Ёсида-Одиночка. Но его другое прозвище, Карманный Черчилль, более точно отражало не только его любовь к сигарам и высокомерному поведению, но также и пристрастие к консервативной внутренней и твердой внешней политике, которое сыграло хорошую службу долгосрочному экономическому развитию страны. Он был истинным патриотом, который считал, что 30-е и первая половина 40-х годов были заблуждением, досадным уходом с пути демократии и капитализма, проложенного просвещенным правлением периодов Мэйдзи и Тайсо. Более того, он думал, что позор военных лет должен был лечь на плечи кучки милитаристов и их приспешников. Соответственно, рассуждал он, оккупация должна состоять в легкой домашней уборке. За ней последуют стимулирующие реформы, которые восстановят экономику страны и превратят Японию в стабильного члена международного сообщества наций. Такой подход заставлял его становиться в оппозицию и даже иногда действовать вопреки реформам, осуществляемым SCAC. Однако представляется сомнительным, чтобы реальный вклад Ёсида в разработку курса страны в годы оккупации был столь значительным, как это можно заключить по его риторике, и по крайней мере, он не превосходил вклад МакАртура.
Старые мечты, новые надежды, простые японцы
Осенью 1945 г. свою активность проявили многие, кто был лишен этой возможности в предвоенные годы — женщины, рабочие лидеры и политические активисты левого толка. У них были свои планы относительно перемен, которые должны осуществляться в стране. Многие из этих планов были сформулированы еще в эпоху Тайсо, а затем отодвинуты в сторону в «период чрезвычайной ситуации». Коммунисты, многие из которых были освобождены из тюрем по приказу SCAP, в октябре 1945 г. создали легальную коммунистическую партию Японии. Вместе с другими представителями левых сил, которые рассматривали американцев скорее как «освободительную армию», чем «оккупационную армию», они приступили к формированию профсоюзов и выступили в поддержку программ, которые, с их точки зрения, помогли бы Японии избавиться от своего милитаристского, тоталитарного прошлого. Подобным образом, спустя всего несколько дней после окончания войны, Ичикава Фусаэ создала Женский комитет послевоенных контрмер. Немного позже, в том же году, она организовала и стала председателем Новой лиги японских женщин. Эта ассоциация выступала за расширение избирательных прав женщин. Многие простые японцы испытывали желание вернуться к старым мечтам. Лейтенант Уид, когда она начинала свое путешествие по Японии, могла нарисовать на чистом листе бумаги все, что ей заблагорассудится. Но эти образы остались бы бессмысленной мазней, если бы японские женщины не выстроили их в стройную картину будущего. Именно их поддержка, связанная с деятельностью таких женщин-лидеров, как Ичикава, и с воспоминаниями о борьбе межвоенного периода обеспечила успех закону, принятому 17 декабря 1945 г., который предоставил женщинам избирательные права. Из 79 женщин, боровшихся за места в Палате Представителей на первых послевоенных выборах, проводившихся в апреле 1946 г., 39 одержали победу. В апреле женщины толпами шли на участки для голосования. На этих выборах 67 % женщин воспользовались предоставленным им правом. Это было меньше аналогичного показателя у мужчин, который достиг невероятной цифры в 79 %. Однако из-за того, что многие мужчины были убиты или находились вдали от родины, ожидая возвращения с воинской службы, в абсолютном счислении в голосовании приняло участие больше женщин (13,8 миллиона), чем мужчин (12,8 миллиона). Если желания прошлого служили путеводной звездой для теперешнего вдохновения, то травма, нанесенная войной и капитуляцией, также повлияла на представления японских мужчин и женщин о лучшем будущем. Для большинства представителей среднего класса и рабочих осенью 1945 г. нехватка ощущалась во всем: в работе, жилье, пище и медикаментах, надеждах и мечтах. По грубым прикидкам SCAP, война стоила Японии трети всех ее богатств и половины потенциальных доходов. К концу 1947 г. в страну вернулись почти 6 миллионов бывших военнослужащих и гражданских лиц. Все они включились в жестокую борьбу за рабочие места в условиях экономики, которая по-прежнему находилась в состоянии разрухи. Тяжесть ситуации усугублялась инфляцией. Даже несмотря на то, что правительство ввело контроль над ценами на широкий спектр продуктов питания и промышленных товаров, необходимых в повседневной жизни, в 1946 г. цены на них выросли на 539 % и еще на 336 % — в 1947 г. В хаосе поражения уровень жизни в сельской местности составлял лишь 65 % от довоенного, а в городах — всего 35 %. Трудно преувеличить скудность жизни первых месяцев, даже первых лет мира. Японцы называли свои города яки-но-хара («выжженные поля»). Первые американцы, прибывшие в Токио, были шокированы степенью разорения. «Больше всех страдал маленький человек», писал один журналист, поскольку «ужасные бомбардировки» разрушили «целые рабочие районы»{324}. Более того, «между Иокогамой и Токио на протяжении многих миль все было уничтожено. Лишь трубы бань, остовы каменных домов и случайно сохранившиеся прочные здания с тяжелыми железными ставнями подобно осколкам зубов торчали над выжженной плоской равниной». Те счастливчики, у которых в предместьях или в расположенных вокруг городов деревнях сохранились дома, давали приют своим родственникам и друзьям. В японских городах домом для десятков тысяч семей стали наспех сооруженные кварталы, где люди теснились в жалких лачугах, построенных из обгоревших кусков дерева, упаковочной бумаги и других подобных обломков. Те, кому повезло меньше остальных, в том числе военные вдовы и сироты, ютились в остовах сгоревших троллейбусов и автобусов, на подземных перронах основных железнодорожных вокзалов и даже в пещерах, вырытых в грудах булыжников и битого кирпича. В начале 1947 г. младший брат Тодзо был обнаружен среди бродяг в Осаке, и даже в 1948 г. 3,7 миллиона семей по-прежнему не имели своего жилья. Плохо было не только с жильем, плохо было еще и с пищей. Когда император объявил о капитуляции, большинство японцев уже испытывали трудности с едой. Ситуацию ухудшили неурожаи 1945–1947 гг., вызванные плохой погодой, разрушением транспортных путей и систем распределения, отсутствием удобрений, изношенностью техники и истощенностью фермеров. Как и в последний год войны, люди были вынуждены вместо риса питаться ячменем и картофелем. В муку для выпечки хлеба добавляли молотые желуди и опилки, а источником протеина служили черви, кузнечики, крысы и лягушки. Соединенные Штаты помогли избежать массового голода зимой 1945/46 г., направив в Японию транспорты с пшеницей, кукурузной мукой, сухим молоком и вяленым мясом, однако еще долгое время над каждым японцем витала тень голода. В 1947 г. средняя семья тратила на продукты питания 70 % своих доходов — в два раза больше, чем самые бедные городские рабочие во времена Маньчжурского инцидента. Но даже при этом большинство людей в день потребляли в среднем 1200 калорий. Это было в два раза меньше того количества, которое правительство называло как необходимое для взрослого человека. Нищета и убожество середины и 2-й половины 40-х годов создавали благоприятные условия для возникновения эпидемий. С 1945 по 1948 г. около 650 000 человек заразились холерой, дизентерией, тифоидной лихорадкой, дифтерией, менингитом, полиомиелитом и другими болезнями. В условиях разрушенной системы здравоохранения и острой нехватки медикаментов около 100 000 из них умерли. Еще больше жизней унес старый враг, туберкулез. В 1947 г. его жертвами стали около 150 000 человек, и до 1951 г. от этой болезни ежегодно умирало более чем по 100 000 человек. В 1947 г. детская смертность составляла 77 случаев на 1000 новорожденных (для сравнения, через 40 лет этот показатель равнялся 5 случаям на 1000). Смертность в 1947 г. достигла 15 на 1000, против 6 на 1000 в конце 80-х. Для некоторых психологическая травма причиняла больше страданий, чем болезни и материальные лишения. Окруженные почетом во время войны, вдовы солдат и матросов после 1945 г. обнаружили, что ни правительство, ни общество более не испытывают сочувствия к их положению. Военные аттестаты более не приходили по почте, а соперничать с вернувшимися с войны ветеранами в борьбе за работу вдовы не могли. В письме, адресованном главной газете страны, одна женщина жаловалась, что ее пропавший без вести муж оставил свой бизнес, чтобы «сражаться за императора», а теперь мир повернулся спиной к ней и ее трем детям{325}. Отношение общества к демобилизовавшимся солдатам также могло быть бессердечным. Бывшие военнослужащие заполучили клеймо неудачников, которые не смогли защитить свою страну. А когда до средств массовой информации начали доходить истории о зверствах, совершенных в Китае и Юго-Западной Азии, на них и вообще начали смотреть как на чудовищ, совершивших неслыханные злодеяния. Один ветеран писал, что когда он вернулся в Японию, «мой дом был сожжен, мои жена и дети пропали. Ту горстку денег, которая у меня была, тут же съели высокие цены, и япревратился в жалкое существо. Ни один человек не находил для меня доброго слова. Наоборот, все бросали на меня взгляды, полные вражды». К общей картине страданий и недовольства добавлялись рассказы о широкомасштабной коррупции и людях, которые наживали в это время богатства за счет обнищания всех остальных. Уголь, бензин, сигареты, пиломатериалы, цемент, листовая сталь и другие подобные товары исчезали тоннами благодаря деятельности гангстеров, нечистых на руку промышленников и жадных офицеров, нашедших способы разворовывания военных запасов. Воровство приобрело такие масштабы, что в одном из правительственных докладов, вышедшем в июле 1947 г., было сделано заключение, что «подобное исчезновение товаров и люди, наживающиеся подобным образом, представляют собой раковую опухоль, угрожающую экономике страны». Наличном уровне, каждый сталкивался с историями о демобилизованных военнослужащих, которые тайно тащили домой рюкзаки, забитые награбленным добром, или о негодяях, которые стягивали одежду с покойников и воровали в госпиталях и санитарных пунктах одеяла, испачканные кровью и мокротами. Подобные истории не были плодом воображения отчаявшихся людей. Изрядное количество незаконных товаров можно было встретить на 17 000 так называемых рынках под открытым небом, которые были разбросаны по всей стране. Разумеется, владельцы ларьков и прилавков на подобных рынках продавали и вполне легальные товары: старую одежду, сосуды и кастрюли, сделанные из использованных артиллерийских гильз, а также продукты питания, привезенные из сельской местности. Тысячи семей зависели от этих рынков, поскольку на них можно было приобрести свежие овощи и предметы домашнего обихода, которых нельзя было отыскать в других местах. Но все, что там продавалось, будь то законная продукция или товары, украденные из какого-нибудь вагона, стоило очень и очень дорого. Продавцы, многие из которых были вчерашними солдатами или заводскими рабочими, лишившимися своих мест, безжалостно выжимали каждую йену из покупателей. В то же время те вещи, которые покупатели приносили для обмена, они соглашались брать лишь за мизерную цену. Когда истощенная женщина пришла вместе со своими детьми на рынок, пытаясь раздобыть еды, один мелкий предприниматель назвал дорогое кимоно довоенной работы, которое она принесла для обмена, побитыми молью лохмотьями, только чтобы снизить на него цену. Позже торговцы могли даже сожалеть о своих поступках, но все они помнили, что один день на рынке приносит им сумму, равную месячному заработку квалифицированного рабочего, и эта мысль вызывала у них зуд алчности. Люди самыми разными способами пытались противостоять трудностям послевоенных лет. Некоторые убегали от реальности при помощи алкоголя, другие уходили в нелегальные сферы деятельности, чтобы раздобыть денег на жизнь. Организованные банды охотились на слабых и уязвимых бездомных подростков, продававших ворованные продовольственные карточки, и нападали на пьяных и бродяг. Женщины становились проститутками. Некоторые «ночные бабочки» ходили по улицам большими компаниями, такими, например, как «банда кровавой вишни», насчитывавшая в своих рядах 50 человек. Большинство, однако, работало индивидуально. Обычно проститутки занимались обслуживанием джи-ай[44], у которых можно было получить сигареты и ликеры, чтобы затем обменять их на черном рынке, или просто отдавались за продукты питания. «Три дня подряд я ничего не ела, — вспоминала одна молодая вдова, жившая в 1946 г. в недрах токийского вокзала. — Затем человек, которого я не знала, дал мне два рисовых шарика. Я с жадностью их проглотила. На следующую ночь он снова принес мне два шарика риса. Затем он попросил меня прийти в парк, потому что ему надо со мной поговорить. Я пошла за ним. Вот так я и оказалась среди презираемой касты «ночных бабочек». Большинство японцев, несмотря на крайнюю истощенность и отчаяние, стиснув зубы, пытались справиться с этой ситуацией, поддержать свой дух и дух семьи в обстоятельствах, которые, казалось бы, были совершенно безнадежными. В конце 1945 г. одна домохозяйка писала: «Наша семья, в которой двое детей 11 и 8 лет, состояла из 4 человек. Думать о нашем будущем — это для нас непозволительная душевная роскошь. Мы слишком озабочены нашей каждодневной жизнью; мы думаем лишь о том, как прожить этот день, и надеемся, что удастся выжить и завтра. Десятидневную норму пищи мы съедаем за 5 дней. После этого нам ничего не остается делать, как идти в поисках продуктов на черный рынок. В неделю мой муж получает 200 йен, в то время как на жизнь нам необходимо 600 йен. Чтобы свести концы с концами, мы продаем все, что можем. Я знаю, что так мы долго не протянем»{326}. Но стойкость подобных людей в конце концов побеждала. Постепенно, шаг за шагом японцы начали восстанавливать свои разрушенные жизни и разоренную страну. Оживив старые мечты и породив новые надежды, люди начали пристально всматриваться в те реформы, которые были разработаны SCAC. В конце концов простые мужчины и женщины Японии стали выступать в качестве активных участников изменений в стране — будь то участие в голосованиях, или поддержка профсоюзного движения, или энергичная поддержка земельной реформы, или тщательное рассмотрение предложений по изменению конституции. В любом случае, немногие пункты, разработанные SCAP, имели в годы оккупации шанс на успех без одобрения со стороны японского народа.Демилитаризация
Три Д — демилитаризация японского общества, демократизация политического процесса, децентрализация власти и богатства — знаменовали собой первую фазу оккупации, продолжавшуюся с 1945 по 1947 г. МакАртур пришел в Японии к непоколебимому выводу, что на путь империалистических завоеваний и в конце концов в войну с Соединенными Штатами и их союзниками эту страну толкнули японские милитаристы, конгломераты дзайбацу и праворадикальные экстремисты. Генерал был убежден, что в войну ее втянула японская «феодальная» сущность. Поэтому простой «уборкой в доме» не обойтись. Оккупационные власти должны подвергнуть глубокому реформированию как японское государство, так и японское общество. МакАртур сформулировал свое видение способов достижения этой цели в обращении, направленном в японское газеты 11 октября 1945 г. В нем он подчеркнул необходимость исправить «традиционный общественный порядок, которому японский народ подчинялся на протяжении столетий». В частности, говорил он, мероприятия, направленные на это, должны включать в себя либерализацию конституции, эмансипацию женщин, поощрение создания профсоюзов, введение более либерального образования и «демократизацию» японских экономических институтов. МакАртур начал с демонтажа японской колониальной империи и разрушения военного потенциала. SCAP отобрал у Японии Сахалин, Маньчжурию, Корею, Тайвань и мандат на управление тихоокеанскими островами. Она лишалась территорий, захваченных у Китая. Таким образом, Япония возвращалась в пределы территории четырех основных островов, с которой она начинала в 1868 г. Оккупационные власти в один момент распустили армию и флот, поставив перед собой сложную задачу по демобилизации более 5 миллионов военнослужащих. Почти половина из этого числа по-прежнему находилась за морями. Надо было также вернуть 3 миллиона гражданских лиц, которые проживали в заморских владениях Японии. Для лиц, которые должны были подвергнуться перемещению, это, конечно, было связано с тяжелыми моральными травмами. Сотрудникам SCAP, наоборот, казалось, что все должно пройти гладко, в духе приземления МакАртура на воздушной базе Ацуги. В январе 1946 г. американцы даже вывели с территории Японии одну из двух своих оккупационных армий. Процесс демилитаризации вылился в единую безжалостную чистку, которая в одном из газетных заголовков была названа «бескровной революцией». Сразу после новогодних праздников 1946 г. SCAP издал директиву под зловещим названием «Удаление и исключение нежелательных элементов с общественной службы». Этот документ предусматривал ликвидацию ультранационалистических групп и принуждал японских чиновников создавать «просеивающие комитеты», которые должны были удалять из общественной жизни все «активные проявления милитаризма и воинствующего национализма». Гигантская волна чисток прокатилась по японскому обществу. К ее завершению летом 1948 г. работу потеряли более 200 000 человек. Ни одна социальная группа не осталась незамеченной. Полицейские возвращали свои значки, издатели и журналисты покидали рабочие столы, а политические деятели с великим трудом искали себе новые способы поддержания души в теле. Чистка затронула также некоторых выдающихся людей, которые с симпатией относились к реформам SCAP, таких, например, как Ичикава Фусаэ. Ее на время отстранили от общественной деятельности из-за того, что во время войны она состояла в женских организациях, созданных по указке государства. Чистка вызывала у людей разную реакцию. Тысячи, которые были в ужасе от того, что происходило в их стране в 30-е и 1-й половине 40-х гг., писали письма, в которых указывали на людей, повинных, по их мнению, в этой трагедии. В правительстве многие чиновники считали, что чистка зашла слишком далеко, и ее жертвами стали невиновные люди. Некоторые бюрократы пытались найти способы изменить направленность чистки и ослабить ее воздействие. Неудивительно, что центральная бюрократия практически не пострадала, поскольку гражданские служащие, входившие в состав просеивающих комитетов, были особенно либеральны по отношению к себе и своим коллегам-чиновникам. Только 145 бюрократов лишились своих мест. Правда, 67 из них впоследствии были прощены, поскольку они не являлись членами Будокай (клуба боевых искусств), в который входили полицейские администраторы, занимавшиеся дзюдо и традиционным японским фехтованием. Один из чиновников GHQ встревожился, когда переводчик не совсем верно перевел название клуба как Ассоциация боевых действий. Когда на стол к тому же чиновнику попало письмо, в котором один член клуба подбадривал другого словами: «давай не терять присутствия духа; мы увидим лучшие времена», SCAP настоял на том, чтобы члены клуба были добавлены к списку лиц, которые должны быть подвергнуты чистке. Но никакие усилия со стороны бюрократов не могли спасти тех, кого SCAP решил покарать как военных преступников. В течение войны и после ее завершения союзники отдали под суд около 6000 японцев, в основном за преступления, совершенные на поле боя или против гражданского населения оккупированных стран. Более 900 из них были казнены. 3 мая 1946 г. SCAP создал Международный военный трибунал по Дальнему Востоку «для справедливого и скорого суда и наказания главных военных преступников Дальнего Востока». Перед трибуналом предстали 28 бывших высокопоставленных военных и членов правительства. В последующие месяцы 11 судей, по одному от каждой союзной страны, подписавшей акт о капитуляции, а также от Индии и Филиппин, выслушивали свидетельства об участии обвиняемых в разработке планов японской агрессии, развязывании войны, а также в отдаче приказов об осуществлении преступлений или в потворстве им. Критики суда над военными преступниками заявляли, что SCAP просто желает «правосудия победителей». Участие в разработке военных планов, утверждали они, с технической стороны не является военным преступлением, определение которому давалось в международных конвенциях, подписанных в Гааге и Женеве. Более того, они сожалели, что судьи не уполномочены рассматривать действия американцев, что являлось непростительным упущением для тех, кто хотел призвать к ответу Трумэна за атомную бомбардировку японских городов. Судья от Индии согласился с этой позицией. «Решение об использовании атомной бомбы», отметил он, вызвало «поголовное истребление гражданских лиц и уничтожение их собственности». Поскольку «ничего подобного нельзя найти в действиях обвиняемых», заключал он, все 28 японских подсудимых должны быть оправданы и немедленно освобождены{327}. Тем не менее, после почти двухлетнего разбирательства, суд семерых отправил на виселицу, в том числе Доихара Кэндзи и бывших премьер-министров Хирота Коки и Тодзо Хидэки. Бывшие генералы Араки Садао, Коисо Куниаки и Минами Дзиро были приговорены к пожизненному заключению, равно как и экс-премьер Хиранума Киичиро и Хасимото Кингоро, основатель Общества цветущей вишни. SCAP решил, что Мацуока Ёсукэ был слишком болен для того, чтобы предстать перед судом (он получил последнее католическое причастие и умер в больнице Токийского университета в июне 1946 г.). Обвинения были предъявлены и Киси Нобусукэ, но он не был осужден. Наконец, по непонятным причинам, перед судом не предстал Исивара Кандзи. Император также избежал наказания. Представители Великобритании и Советского Союза в FEC желали и его увидеть среди военных преступников, рассматривая его участие в императорских конференциях как свидетельство того, что он участвовал в сговоре по организации агрессии и допускал проявление жестокости. Против этого мнения выступили некоторые вашингтонские политики, в том числе бывший посол в Японии Джозеф Гру. Их больше впечатляла роль императора в ликвидации инцидента Двадцать шестого февраля, озабоченность, продемонстрированная им осенью 1941-го, когда он приказал Тодзо предпринять последнюю попытку спасти мир дипломатическими методами, а также его решение прекратить боевые действия в 1945-м. Более того, говорили они, если SCAP превратит институт императорской власти в конституционную монархию, то император привнесет стабильность в послевоенную эпоху, обеспечив сотрудничество между представителями гражданской бюрократии и сплотив социальную структуру японского общества. Если убрать трон, опасались другие, правительство и общество могут погрузиться в хаос, что откроет двери коммунистической угрозе. Сам МакАртур был на стороне тех, кто хотел оставить императора в качестве символа государства. Подобно Трумэну, размышлявшему об использовании атомной бомбы, МакАртур предпочел практические соображения моральным. Голубоглазый сёгун понимал, что на протяжении столетий император выступал в роли защитного зонтика для тех, кто правил от его имени. И генерал воспринял эту модель, считая, что монарх побудит свой народ к принятию директив SCAC. Отсутствие защиты сверху, считал МакАртур, поставит под угрозу успех оккупационной политики.Демократизация
SCAP позволил императору остаться, но Америка ожидала от Японии демократизации ее политического процесса, что навсегда изменило бы позицию монарха в японской государственной системе. Довоенные комитеты по планированию предлагали масштабную перестройку японской политической системы, и в октябре 1945 г. американский госсекретарь сформулировал отдельные принципы, которым должен был следовать SCAP: конституция должна была быть пересмотрена в сторону расширения гражданских свобод; кабинет должен стать ответственным перед парламентом, а не императором; наконец, японское правительство должно «получать власть из рук электората и быть ответственным перед ним»{328}. МакАртур целиком и полностью был согласен с этими предложениями. Действуя быстро, он предложил довоенному премьеру Коноэ Фумимаро взять на себя руководящую роль в либерализации японской конституции, а также начал давить на нового премьер-министра, Сидэхара Кидзуро, чтобы тот назначил комитет по выработке отдельных мер по переделке конституции. Однако лишь малое количество лидеров Японии разделяли мнение SCAP о необходимости радикальных изменений. Сидэхара первоначально не спешил исполнять приказания МакАртура. Он публично заявлял, что Япония может достигнуть демократии без изменения существующей конституции. Все, что нужно, заявлял Сидэхара, это принятие нескольких новых законов, таких, например, как распространение избирательного права на женщин. Минобэ Тацукичи также настаивал на том, что демократия может процветать и в условиях конституции 1889 г. Изгнанный в 30-х гг. из парламента и университета за защиту органической теории управления, Минобэ вернулся к общественной деятельности в послевоенный период, став признанным специалистом в области конституции и членом тайного совета. В серии газетных статей, опубликованных в ноябре 1945 г., Минобэ выступил с аргументами против осуществления пересмотра конституции «в условиях чрезвычайной ситуации». Коноэ также старался держаться подальше от идеи проведения коренных реформ. В конце ноября он представил императору доклад, в котором настойчиво требовал сохранения принципа императорского суверенитета, хотя одновременно рекомендовал усилить роль парламента. Но и эта скромная рекомендация умерла в декабре, вместе с самим «благонамеренным сыном судьбы», совершившим самоубийство в день, когда его должны были арестовать как военного преступника. МакАртур, однако, не сдавался, и, под влиянием толчков со стороны SCAP, Сидэхара назначил комитет по пересмотру конституции, в состав которого вошли ученые и бюрократы. Председателем его стал Мацумото Дзодзи, ученый-юрист, который в 30-х непродолжительное время занимал пост министра коммерции и промышленности. Работа комитета была в самом разгаре, когда 1 февраля 1946 г. газета «Майничи синбун» опубликовала то, что она называла проектом конституции, который комитет хочет представить для утверждения правительству и парламенту. Консервативная сущность этого документа была очевидной. С одной стороны, он расширял гражданские права и давал больше полномочий в руки парламенту, в том числе и право назначать кабинеты. С другой стороны, уступки требованиям SCAP были незначительными, и сделаны они были с очевидной неохотой. Права человека, как и в конституции 1889 г., не были возведены в абсолют, и могли быть ограничены законодательством. Более того, комитет Мацумото подтверждал принцип императорского суверенитета и призывал к сохранению японских вооруженных сил. Реакция на проект Мацумото была стремительной и ошеломляюще отрицательной. Пресса высмеивала этот проект за его поверхностность и консерватизм. Так же к нему отнеслись и тысячи простых японцев по всей стране, которые писали редактору насмешливые письма. Что бы ни думали лидеры нации о необходимости пересмотра конституции, самые широкие слои населения, пережившие войну, желали большего, чем просто косметических подправок. Они выступали за такие реформы, которые бы удалили от власти милитаристов, расширили личные свободы и сделали бы невозможным повторение бедствий 30-х и первой половины 40-х гг. Разумеется, как и в 80-х гг. XIX столетия, когда Ито Хиробуми создавал первый «основной закон» японского государства, зимой 1945/46 г., во время работы комитета Минамото, многие политически озабоченные японцы занимались написанием своих собственных конституций. Многие подобные проекты, представленные публике в начале 1946 г., были весьма либеральными и призывали к ограничению прерогатив императора, распространению суверенитета на народ и обеспечению гражданских прав. МакАртур также был разгневан проектом Мацумото. Генерал рассматривал предложенные изменения как совершенно неприемлемые, поскольку они практически не меняли политическую структуру Японии. 3 февраля МакАртур приказал генералу Кортни Уитни, начальнику правительственной секции GHQ, подготовить проект конституции, который мог бы служить «образцом» для кабинета Сидэхара. Всего за одну неделю, работая в бальном зале на шестом этаже здания страховой компании «Да-Ичи», группа сотрудников GHQ — две дюжины кадровых офицеров и бывших гражданских, в том числе несколько юристов, профессоров, журналистов, бывший конгрессмен и вкладчик с Уолл-стрит — подготовила свою собственную версию конституции. Это было невероятное, дерзкое предприятие. Никогда прежде оккупанты не переписывали основной закон вражеской страны. Тем не менее подготовительный комитет подошел к своему заданию, основываясь на принципах идеализма, доверия и, как выразился один из его членов, с духом гуманизма. Как вспоминала другая участница событий, она никогда не испытывала желания наказать японцев или попытаться научить их чему-нибудь. Она и ее коллеги считали своим долгом подготовить такой документ, который поможет создать более демократичную и эгалитарную Японию. Это было тем, чего желали и сами японцы, но они не могли получить этого от своих тогдашних руководителей. После шести дней лихорадочной работы Уитни представил генералу МакАртуру проект совершенно новой конституции. Верховный командующий, очень довольный результатами работы, приказал Уитни раздать экземпляры так называемой Макартуровской конституции членам комитета Мацумото. Весьма символично, что это произошло 13 февраля (в Соединенных Штатах это было еще 12 февраля — день рождения Авраама Линкольна). Встреча носила напряженный характер. Японские представители «выглядели очевидно удивленными и смущенными» по поводу многих аспектов макартуровского проекта{329}. Император продолжал занимать трон, но он более не играл непосредственной роли в политическом процессе. Его особа более не являлась «священной и неприкосновенной», как это утверждалось в конституции 1889 г. Самая первая статья макартуровского проекта лишала хризантемный трон суверенитета и превращала монарха в «символ государства и единства народа, выводящий свое существование из желания народа, с которым разделяет суверенную власть»{330}. Впредь специфические политические обязанности императора должны ограничиваться чисто церемониальными функциями, но даже в этом случае он должен действовать «только по совету и одобрению со стороны кабинета». Макартуровский проект также отделял синтоистскую церковь от государства, заявляя, что «ни одна религиозная организация не может получать никакие привилегии со стороны государства» и что «государство и его органы должны воздерживаться от религиозного образования или иной религиозной деятельности». Этот параграф представлял собой главный шаг на пути к лишению императора его божественности и облачению его в новые, светские одежды. Первый свой шаг к этой цели SCAP сделал 15 декабря 1945 г., издав декрет о лишении всех храмов государственной поддержки и запрещении «распространения доктрин синто в любом образовательном учреждении, существующем, полностью или частично, за счет общественных средств». Подобная практика, заявлял документ, превращала «учение и верования синто в милитаристскую и ультранационалистическую пропаганду, призванную вводить в заблуждение японский народ, которая вела к началу агрессивных воин»{331}. Процесс превращения трона в гражданскую и церемониальную монархию продвинулся еще на шаг в первый день 1946 г., когда император направил средствам массовой информации свой рескрипт, ставший известным как Декларация о человеческой природе. Написана она была преимущественно по причине нажима со стороны GHQ. Документ сообщал японцам, что император не должен отныне считаться акицу-миками («воплощенным богом»). Роль этого эзотерического и темного выражения была весьма важной. Оно не означало, что император является живым сыном бога в западном понимании, но оно не отрицало его мифического и божественного происхождения от Солнечной богини Аматэрасу. Но, чтобы угодить SCAP, английский термин акицу-миками был неправильно переведен как «божественный»: «Связи между мной и моим народом всегда складывались на основе взаимного доверия и привязанности. Они не зависели только от легенд и мифов. Не зиждились они на ложной концепции, что император является божественной особой, что японцы превосходят все остальные расы и что им суждено править миром»{332}. Языковые неточности не особенно заботили SCAP, чиновники которого расценили рескрипт как императорское «отречение от божественности». Позже они подобным образом посчитали, что макартуровская конституция вбивает последний клин между троном и синто. Кроме вопросов императорского суверенитета и его роли в послевоенной Японии, комитет Мацумото также высказал свое мнение по поводу статьи 9 — знаменитого «мирного параграфа». В своем окончательном виде статья 9 утверждала, что «японский народ навсегда отвергает войну как суверенное право нации и угрозу применения или применение оружия как средство разрешения международных конфликтов». Затем в ней говорилось, что «сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другой военный потенциал, никогда не будут содержаться». Неизвестно, кто первый выдвинул идею мирного параграфа. Концепция, вероятно, исходила от самого МакАртура, хотя впоследствии Сидэхара заявлял, что это он предложил ее генералу во время встречи, состоявшейся в начале 1946 г. Но, независимо от происхождения идеи, ее присутствие в макартуровском проекте напугало членов комитета Мацумото, поскольку ни одно другое государство прежде никогда на уровне основного закона не отказывалась от войны как «суверенного права» нации. Другие положения макартуровского проекта были менее шокирующими, но и они вносили значительные изменения в политическую систему Японии. Весьма последовательно документ GHQ утверждал принцип превосходства парламента. Он объявлялся «высшим органом государственной власти» и «единственным законодательным органом государства». Более того, новый «основной закон государства» сделал кабинет коллективно ответственным перед парламентом. В частности, он наделял парламент правом назначать премьер-министра и вводил положение, согласно которому и премьер, и все правительство должны уйти в отставку в случае, если парламент вынесет вотум недоверия. Далее конституция усиливала роль парламента путем запрещения любых непарламентских органов, таких, например, как Тайный совет, который прежде, вместе с кабинетом и парламентом, участвовал в формировании национальной политики. Тридцать одна статья макартуровского проекта утверждала гражданские права японского населения. В частности, они должны были «гарантироваться» в качестве «вечных и нерушимых прав». То есть они считались абсолютными и не могли быть объектом ограничения со стороны закона, как это было предусмотрено в конституции 1889 г. и проекте Мацумото. Многие из них, такие как «право на жизнь, свободу и поиски счастья», были знакомы любому, кто изучал американскую конституционную систему. Одна статья утверждала «всеобщее избирательное право для совершеннолетних», в то время как другие обещали свободу собраний и прессы, утверждали, что ни один человек не может быть арестован «без немедленного предоставления ему права на защиту», и заявляли о том, что люди защищены в своих домах от несанкционированных обысков и конфискаций. Достаточно любопытным является то, что макартуровский проект был даже более либеральным, чем его американский прототип, поскольку он также гарантировал академическую свободу, свободное университетское образование, заботу об общественном здоровье и социальной безопасности, свободу выбора занятий, брак, основанный на взаимном согласии, право рабочих на организации и коллективные соглашения, а также право каждого на «поддержание минимального уровня здорового и культурного проживания». Мацумото, встревоженный сутью представленного ему документа, вновь побежал за поддержкой к премьер-министру Сидэхара. Когда Уитни передал проект GHQ комитету, докладывал Мацумото, генерал недвусмысленно намекнул, что если японцы откажутся следовать принципам предложенного американцами документа, SCAP «не будет отвечать за то, что может произойти с императором». Под этим подразумевалось, что монарх предстанет перед судом как военный преступник{333}. Обдумать это Уитни предлагал незамедлительно, пока он со своими помощниками будет прогуливаться по саду, чтобы «насладиться немного вашим атомным солнцем». Это циничное высказывание не оставляло никаких сомнений в том, кто заказывал музыку. Более того, интенсивные общественные дебаты вокруг конституционализма сильно сузили премьер-министру поле для маневра. Повернуться спиной к макартуровскому проекту значило подвергнуть риску еще более интенсивной критики со стороны общественности документ Мацумото, в котором положения, предложенные SCAP, почти отсутствовали. В то же время эти положения были весьма популярны среди японцев, особенно длинный список личных прав и свобод. Сидэхара начал искать встречи с МакАртуром, чтобы обсудить возможности компромисса. 22 февраля 1946 г. между ними состоялась трехчасовая дискуссия. Генерал был непоколебим. Верховный командующий еще раз, тщательно выговаривая слова, сказал, что он поддерживает базовые принципы, высказанные в проекте GHQ. Также он повторил, что Британия и Советы будут настаивать на ликвидации монархии, если не произойдет либерализации конституции. Сидэхара сдался и приказал Мацумото созвать его комитет и пересмотреть свой проект в соответствии с американским образцом. 4 марта команда GHQ рассмотрела и одобрила новую версию. На следующий день Сидэхара представил ее японскому кабинету. Ее основные положения были весьма близки к макартуровскому оригиналу. Единственным существенным отличием был пункт о двух палатах парламента. Это положение было согласовано 22 февраля, во время встречи МакАртура и Сидэхара. Дальнейшее продвижение проекта шло достаточно гладко. 6 марта 1946 г. кабинет разослал текст в средства массовой информации. Все основные политические партии высказались в поддержку новой конституции. Исключение составила коммунистическая партия, которая обвиняла императора в военных преступлениях и хотела создать Японскую народную республику. Затем документ был направлен в парламент, который утвердил его голосованием, состоявшимся 7 октября. Этому предшествовали внесения кое-каких правок, которые касались лексики, а также горячие выступления консерваторов, возмущенных перемещением суверенитета с императора на народ и считавших, что новая конституция может негативно повлиять на «национальную идею государственности» (кокутай). Наконец, 3 ноября 1946 г. — в девяносто четвертую годовщину рождения императора Мэйдзи — его внук, император Сева, провозгласил новую конституцию, которую он объявил поправками к документу 1889 г. Несмотря на новые положения об отделении церкви от государства, император, по освященной временем традиции, сообщил о своих действиях своим предкам во время специальных церемоний, проведенных в трех основных святилищах синто, и 3 мая 1947 г. конституция вступила в силу.Децентрализация
Еще одной целью американской оккупации Японии была ликвидация тех очагов концентрации власти и богатства, которые были созданы в Японии элитами военного времени. Следовало демонтировать те структуры, через которые эти элиты осуществляли свои, предположительно, преступные деяния, и создать условия для возникновения новых учреждений, которые будут поддерживать SCAP при проведении реформ. Так, на рубеже 1945–1946 гг., сотрудники GHQ получили из здания «Даи-Ичи» приказ разрушить конгломераты дзайбацу, ускорить рост профсоюзов, осуществить программу земельной реформы в сельской местности, принять из рук центральной бюрократии контроль над образованием и переписать Гражданский кодекс. Как и в случае многих других инициатив оккупационных властей, оригинальное решение разрушить крупнейшие японские конгломераты, или, как иногда говорили, заняться «разорением дзайбацу», пришло в голову политикам в Вашингтоне. Согласно официальной точке зрения, статистические данные свидетельствовали о том, что основные дзайбацу контролировали, вероятно, 3/4 планировщиков. Из этой информации вытекало два предположения. Одно из них состояло в том, что главы этих конгломератов вступили с милитаристами в сговор ради расширения заморских владений Японской империи, спровоцировав, таким образом, войну с Китаем и Соединенными Штатами. Огромные дзайбацу были, по словам одного известного американского антимонополиста, «архитекторами безответственного руководства Японии»{334}. Второе предположение состояло в том, что богатство таких масштабов по определению своему противоположно развитию демократии. В конце лета 1945 г. в Японию была направлена миссия Госдепартамента для исследования крупного бизнеса. В своем отчете глава этой миссии написал, что «концентрация экономического контроля дает возможность дзайбацу продолжать придерживаться полуфеодальной практики по отношению к своим работникам, подавлять рост заработной платы и препятствовать развитию независимых политических идеологий. Таким образом, формирование среднего класса, который был полезным в противостоянии милитаристским группам в других демократических странах, было заторможено»{335}. Эти слова вызвали горячее одобрение со стороны SCAP. Японцы не оставили без внимания устремления американских оккупационных властей. Лидеры японского бизнеса признавали, что некоторое разукрупнение дзайбацу неизбежно, и они поспешно разработали свои собственные планы, надеясь успеть выполнить всю работу скальпелем, прежде чем американцы возьмутся за топор. Так, в начале ноября 1945 г. дзайбацу «Ясуда» выдвинула предложение экономической реформы, которое немедленно получило поддержку со стороны конгломератов «Мицуи», «Мицубиси» и «Сумитомо». Согласно плану «Ясуда», все компании, входившие в состав четырех основных дзайбацу, должны продать свои акции с публичных торгов, после чего директора компаний, вместе со всеми членами семьи дзайбацу, работающими на предприятиях, откажутся от своих должностей. МакАртур 6 ноября 1945 г. принял предложение Ясуда, но с той оговоркой, что SCAP оставляет за собой право предпринимать дополнительные, более радикальные меры. В конце концов, не без влияния со стороны Уитни, МакАртур решил, что дзайбацу нуждаются в более масштабной чистке, чем просто уход директоров и членов семей. Соответственно, начиная с января 1947 г., около шестисот руководящих сотрудников компаний увидели свои имена в списках уволенных. Сотни других управленцев ушли сами, не дожидаясь, пока их попросят освободить занимаемые ими места. В итоге из компаний ушли около 15 тысяч бизнесменов, причем высший уровень руководства потерял почти каждого четвертого своего представителя. Однако, к растущему разочарованию некоторых чиновников GHQ, многие из этих людей вскоре всплыли в новых корпоративных организациях. Ведь им было запрещено работать только в определенных компаниях, а не работать вообще. Так, уволенный глава банка Мицуи стал председателем совета недавно созданной компании «Сони», которая сильно выиграла от использования его опыта и личных связей с другими представителями японской бизнес-элиты. В 1947 г. SCAP активизировал свою кампанию против дзайбацу. В апреле американские оккупационные власти заставили парламент принять Антимонопольный закон, который запрещал картели и монополистические компании. В июле, как только закон вступил в силу, МакАртур потряс японский деловой мир, отдав приказ о роспуске двух гигантских корпораций — главных торговых компаний «Мицубиси» и «Мицуи». Соответственно, в конце 1947 г., МакАртур заставил парламент принять Закон о ликвидации чрезмерной концентрации экономической власти. Он предписывал разукрупнять любую компанию, которая доминировала в каком-либо секторе рынка до такой степени, что не позволяла появляться новым компаниям. Когда GHQ заявила, что новый закон может быть применен по отношению к более чем тысяче японских фирм, реакция в японских деловых кругах была весьма негативной. Даже многие из тех, кто приветствовал ликвидацию основных дзайбацу, теперь выступали против новой меры. Но МакАртур твердо стоял на своем. Вечером 18 декабря парламент лихорадочно проводил последнее заседание в том году. В каждом кабинете парламента присутствовали те, кто поддерживал SCAC. Они периодически отводили назад стрелки часов, чтобы они показывали не больше 23.59, оттягивая, таким образом, момент завершения сессии. В конце концов обе палаты неохотно утвердили уже обладавший дурной славой Закон о разукрупнении, как его сокращенно называли. Мощным средством в деле децентрализации экономической власти МакАртур и его союзники в GHQ считали сильное профсоюзное движение. Посредством установления более справедливого баланса между трудом и управлением, считал SCAP, можно было достигнуть значительных успехов. В частности, отмена «феодальных» отношений между работниками и работодателями должна была скорректировать чрезмерный перекос в распределении доходов, который был характерным для межвоенного периода, способствовать росту промышленной демократии и не позволять в будущем пробиться росткам милитаризма. В то же время, надеялся МакАртур, улучшение условий труда и более высокие зарплаты создадут прочный фундамент для среднего класса, который будет выступать в поддержку всей программы реформ, разработанной SCAP. Ближе к концу 1945 г. МакАртур объявил о своем желании повысить статус японских рабочих путем наделения их правами создавать организации, заключать коллективные договора и проводить забастовки. В данном случае оказалось, что он стучал в открытую дверь, поскольку многие японские бюрократы уже значительно расширили права рабочих. Их отношение к этому вопросу во многом отражало идеи, которые ранее были развиты «пастырями людей», работавших в Министерстве внутренних дел. Они, в эпоху Тайсо, выступали за более действенное фабричное законодательство и поддерживали развитие страхования здоровья для рабочих, поскольку это, как они надеялись, уменьшит количество конфликтов, которые, казалось, были неизбежными спутниками индустриализации западных стран. По мере погружения Японии в Китайскую трясину в 30-х гг. бюрократы все чаще ориентировали свои усилия по урегулированию споров между рабочими и управляющими в тех направлениях, которые способствовали мобилизации военного времени. Создание в ноябре 1940 г. Санпо знаменовало собой конец независимого рабочего движения. Новые возможности послевоенных лет приободрили защитников рабочих среди бюрократии. С ними были солидарны и другие японцы, которые считали необходимым содействовать деятельности профсоюзов, чтобы избежать полного развала экономики. 11 октября 1945 г. МакАртур публично объявил экономическую демократизацию в качестве одной из первоочередных целей SCAC. А за несколько дней до этого японский кабинет сформировал группу для разработки модели рабочего законодательства, в которую вошли бюрократы, ученые и рабочие лидеры. Впечатленный этим, SCAP практически не вмешивался в разработку Закона о профсоюзах, который был принят парламентом в декабре 1945 г. В значительной степени этот документ отражал то, чего, как казалось японцам, хотел МакАртур. Он повторял положения Акта Вагнера, принятого в Соединенных Штатах в 1935 г. и гарантировавшего всем рабочим как частного, так и государственного сектора (за исключением пожарных, полицейских и сотрудников тюремной охраны) права на организацию, коллективные договора и забастовки. Помимо статей, заимствованных из зарубежных образцов, Закон о профсоюзах содержал пункты, которые практически слово в слово повторяли документы, составленные бюрократами Министерства внутренних дел в межвоенный период (но не прошедшие через парламент), например, такие, которые предусматривали защиту профсоюзов от исков за ущерб, причиненный в результате их законной деятельности. Инициатива создания двух других очень важных частей рабочего законодательства, принятых в 1946 и 1947 гг., принадлежала японскому правительству. Закон о регулировании трудовых отношений также был навеян положениями Акта Вагнера. Он запрещал нечестные методы управления, такие как отказ признавать профсоюзы, увольнять и иным образом дискриминировать рабочих за профсоюзную деятельность, а также вмешиваться во внутренние дела профсоюзов. Однако, чтобы попасть под защиту законов, профсоюзы должны были получить государственную регистрацию и показать, что они являются «демократическими» организациями, целью которых было регулирование отношений трудового коллектива с руководством, а не политическая деятельность. Закон о трудовых стандартах, последний из трех так называемых основополагающих законов трудового законодательства, устанавливал минимальные размеры заработной платы, максимальную продолжительность рабочего времени (не более восьми часов в день и сорока восьми часов в неделю), оплачиваемые отпуска, затрагивал безопасность на рабочем месте, обучение и работу женщин и детей. Наконец, чтобы осуществлять действие этих законов, правительство в 1947 г. создало Министерство труда, в котором отдел женщин и юношества возглавлял Ямакава Кикуэ, активный политический деятель довоенного периода. Окрыленные той защитой, которая окружила их работу в трудные времена, японские рабочие развернули невиданную по своим масштабам организационную деятельность. В августе 1945 г. не было ни одного заводского рабочего, который бы не состоял в профсоюзе, а к январю 1946 г. существовало уже около 1200 профсоюзов, в рядах которых насчитывалось почти 900 000 рабочих. Это более чем в два раза превосходило максимальные показатели довоенного периода. К концу 1946 г. это количество выросло до 4,8 миллиона рабочих, являвшихся членами 17 000 профсоюзов, а в середине 1948 г. эти цифры составляли 6,7 миллиона рабочих и 33 900 профсоюзов. В это время в рядах профсоюзов состояла почти половина рабочих японских предприятий. Большинство новых трудовых организаций принадлежали к так называемым профсоюзам предприятий. Это значит, что вместо горизонтальных профсоюзов, объединяющих на национальном уровне всех работников, обладающих определенной профессией, и создающих на ряде фирм свои ячейки, профсоюзные лидеры послевоенного времени предпочитали вертикальные профсоюзы, существующие в рамкаходной компании и объединяющие почти всех ее работников — администраторов и рабочих, квалифицированных и нет — за исключением верхних слоев руководства. Довоенная риторика делала упор на сходстве фирмы с семьей, призывая рабочих быть преданными, а работодателей — заботливыми. Такой подход способствовал созданию в послевоенные годы вертикальных профсоюзов и возникновению мнения, общего в 1946 и 1947 гг., что безопасность рабочего зависит от принадлежности стабильной фирме, которая способствует росту его благосостояния. Параллельно с этим рабочие лидеры организовали несколько профсоюзных федераций национального масштаба. Среди них были Японская федерация профессиональных союзов, созданная на базе довоенной Сёдёмэй, и более воинственный, возглавляемый коммунистами Конгресс промышленных профсоюзов Японии. Они были призваны информировать профсоюзы предприятий о происходящих событиях и помогать им координировать свою деятельность. Оккупационные власти в качестве одного из основных средств, способствующих развитию демократии и предотвращающих зарождение милитаризма, рассматривали земельную реформу. С точки зрения SCAP, высокая арендная плата способствовала усилению депрессии межвоенных десятилетий и превращала деревни в хорошо удобренную почву для появления ультранационализма. Когда Япония в 1945 г. капитулировала, около 50 % населения страны, составлявшего тогда 72 миллиона человек, по-прежнему проживали в деревнях. Приблизительно четверть всех крестьянских семей владели менее чем 10 % той земли, которую они обрабатывали. Опасаясь, что дальнейшее обнищание деревни может породить волнения и погубит всю программу реформ SCAP, МакАртур 9 декабря 1945 г. издал декларацию, информирующую японскую общественность и правительство о том, что необходимо сделать в этом направлении, а именно: конфисковать земли у землевладельцев и продать их по приемлемым ценам арендаторам. Несмотря на всю кажущуюся простоту этой программы, осуществить столь фундаментальные преобразования общества SCAP мог лишь заручившись поддержкой японского правительства, а также при условии участия в ней значительной части сельского населения Японии. Многие японцы еще до войны рассматривали сельских арендаторов как существенную «социальную проблему». И в 1945 г. некоторые бюрократы начали разработку проекта земельной реформы еще до того, как МакАртур озвучил свое видение этого вопроса. Проект реформы, созданный чиновниками Министерства сельского и лесного хозяйства, был принят парламентом в декабре 1945 г. Однако SCAP выразил свое разочарование этим документом, после того как подсчеты показали, что только около трети семей японских арендаторов будут в состоянии приобрести количество земли, достаточное для того, чтобы поддержать себя. Это вызвало к жизни серию дискуссий между японскими бюрократами и чиновниками GHQ. И когда Ёсида Сигэру в 1946 г. занял пост премьер-министра, он поддержал новый вариант закона, одобренный парламентом 21 октября. Закон о земельной реформе 1946 г. наделял правительство полномочиями приобретать всю землю, владельцы которой отсутствовали. Тем землевладельцам, которые проживали на своей земле, имели право сохранить в своих руках лишь столько земли, сколько можно было обработать силами их семей (приблизительно по 1 гектару в японских префектурах и по 4,05 гектара на Хоккайдо), плюс дополнительный участок, который они могли сдавать в аренду (около 2 гектаров). Государство выплачивало землевладельцам компенсацию в соответствии со сложной формулой, основанной на ценах на рис 1945 г. и стоимости производства урожая. Затем правительство по приемлемым ценам продавало землю ее бывшим арендаторам. Люди, приобретавшие землю, могли либо выплатить всю сумму сразу, либо выплачивать по 3,2 % от ее стоимости в течение 30 лет. По многим показателям программа перераспределения земель была не менее кардинальной и влекла за собой не меньшие по значению последствия, чем любая другая реформа, предпринятая в годы оккупации. Не было ни одной семьи в японской деревне, которую бы не затронула эта реформа. Правительство приобрело у 2,3 миллиона землевладельцев несколько миллионов акров земли и продало ее 4,7 миллиона арендаторов. Излишне говорить, что многие землевладельцы были убеждены, что с ними поступают несправедливо. «Смерть моего отца, земельная реформа — все толкало нас к краю бедности, — вспоминал один молодой человек, переполненный жалостью к себе. — Мы должны были попрощаться с тем образом жизни, который, со времен наших далеких предков, основывался на труде многих арендаторов. Теперь мы должны были нашими собственными слабосильными руками обрабатывать землю, чтобы прокормиться»{336}. В одном особо трагичном случае бывший землевладелец, который в 1946 г. наконец вернулся вместе со своим армейским подразделением из Китая и узнал, что он должен будет расстаться с большей частью своих земель, убил три семьи арендаторов и сжег шесть домов. Семьи, которые испытывали недостаток земли, наоборот, получили значительную выгоду от проведения реформы. Арендаторство вдруг ушло в прошлое. К 1950 г., когда программа земельной реформы была завершена, лишь мизерное число крестьянских семей по-прежнему владело менее чем 10 % той земли, которую они обрабатывали. Около 90 % всех рисовых полей обрабатывались теми, кто ими владел. Более того, крестьяне приобретали землю по невероятно низким ценам. К последнему году осуществления программы гиперинфляция послевоенного периода снизила цены до 5 % от их первоначального уровня. Иными словами, в 1950 г. арендатор мог приобрести десять соток рисового поля за стоимость, эквивалентную стоимости тринадцати пачек сигарет, в то время как в 1939 г. такой же участок земли стоил столько же, сколько и девятилетний запас сигарет, что значительно превосходило финансовые возможности обычной арендаторской семьи. По мере того как землевладельцы теряли свое богатство, они также утрачивали и свой статус сельской элиты. Вместо этого возникал широкий класс независимых крестьян, которые, как надеялся SCAP, достигнут процветания и будут с возрастающей силой поддерживать принципы демократии и капитализма. «Перед войной, — много лет спустя вспоминал один фермер, — вы могли работать, работать и работать, но вы никогда не скопили бы денег, вы никогда не смогли бы себе позволить хорошую пищу, у вас не было бы даже просто достаточного количества пищи. Теперь, даже работая не надрываясь, у вас остаются деньги — ну, допустим, не очень много денег остается, но достаточно для того, чтобы не испытывать нужду, — и наша повседневная жизнь представляется роскошной по сравнению с прежними временами»{337}. Вероятно, МакАртур не сильно преувеличивал, когда заявлял, что со времен Римской империи не было более успешной земельной реформы. Необходимость проведения реформы образования, которая была еще одним ярким примером децентрализации, занимала умы не только SCAP, но и членов японского правительства и представителей общественности. В марте 1946 г в Японию прибыла группа из двадцати семи американских специалистов в области образования. Она за три недели объездила всю Японию, в тайне подготавливая набор рекомендаций, основанных на том принципе, что «контроль над школами должен носить дисперсный, а не централизованный характер»{338}. Осенью SCAP представил японской комиссии полный отчет, и японское правительство вскоре изъяло значительный объем школьной системы из-под юрисдикции Министерства образования и передало его на попечение избираемых народом префектурных школьных советов. Эти советы обладали полномочиями набирать учителей, выбирать учебники и составлять школьную программу. Довоенная школьная система, предусматривавшая множество направлений, была признана элитарной и поэтому недемократичной. Вместо нее была принята система американского типа, предусматривавшая одно направление. Она включала в себя шестилетнюю начальную школу, трехлетнюю младшую высшую школу и трехлетнюю высшую школу. В то же время правительство расширило систему высшего образования, создав несколько колледжей, обучение в которых длилось четыре года. Кроме структурных изменений, чиновники также обратились к вопросам философии образования. В ответ на критику по поводу того, что нерациональные ценности испортили школьную программу межвоенного периода, правительство отменило Императорский рескрипт об образовании. Вместо него в 1947 г. был принят Основной закон об образовании. В нем говорилось, что первостепенной целью образовательной системы является «развитие чувства собственного достоинства и стремление воспитать людей, которые любят правду и мир»{339}. К этому времени школы уже избавились от довоенных курсов по этике. Теперь перед работниками образования стояла задача по переписыванию учебников, чтобы перенести в них акцент на ценности демократии и пацифизма. Преподаватели большинства общественных начальных и средних школ быстро восприняли новую идеологию. Чувствующие свою вину за распространение милитаристских ценностей, угнетенные гибелью такого количества своих учеников, которые пошли сражаться за идеологию и лозунги, усвоенные ими в школьных классах, а также напуганные нищенскими условиями жизни послевоенного периода, большинство учителей были просто счастливы посвятить себя другим целям, обозначенным в Основном законе об образовании: «способствовать сохранению мира на земле и развитию благосостояния человечества путем построения демократического и культурного государства». В стремлении уничтожить авторитарную концентрацию власти над обществом, SCAP призвал японские власти пересмотреть Гражданский кодекс Мэйдзи. В частности, МакАртур хотел ликвидировать «феодальную» власть мужчин — глав семей над женщинами и детьми и отменить привилегированное положение старших сыновей. Не все японцы были согласны с верховным командующим. Консерваторы, такие как ученый-юрист Накагава Дзэносукэ, превозносили старую семейную систему, называя ее «центральным стержнем восточной моральности» и «триумфом японского духа». Несмотря на это, как и в случае с другими реформами, проводимыми в годы оккупации, большое количество японцев были заинтересованы в тех же результатах изменений, что и американцы. В данном случае, женщины еще задолго до войны начали выступать против гражданского кодекса. Их несогласие с особой силой проявилось в 1945 и 1946 гг., когда пересмотр конституции и расширение избирательных прав начали предвещать новый мир равноправия полов. Соответственно, Министерство юстиции назначило комиссию по пересмотру кодекса еще до того, как требования об этом раздались со стороны SCAC. Многие японцы приложили свои силы к этому делу, чтобы минимизировать роль SCAC. «Япония двигается к отмене семейной системы по своей собственной воле. Ее отмена не была навязана нам генералом МакАртуром» — так отзывался о происходившем Окуно Кэнъичи, директор Бюро гражданских дел, позднее — член Верховного суда. Другой член комиссии соглашался с ним, заявляя, что исправление глав, касающихся наследования и внутрисемейных отношений, были необходимы для того, чтобы привести семейное законодательство в соответствие «с перенесением акцентов новой конституции наличное достоинство и равенство полов». Альфред Опплер, член SCAP, который наблюдал за процессом, подтверждал эту точку зрения. Его штаб никогда не приказывал, и даже не призывал к полному пересмотру старого уложения, писал Опплер, и комиссия «проделала более основательную работу, чем мы предполагали»{340}.Обратный курс
Какими бы стремительными и важными ни были усилия SCAP по реформированию Японии, время внесло коррективы в оккупационную политику. Эти коррективы были столь значительными, что многие называли их «обратным курсом». Это, однако, было бы упрощением. МакАртур никогда бы не позволил себе сделать разворот на 180 градусов, но после 1947 г. старый солдат начал модифицировать некоторые мероприятия по проведению реформ. Некоторые из них ему даже пришлось почти полностью изменить. Для перехода на обратный курс не было никаких предпосылок, ни один человек или организация не занимались его планированием. Причиной было то, что Соединенные Штаты стремились прийти в соответствие со своими новыми глобальными и стратегическими обязанностями послевоенной эпохи. Интерес к реформам упал, и на смену трем д периода 1945–1947 гг. пришли другие приоритеты — восстановление экономики, обуздание рабочего движения и реабилитация тех людей, которые потеряли работу или профессию, разоружение армии и перестройка Японии в соответствии с западными моделями общества и государства. Многие, кто поддерживал переход на новые направления, делали это в ответ на широкое распространение коммунизма. Им казалось, что в конце 40-х вся Восточная Азия находилась в его тени. Начало «холодной войны» с Советским Союзом, возникновение советских сателлитов в Восточной Европе, растущее понимание того, что Мао Цзэдун возьмет верх в Китае, и противостояние двух Корей привели многих американских чиновников к выводу, что их внешняя политика нуждается в стабильной и демократической Японии, способной выступить в роли барьера на пути распространения коммунизма по Тихоокеанскому региону. Политическая стабильность, в свою очередь, должна была вызвать оживление экономики. Эти темы были озвучены военным министром администрации президента Гарри С. Трумэна в речи, произнесенной в Сан-Франциско 6 января 1948 г., которую впоследствии широко цитировали. «Новые процессы начались» в Азии, заявил министр. Это требует от Японии наличия «свободного правительства» и «здоровой экономики, способной самостоятельно поддерживать себя», чтобы она могла «служить средством сдерживания против угроз тоталитарной войны»{341}. Это недвусмысленно указывало на то, что Япония превращается в союзника США на Тихом океане. Лучшим способом для SCAP помочь Японии выполнить эту миссию, добавляли другие чиновники, было поспособствовать оживлению экономики. Для этого предлагалось надеть суровый ошейник на рабочее движение, которое сделалось слишком активным, и прекратить процесс ликвидации дзайбацу, который, по словам одного критика действий SCAP, угрожал превратить Японию в нищую страну «мелких лавочников». Вскоре начало действовать так называемое японское лобби. В центре этой группы стояли бывший посол Гру и несколько бывших чиновников Госдепартамента, которые во время войны принимали участие в разработке планов оккупации. Еще тогда они настаивали на том, что мощная японская экономика является предпосылкой долговременного мира в Тихоокеанском регионе. Более того, они были не согласны с преобладающей точкой зрения, что старые дзайбацу, такие как «Мицуи» и «Мицубиси», были милитаристскими по своему духу. На самом деле, главы подобных конгломератов были преданными патриотами, которые поддерживали свою страну во время Великой Восточноазиатской войны, и их компании производили оружие и снаряжение для армии и флота. Тем не менее, по словам японского лобби, старые дзайбацу не поддерживали военную экспансию 30-х гг., и их ликвидация не принесет пользы. Это мнение затерялось на фоне более радикальных идей, ставших основой для реформ 1945 и 1946 гг. Однако, ближе к концу десятилетия, бывшие планировщики вновь начали высказывать эти идеи на страницах журнала «Ньюсуик», который превратился в информационный орган японского лобби. На страницах журнала высказывались опасения, что Закон о разукрупнении угрожает тем, что «структура японского бизнеса будет распылена так же эффективно, как это произошло с Хиросимой во время применения знаменитой бомбы»{342}. Ряды японского лобби пополнили американские бизнесмены, добавив свои голоса к призывам к изменению курса. Осенью 1947 г. Японию, с целью исследования возможности инвестирования со стороны американских фирм, посетил Джеймс Ли Кауфман. Его юридические конторы представляли многие американские компании в довоенной Японии. По возвращении в Америку он написал длинный доклад, который оказал значительное влияние на официальное мнение Вашингтона. В нем он призвал крупнейшие американские корпорации воздерживаться от вкладывания средств в японскую экономику. Он заявлял, что это будет большой ошибкой, поскольку «чокнутые» из SCAP занимаются строительством «социализма» и проводят реформы, результатом которых будет экономический коллапс, «к большому удовольствию нескольких сотен русских, работающих в советском посольстве в Токио»{343}. По мере развития дебатов вокруг экономической политики SCAP, некоторые чиновники находили новые причины для нападок на действия МакАртура. В Конгрессе известные сенаторы и представители брали слово, чтобы выразить глубокую озабоченность по поводу того, что они расценивали как опасное коммунистическое влияние на японское рабочее движение. Другие просто напоминали, что оккупация Японии стоила американской казне очень дорого. Соединенные Штаты за первые два года оккупации потратили около 600 миллионов долларов на жалование и провиант для персонала SCAC. Косвенные расходы были еще более значительными. Еще одним аргументом было то, что восстановление японской экономики принесет облегчение американскому налогоплательщику, задавленному государственными поборами. Веские аргументы звучали со стороны японских критиков. Вероятно, самым активным выискиванием ошибок, совершенных SCAP, занимался Ёсида Сигэру. Хотя он поддержал некоторые инициативы МакАртура во время своего первого срока на посту премьер-министра, с мая 1946 по весну следующего года, Ёсида гораздо чаще не соглашался с верховным командующим. У премьера, разумеется, не было иного выхода, как прикусить язык в то время, как SCAP проводил чистку, громил дзайбацу, лишал императора его привилегий и создавал перекос в трудовых отношениях в пользу рабочих. Однако на выборах, проведенных в январе 1949 г., либерально-демократическая партия Ёсида одержала убедительную победу. Таким образом, была создана парламентская база эпохи Ёсида, продолжавшейся до тех пор, пока Одиночка не ушел с поста премьер-министра в конце 1954 г. Когда он в конце 40-х ощутил себя более уверенно на посту премьер-министра, он громогласно начал призывать SCAP к переориентации их усилий на обеспечение стабилизации и реконструкции экономики. Вдобавок он использовал любую возможность для того, чтобы высказать и другую свою точку зрения. Ответственным бюрократам, партийным политикам и лидерам бизнеса должна быть предоставлена возможность самостоятельно разрабатывать мероприятия по превращению Японии в независимую, экономически процветающую и политически стабильную страну. Сперва МакАртур пытался отбиваться от критики, которая сыпалась на SCAP с различных направлений. Однако в конце 40-х характер оккупационной политики начал меняться, шаг за шагом, обращаясь к новым целям. Первым пересмотру подверглась политика в области рабочего законодательства, после чего события в Японии пошли по иному пути. Осенью 1946 г., когда рабочие активно создавали профсоюзы на своих предприятиях, вздорный Конгресс промышленных профсоюзов Японии призвал к общенациональному наступлению рабочих с целью добиться «зарплаты, равной прожиточному минимуму» и гарантий постоянной работы. В ответ на это более 2,6 миллиона членов профсоюзов, в том числе школьные учителя и другие работники государственного сектора, призвали к всеобщей забастовке, которая была назначена на 1 февраля 1947 г. Подавляющее большинство этих рабочих хотели добиться лишь такой зарплаты, которая спасала бы от голода. Поэтому их основным требованием было повышение зарплаты и установление минимального ее значения. Руководство забастовкой обеспечивали сторонники коммунистов в конгрессе, и они, в отличие от рабочих, выдвигали политические требования. По мере приближения дня забастовки, выступающие в парламенте требовали от Ёсида, который был ярым антикоммунистом, уйти с поста премьер-министра. Затем они хотели заменить его кабинет левой коалицией. Одиночка сдерживался с трудом. Резковатый премьер публично называл конгресс «бандой преступников». Он тайно вел переговоры со SCAP, в надежде получить с его стороны помощь. Он просил американцев вмешаться и запретить забастовку. Нельзя сказать, что МакАртуру не нравилась эта идея. Генерал и его советники из GHQ, когда поощряли развитие рабочего движения, хотели видеть его в качестве опоры идеалов промышленной демократии, и симпатий к политизации профсоюзного движения у них было не больше, чем у Ёсида. Вечером накануне начала забастовки МакАртур запретил демонстрацию под тем предлогом, что он не может допустить проведения столь разрушительной забастовки или с сочувствием смотреть на социальный хаос, в то время как японская экономика продолжает пребывать в опасном состоянии. Чтобы убедиться, что рабочие обратили внимание на его запрет, генерал приказал главе забастовочного комитета лично передать это сообщение по радио. «В свете непосредственного приказа Верховного командующего силами союзных держав, — объявлял лидер рабочих дрожащим от волнения голосом, — мы не имеем иного выхода как отменить забастовку. Я могу лишь напомнить поговорку: «Один шаг назад, два шага вперед». Рабочие и крестьяне, банзай! Не будем разобщать наши силы»{344}. Период конфронтации между рабочими и SCAP начался. Когда Ёсида в октябре 1948 г. назначил свой второй кабинет, он приступил к пересмотру трудового законодательства. МакАртур поддерживал его в этом деле. Летом того года он направил письмо японскому правительству, предлагая ему отменить право работников государственного сектора на забастовки. Министерство труда также демонстрировало желание отодвинуть на задний план некоторые принятые ранее законы и освободить место для постановлений, которые снизили бы воинственность профсоюзных деятелей и восстановили бы баланс сил между трудом и капиталом. Даже до того момента, как в его руки попало письмо МакАртура, министерство разработало постановление, в котором выражалось его мнение по поводу того, какими должны быть профсоюзы. «В соответствии с ключевыми задачами, поставленными перед Законом о профессиональных союзах, профсоюз обязан прежде всего способствовать восстановлению экономики»{345}. Чиновники Министерства труда принадлежали к бюрократической прослойке, и в этом качестве они ощущали свою ответственность за поддержание общественного порядка и создание условий, которые позволили бы экономике полностью реализовать свой потенциал. В 1945 г., когда рабочее движение было слабым, эти цели требовали от бюрократов законодательной поддержки рабочих. В 1948 г., после того как миллионы рабочих оказались в рядах политизированных и воинственных профсоюзов, бюрократия переметнулась на сторону капитала, чтобы избежать возможности возникновения волнений социального характера. Ёсида начал принимать меры против рабочего радикализма в 1949 г., когда он устроил пересмотр закона о регулировании трудовых отношений с целью наделить назначаемые правительством комиссии большими полномочиями при лицензировании профсоюзов. Это мероприятие должно было оградить профсоюзы от коммунистического влияния. Ёсида продолжил эту линию в 1950 г., когда он, с разрешения SCAP. инициировал «красную чистку», чтобы удалить коммунистов с руководящих государственных постов и из профсоюзного движения. В скором времени эта кампания распространилась и на частный бизнес. К осени 1950 г. работу потеряли 200 000 «левых» учителей, журналистов и заводских рабочих. По иронии судьбы, юридическим поводом к этой чистке послужила старая директива SCAP № 548, которая запрещала участвовать в «сопротивлении или противостоянии оккупационным силам». В 1948 г. МакАртур начал отходить от политики ликвидации дзайбацу. Это было еще одним проявлением изменения курса. Прохождение Закона о разукрупнении в 1947 г. вызвало бурю критики со стороны лидеров японского бизнеса. Они предрекали обрушение экономики, если SCAP будет настаивать на ликвидации или реорганизации тысячи компаний. В то же самое время в Вашингтоне доклад Кауфмана породил страхи относительно «чокнутых» в GHQ. Джордж Ф. Кеннан из штаба политического планирования Госдепартамента также поддержал ту точку зрения, что Закон о разукрупнении приведет к экономическим неурядицам и, как следствие, почти к анархии, оставив Японию беззащитной перед коммунистической угрозой. В марте 1948 г. влиятельный Кеннан посетил МакАртура, чтобы лично передать требования Вашингтона: SCAP должен изменить свои программы и поставить перед собой новые приоритеты, которые заключались в восстановлении экономики и политической стабильности. Это должно было подготовить островную страну к присоединению к противостоянию международному коммунизму. Такого давления не мог выдержать даже МакАртур. В апреле 1948 г. он согласился на создание совета по пересмотру Закона о разукрупнении. Этот совет должен был проверить все прежние планы по ликвидации компаний, достаточно мощных для того, чтобы не допускать новичков в свой сектор рынка. Незамедлительно совет объявил о выводе сотен компаний из-под действия закона. Ко времени первого заседания совета SCAP уже назвал 325 японских компаний, которые должны были быть раздроблены или реорганизованы. Совет быстренько сократил этот список до 19, а затем — всего до 9 названий. Проявив неожиданную покорность, SCAP объявил об успешном завершении программы по разукрупнению. В то же самое время SCAP молча наблюдал за тем, как японские апелляционные комиссии возвращают в компании тысячи бывших управляющих. Демилитаризация была еще одним направлением политики, которое было поставлено с ног на голову, когда растущая угроза со стороны коммунистического мира заставила американцев подумать о придании Японии роли защитника Восточной Азии. В ноябре 1948 г. Вашингтон поручил SCAP создать полувоенные формирования численностью в 150 000 человек. Они должны были поддерживать регулярные полицейские силы Японии. МакАртур, повоевавший с японцами на Тихом океане, испытывал к этой схеме сильное недоверие. До 1950 г. он просто отказывался выполнять это распоряжение, пока начало Корейской войны не заставило его прибегнуть к немедленным действиям. Когда американские силы покинули Японию, отправившись воевать на полуостров, МакАртур приказал японскому правительству сформировать Национальный полицейский резерв, состоящий из 75 000 человек. Его главной задачей было поддержание спокойствия в стране. Эта «полиция», однако, была вооружена винтовками М-1, пулеметами, минометами, огнеметами, имела в своем распоряжении артиллерию, танки и американских советников, один из которых описывал резерв как «маленькую американскую армию». Необходимо было согласовать создание военизированных подразделений со статьей 9 новой конституции, которая со всей ясностью заявляла, «японский народ навсегда отвергает войну как суверенное право нации», а также утверждала, что Япония никогда не будет содержать сухопутных, морских и воздушных сил. Сперва Ёсида был сторонником буквальной интерпретации этого положения. Он даже соглашался с тем, что оружие запрещено и для самообороны. Но создание Национального полицейского резерва сделало невозможным для премьер-министра и далее придерживаться подобного прочтения. 48 % японцев, принявших в феврале 1952 г. участие в опросе общественного мнения, заявили, что он лгал, когда говорил, что Япония не вооружается вновь. Будучи профессионалом в области семантико-лингвистических кувырканий, Ёсида в конце концов принял тезис о том, что статья 9 позволяет Японии содержать военные силы до тех пор, пока они не станут обладать «военным потенциалом». Последующие кабинеты предпочитали говорить о «наступательном потенциале». При этом они подразумевали, что Япония, как и любая другая суверенная нация, в соответствии с Хартией Объединенных Наций обладает неотъемлемым правом на самооборону и что содержание военной силы с исключительно оборонительными целями не противоречит духу конституции.Независимость
К 1950 г. американцы, очевидно, начали уставать от оккупации, не говоря уже о японцах. Ёсида задолго до этого саркастически замечал, что GHQ должна быть готовой «быстро убраться домой», но МакАртур стал первой важной персоной, призвавшей завершить оккупацию. На конференции, проводившейся 17 марта 1947 г., он высказал предположение, что уже пришло время заключить официальный мирный договор, вместо акта о капитуляции, подписанного на борту «Миссури». Первые два года его службы в роли управляющего, пояснил он, были невероятно успешными. Япония была разоружена, институционные реформы, необходимые для обеспечения развития демократии, осуществлены, началось проведение земельной реформы и разработаны планы по распылению богатства, накопленного недобросовестными капиталистами. В своей голове генерал уже видел основание для мирного будущего, и завершение оккупации должно было пойти на пользу успешному завершению процесса. Несмотря на раннее, и для кого-то неожиданное, выступление в поддержку мирного договора, судьба не позволила ему вести переговоры о его заключении от имени Соединенных Штатов. Задача формулирования договора, который был бы приемлемым как для Японии, так и для приблизительно полусотни других стран, желавших его подписать, легла на плечи выдающегося республиканца Джона Фостера Даллеса. Именно его 18 мая 1950 г. президент Трумэн назначил своим главным посредником. К этому времени МакАртур начал терять расположение президента. Когда в июне 1950 г. начались боевые действия в Корее, Трумэн назначил его командующим американскими силами на полуострове. Но когда в следующем году МакАртур публично выразил несогласие с президентом относительно военной политики, мелочный Трумэн убрал МакАртура как с поста военного командующего в Корее, так и с должности, занимаемой им в SCAC. Увидеть замену страшного Голубоглазого Сёгуна гражданским лицом, говорили многие японцы, было самым значительным уроком демократии, какой они могли себе вообразить. Даллес начал с консультаций с военными союзниками американцев. Некоторые предпочитали, чтобы договор был мягким. Жесткость Парижской мирной конференции, рассуждали они, в конце концов привела к тому, что к власти пришел Адольф Гитлер со своей нацистской партией. Подобное поведение по отношению к Японии вызовет риск возникновения обиды, которая плохо повлияет на последующие поколения. Другие, однако, выступали за жесткий договор. Народы Юго-Восточной Азии, которые сильнее всего пострадали от японской агрессии, желали получить с Японии крупные репарации. В то же время Великобритания, испытывающая беспокойство за свои азиатские рынки, настаивала на ограничении экспортного потенциала Японии. Эти споры, равно как и усиление «холодной войны» с Советским Союзом, и взрыв «горячей войны» на Корейском полуострове, оказывали серьезное влияние на мысли Даллеса относительно роли Японии в будущем мире. Договор, заключил он с благословения Трумэна, должен создать условия для продолжающегося экономического возрождения Японии и установления в ней режима политической стабильности. Это должно обеспечить присоединение Японии к Западному альянсу, обезопасить военные прерогативы Соединенных Штатов, которые позволят Америке продвигать свое влияние в Тихоокеанском регионе, сделать Японию способной перевооружиться, чтобы содействовать укреплению обороноспособности региона. Самые трудные переговоры были у Даллеса с резким и жестким премьер-министром Японии. За все время оккупации ни одна другая цель так не заботила Ёсида, как восстановление полной независимости его страны. Дипломатия была его профессией, и он выказывал свое желание вернуть Японию в сообщество наций, одновременно с премьерским, занимая еще и пост министра иностранных дел в первых трех своих кабинетах. Ёсида оставался стойким, неподатливым и хорошо представляющим себе тот договор, который он хотел бы подписать. Он никогда не поставил свою подпись под документом, карательным по отношению к Японии. Он упорно сражался за такой договор, который не будет ограничивать Японию ни в экономическом, ни в политическом аспектах. В данном контексте он предпочитал установить ровные отношения с Соединенными Штатами, которые, как он считал, создадут новый вариант счастливой домилитаристской эпохи, когда соглашения, подписанные на Вашингтонской конференции, защищали японские интересы. Несмотря на свою непоколебимую позицию, Одиночка был вынужден обратить хоть какое-то внимание на мнение других. Его оппоненты на левом крыле политического спектра Японии создали свой вариант набора «мирных принципов»: Япония должна оставаться нейтральной, не примыкать ни к одному из лагерей, участвующих в «холодной войне», перевооружение Японии является недопустимым, а подразделения американской армии должны немедленно покинуть территорию страны. Ёсида, однако, не собирался оставлять свою страну нейтральной. «Бред лунатика» — так отозвался он об этой инициативе. Подобная дипломатическая позиция сделает сохранение мира в будущем настолько же невозможным, насколько невозможно «вытащить цветок из зеркала»{346}. Тем не менее мирные принципы, предложенные левыми, получили широкую поддержку со стороны японского электората, и Ёсида пришлось обратить на них внимание только из-за риска потерять само место, которое обеспечивало ему роль мирного переговорщика. Ёсида, попавший под перекрестный огонь политиков внутри страны, маневрировал, как только мог. Он продолжал настаивать на том, что будущая безопасность Японии требует оборонительного союза с Соединенными Штатами 27- Япония и что у его страны нет иного выхода, как позволить американским войскам находиться на ее территории. Но он твердо выступал против широкомасштабного перевооружения. Когда Даллес выдвинул это требование во время личной встречи, состоявшейся в январе 1951 г., предлагая создать сухопутные силы количеством в 300 000 человек, Ёсида выложил на стол свои козыри: его страна не сможет себе этого позволить, общественность этого не потерпит, конституция запрещает это, соседи Японии будут в ужасе. В некотором смысле за этими аргументами скрывалась другая причина. Хотя он и был ярым антикоммунистом, он никогда не понимал американскую паранойю по поводу угрозы международного коммунизма. Не разделял он и позиции Даллеса, считавшего, что Япония находится под постоянной угрозой коммунистической атаки. А в общем, если говорить всю правду до конца, Ёсида не доверял старым генералам, которые командовали новым Национальным полицейским резервом. Предложения возникали и отвергались на протяжении весны и лета 1951 г., пока наконец представители Японии, Соединенных Штатов и еще почти 50 стран не собрались в Сан-Франциско для проведения формальной конференции. 8 сентября 1951 г. Япония и 48 ее бывших противников поставили свои подписи под Мирным договором Сан-Франциско (Советский Союз, Польша и Чехословакия покинули конференцию, Китай не был на нее приглашен из-за разногласий по поводу того, какое правительство следует считать легитимным — то, которое находится в Пекине, или то, которое находится в Тайбее). Ёсида добился многого из того, чего он хотел. Большинство наблюдателей соглашались с тем, что условия договора были до разумных пределов мягкими и не отличались духом мстительности. Соглашение прекращало продолжавшееся до сих пор состояние войны, предусматривало вывод оккупационных войск в течение 90 дней после вступления данного соглашения в силу, восстанавливало суверенитет Японии и сохраняло право этой страны на самооборону. В конечном итоге документ не ограничивал японскую экономику и торговлю. Наоборот, подписанты признавали необходимость содействования экономическому возрождению и даже предложили поддержать ее будущее вступление в Организацию Объединенных Наций. Всего несколько часов спустя подписания договора представители Японии в Сан-Франциско поставили свои подписи и под Японско-американским договором о безопасности. Будучи очевидным порождением «холодной войны», этот документ позволял Соединенным Штатам размещать свои войска на территории Японии. Хотя опросы общественного мнения позднее показали, что большинство японцев поддержали мирный договор, многие считали, что Ёсида пошел на слишком большие уступки, согласившись на соглашение о безопасности. Этот документ, опасались его оппоненты, подчинит нужды обороны Японии политике Соединенных Штатов и, фактически, подвергнет риску будущее страны. Особенно не нравились им положения, согласно которым американские силы, размещенные в Японии, должны были действовать в соответствии с широким мандатом по поддержанию мира во всей Восточной Азии, и что Соединенные Штаты могли свободно направлять эти силы куда угодно и когда угодно, без получения разрешения, и даже без консультаций с японским правительством. Опасность, связанная с этим, казалась очевидной. Если Соединенные Штаты будут предпринимать военные действия с баз, расположенных на территории Японии, то это легко может втянуть Японию в конфликт, который является продуктом внешнеполитических махинаций Америки и не отвечает интересам самой Японии. Другие критиковали Ёсида за то, что он согласился с двумя другими пунктами, которые, как они считали, унижали Японию, ограничивая ее права как суверенной нации. Один из них предоставлял американским солдатам право подавлять внутренние мятежи и волнения, если с просьбой об этом к ним обратятся японские власти. Другой запрещал Японии предоставлять свою территорию для размещения военных баз любой третьей стране или гарантировать ей другие привилегии в военной сфере без получения согласия на это со стороны Соединенных Штатов. Ёсида, утверждали его недоброжелатели, вверг Японию в «подчиненную независимость». Колкие замечания приводили Ёсида в ярость. Но этот ветеран бесконечных политических баталий обошел своих оппонентов с флангов и осенью 1951 г. успешно провел через парламент как мирный договор, так и договор о безопасности. Заполучив отныне Японию в свой лагерь в «холодной войне», сенат Соединенных Штатов ратифицировал договоры о мире и о безопасности в марте 1952 г. Оба соглашения вступили в действие 28 апреля 1952 г. Ёсида считал создание системы Сан-Франциско величайшим триумфом в своей карьере. Япония возвращала свой суверенитет, долгая оккупация ее территории войсками другой державы подходила к концу, страна присоединилась к казавшемуся непобедимым англо-американскому блоку, и, кроме того, японский народ получил гарантии экономической поддержки со стороны крупнейших промышленных держав мира. Ёсида воплотил в жизнь свое видение послевоенного будущего Японии. Момент наиболее впечатляющей личной победы Ёсида явился также началом заката его политической карьеры. Японская общественность продолжала двояко относиться к системе Сан-Франциско. Направление общественного мнения определяли такие лозунги, как «Подчиненная независимость. Опрос, проведенный газетой Асахи Синбун в конце 1952 г., показал, что только 18 % всех японцев считали, что их страна является действительно независимой. К этому времени уровень поддержки Ёсида в обществе опустился всего до 20 % против 58 %, наблюдавшихся в прошлом году. С размыванием базы его общественной поддержки, Ёсида стал более едким, чем когда-либо прежде. Его сарказм отталкивал от него многих, кто мог бы его поддержать. Когда ректор Токийского университета подверг критике некоторые аспекты предложенного мирного договора, Ёсида обозвал его «проституткой от науки» и затем проигнорировал совет урегулировать ситуацию, отказавшись извиниться или даже просто истолковать свою выходку как «непреднамеренное замечание»{347}. Во время парламентских дебатов, проходивших в феврале 1953 г., Ёсида внезапно набросился с бранью на своего собеседника-социалиста, назвав его тупым идиотом (бака яре). Это выражение, относительно мягкое в переводе, но крайне унизительное в реальном звучании, вызвало немедленное падение популярности премьера. Ёсида удалось победить на следующих выборах, но затем он нанес еще один удар по своей репутации, вмешавшись в скандал с обвинением во взяточничестве, связанным с продажей политической поддержки во время предвыборной кампании. Он хотел предотвратить арест своего протеже, будущего премьер-министра Сато Эисаку. В конце 1954 г., все еще не будучи до конца уверенным в масштабах экономического возрождения Японии, Ёсида отправился в Соединенные Штаты, чтобы лично попросить осуществления плана Маршалла для Азии. Вашингтон остался абсолютно безучастным к этой просьбе. После этого от Ёсида отвернулись даже японские консерваторы. 10 декабря 1954 г. пожилой Ёсида Сигэру ушел в отставку с поста премьер-министра Японии и занял место в истории ее оккупации рядом со своим старым противником, отставным генералом Дугласом МакАртуром. В 1945 г. эти две выдающиеся личности стояли на одних позициях. Они оба стремились обеспечить независимое, некоммунистическое, стабильное будущее Японии. Однако, оглядываясь назад, Ёсида и МакАртур видели свои собственные варианты японской истории, которые кардинальным образом противоречили друг другу. В свою очередь, эти противоположные мнения относительно значения прошлого Японии, переросли в различные мнения относительно осуществления послевоенных перемен. Для Ёсида блестящие достижения эпох Мэйдзи и Тайсо — конституционализм, индустриализация, повышение статуса на международной арене — составляли славное прошлое, которым можно гордиться. Япония, с его точки зрения, должна была выйти из «исторической запинки», заблуждения 30-х гг., и вернуться на путь прогресса. Его планы были простыми: сохранить конституционные институты под императорским зонтиком, гарантировать бюрократии и консервативнымполитикам неизменную лидирующую роль в политическом процессе, восстановить капиталистическую экономику, развитию которой будут способствовать могущественные конгломераты, отказаться от радикализма и вновь сделать Японию партнером западных держав. МакАртур имел менее восторженное представление о наследии эры Мэйдзи. Для него та эпоха была колыбелью будущей японской агрессии, периодом, когда на культурном и психологическом состоянии нации появились гнойные нарывы, прорвавшиеся в 30-х гг. XX столетия тоталитаризмом и милитаризмом. По мнению МакАртура, Япония не просто сбилась с пути истинного. Ее проблемы были болезнью, вызванной ее феодальным прошлым, и чтобы излечить эту болезнь, SCAP ледовая о начать глубокие структурные реформы. Вместо того чтобы восстанавливать прошлое, Япония должна двигаться вперед, в демилитаризованное, демократическое будущее, важное место в котором будет отведено новым социальным силам. Макартуровское видение реформ доминировало с 1945 по 1947 г., когда SCAP занимался демобилизацией японской армии, демифологизацией императора, переписыванием конституции, разрушением крупнейших деловых конгломератов, развитием профсоюзов, конфискацией и перераспределением земель, реформированием образовательной системы и пересмотром гражданского кодекса. Чтобы достичь всего этого, генерал должен был обладать большим запасом доверия. Кроме того, как позднее писал он сам, «я должен был быть экономистом, политологом, инженером, предпринимателем, учителем и даже теологом»{348}. Но ни одна из реформ, предпринятых SCAP, не могла осуществиться без участия других людей, оказывавших помощь МакАртуру. Эксперты по планированию в Вашингтоне военного времени, сотрудники оккупационной администрации, такие как генерал Кортни Уитни и лейтенант Этель Уид, японские бюрократы, которые стремились выправить перекосы в отношениях между трудом и капиталом и разрешить старые проблемы, такие как бедность деревни, а также новые избиратели, выигравшие от проведения реформ — все они вносили свой вклад, без которого МакАртур никогда бы не добился успеха. Однако к зиме 1947/48 г. обрело форму новое сочетание сил. В его центре находился Ёсида Сигэру. Во время своего первого срока на посту премьер-министра, Ёсида принимал многие проводимые реформы, хотя делал он это с неохотой. Его недовольство не имело смысла до тех пор, пока к нему не присоединились старые бюрократы и традиционные партийные консерваторы, которые боялись, что SCAP зашел слишком далеко. К своему удивлению, они нашли новых союзников в самых неожиданных местах: в лице японского лобби и даже в Белом доме и в залах американского Конгресса. Действуя вместе, эти весьма непохожие друг на друга группы начали проталкивать оккупационную политику в новом направлении, перенеся основной акцент на восстановление и реконструкцию. Ёсида любил это называть «исправлением перегибов». Важным было также изменение отношений между самими японцами. Опустошенные страданиями военных лет, они с удивительной легкостью принимали реформы 1946 и 1947 гг. Ранние меры, предложенные МакАртуром, подыгрывали этим чувствам, и именно этим обстоятельствам, в значительной степени, они были обязаны своим успехом. К концу десятилетия, однако, усталость от войны сменилась усталостью от оккупации, и японский электорат, голосование за голосованием, начал возвращать в парламент тех, кто поддерживал новые направления. Первое послевоенное десятилетие было наполнено ощущением великого исторического момента: могучие соперники, меняющиеся союзы, рывки и повороты политики, несовместимость личностей. Оккупационная политика развивалась по путям, которые зачастую были мучительными и тяжелыми даже для тех, кто прошел через них, однако семь лет, с 1945 по 1952 г., навсегда изменили ход японской истории. Точнее говоря, многие реформы, как в своем первоначальном, так и в «исправленном» вариантах, ускорили развитие тех процессов, которые зародились еще в довоенную эпоху. Положения о партийном правительстве и ответственном кабинете, союз Японии с индустриальным Западом, расширение избирательных прав женщин — все эти идеи и раньше ставились на повестку дня. Урок был очевиден: те реформы, которые имели сторонников в довоенное время или которые нашли новых приверженцев, были осуществлены очень быстро и имели шанс на продолжительное существование в послевоенные десятилетия. Трудно себе вообразить, что нечто менее значительное, чем травма, нанесенная поражением в войне, и дисциплинирующее влияние иностранной оккупации, могло породить конституцию, которая передавала суверенитет от императора к народу и гарантировала народу права, программу земельной реформы, которая затрагивала практически каждую семью, проживавшую в сельских районах страны, ограничение военной силы потребностями самообороны и рабочее движение, которое набрало невиданные ранее размах и энергию. В контексте всей истории Японии годы оккупации стоят рядом с периодом национального объединения в XVII столетии и реставрацией Мэйдзи XIX столетия. Это был один из величайших поворотных пунктов в истории страны. За этот короткий промежуток времени японский народ пережил изменения, такие же глубокие и быстрые, какие можно найти в любую революционную эпоху новой истории.
ГЛАВА 16
Возвращение утраченного и приход изобилия
Во второй половине дня 10 октября 1964 г. около 75 000 зрителей поднялись со своих мест на токийском Национальном стадионе Касумигаока, чтобы услышать, как император объявляет открытие восемнадцатых Олимпийских игр современности. Частью праздничных мероприятий, проводимых в этот день, было изображение в осеннем небе 5 олимпийских колец реактивными самолетами сил Самообороны. В воздух поднялись 5000 разноцветных надувных шаров. Дети из местной начальной школы сопровождали на стадионе мэра Рима, города, принимавшего предыдущую Олимпиаду. В параде приняли участие 7000 спортсменов, представлявших почти 90 стран. Толпа взревела от восторга, когда кубинская делегация, проходя мимо императорской трибуны, замахала маленькими флажками Восходящего солнца. Аплодисментами была встречена японская национальная команда. Зато почти благоговейная тишина повисла над стадионом, когда Сакаи Ёсинори, 19-летний студент, родившийся в предместьях Хиросимы в утро первой в мире ядерной бомбардировки, появился на беговой дорожке с олимпийским факелом в руках.
Японский организационный комитет тщательно и осторожно готовил Олимпийские игры, которые должны были послужить символом возрождения страны и возвращения ее на мировую арену. Председателем комитета был Ясукава Дайгоро, бизнесмен, посвятивший себя возможностям мирного использования атомной энергии в Японии. Будучи одним из тех, кто примирился с прошлым, Ясукава объявил, — что он должен организовать такую Олимпиаду, которая явилась бы «не только демонстрацией спортивных достижений атлетами мира, но которая также ярко высветит продолжительные усилия японского народа как достойного члена всемирной семьи наций»{349}.
Токио должен был принять Олимпийские игры 1940 г., но они были отменены, как только в Европе начались сражения. В глазах всего остального мира император в то время воплощал неутолимую японскую жажду империи, ее воинственные устремления и ее закрытую, элитарную политическую систему. В 1964 г. сам внешний вид императора и его роль в качестве патрона Олимпийских игр выставляли его в совершенно ином свете. Теперь на международной арене он представал как уважаемый лидер полностью реабилитированной и мирной Японии. Рядом с монархом на церемонии открытия сидел премьер-министр Икэда Хаято, как молчаливое напоминание всем, что Япония теперь является демократичной и мирной и что император, говоря словами новой конституции, символически представлял избранное народом гражданское правительство страны.
Комитет по планированию проведения Игр 1964 г. должен был, в соответствии с желаниями многих японцев, как жителям самой страны, так и иностранцам, продемонстрировать плоды замечательного экономического возрождения Японии. Приблизительно 80 % из тех 970 миллиардов йен, которые были в целом потрачены правительством на подготовку к Олимпиаде, были направлены на осуществление проектов общественных работ. Неукротимый дух Японии, продемонстрированный юным факелоносцем, пробился сквозь пепелище разрухи. Посетителей страны поражали видимые свидетельства растущего благосостояния народа. Под Токио появились новые линии метро, современная скоростная трасса связала столицу с Нагоей. 1 октября с главного токийского вокзала в путь отправился первый бело-голубой «поезд-пуля», который за неслыханно короткое время — 3 часа 10 минут — доставил пассажиров в Осаку, расположенную за триста миль от столицы. Рефреном дня стала фраза «Процветание мирного времени». Частный капитал украсил Токио изящными отелями и гигантскими жилыми комплексами, которые отражали растущее ощущение оптимизма, благополучия и значительных достижений.
Во время Олимпиады также проявилась обновленная гордость за японские традиции. Когда память о войне заслонили образы мира и процветания, японцы перестали бояться упреков, если они открыто демонстрировали уважение к своему культурному прошлому. Японские атлеты достойно выступали в соревнованиях по дзюдо. Этот вид спорта только в Токио был включен в олимпийскую программу. Японцы вызывали восторг у зрителей, демонстрируя свое мастерство в кэндо. Новые здания, построенные к Олимпиаде, также помогали, по словам Ясукава, развивать игры «в соответствии с определенно японским образом». Здание из стали и железобетона Ниппон Будокан, в котором проводились соревнования по дзюдо и демонстрации боевых искусств, было так спланировано архитекторами, что оно напоминало Юмэдоно, деревянный Зал Мечтаний, который являлся частью храма Хорюдзи, одного из древнейших культовых центров Японии, расположенного близ первой императорской столицы Нара. Подобно Юмэдоно, зал для занятий боевыми искусствами представлял собой восьмиугольное сооружение, покрытое высокой крышей, которая была увенчана шаром. Для олимпийских болельщиков, посещавших Ниппон Будокан, его расположение в непосредственной близости от рвов и валов императорского дворца подчеркивало связь прошлого с настоящим, традиции с современностью.
Большинство японцев оценили проведение Олимпиады как время национального единения, как яркий момент, когда вся нация подходит к утверждению ее политического, экономического и духовного возрождения после ужасов войны и поражения. Один из ведущих литераторов в колонке, отведенной ему в ежедневной газете, признавал: «Присутствуя на церемонии открытия, я был ошеломлен мыслью, что Япония, наконец, вновь обрела свою национальную способность к театральной постановке, когда она смогла продемонстрировать столь завораживающее действо»{350}. В том же духе высказывалась романистка Ариёси Савако, приобретшая популярность своим тонким отношением к социальным темам современности, которая стала свидетельницей победы в олимпийском турнире японской женской волейбольной команды. Она высказала то, что ощущали многие представители ее поколения по отношению к послевоенной эпохе: «Я могла видеть почти материальное воплощение чувства долга, витающее над головами плачущих девушек. Они столько лет старались только ради этого момента. Спасибо вам».
Не все японцы, однако, желали присоединиться к празднику. Один известный архитектурный критик с неодобрением отнесся к символизму Ниппон Будокан. Он назвал это строгое геометрическое сооружение с острыми углами «антисовременной экзотикой», «фашистским зданием», которое вызывает в памяти «архитектуру Берлинской Олимпиады времен господства нацистов»{351}. Подобным образом, когда угасли теплые отсветы Олимпиады, и на смену 60-м пришли 70-е и 80-е, некоторые японцы начали по-новому оценивать последний этап эпохи Сева. Сделав это, некоторые критики начали с пренебрежением относиться к тому особому типу демократии, который возник в послевоенные десятилетия. Другие указывали, что промышленное возрождение Японии, каким бы великим оно ни было, не принесло равных успехов всем жителям страны. А некоторые вообще начали сомневаться в том, что современное общество и культура представляют собой шаг вперед по сравнению с прошлым.
Правление ЛДП
Когда в 1953 и 1954 гг. популярность Ёсида Сигэру упала до необычайно низкого уровня, социалистические партии Японии начали искать возможности для завоевания на грядущих выборах большинства мест в парламенте. Чтобы укрепить свои позиции, две ведущие левые партии создали в октябре 1955 г. Нихон Сакайто, которая стала больше известной под аббревиатурой ЯСП, Японская социалистическая партия. В ответ на это Либеральная партия Ёсида объединилась в следующем месяце с другой консервативной партией, Японской демократической, положив начало, таким образом, существованию Дзию Минсуто, или ЛДП (Либерально-демократическая партия). Японские Либеральная и Демократическая партии были преемницами довоенных Сэйюкай и Минсэйто. Так же, как и эти организации в период Тайсо, ЛДП превратилась в доминирующую политическую партию. Сформированная во время премьерства Хатояма Ичиро, ЛДП выиграла выборы, и на протяжении следующих 4 десятилетий, до осени 1993 г., она сохраняла власть в своих руках. За это время 15 лидеров ЛДП последовательно занимали пост премьер-министра.
ЛДП с организационной точки зрения представляла собой партию, состоявшую из различных фракций. На протяжении всего ее политического расцвета, с полдюжины основных объединений боролись друг с другом за влияние. Каждая фракция являлась отдельной ячейкой, которая обладала своими собственными средствами на проведение избирательной кампании, способствовала развитию карьеры своих членов, вела переговоры с другими фракциями по поводу контроля над основными партийными и правительственными должностями. Они по очереди выдвигали из своих рядов кандидатов на пост премьер-министра. Благодаря своему коалиционному характеру ЛДП поддерживала самые различные направление политики, хотя в целом ее политика производила впечатл ние консервативного прагматизма. То есть партия демонстри ровала приверженность парламентской демократии, системе свободного предпринимательства, принципу священной неприкосновенности частной собственности и таким гражданским ценностям, как любовь к своей стране, уважение к семье, закону и порядку. В то же самое время каждая фракция проводила свою собственную политику, которая переводила эти ценности на нужды своей группы выборщиков. Фермерам обещали гарантированные цены на урожай, пожилым людям и тем, кто имел свои розничные лавки, — расширение социальных программ, способствующих повышению благосостояния, фабричным рабочим — улучшение условий труда и минимальную заработную плату, работникам образования — академическую свободу. Способность фракций ЛДП достучаться до сердец самых различных избирателей была одной из причин ее долгого контроля над парламентом и кабинетом. Еще одной причиной была ее способность улавливать новые тенденции, как это было в случае с призывом к решительному экономическому росту в 60-х, а затем в 70-х — с принятием законодательства против загрязнения окружающей среды и направлением значительных средств из бюджета на развитие парков, библиотек и другими мерами по улучшению жизни горожан. Важным фактором было и сотрудничество с бюрократией, поскольку чиновники несли формальную ответственность за осуществление законов, принятых депутатами ЛДП. Ёсида, который и сам до войны был сотрудником Министерства иностранных дел, установил тесные связи с бюрократией, убедив высокопоставленных чиновников продолжать карьеру в рядах ЛДП. Эти взаимоотношения приобрели столь тесный характер, что три отставных чиновника стали главами основных фракций ЛДП и последовательно занимали пост премьер-министра с 1957 по 1972 г.: Киси Нобусукэ, Икэда Хаято и Сато Эйсаку (младший брат Киси, который в юности принял фамилию одного из родственников). Несмотря на доминирование на политической арене, ЛДП иногда оказывалась в весьма тяжелых ситуациях. Киси Нобусукэ, который, для начала, был очень надменным человеком, став в 1957 г. премьер-министром, притащил за собой пыльный исторический багаж. Многие избиратели неодобрительно относились к его службе в качестве чиновника Маньчжоу-Го, а также к его карьере во время войны — сначала на посту министра коммерции и промышленности, затем — на посту заместителя министра военных имуществ. Оппозиционные политики любили называть его «военный преступник Киси», напоминая о том, что SCAP выдвигал против него обвинения. В мае 1960 г. оппозиция, находившаяся в меньшинстве в парламенте, контролируемом ЛДП, устроила обструкцию и сидячую забастовку, чтобы затормозить утверждение слегка измененного американо-японского Договора о безопасности. В ответ на это Киси принял необычайно жесткие действия, чтобы провести через парламент текст договора. Он вызвал полицию в здание парламента, чтобы та вытащила его оппонентов из кабинетов, а затем неожиданно провел голосование, на котором, в итоге, присутствовали только депутаты от ЛДП. Возмутившись продемонстрированным премьер-министром неуважением по отношению к демократическим процедурам, трудящиеся объявили забастовку. По всей Японии сотни и тысячи студентов вышли на улицы в знак протеста. Своего пика кризис достиг 10 июня 1960 г., когда пресс-секретарь Дуайта Д. Эйзенхауэра, который находился в то время в Японии, занимаясь подготовкой грядущего президентского визита, был вынужден карабкаться на борт вертолета, чтобы спастись от демонстрантов, окруживших его лимузин и угрожавших его опрокинуть. Когда пять дней спустя в Токио одна молодая женщина была задавлена насмерть во время жестокой стычки между студентами и полицией, вал критики усилился, заставив Киси уйти в отставку всего через несколько дней после того, как парламент одобрил исправленный вариант договора. Денежная политика также превратилась в особенно чувствительную тему на выборах 60-х и 70-х гг. Члены парламента с большим аппетитом поглощали финансовые средства. Избирательные кампании стоили недешево, поскольку кандидаты зачастую использовали материальные стимулы — поездки в токийские офисы парламентариев, дорогие подарки и даже «презенты» наличностью — для привлечения влиятельных сторонников, которые могли помочь выиграть выборы. Добившись депутатского места, парламентарии нуждались в крупных суммах, чтобы выполнить обещания, данные избирателям своего округа. В частности, политики ЛДП славились своими близкими связями с избирателями. Они вносили свою лепту в местные благотворительные учреждения, выделяли средства на создание новых предприятий и реконструкцию старых, а также посылали подарки к свадьбам, похоронам и праздникам. Чтобы удовлетворить свои потребности в деньгах, политики обращались к крупным корпорациям и богатым людям, которые выказывали желание сделать вклад в бюджет избирательной кампании, платили чрезмерные гонорары за короткие речи и выделяли сотни и тысячи йен на организацию обедов и партийных вечеринок. Взамен, что всем было понятно, парламентарий должен был с симпатией относиться к законопроектам, благоприятным для его благодетелей. В конце 60-х — начале 70-х репортеры ведущих газет и журналов полностью раскопали иногда незаконные, иногда легальные, но неэтичные способы добывания денег. Результаты этих журналистских расследований опозорили ЛДП в глазах многих. По мере роста общественного негодования по поводу фактов политической коррупции, пребывание Танака Какуэй на посту премьер-министра казалось подтверждением самых худших опасений относительно зловещей, всеобъемлющей природы политического финансирования. Закаленный, «сделавший себя сам» человек, с лица которого, казалось, не сходила самодовольная улыбка, Танака руководил строительной компанией, которая смогла в военные годы получить правительственные контракты. В 1947 г. он, все еще будучи молодым человеком, в первый раз победил на парламентских выборах. Когда в 50-х была создана ЛДП, он присоединился к ней. В кабинетах Икэда и Сато он занимал пост министра финансов. За свою политическую карьеру Танака приобрел репутацию архимастера подковерных манипуляций с денежными средствами. Еще во время его первого срока в Палате Представителей в его адрес звучали обвинения в том, что он брал взятки у владельцев главных угольных копей. Однако, благодаря щедрости, тщательно проявляемой им в его избирательном округе в родной для него префектуре Ниигата, ему удавалось побеждать на одних парламентских выборах за другими. Как только летом 1972 г. Танака стал премьер-министром, заявления о сомнительных вкладах со стороны его сторонников в недвижимость и строительный бизнес втянули его администрацию в стремительный вихрь споров и дискуссий. Практически ежедневно в ведущих газетах и журналах появлялись материалы с публичными разоблачениями. В один момент открылось, что Танака назначил дважды разведенную бывшую хозяйку ночного клуба ответственной за финансовые средства его фракции. При этом миллиарды йен были использованы на то, чтобы смазывать политическую машину ЛДП. Подобные махинации ошеломляли общественность и, в конце концов, в декабре 1974 г. Танака был вынужден уйти с поста премьера. Менее чем через 2 года после этого японская полиция арестовала его. Это произошло после того, как расследование деятельности самолетостроительной корпорации Локхид, предпринятое американским Сенатом, показало, что он получил 500 миллионов йен в качестве взяток, находясь на посту премьер-министра. За это он «побудил» государственную авиакомпанию «Ол Ниппон Эйрвэйз» приобрести самолеты компании Локхид. После 7 лет изучения дела, районный токийский суд признал Танака виновным, но продолжительные апелляции и удар, чуть не ставший для него фатальным, спас его от ужасов тюремной камеры. Гегемонию ЛДП оспаривали несколько партий. На левом фланге Японская коммунистическая партия, представители которой в 80-х обычно занимали 20–30 мест из 512 в Палате Представителей, выступала за мирный переход к социализму и противостояла американо-японскому Договору о безопасности. Японская социалистическая партия (ЯСП) имела более широкое представительство. За ее спиной стояли рабочие организации, и иногда она проводила в парламент более 100 кандидатов. Она выдвигала экономические программы социалистического содержания, а в мае и июне 1960 г. она возглавила атаку на Киси. Центр занимала Комэйто, или Партия чистого правительства. На политической арене она появилась в 1964 г. и вскоре завоевала значительную поддержку со стороны общества. Она призывала к ликвидации политической коррупции, выступала за выделение более значительных средств на социальные программы и за мирное сосуществование между нациями. Ряд выдающихся японских женщин-политиков также выступали против политики ЛДП и способов ее осуществления. В парламенте они были либо независимыми депутатами, либо входили в одну из оппозиционных партий. Камичика Ичико, феминистка и журналистка довоенной эпохи, в свое время провела 2 года в тюрьме за удар ножом, нанесенный своему любовнику Осуги Сакаэ, после того как он бросил ее ради Ито Ноэ. После войны она примкнула к ЯСП. С 1953 по 1969 г. она была депутатом Палаты Представителей, где стала главным защитником равенства полов, а также участвовала в кампании против легализации проституции (запрещенной окончательно Законом о предотвращении проституции, принятым в 1956 г.). Независимым депутатом был почтенный Ичикава Фусаэ. Впервые он победил на выборах в верхнюю палату парламента в 1953 г., и на протяжении последующих 25 лет Ичикава боролся за права человека и выступал против разрушающего влияния денежной политики. Отношение общества к ЛДП было двояким. Приблизительно до середины 80-х выборщики, которым пошли на пользу принятые с подачи ЛДП законы, честно голосовали за ее представителей. Другие японцы, разочарованные продолжающимися случаями коррупции, критиковали политиков ЛДП за отсутствие идеализма и за то, что свои интересы эта партия ставила выше интересов нации. В то же время даже те выборщики, которые не поддерживали ее, зачастую не желали передавать судьбу своей страны в руки мелких партий. Их политики, как это часто говорили, занимались бесконечными внутренними разборками вокруг каких-то незначительных идеологических принципов и предлагали очевидно провальные экономические программы. Это двойственное отношение выборщиков проявлялось во время опросов общественного мнения. На протяжении 70-х они показывали, что большое количество, иногда большинство, респондентов высказывались за то, чтобы страну возглавила какая-нибудь другая партия, а не ЛДП. Тем не менее и в этом десятилетии, и в следующем избиратели продолжали голосовать таким образом, что ЛДП могла провести в парламент достаточное количество своих представителей, чтобы контролировать пост премьер-министра и обладать подавляющим большинством министерских постов. Способность ЛДП сохранять власть в своих руках сводила на нет роль политической оппозиции и вызывала критические замечания по поводу того, что японская демократия представляет собой нефункциональную однопартийную систему.

Стремительный рост и приоритеты правительства
Сопоставление экономических условий первого послевоенного десятилетия и того, которое существовало в 80-х, поражает воображение. В 1945 и 1946 гг. Япония была в состоянии разрухи. Десять лет спустя будущее ее все еще не казалось многообещающим. В середине 50-х ВНП Японии составлял всего 1/15 от ВНП Соединенных Штатов. Заработные платы были лишь ненамного выше, чем в лучшие из довоенных годов. В 1957 г. Эдвин О. Райсхауэр, выдающийся профессор Гарвардского университета, считавшийся лучшим на Западе специалистом по Японии, а позже ставший послом США в этой стране, обескураженно заметил: «Экономическая ситуация в Японии может быть настолько глубоко поражена болезнью, что никакая политика, сколь бы мудрой она ни была, не может спасти ее от медленной смерти от экономического голода и всех сопутствующих политических и социальных болезней, которые будут порождены этой ситуацией»{352}. По иронии судьбы, когда Райсхауэр это писал, Япония уже переступала порог эпохи экономического роста, которому суждено было поразить мир. К началу 60-х значительный прирост основного капитала, масштабное вкладывание средств в заводы и оборудование, а также энергичная борьба за международные рынки поставили японский ВНП на пятое место среди капиталистических экономик мира. В 60-х, которые были образцом стремительного роста, средний рост экономики достиг более 10 % в год. Прежде чем завершилось это десятилетие, по производству товаров и услуг Япония обошла Западную Германию, равно как и любую другую свободную рыночную экономику в мире, за исключением Соединенных Штатов. После «нефтяного шока» 1973 г., когда Организация стран — экспортеров нефти подняла цены на сырую нефть почти на 70 %, рост экономики Японии временно замедлился, прежде чем он вновь вышел на прежний уровень. Стремительные, перехватывающие дыхание годы завершились, но с 1975-го и на протяжении 80-х годов ВНП демонстрировал завидный рост, который колебался в пределах 3,5–5,5 % в год. В 1987 г. по доходам на душу населения Япония обогнала Соединенные Штаты. Беспрецедентный экономический бум резко изменил жизнь японских граждан. К началу 70-х большинство японцев проживали в городах, где уровень жизни превосходил этот показатель у других развитых наций. В сельской местности Японии доход на одно домовладение был приблизительно в 4 раза больше, чем в 1955 г. Фермерские семьи смотрели те же телевизионные программы, ездили на таких же автомобилях, пользовались такими же холодильниками и стиральными машинами, как и их соотечественники в городах. В конце 80-х мир с трепетом смотрел, как огромные «Боинги», один за другим, доставляли японских туристов на пляжи Гавайев, корпорации, которые буквально захлестнул вал доходов, перехватывали Рокфеллеровский центр и другие американские архитектурные достопримечательности, а богачи, каждому из которых было по двадцать с небольшим лет, каждый ноябрь собирались в Токийском международном аэропорту, чтобы отведать только что доставленное божоле. Впечатляющий образ поверженной Японии, которая превратилась в экономического колосса, заставил многих объявить ее послевоенное возрождение «экономическим чудом». Но оно таковым не являлось ни по времени, ни по причинам, его вызвавшим. Несмотря на широко распространенное мнение о том, что Япония подобно Фениксу, возродилась из пепла войны, на самом деле ей понадобилось больше времени на восстановление довоенного уровня дохода на душу населения, чем Германии и остальной части Западной Европы. Видимость быстро осуществленного восстановления в значительной степени происходила из того факта, что масштабы физических разрушений в Японии были слишком велики. Не было ничего сверхъестественного и в возвращении страны в ряд индустриально развитых держав мира. Своим возрождением она скорее была обязана наследию прошлых достижений, неукротимому движению по направлению к модернизации, невероятному количеству упорного труда, трезвому планированию и периодическим появлением неожиданных стимуляторов, или того, что экономисты предпочитают называть внешними влияниями. По мнению многих экспертов, начало экономического возрождения Японии знаменовалось внедрением «линии Доджа». Джозеф М. Додж, угрюмый банкир из Детройта, который осуществлял контроль над денежными реформами в оккупированной Германии, в феврале 1949 г. был отправлен президентом Трумэном в Японию в качестве специального советника SCAP по финансовым вопросам. Он был сторонником классической экономической теории, поэтому считал, что единственным средством борьбы с гиперинфляцией являются малая денежная масса и скромные государственные траты. Работая в тесном контакте с Икэда Хаято, тогдашним министром финансов, который впоследствии займет пост премьер-министра, Додж выписывал одну горькую пилюлю за другой. Он настаивал на необходимости сбалансирования бюджета, сокращении эмиссии и уменьшении масштабов вмешательства государства в экономику, путем постепенного отказа от существующего контроля над ценами и прекращения практики раздачи правительственных субсидий частным фирмам. Линия Доджа была в высшей степени спорной. Некоторые экономисты считали, что она помогла погасить пожар послевоенной инфляции, очистить экономику от сухостоя и подготовить почву для последующего роста. Ценой этого, однако, был резкий спад, который поверг в ярость японских трудящихся стремительным сокращением реальной зарплаты и увольнением 500 000 человек, как из государственного, так и из частного сектора. История, однако, в конечном итоге оправдала «линию Доджа». Первый зафиксированный статистически признак роста важных экономических показателей был отмечен во время Корейской войны. С 1950 по 1953 г. Япония служила перевалочным пунктом и базой снабжения сил ООН, сражавшихся на полуострове. Вследствие этого, японские компании заключили контракты на сумму почти в 2 миллиарда долларов на поставку текстиля, масла, бумаги, стали и автомобилей. Это была неожиданная удача, которая принесла значительные доходы японским предприятиям, что позволило вкладывать средства в новые заводы и оборудование и вернуть экономику к работе в полную мощь. С середины 60-х, с началом войны во Вьетнаме, начался второй раунд заказов со стороны американских военных, обеспечивший еще одно стимулирующее воздействие на японскую экономику. Консерваторы, руководившие Японией, также внесли свой вклад в послевоенное возрождение страны, сделав экономический рост первейшим приоритетом нации. Во время своего первого срока на посту премьер-министра Ёсида Сигэру решил оказать особую помощь некоторым основным отраслям промышленности, которые он считал существенными для восстановления экономики. В декабре 1946 г. он вместе со своим кабинетом принял программу приоритетного производства. Она была сформулирована Арисава Хироми, экономистом, который в 30-х выступал за усиление вмешательства государства в экономику. Основной упор схемы профессора Арисава приходился на направлении драгоценных угольных резервов и импортируемой нефти в производство стали. Затем выросший объем произведенной стали распределялся по другим ключевым отраслям, таким как судостроительная и химическая. Это все помогло бы Японии выбраться из экономической ямы, создавая рабочие места и стимулируя спрос во многих других отраслях. На протяжении последующих полутора лет выпуск продукции в основных отраслях значительно вырос, подготовив множество компаний к тому наплыву заказов, с которым им довелось столкнуться во время Корейской войны. Вслед за приходом к власти ЛДП в середине 50-х, консервативное руководство страной сделало повсеместным выражение «стремительный рост» превратило ВНП в показатель благосостояния нации. Самым символичным знаком той важности, которую ЛДП придавала экономическому развитию, было создание в 1955 г. Агентства экономического планирования. АЭП, которое было духовным наследником довоенных групп по планированию, представляло собой существовавший на уровне кабинета совет, состоявший из экспертов в области экономики и статистики, имевших право доклада непосредственно премьер-министру. Его главными задачами являлись способствование усилению японской экономики, предсказание будущих тенденций, периодическая разработка для кабинета наборов специальных мер, направленных на решение определенных проблем и использование будущих возможностей, а также консультация частных предпринимателей по поводу деловых проектов. В период между 1955 и 1990 гг. АЭП разработало 11 основных экономических планов, или взглядов, как они назывались, в том числе и знаменитый план по удвоению доходов, который премьер-министр Икэда Хаято 27 декабря 1960 г. принял в качестве официальной политики. Эта схема смело призывала удвоить в 60-е гг. национальное достояние. Достигнуть этого предлагалось путем вкладывания средств в науку и технологию, уменьшения налогового бремени и выдачи субсидий тем производствам, которые внесут наибольший вклад в осуществление стремительного роста, а также агрессивным расширением внешней торговли. Результаты были просто замечательными. Вместо предусмотренных планом 7,2 % ежегодного роста, экономика Японии уже в 1961 г. достигла феноменального показателя в 14,5 %. В итоге национальный доход был удвоен всего за 7 коротких лет. Наряду с АЭП, министерства финансов, строительства и сельского, лесного и рыбного хозяйства составляли то, что некоторые называли «экономической бюрократией». Все они помогали разрабатывать и осуществлять планы по продвижению экономики к поставленным целям. Но ни одно правительственное агентство, однако, не внесло столь значительного вклада в эпоху стремительного роста, как это сделало Министерство внешней торговли и промышленности, сокращенно МВТП. Создано оно было в мае 1949 г. на базе прежнего Министерства коммерции и промышленности (1925–1943, 1943–1949). МВТП обладало полным набором инструментов, которым и пользовалось для осуществления «промышленной политики». По японским законам, его чиновники выдавали разрешения на импорт и экспорт, которые они распределяли таким образом, что зарубежные технологии и сырье попадали в важнейшие сектора промышленности. МВТП занималось и лицензированием строительства новых заводов, а также рекомендовало определенные фирмы для выдачи им кредитов под низкие проценты Японским банком развития, основанным в 1951 г. для дополнения к финансированию частными финансовыми учреждениями. По этим причинам министерство оказывало значительное влияние на те решения, которые принимались частными предприятиями. МВТП также снабжало определенные компании значительным количеством своих пресловутых «административных руководств», которые представляли собой требования и суждения относительно того, какие действия должна предпринять та или иная фирма, а также предупреждения о том, что может случиться с этой фирмой в том случае, если мудрость МВТП не будет ею замечена. Росту административного руководства способствовала практика амакудари («спустившиеся с небес»), в результате которой многие чиновники МВТП заняли высокие посты в ведущих японских корпорациях, после того как приняли решение об уходе с государственной службы (обычно это происходило по достижении чиновником пятидесятилетнего возраста). В 50-х и начале 60-х МВТП использовало свое влияние для продвижения фаворитов японской «экономической бюрократии», коими являлись судостроительная и сталелитейная отрасли. Таким образом было завершено начавшееся еще в межвоенный период превращение Японии из производителя товаров легкой промышленности, ориентировавшегося на азиатский рынок, в поставщика на мировые рынки продуктов тяжелой промышленности. В 60-х гг. МВТП обратилось и к другим отраслям, которые, как считалось, могут завоевать покупателя на мировых рынках и таким образом будут способствовать дальнейшему экономическому развитию Японии. С этой целью чиновники увеличили барьеры на пути импорта, чтобы защитить отечественную автомобильную промышленность, и направили инвестиции в компании, занимающиеся производством нефтепродуктов и механического оборудования. После нефтяного кризиса 1973 г. МВТП разглядело опасность возрастающей конкуренции со стороны развивающихся стран Латинской Америки и Тихоокеанского бассейна, которые в это время развивали свои промышленные инфраструктуры. Чтобы быть на шаг впереди них, чиновники министерства выступили за то, чтобы Япония превратилась в «обладающее высокими познаниями» общество и направила свои производственные усилия в такие области высоких технологий, как робототехника, волоконная оптика, программирование, лазеры и биотехнология.Послевоенное возрождение и деловое сообщество
Крупный бизнес с энтузиазмом откликнулся на новые возможности, открывшиеся перед ним в поздний период эпохи Сева. В первое послевоенное десятилетие хорошо всем знакомые судостроительные компании, такие как «Исикавадзима» и «Кавасаки», получили правительственные кредиты, закупили на Западе новые передовые технологии, внедрили новую технику, такую как электросварка и автоматические резаки для листовой стали, и к концу 50-х превратили Японию в лидера мирового судостроения. «Тойота», заводы которой были сровнены с землей во время войны, начала свое возрождение в начале 50-х, после того как она получила значительные прибыли за счет ремонта и производства запчастей к американским военным машинам во время Корейской войны. Вскоре «Тойота» и другие автомобильные фирмы, такие как «Ниссан», наняли передовых инженеров, автоматизировали свои новые производства, поставили на сборочную линию роботов, усовершенствовали инвентарный контроль, скоординировав производство и поставку отдельных деталей с субподрядчиками, подписали контракты на розничную продажу и создали совершенно новые по своей стилистике модели автомобилей, такие как «Тойота Корона» (1957) и «Ниссан Блюберд» (1959). Эти мероприятия принесли феноменальные результаты. Как следует из таблицы 16.2, японские производители автомобилей в 1953 г. продали всего 50 000 автомобилей, в то время как всего через 7 лет количество автомобилей, в замки зажигания которых водители вставили ключи, превзошло эту цифру в 10 раз. Нефтяной кризис 1973 г. предоставил японским фирмам возможность завоевать плацдарм на американском рынке, когда американские потребители стали предпочитать своим монстрам, бочками пожиравшим бензин, более экономичные модели. К 1980 г. Япония производила больше автомобилей, чем любая другая страна. Тремя годами позже «Тойота» и «Ниссан» заняли соответственно второе и третье место в мире среди компаний, производящих автомобили. К концу десятилетия японские производители контролировали почти 25 % американского рынка.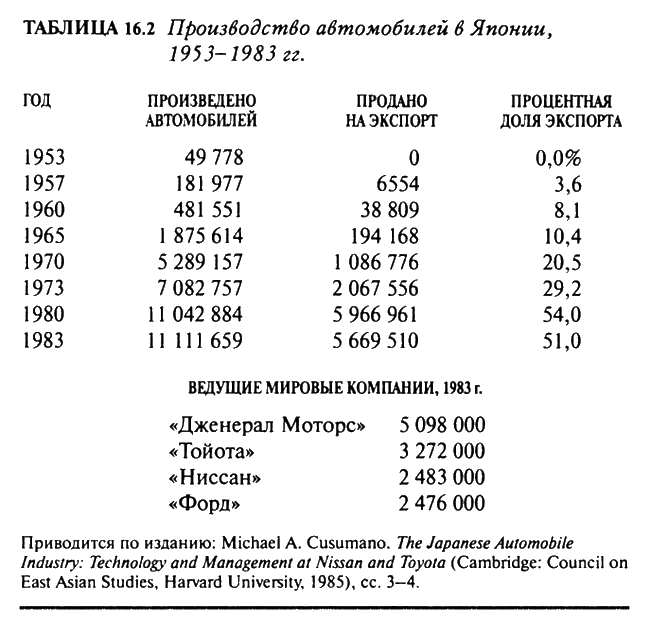
На первый план начали выходить и недавно появившиеся производители электроники, такие как «Мацусита» и «Сони». «Мацусита» своими корнями уходила в 1918 г., когда Мацусита Коносукэ, которому лишь недавно исполнилось 20 лет, открыл в Осаке маленькую мастерскую, в которой он производил и продавал батарейки для велосипедных фар. В середине 30-х он перешел к производству небольших бытовых приборов, назвав свое предприятие Электрической производственной компанией Мацусита. В 50-х его фирма вышла на национальный уровень. Она наладила связь с компанией Н. Филипа Gloeilampenfabriken, чтобы получить доступ к новейшим технологиям, и начала массовое производство постоянно расширяющегося ассортимента электробытовых приборов. В период между 1955 и 1960 гг. она в семь раз увеличила объемы своих продаж. Она активно поставляла на японские и заморские рынки телевизоры, радиооборудование, холодильники, пылесосы и стиральные машины под брендами «Мацусита», «Националь» и «Панасоник». Одним из наиболее мощных конкурентов «Мацусита» в сфере производства аудио- и видеотехники была корпорация «Сони». Она была основана в 1946 г. Ибука Масару и Морита Акио. Ибука был инженерным гением фирмы. В 1950 г. он первым создал в Японии магнитофон. Затем он изобрел радио на транзисторах, после того как в 1953 г. «Сони» приобрела у «Вестерн Электрик» патент на производство транзисторов. В последующие годы Ибука шел в авангарде внедрения в коммерческую сферу различных полупроводников, которые «Сони» использовала для производства менее крупных по габаритам и более доступных по цене телевизоров,видеомагнитофонов и других новых товаров. Морита, специалист по финансам и маркетингу, говоривший, что его коллега обладает «великой способностью к нововведениям», представил продукцию «Сони» на мировых рынках. Он построил заводы компании за рубежом, и в 1970 г. «Сони» стала первой японской компанией, попавшей в бюллетени нью-йоркской фондовой биржи. Достижения Морита были столь значительны, что журнал «Тайм» в 1997 г. назвал его в числе 20 «наиболее влиятельных гениев бизнеса столетия». Когда в 1999 г. Морита умер, «Нью Йорк Таймс» написала, что он «изменил представление мира о понятии «сделано в Японии», переключив его с зонтиков и дешевых подделок на высокие технологии и надежные миниатюрные приборы»{353}. Хотя «Сони» предпочитала сама вести свои дела на рынке, многие японские фирмы полагались в этом деле на генеральные торговые компании, или сого coca, которые распределяли готовую продукцию между розничными продавцами. Генеральные торговые компании предоставляли своим клиентам возможности как на внутренних, так и на внешних рынках и обеспечивали их широким спектром финансовых услуг, в том числе предоставление ссуд, управление рисками на зарубежных биржах и справедливое участие. В конце 80-х через 9 крупнейших торговых компаний проходило около половины японских импорта и экспорта. Объемы их продаж составляли приблизительно 25 % валового национального продукта Японии. Все 9 брали свое начало в довоенной эпохе, и у многих из них были знакомые названия. Корпорация «Сумимото», базировавшаяся в Осаке, распределяла значительную часть японских промышленных и потребительских товаров. В 1989 г. около 10 % от японской внешней торговли прошли через 150 зарубежных офисов «Мицуи и Компании». Корпорация «Мицубиси» имела своих агентов в более чем 80 странах. Она занималась общей (генеральной) торговлей, осуществляла передачу технологий своим клиентам и была вовлечена в такие новые области, как телекоммуникации и передача информации. Каждая из крупнейших генеральных торговых компаний являлась ядром целой группы разнообразных производств, напоминая, таким образом, довоенные дзайбацу. Зачастую эти новые корпоративные группы называли кэйрэцу. Они появились после официального завершения оккупации. Каждая из них обычно включала в себя банк, различные производственные предприятия, конструкторские фирмы и страховые компании. Но, если внешнее сходство между дзайбацу и кэйрэцу было потрясающим, то внутренние различия были значительными. Их деятельность координировали не холдинговые компании, тысячи акционеров владели акциями каждой фирмы и центральные торговые компании не могли принудить другие фирмы, входящие в корпорацию, пользоваться исключительно их услугами. Тем не менее отдельные компании, составлявшие корпорацию, очень тесно сотрудничали друг с другом, что и делало кэйрэцу могущественными игроками как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Влиятельные деловые ассоциации, такие как Кэйданрэн (Федерация экономических организаций), также оказывали воздействие на осуществление экономической политики, помогая более четко формулировать экономические цели и доводить их до правительства. Кэйданрэн, созданная в 1946 г., в 80-х включала в свой состав около 1 000 отдельных корпораций и более сотни отраслевых групп, представлявших фирмы по производству электроники, автомобилей, финансовые учреждения и тому подобное. Обладая достаточным объемом финансирования, большим штатом сотрудников и десятками специализированных исследовательских комитетов, Кэйданрэн разрабатывала предложения по поводу способов стимулирования экономического роста, достигала консенсуса со своими клиентами относительно ее предложений и формулировала отдельные рекомендации для правительства. Поскольку в ее состав входили ведущие компании и предпринимательские группы, она могла с успехом лоббировать в ЛДП интересы крупного бизнеса. Правительство, которое сделало экономический рост национальным приоритетом, бюрократы, которые осуществляли промышленную политику, возникновение крупных компаний и корпоративных альянсов и громкий голос крупного бизнеса — вся эта совокупность, объединенная, казалось бы, общими интересами, подтолкнула в 70-е гг. некоторых наблюдателей к популяризации термина «Инкорпорированная Япония». Под этим понятием подразумевалось то, что послевоенное «экономическое чудо» своим существованием было обязано уникальным отношениям между правительством и бизнесом. Однако, как это часто случается с идиомами, эта оказалась слишком упрощенной. Япония никогда не обладала плановой экономикой, она лишь демонстрировала некоторую склонность к ней. Более того, конфликты между МВТП и другими правительственными агентствами зачастую пускали на дно попытки согласования различных проектов. Подобные ситуации возникали в 70-х и 80-х гг., когда некоторые бюрократические учреждения, в частности Министерство почт и телекоммуникаций, которое имело свои идеи по поводу способов развития индустрии телекоммуникаций, саботировали большую часть усилий МВТП по продвижению высоких технологий. Вдобавок МВТП почти не присутствовало в некоторых областях промышленности. Кроме введения протекционистских пошлин на импортные автомобили, оно не предприняло никаких действий для развития японского автопрома. Наконец, руководящие указания МВТП не всегда оказывали должное воздействие на крупные компании, которые чаще предпочитали действовать, исходя из своих специфических интересов. Так, когда в 1956 г. министерство вмешалось в сферу автомобильного рынка, советуя «Тойоте» не нарушать монополию «Исудзу» в производстве дизельных грузовиков, председатель «Тойоты» отверг этот «совет», заявив, что «правительство не имеет права останавливать нас. «Тойота» продолжит продавать дизельные грузовики, даже если министерство будет против этого»{354}. Никто не оспаривает тот факт, что МВТП и другие бюрократические организации играли определенную роль в продвижении экономического развития в эпоху стремительного роста, в 60-х и начале 70-х. Но стоило бы провести разницу между простой разработкой планов и весьма запутанной реальностью, в которой и был взращен экономический успех. В этом контексте основные японские корпорации сделали гораздо больший вклад. Их усилия и инициативы были основной движущей силой послевоенного возрождения Японии. В 70-х японскую экономику двигал вперед внутренний потребительский спрос, и «Сони» с «Мацусита», сталкиваясь лбами, поспешили занять как можно больше площадей в розничных торговых центрах. «Тойота» с «Ниссаном» в то же время когтями и зубами выдирали друг у друга куски внутреннего рынка. Подобные компании, создавая свою потребительскую базу, совершенствуя закупленные за рубежом технологии, предлагали розничной торговле новые типы товаров и улучшали свои бухгалтерские балансы, становились конкурентоспособными на мировом уровне, что и помогло Японии проникнуть на международные рынки, как это показано на рисунке 16.2.

Мелкие и средние предприятия также внесли значительный вклад в послевоенное возрождение японской экономики. Эти фирмы существовали в самых разнообразных формах. Это могли быть лавки, семейные рестораны и строительные компании, региональные оптовые торговые компании и субподрядчики гигантских японских производственных корпораций. Количество подобных фирм в эпоху стремительного роста быстро увеличивалось. В 1989 г. они составляли более 90 % от всех зарегистрированных в Японии фирм. Процветание подобных предприятий было обусловлено множеством причин. Мелкие предприниматели, оказавшие важное влияние на экономический рост в эпоху Мэйдзи, с энтузиазмом принялись осваивать новые технологии и приемы производства, чтобы предложить потребительскому рынку новые популярные товары, точно так же, как это делала «Сони» на начальном этапе своего существования. Другие мелкие предприятия заполняли важную нишу в структуре японской промышленности. Наличие субподрядчиков позволяло всем «тойотам» и «мацуситам» мира иметь значительное количество необходимых в производстве материалов и деталей без сооружения дополнительных заводов или увеличения штата сотрудников. Экономическая бюрократия полностью сознавала ту роль, которую малые предприятия играют в росте экономики и решении проблемы с рабочими местами. Поэтому она оказывала им широкую поддержку в виде налоговых льгот, информации относительно способов увеличения продуктивности и создания инфраструктуры финансовых институтов, таких как Финансовая корпорация малого бизнеса, которая была создана в 1953 г. для выдачи кредитов под небольшие проценты для закупки оборудования и модернизации производств. Отношения Японии с ее наставником, Соединенными Штатами, равно как и доброжелательное международное окружение, также способствовали возрождению страны в завершающий период эпохи Сева. Капиталистические страны стремились заменить самодостаточные экономические зоны открытой международной экономикой, в которой товары, капитал и услуги могли бы свободно пересекать национальные границы. В качестве одной из мер по достижению этой цели, развитые нации Западной Европы и Америки создали Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Их задачами было дальнейшее развитие международного сотрудничества в валютной сфере и оказание помощи по восстановлению разрушенных войной экономик. В 1952 г. Соединенные Штаты спонсировали членство Японии в этих двух организациях, а три года спустя обеспечили присоединение, Японии к ГАТТ, Генеральному соглашению по тарифам и торговле, целью которого было снижение торговых барьеров. Чтобы и в дальнейшем помогать своему союзнику в Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты до 1971 г. позволяли сохранять курс йены по отношению к доллару как 360 к 1. Этот сильно заниженный курс был крайне выгоден японскому экспорту, который в итоге получил значительную прибыль. Более того, согласно американо-японскому договору о безопасности, Япония могла тратить на оборону менее 1 % своего бюджета. Это значило, что корпорации, менее обремененные налогами, чем корпорации в других странах, могли вкладывать дополнительные средства в предприятия, приносившие непосредственную прибыль экономике. Наконец, в 50—60-х гг. правительство США не возражало против введения Японией ограничений на определенные статьи импорта, такие как автомобили. В то же время японские производители имели почти неограниченный доступ на огромный американский потребительский рынок. В целом Япония получила значительную выгоду от нового экономического порядка, который характеризовался международным сотрудничеством, расширением торговых возможностей и стабильными ценами на товары. Послевоенное возрождение японской экономики не может быть адекватно объяснено какой-то одной причиной. Наиболее правдоподобно, как и в случае с эпохой Мэйдзи, выглядит объяснение через набор нескольких факторов, которые и заставили рваться вверх экономические показатели. Кроме благоприятной международной обстановки и связей с Соединенными Штатами, особую важность, несомненно, имело наследие прошлого. Традиции предпринимательства, рынок рабочей силы, заполненный талантливыми руководителями и квалифицированными рабочими, и опыт организации успешных крупномасштабных предприятий — все это пригодилось стране в послевоенную эпоху. Правительство помогало путем обеспечения политической стабильности, восстановлением и модернизацией транспортной и коммуникационной инфраструктуры, стабилизацией банковской и денежной системы, а также разработкой программ и созданием бюрократических агентств, которые способствовали стремительному росту. Тем временем рабочие брали в руки свои инструменты и овладевали новыми навыками, промышленные магнаты и менее крупные предприниматели перестраивали старые компании и создавали новые, внедряли технологии и стремились использовать любую возможность к продвижению, как внутри страны, так и на внешних рынках. Большинство мужчин и женщин были очень довольны результатами. Подобно тому фермеру, который заявлял, что его жизнь стала «роскошной» по сравнению с довоенными годами, когда он «не мог себе позволить хорошую пищу, не было даже просто достаточного количества пищи», почти все японцы достигли невиданного уровня физического комфорта и даже изобилия в последние десятилетия эпохи Сёва.
Изобилие и новый средний класс
Стремительный экономический рост ускорил процесс урбанизации. Люди оставляли в прошлом ту жизнь, в которой они были фермерами, шахтерами, лесниками и рыбаками, чтобы попробовать себя в качестве промышленных рабочих, и переселялись в города и пригороды. В 1950 г. в городах проживали 38 % населения страны. В 1972 г. этот показатель составлял уже 72 %. К 1990 г. перераспределение населения Японии породило огромные, плотно заселенные мегаполисы. Два города, расположенные на севере острова Кюсю, с населением свыше миллиона человек, Фукуока и Китакюсю, слились в одну протяженную урбанистическо-промышленную зону. В Центральной Японии, только в Нагоя, которая сама была ядром зоны, состоявшей из почти четырех десятков коммерческих и промышленных городов-спутников, проживало 2 миллиона. А такая плотно переплетенная урбанистическая сеть, как Кобэ-Осака-Киото, служила домом для 50 миллионов человек. В этом регионе путешественники иногда просто не могли обнаружить границы между городами. На севере и востоке образовались свои урбанистические зоны. Тридцать девять миллионов человек теснится в Токийской зоне. В целом около половины всех японцев проживали в 30-мильных зонах трех крупнейших городов (Токио, Осака и Нагоя), втиснутые на территорию, занимающую всего 6 % от всей территории страны. В этих крупных городских центрах нищета послевоенных лет постепенно давала дорогу лучшей жизни. С конца 50-х гг. японский экономический бум воплотился в более комфортное жилье, богатую и разнообразную пищу, модную одежду. Повсеместно воспоминания вращались вокруг одной общей темы: насколько бедны мы были тогда, насколько нам хорошо сейчас. И кто мог с этим поспорить? В годы стремительного развития бульдозеры выровняли площадки для строительства 11 миллионов новых домов. Жилищный фонд был увеличен почти на 70 %. Люди с удовольствием снимали с себя монпэ и поношенную одежду послевоенных лет, прятали подальше семейные швейные машины и одевались в соответствии с возрастом, полом и требованиями современной моды. На улицах замелькали деловые костюмы с темными галстуками, мини-юбки и импортные свитера, голубые джинсы со спортивными фуфайками и кроссовками, одежды от Лиз Клейборн и шарфы от Гуччи. Диета также становилась более космополитичной. Люди стали есть больше мяса, хлеба, макарон, пили больше молока и фруктовых соков, отдыхали в пивных, оформленных в немецком стиле, и обедали в ресторанах, предлагавших американскую, французскую, итальянскую, испанскую, русскую, корейскую и китайскую кухни. Японские урбанистические центры были домом для самых разнообразных групп среднего класса, которые по-разному представляли себе хорошую жизнь. К группе «нуворишей» относились преуспевающие предприниматели, управляющая верхушка крупнейших корпораций, а также те счастливчики, которые унаследовали немного земли, продали ее и перебрались в город. Они могли сидеть за рулем «Мерседесов», проводить каникулы в Сан-Франциско и Париже и жить в двухэтажных особняках. В этих последних столовые были отделены от жилых комнат. В них была комната с татами, из которой открывался вид на японский сад, полностью оснащенная кухня, современная ванная с электронным туалетом космической эпохи и достаточное количество спален, чтобы разместить родителей, детей, а также иметь возможность насладиться уединением. В самом низу среднего класса стояли квалифицированные рабочие, управленцы среднего звена и молодые семьи, только начинающие свою жизнь. Все они проживали в тесных квартирах в многоэтажных домах. Каждая такая квартирка состояла из двух комнат с татами, кухни, совмещенной со столовой, и крошечной ванной. Общая площадь редко превышала 400–500 квадратных футов. Для таких семей и машины, и каникулы были исключительно отечественного производства. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимала группа, которая была новой иконой, воплощавшей в себе чаяния многих представителей городского среднего класса. В 60-е и 70-е гг. мужчины с университетским образованием более, чем чего бы то ни было, желали стать служащими — клерками основных корпораций, или сарари-мэн. Именно они были носителями так называемого стиля жизни нового среднего класса. Карьера сарари-мэн не была простой, поскольку они должны были всю свою душу и энергию до конца отдать компании. Они должны были безропотно соглашаться на перевод в региональные отделения, брать короткие отпуска, с энтузиазмом откликаться на предложение поработать сверхурочно, которое поступало практически каждый день, а также один или два раза в неделю (даже если вы не в духе или устали) оставаться после завершения рабочего дня на вечеринку с коллегами. Более того, начальство требовало от него продолжать упорно и честно исполнять свои обязанности, даже если он становился «наблюдающим за окном», то есть таким сарари-мэн, который взобрался по корпоративной лестнице настолько высоко, насколько позволяли его таланты, и который уже не мог надеяться на дальнейшее повышение. Плата за такую работу была высокой. Служащий мог наслаждаться мыслью, что у него есть пожизненно гарантированная работа, зная, что компания не уволит его, даже если его здоровье или экономика окажутся в плачевном состоянии. Ежегодно его зарплата увеличивалась (даже в том случае, когда повышение по службе являлось весьма отдаленной перспективой). Выходные и праздники он мог проводить за игрой в гольф со своими друзьями и расслабляясь в кругу семьи, а по выходу на пенсию он получал сумму, равную его доходу за три или четыре года. В целом, по словам одного ученого, служащий был образцом для остальных японцев, поскольку его стиль жизни не входил за рамки «реалистичных надежд и был достаточно современным, чтобы быть достойным их наивысших мечтаний»{355}. Типичный служащий мечтал жениться на женщине, к которой он будет испытывать романтические чувства и которая будет вести себя в соответствии с моделью, перекликающейся с понятием «хорошая жена, мудрая мать», популярным у предыдущего поколения. Поскольку доход мужа был достаточным для удовлетворения потребностей семьи, главной задачей жены было поддержание комфортной атмосферы в доме и забота о семье. Если кормилец был в состоянии продвинуть свою карьеру дальше среднего уровня, то семья могла жить в небольшом пригородном доме на три спальни с небольшим садом. Если этого не получалось, то тогда жилищем мог служить современный дом на несколько семей, прелести которого, но не жизненное пространство, напоминали особняк. В любом случае, жена проводила свои дни за уборкой, походами по магазинам, готовкой пищи, уходом за садом. Иногда она встречалась со своими соседками или подругами по колледжу. Она также должна была вести семейную бухгалтерию, вовремя платить по счетам, следить, чтобы все были накормлены и одеты, а также откладывать кое-какие средства на покрытие планируемых или неожиданных расходов. Будучи не только женой, но и матерью, она также должна была вырастить ребенка (в идеале — двоих). Иногда она занималась их воспитанием в одиночку, поскольку отец слишком много времени проводил на работе. В частности, будучи «образованной матерью» (кьёйку мама), она должна была весь вечер находиться рядом с детьми, следя, чтобы они полностью выполнили свое домашнее задание, так чтобы впоследствии они с успехом окончили начальную школу и могли пойти в престижную высшую школу, а затем — в соответствующий колледж. Жизнь нового среднего класса приносила женщинам как разочарование, так и удовлетворение. Лишь немногие домохозяйки находили чистку и мытье скучным занятием. Некоторые сожалели, что их мужья проводят так много времени в офисе. «Я не знаю, зачем японские мужчины женятся, — удивлялась одна японка, — если они все равно не собираются бывать дома»{356}. Тем не менее, согласно многочисленным сообщениям в средствах массовой информации, типичная жена-мать находила много поводов для удовлетворения своей жизнью. Она была замужем за человеком, к которому она испытывала привязанность и уважение, была обеспечена в финансовом плане, получала удовольствие от свободного времени и от общения с семьей, а также испытывала гордость за будущее своего мужа и детей, в которое она вносила свой вклад. Общество платило ей превознесением современного образа хорошей жены и мудрой матери, и, как отметил один эксперт, «японские женщины считают свою работу в качестве жен и матерей важной, потому что она ценится обществом»{357}. Образ жизни нового среднего класса порождал мечты в головах молодежи. Сыновья и дочери отцов-сарари-мэн и образованных матерей не могли надеяться на унаследованную ферму или семейный бизнес, но они могли пойти по стопам своих родителей. Для мальчиков это означало особенно упорную учебу. Вполне вероятно, что после окончания высшей школы им придется еще год или около того провести в специальной подготовительной школе, чтобы они могли пройти через строгие вступительные экзамены, которые открывали двери в элитные колледжи Японии. Девочек ожидала иная дорога во взрослую жизнь. Многие родители считали, что для них вполне достаточное образование может дать младший колледж, поскольку лишь немногие бюро корпораций, чиновничьи офисы или профессиональные сообщества с радостью предоставляли женщинам возможности карьерного роста. Когда дети завершали свое образование, мать и отец побуждали сына к поискам престижной и надежной жизни служащего. Молодых женщин приобретенная мудрость призывала поработать пару лет в качестве офисной секретарши, которая выполняла черную работу по офису, параллельно беря уроки по этикету и другим необходимым искусствам, таким как составление букетов или проведение чайной церемонии. Затем должно было последовать заключение идеального союза, который иронически описывался как иэ цуки, ка цуки, баба нуки («иметь дом, машину и не иметь свекровь»).Крестьянские семьи и хорошая жизнь
Обратной стороной урбанизации был массовый исход из деревень. Перспектива хорошо оплачиваемой работы и яркие огни манили миллионы молодых мужчин и женщин в города Японии. Скорость оттока была поразительной. В 1950 г. половина всех выпускников средних и высших школ шли в сельское хозяйство. Всего 10 лет спустя, в 1960 г., так поступили только 10 %, но и эта цифра уменьшилась вдвое за последующие 5 лет. В период с 1950 по 1970 г. сельское население Японии уменьшилось с 36 миллионов до 23 миллионов. К 1990 г. лишь от 3 до 5 % трудоспособного населения страны трудилось в полях, в то время как в конце оккупации этот показатель составлял 50 %. Отток населения охватил наиболее развитые регионы Японии, особенно на северо-востоке и вдоль побережья Японского моря. Тем не менее стремительная механизация позволила большинству семей, оставшихся на своих фермах, вести менее обремененную, более продуктивную и все более успешную жизнь. В 60-х и 70-х гг. растущее количество механических культиваторов (89 000 использовалось в 1955-м, 3,5 миллиона — в 1970-м), плугов и сажалок уничтожило большую часть изнурительного, непосильного труда во время весенней посевной. Ручные пульверизаторы и новые химические инсектициды держали на расстоянии летних вредителей. Молотилки, зерносушилки и мини-трактора помогали фермеру собрать урожай и доставить его на рынок. В результате общий урожай риса в Японии с 1950 по 1970 г. вырос с приблизительно 10 миллионов тонн до 14 миллионов тонн с хвостиком. Подобная продуктивность означала, что фермер может вырастить весь рис, который требуется стране, и при этом оставить немного времени и земли для выращивания других высокодоходных культур, таких, как фрукты и овощи или цветы, а также откармливать для городских потребителей хорошо ухоженную скотину. Механизация оказала влияние и на уровень жизни. Распространение механических приспособлений, облегчающих труд, освобождало людей от необходимости целый день проводить в поле. Некоторые переключались на постоянную работу на близлежащих лесопилках и литейных цехах или становились таксистами или продавцами в районных городах. Другие в зимний сезон уходили из дома на несколько месяцев, временно становясь строителями в главных городах. Все больше и больше крестьянская работа переходила в руки сан-чан. Так называли жен, которые сидели дома, дедушек и бабушек. Сам термин был образован сочетанием слова «три» (сан) с уменьшительной формой уважительного обращения, которое по традиции добавлялось к именам и титулам (которое также произносится сан, но в данном случае оно приобретает более нежное звучание чан). Очевидно, что женская работа не была слишком утомительной, поскольку большинство жен крестьян и почти все незамужние дочери при любой возможности пополняли бюджет семьи, работая в местных магазинах и административных офисах, занимаясь сдельной работой на фабриках по пошиву пижам или перчаток и даже принимая участие в осуществлении строительных проектов. И все-таки работа сан-чан требовала физического и психического напряжения, особенно от тех женщин, которые работали вне дома и переживали по поводу того, что они совсем не ухаживают за мужем и детьми. Одна из них говорила об этом таким образом:Когда муж и жена вместе работают в поле, они могут понять печали и радости друг друга. Но очень трудно понять чувства другого, когда вы работаете в разных местах. После возвращения домой с работы вы должны заниматься домашними обязанностями. Вы должны будете проявлять свою женственность, но после работы, такой же тяжелой, как и мужская, очень трудно вдруг стать женственной. Много раз, возвращаясь домой усталой, я забывала сказать мужу хоть одно ласковое слово. Когда женщина тоже работает, она зачастую даже не убирает в своем доме. Когда муж упрекает ее, она приходит в ярость. После подобных вспышек она извиняется, но она хочет этим сказать: «Ты ведь знаешь, я не в игрушки играла весь день»{358}.Какой бы ни была социальная цена модернизации для сельского хозяйства, возрастающая производительность и более широкий доступ к получению прибылей помимо земледельческой сферы делали деревню более зажиточной. Доходы от сельского хозяйства резко возросли, подпрыгнув на 700 % с 1960 по 1979 г. В 80-х они увеличились еще в 2 раза, как это показано на рисунке 16.3. Следует отметить, что в 1973 г. доход сельской семьи составлял 7 %, а в 1990 г. — почти 20 %, то есть он превысил доход городских рабочих. Удивительно то, что к 1990 г. лишь одна из восьми сельских семей Японии все свое рабочее время посвящали сельскому хозяйству. Большинство деревенских жителей 70 % своего дохода получали от деятельности, не связанной с сельским хозяйством.

Разбогатевшие сельские семьи целиком и полностью включились в жизнь японского потребительского общества. Они ездили на таких же «Тойотах», носили те же синие джинсы, строили такие же современные дома и наполняли их такими же электроприборами, как и их кузены, принадлежащие к городскому среднему классу. Можно в шутку сказать, что как в городе, так и в деревне люди пересмотрели три священные символа императорской власти (зеркало, меч и драгоценный камень), создав впечатляющие символы новой эры изобилия. В конце 50-х, как говорилось, каждый желал обладать тремя «с» — сэнпуку, сэнтаку и суиханки (домашний электрический вентилятор, электрическую стиральную машину и электроварилку для риса). Несколькими годами позже желания потребителя обратились к трем «к» — ка, кура и кара тэрэбу (машина, домашний кондиционер и цветной телевизор). В 70-х гг. тон задавала более шикарная триада — ювелирные изделия, отпуск за океаном и современный дом. Блеск последнего периода эры Сёва заставил многие сельские семьи задуматься о своем будущем. Немногие бы отказались от технических приспособлений, облегчающих труд, и материальных благ, но большинство было озабочено, даже раздосадовано тем ударом, который наносила по их жизни измененная природа сельского хозяйства. Одной из распространенных реакций были тоскующие взгляды, бросаемые в сторону городских семей. Не было ничего удивительного в том, что многие женщины, которые ежедневно сталкивались с тяжелой работой, мечтали быть «просто домохозяйками». Многие сельские семьи даже помещали свои доходы, полученные от ведения сельского хозяйства и временной работы, в местный сельскохозяйственный кооператив, а затем каждый месяц забирали оттуда определенную сумму, «совсем как служащие». Но подражание городскому новому среднему классу не могло заглушить тревогу по поводу будущего. Многие фермеры сомневались, что социальные условия сельской жизни вскоре улучшатся, и почти каждая крестьянская семья испытывала сомнения относительно того, следует ли им приучать своих детей к сельскому труду или ориентировать их на поиски другой работы. Статистика образования свидетельствует, что все большее число дочерей и вторых и третьих сыновей стремились окончить колледж и получить работу в городе. Очевидно, что многие сельские семьи одобряли такое изменение в жизни, даже если при этом они испытывали сожаление по поводу того, что учеба в колледже и последующая карьера и женитьба забросят их далеко от родного дома. Как заметил один школьный учитель, в поздний период Сёва сельскую молодежь, «которая продвигалась вперед и которая оставалась на месте, примирить было трудно»{359}.
Поздний период эры Сёва: критический взгляд
Несмотря на тучи, затянувшие будущее сельского хозяйства, многие японцы от всего сердца приветствовали те изменения, которые происходили в их стране с середины 50-х по середину 80-х, считая их триумфальным успехом в стремлении своей страны к модернизации. Не вызывает удивления то, что этому экономическому чуду давались положительные оценки. Благодаря ему нация оказалась на вершине современного, индустриализированного мира и было создано общество, в котором большинство людей, по словам одного выдающегося ученого-социолога, были «до разумных пределов богаты, образованны и горды своими ценностями и образом жизни»{360}. Многие эксперты и комментаторы считали, что в деле установления в Японии эры процветания, внутренней стабильности и мира между народами, беспрецедентной для истории Нового времени, основная заслуга принадлежала ЛДП и центральному бюрократическому аппарату. Отметив тесную связь, существующую между политиками и бюрократами, один ученый особенно восхвалял «высшую гражданскую службу» за то, что она «начала проводить важные мероприятия в сфере социальной и экономической политики», которые позволили Японии достигнуть «замечательных успехов»{361}. Иностранные наблюдатели присоединились к восхвалению послевоенного возрождения Японии и растущего изобилия. В 1979 г. была опубликована книга Япония — номер один, ставшая бестселлером в Японии и Соединенных Штатах. Ее автор, известный социолог, признавал, что японское общество справедливо получило свою долю невзгод. Но он заключал, что в целом «Япония более успешно, чем любая другая страна, справилась с большинством основных проблем постиндустриального общества»{362}. В то же время Эдвин О. Райсхауэр, столь пессимистичный 25 лет назад, назвал Японию «самой организованной и динамичной из всех основных стран»{363}. Выдающийся футуролог Герман Кан был настолько впечатлен японской экономикой, что рассматривал Японию как очевидного наследника Америки. Он заявлял, что XXI столетие будет принадлежать островной нации. Многие простые японцы выражали удовлетворение ходом дел в поздний период эры Сева. В это время было взращено их чувство гомогенности и принадлежности к среднему классу. Несмотря на очевидную разницу в уровне доходов, за 20 лет, с начала 1970-х до конца 80-х, более 90 % японцев — мужчин и женщин, фермеров и горожан, сарари-мэн и секретарш — определяли себя как «средний класс» во время ежегодного опроса, проводимого службой премьер-министра, а также выборочными опросами, проводимыми средствами массовой информации. Всеобщая приобщенность к потребительству и желание обладать как можно большим количеством материальных благ также в значительной степени способствовали ощущению, что Япония была страной одного класса. Одни и те же мода и пища, которые можно было увидеть и съесть в любом городе и любой префектуре, также усиливали чувство гомогенности. Этому способствовал и телевизор. К 1960 г. в половине всех японских домов были телеприемники. Более 90 % японцев смотрели Олимпийские игры по своим черно-белым телевизорам. В 1975 г. приблизительно такой же процент имел в своих домах цветной телевизор. В среднем 4 часа в день японцы смотрели по телевизору новости, сериалы, кулинарные шоу, спортивные репортажи и «телевизионные события», такие как весьма популярное «Вокальное состязание белых и красных» — трехчасовая программа, которая шла в эфире NHK в канун Нового года. В ней принимали участие ведущие певцы, которые представляли свои хиты прошедшего года. Это создавало впечатление причастности каждого к универсальной национальной культуре. Даже местные диалекты, которые в довоенной Японии являлись одновременно клеймом и поводом для гордости перед «чужаками», все реже и реже звучали в эфире, по мере того как «японский язык NHK» превращался в национальный стандарт. После завершения оккупации правительство вернуло контроль над начальным и средним образованием Министерству образования. Начиная с конца 50-х токийские чиновники стали рассылать рекомендации по составлению школьной программы и использовать свою власть для пересмотра и написания учебников. В результате дети по всей стране вновь стали проходить одни и те же темы, иногда даже в одни и те же дни. Утвержденные учебники доводили до школьников те мысли, что просвещенное правление Мэйдзи вывело Японию на дорогу модернизации, что 30-е и 40-е были отклонением от правильного пути, которое лучше всего быстро пройти. Вместо того, что Япония «вторглась» в Китай, было принято деликатно говорить, что война была Японии «навязана». Поздний период эры Сёва трактовался как возвращение на путь мира и прогресса. В то же время курсы по этике, возвращенные в начальные и средние школы в 1958 г., давали учащимся возможность поговорить о семейных отношениях, обязанностях перед обществом и национальных ценностях. Несмотря на стандартизацию образования, массовой культуры и материальных стандартов жизни, концепция единственного среднего класса не совсем точно отражала ту реальность, которая наблюдалась в семье, школе и на работе. Об этом свидетельствуют истории сельских семей Японии. Более того, даже в главных городах страны, где столь много людей стремилось к образу жизни сарари-мэн, менее четверти всех работников были служащими, которые имели пожизненную занятость. Лишь немногим более 50 % выпускников высшей школы продолжали получать образование в колледже (и только маленькая их часть успешно проходила через вступительные экзамены и попадала в элитные университеты). Ощущение гомогенности маскировало существование различий — между городом и деревней, мужчинами и женщинами, молодыми и старыми. По мере приближения эры Сёва к своему завершению, разница в образе жизни более 100 миллионов японцев добавлялась к спектру критики позднего периода эпохи Сева. В то время как некоторые японцы демонстрировали свой восторг по поводу экономического чуда, другие порицали рост ВНП и общий подъем экономики за те социальные издержки, которые наносили удар по простым мужчинам, женщинам и детям, населявшим страну. Немногие могли отрицать, что в послевоенные десятилетия в целом уровень жизни улучшился, или тот факт, что количество выигравших от стремительного роста превышало количество проигравших. Тем не менее, длинный, заполненный толпами, путь от дома до офиса и стесненные жилищные условия продолжали быть бедствием для обитателей городов. Более того, бурная индустриализация превратила Японию в «рай для загрязнителей окружающей среды», как выразился один наблюдатель. Токсичные воды отравляли пищевую цепочку, реки и ручьи загрязняли прибрежные воды, делая невозможным в них рыболовство, а выхлопы автомобилей смешивались с дымами заводских труб, создавая тучи удушающего фотохимического смога{364}. В конце 50-х и на протяжении 60-х тысячи жителей промышленных городов, таких как Ёккаичи в префектуре Миэ, страдали от астмы и других респираторных заболеваний. Обитатели городов и деревень, расположенных вдоль реки Дзиндзу в префектуре Тояма, были отравлены кадмием. На западе Японии 12 000 детей заболели диареей, лихорадкой и лейкемией, а 130 из них умерли, попив молоко, содержавшее мышьяк, которое продавала молочная компания «Моринага». Наиболее вопиющий случай загрязнения окружающей среды произошел в городе «Минамата» префектуры Кумамаото. Там из-за деятельности корпорации «Чиссо» в воды, в которых местные жители ловили рыбу, попала ртуть. Это вызвало вспышку болезни дегенеративного характера, которая развивалась от онемения конечностей до ухудшения зрения и слуха, потери контроля над телом и падения умственной способности. Болезнь впервые появилась в 50-х, а к 1979 г. более 300 жителей Минамата умерло, еще у 1300 отмечались те или иные ее симптомы. В конце концов ЛДП и бюрократы приняли один из самых суровых в мире законов, направленных против загрязнения окружающей среды. Но они действовали со значительным промедлением, как считали многие скептики, организовывавшие массовые акции протеста против правительства, которое, по их мнению, не вполне адекватно реагировали на их требования. В 1958 г. жертвы болезни Минамата и их родственники стали одними из первых, кто организовал гражданское движение. После этого повсеместно фермеры, рыбаки и другие простые японцы также стали организовывать выступления против промышленного загрязнения и разрушения окружающей среды. Активисты-адвокаты и доктора, которые их поддерживали, ученые и журналисты предлагали помощь и советы относительно того, как поставить барьер закона на пути уничтожителей природы. К 1967 г., когда парламент наконец утвердил Базовый закон о предотвращении загрязнения окружающей среды, суды уже вынесли ряд судьбоносных решений в пользу истцов. Успех акций защитников окружающей среды вдохновил на создание и других гражданских движений. В конце 60-х и в 70-х активисты заблокировали строительство нового аэропорта в префектуре Окинава, которое уничтожило бы невосполнимые виды кораллов. Жители некоторых префектур с успехом противостояли планам правительства построить поблизости от их домов ядерные реакторы. Особенностью нового активистского движения было появление добровольных ассоциаций, которые создавались домохозяйками. Опираясь на то, что они называли материнской логикой, эти женщины выступали против роста цен на пищевые продукты, несправедливого размещения свалок, за решение транспортных проблем и повышение безопасности дорожного движения. Типичное гражданское движение являлось неполитическим союзом, лишенным узкопартийного характера, который возникал на временной основе для достижения определенной цели. Но даже в этом случае действие протестующих групп оказывало значительное влияние на определенные действия, предпринимаемые ЛДП, и подвергало обструкции тех, кто стремился достичь экономического роста, не считаясь ни с чем. Другие критики позднего периода Сёва нацеливались на экстравагантные проявления «нового потребительства», связанные с японскими нуворишами и наиболее зажиточными представителями среднего класса. Богатые японцы, вероятно, хотели видеть себя в образе просвещенных потребителей, чьи потребительские способности были теперь освобождены от анахроничных, ограничительных норм, связанных с иерархичной системой классов. С точки зрения их критиков, однако, дорогостоящие уроки тенниса, дыни за сотню долларов, шикарные автомобили, на которых выезжали только по воскресеньям, а также членство в эксклюзивных гольф-клубах, стоившее десятков тысяч долларов, представляли собой не волнующий новый образ жизни, а крик души по поводу той ужасной скуки и духовной пустоты, которыми были охвачены богатые японские пригороды. Для многих Нантонаку, курисутару («Некоторым образом кристалл») был отражением ночных кошмаров молодых богатых токийцев, для которых цены не имели значения. Этот первый роман, написанный студентом университета, принес своему автору звание лауреата. Он появился в декабре 1980 г., и за короткий промежуток времени было продано 800 000 экземпляров. В Нантонаку, куристару описывались две недели из жизни студентки колледжа, которая вступила в случайную связь с молодым человеком, встреченным ею на дискотеке, в то время как ее друг-музыкант был на гастролях. Сюжет, однако, имел второстепенное значение по сравнению с более чем 400 ссылок, которые сопровождали текст. Они информировали читателя о прелестях «кристальной» жизни. Этим термином автор описывал нигилистический взгляд на мир, присущий его поколению, склонному к материализму. «Если вам захочется среди ночи кекса, — советовал автор, — вам следует направиться в «Чианти» в Аояма 3-чомэ, где вы можете получить свой кекс со стаканом белого вина. После этого идите за мороженым в«Свенсен», магазин с ароматами Сан-Франциско на авеню Убийцы». Каждая звездочка отсылала читателя к детализированной сноске, в которой пояснялись все достоинства шикарного места развлечений, магазина или брэнда{365}. Особенное раздражение у критиков потребительского взгляда на жизнь вызывали утонченность и насмешливая надменность многих пассажей: «Купить легкий свитер «Куррэж» и положить его в пакет для покупок «Куррэж»: я бы хотела насладиться подобным снобизмом», и «Хорошо запивать кекс эспрессо, но иногда вам хочется употребить его во французском стиле, с белым вином: я бы хотела насладиться подобным жеманством». Для тех кого отпугивали все эти «жеманства» и «снобизмы» выдуманных персонажей Нантонаку, курису тару, объектом атаки стала семья-«ядро», которая становилась типичным признаком городской жизни среднего класса. Хотя переход к менее крупным семьям начался гораздо раньше, чем считается, он имел довольно резкий характер. В 20-е гг. XX в. в состав более 30 % японских семей входили три и более поколений, живущих под одной крышей. В 1985 г. 61 % японских семей представлял собой семьи-«ядро», состоявшие из двух поколений, 18 % японцев проживали в одиночестве, и лишь 15 % имели в своем составе три поколения, проживавшие вместе. Для консервативных комментаторов изменения в структуре семьи были признаком размывания традиционных ценностей. Са-рари-мэну и его жене, изолированным в своем доме или квартире, было нелегко заботиться о родителях. Таким образом, появлялась категория пожилых людей, которые «умирали в одиночестве и забвении»{366}. Более того, служащий-отец отсутствовал дома слишком продолжительное время и не мог приучать своих детей к дисциплине. Ленивая мать, принадлежащая к среднему классу, также не сильно способствовала их воспитанию. Всегда слишком озабоченная материальными благами, она проводила много времени за игрой в теннис со своими друзьями, а затем занималась вырезанием причудливых фигурок из сахара для вечерней чайной церемонии. В результате она утрачивала свои «естественные инстинкты по воспитанию детей». Неудивительно, что в глазах подобных критиков японские дети выглядели хорошо образованными, но при этом они росли замкнутыми, бесхарактерными и эгоцентричными. Укором образу жизни нового среднего класса служил скромный образ жизни семей ситамачи. Термин ситамачи, который зачастую переводится как «деловой район», на самом деле относится к городским кварталам, заполненным мелкими лавочками и ремесленными мастерскими. Типичный «деловой район» мог включать в себя пекарню, рисовую лавку, книжный магазин, парикмахерскую, косметический салон, цветочный магазин и пару небольших ресторанов и кофеен, на несколько столиков каждый. Небольшие семейные предприятия по производству тофу, лапши, татами, кимоно, пластиковых бутылок и деталей для механизмов. Лавочники специализировались на продаже овощей, фруктов, рыбы, бакалеи, игрушек, канцелярских и спортивных товаров, электробытовых приборов, пива и сакэ, а также постельных принадлежностей. Зачастую семьи ситамачи, большинство которых проживало в квартирах, расположенных над лавками, весьма гордились тем, что их культурные ценности и социальное положение происходили от традиционной жизни торговцев в доиндустриальных замковых городах Японии. Хотя подобные утверждения базировались на весьма избирательном прочтении прошлого, образ жизни и отношения с соседями людей из ситамачи действительно сильно отличался от образа жизни типичной семьи среднего класса. В одном антропологическом исследовании наивысшим идеалом ситамачи называлось «домовладение Онума». Отец, мать и старший сын со своей женой вели семейный бизнес, в котором было занято с полдюжины других людей. Они вручную шили из парчи дорогие свадебные кимоно. Бабушка Онума помогала, упаковывая готовые изделия в коробки, отвечая на телефонные звонки, готовя пищу и присматривая за внуками. Это был образ жизни, при котором сливались воедино семья и бизнес, дом и рабочее место. Три поколения объединялись для поддержания предприятия, которое затем перейдет четвертому поколению, которое еще пешком под стол ходит. Более того, лавочники, подобные Онума, работали только на себя, в соответствии со своим распорядком, их общение с соседями было весьма интенсивным, о чем служащие и мечтать не могли. Они принимали участие в самом широком спектре общественной деятельности, от политических клубов до добровольных пожарных бригад и спортивных команд. Собираясь по вечерам вокруг семейного стола, семья Онума наслаждалась теплотой общения, гордились своей автономией, вытекавшей из их семейного бизнеса, и ощущали «самодовольство», сравнивая себя с «трудягами»-служащими{367}.Тоска по прошлому народа
Идеализация семьи и общества ситамачи была частью непреодолимой ностальгии по добродетелям прошлого, которая начала охватывать Японию в 70-х, усилившись в 80-х. После десятилетий стремительных изменений — поражение, оккупация и возрождение, индустриализация, урбанизация, изобилие и стандартизация культурных норм — многие японцы ощутили тоскливое чувство, будто что-то ценное было готово выскользнуть из их рук и исчезнуть навсегда. Для них эта совершенная, состоявшая из нескольких поколений, семья ситамачи представляла реинкарнацию традиционных личных отношений в том аспекте, который едва ли был доступен усеченной семье сарари-мэн, ни современной семье сельского фермера, которая также претерпела радикальные изменения и находилась под угрозой угасания. Кампания «Открой Японию», осуществляемая Японской национальной железной дорогой, подвергла проверке романтические взгляды на вещи прошлого, которые теперь были почти утрачены. Она была предпринята для того, чтобы стимулировать поездки семей и небольших групп друзей в живописные места. Она достигла большого успеха под своим лозунгом, который, по словам одного ученого, «символизировал желание поколения убежать к своим истокам»{368}. На больших цветных плакатах, выставленных прямо в окнах бюро путешествий и на станциях ЯНЖД, были изображены молодые люди. Обычно это были одна или две городские девушки в возрасте 20–25 лет, одетые в голубые джинсы. Но на этих плакатах можно было встретить и некоторые аспекты почти забытой японской аутентичности: деревенских девушек, украшающих осенними листьями синтоистское святилище, фермера, несущего овощи в ветреную погоду, буддийского монаха, молящегося в уединенном горном храме, женщину, собирающую морские водоросли вдоль скалистого берега. Местами действия этих миниатюрных драм самооткрытия были не обычные туристические Мекки, а некие безымянные пейзажи, знакомые, но слишком далекие, что позволяло им передавать просто идею времени и места. Каждый плакат «Открой Японию» обладал сверхъестественной способностью превращать отдельную сценку, передающую некий момент, в вневременное изображение того, что должно мыслиться и что должно ощущаться как японское. Есть какая-то ирония судьбы в том, что хотя сельская семья уже не была такой, как прежде, кампания «Открой Японию» помогла разгореться фурусато буму («бум деревенского дома»), который романтизировал сельскую жизнь и превращал ее в блистательный пример японской традиции. Фурусато — это родной город или деревня предков, место, куда, по словам японцев, «можно вернуться, когда бы ни испытал необходимость в этом, место, где сердце находит отдохновение и где обычная повседневная жизнь основывается на сострадании, место, где обычаи считаются особой ценностью»{369}. Таким образом, в 80-е гг. городские жители отправились назад, в сельскую местность, чтобы отыскать свои корни. А обитатели деревень изготавливали разнообразные предметы для таких визитеров (и нередко ради их йен), устраивали выставки ремесленных изделий и состязания во время сбора урожая, ставили любительские кукольные спектакли и разыгрывали пьесы традиционного театра кабуки, возрождали старые праздники (и изобретали новые). Подобно тем людям, которые стремились «открыть Японию», те, кто приветствовал фурусато, надеялись поймать вневременной момент, в который искренняя чистота крестьянского труда, семейные и общинные узы и память о старинных сельских домах с тростниковыми крышами по-прежнему имели какое-то значение. Тоска по прошлому народа представляет собой путь использования прошлогодних истин при подготовке к неопределенному завтрашнему дню. Когда соприкасаются несколько миров, поддержка и утешение со стороны прошлого могут облегчить тревоги и заботы настоящего и предоставить моральные ориентиры для продвижения в неизведанное будущее. По мере того как эра Сёва шла к своему завершению, японцы все чаще задумывались о сложившихся обстоятельствах. Они размышляли над тем, был ли экономический рост благом или бедствием, являлось ли правительство другом или врагом и будет ли новый образ жизни приносить такое же удовлетворение, как и старый. Пока японцы были заняты этими размышлениями, на горизонте собиралась появиться серия последовательных событий, которые приведут к падению гегемонии ЛДП, ввергнут золотую экономику в пучину спада и создадут новый мировой порядок. Когда японцы вступят в неизведанные воды 90-х, критики позднего периода эры Сёва будут втянуты в масштабную дискуссию по поводу того, как Япония может использовать уроки прошлого для продвижения вперед, в новый век и новое тысячелетие.
ГЛАВА 17
Еще один новый век
7 января 1989 г. умер император Сёва. Его великолепные похороны напомнили великое прощание, которое нация устроила его деду, императору Мэйдзи, в 1912 г. В начале столетия уханье погребальных пушек звучало романисту Нацумэ Сосэки «как последний плач по уходящей эпохе». В конце века смерть императора Сёва подобным же образом явилась для многих японцев завершением другого значимого периода в их истории. Император Сёва взошел на престол в 20-х, когда политические партии впервые получили ведущую роль в японской политике, мобо и мога определяли новые культурные нормы и Япония являлась другом всех капиталистических стран Запада. Прошло 20 лет его правления, и Япония была разгромлена. Весь мир осуждал ее за милитаристскую политику и замкнутый менталитет. Ее будущее было темным и ничего не обещающим. Еще 4 десятилетия спустя, в конце долгого правления императора, страна вновь обрела свое международное положение, удивила всех своими экономическими успехами, превратилась в более открытое и равное общество, а также подтвердила свой статус одной из наиболее развитых современных наций на земном шаре. Со смертью императора Сёва многое должно было замереть и подвергнуться сомнению, и многим показалось, что Япония завершила свои поиски современности.
Сын императора Сёва и его преемник, наследный принц Акихито, выбрал для своего правления девиз Хэйсэй. Это название эры было взято из классических китайских книг Шу-цзин («Книга истории») и Ши-цзин («Книга песен»). Оно выражало надежду на достижение мира повсеместно, в небесах и на земле, в стране и за рубежом. Однако новый монарх Японии вскоре выяснил, что мир не является синонимом спокойствия и безмятежности. На протяжении первого десятилетия Хэй-сэй японская экономика, которую, казалось бы, ничто не могло остановить, внезапно затормозила свой стремительный ход, а затем очутилась в упадке, ЛДП стала свидетелем того, как власть выскользнула из ее рук, молодое поколение поставило под сомнение уместность ценностей среднего класса, недовольные меньшинства бросили вызов законности культурной гомогенности, а развал Советского Союза изменил международный пейзаж.
Сдвиги, произошедшие в 90-х, сделали актуальными вопросы о разработке будущего курса демократии в Японии, обновлении экономического роста, поисках путей укрепления социальной сплоченности с одновременной поддержкой развития отдельной личности, а также выстраивания отношений с внешним миром. Внезапно выяснилось, что вместо стремления к фиксированной, достижимой цели, поиск модернизации оказался путешествием по бурной реке, которая несется вперед, все время изменяясь и не имея конца. Почти сотней лет ранее, на стыке эр Мэйдзи и Тайсо, Япония, пережив полстолетия стремительных изменений, отставила в сторону тоску по прошлому и начала отвечать на вызовы и исследовать возможности нового столетия. Настало время сделать это еще раз.
Лопнувшие пузыри
Благодаря невероятно крепкому доллару, в начале 80-х американцы могли позволить себе наслаждаться огромным разнообразием товаров, получаемых из Японии и других стран-экспортеров. В скором времени непомерный аппетит Америки привел к хроническому торговому дисбалансу. Протекционисты стали призывать к ограничению импорта и принятию других мер, способных оградить американских производителей от иностранной конкуренции. Понимая, что стремление к ограничению торговли в конце концов может поставить под угрозу систему свободной торговли послевоенной эпохи, представители ведущих индустриальных держав встретились в сентябре 1985 г. в нью-йоркском отеле Плаза и решили вмешаться в деятельность международных рынков с целью поддержать йену и ослабить доллар. Подобные монетарные мероприятия, считали эксперты, исправят торговый баланс, погасив в Соединенных Штатах спрос на внезапно подорожавшие импортные товары и подтолкнув торговых партнеров Америки к приобретению дешевых американских изделий. Вдобавок Япония и другие основные страны-экспортеры согласились стимулировать внутренний спрос в качестве способа поддержки американского импорта. В результате мер, принятых в соответствии с так называемым Соглашением Плаза, стоимость японской йены в скором времени возросла вдвое. В то же время японское правительство стимулировало внутреннее потребление путем понижения налогов, облегчения доступа к кредитованию и уменьшения процентов по кредитам. Соглашение Плаза, однако, не достигло поставленных перед ним целей. Укрепившаяся йена позволила японским фирмам импортировать сырье по более низким ценам, чем прежде, и вкладывать средства в новые заводы. По иронии судьбы, это привело к дальнейшему удешевлению продукции японских предприятий, что вызвало рост экспорта. В период с 1985 по 1987 г. ежегодный активный баланс Японии в торговле с Америкой взлетел с 49 до 87 миллиардов долларов. Опьяненные прибылями, японские фирмы устремились за границу. С 1986 по 1991 г. японские вложения за пределами страны превысили 200 миллиардов долларов. В это время корпорация «Сони» потратила значительную сумму на приобретение «Коламбиа Пикчерз», а «Мацусита» приобрела MCA. В результате эти две японские компании превратились в мощных игроков на мировом рынке развлечений. Тем временем «Хонда» и другие автомобильные компании создали свои производства в самом сердце Америки, а японские фирмы, занимающиеся недвижимостью, приобрели знаменитые поля для гольфа и шикарные отели на Гавайях и в Калифорнии. В самой стране почти поголовная занятость населения, высокие зарплаты и высокие корпоративные инвестиции вылились в невероятный уровень спекуляций. Индекс Никкэй на ведущих биржах утроился — с 13 000 пунктов в январе 1986 г. до почти 39 000 в декабре 1989 г. В то же время цены на жилье и на земельные участки в основных городских центрах также взлетели на головокружительную высоту. В 1989 г. воздух начал со свистом выходить из пузыря перегретой японской экономики. Упадок, наблюдавшийся в развитых западных державах, и плотная конкуренция со стороны развивающихся стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Восточной Европы урезали доходы корпораций. С падением доходов Никкэй свалился в пике. С декабря 1989 по конец 1990 г. его показатель упал на 40 % — с 39 000 пунктов до 24. После этого последовало падение еще на 10 000 пунктов, и в августе 1992 г. показатель упал до 14 000 пунктов. С момента достижения наивысших показателей падение составило 65 %. В то же самое время компании отложили реализацию своих экспансионистских планов, японские потребители колебались, а рынок недвижимости погрузился в хаос, в результате чего бумажные активы потеряли сотни триллионов йен своей стоимости. После того как лопнул пузырь спекуляций, 90-е превратились в десятилетие увядания, сокращения деловой активности, застоя, пессимизма и, наконец, непреодолимого, захватывающего дух упадка. Между 1992 и 1995 гг. реальные показатели экономического роста колебались в районе 1 % в год. Это был самый слабый показатель за всю послевоенную эпоху. «Мацусита» продала MCA по бросовой цене, в то время как «Сони» понесла тяжелые финансовые потери, стремясь удержать в своих руках «Коламбиа Пикчерз». Но худшее было еще впереди. По мере сползания экономики в депрессию, спекулянты, взявшие банковские кредиты для финансирования своих фондов и приобретения недвижимости, не смогли выдерживать график погашения этих кредитов. Не могли они и быстро продать свои стремительно обесценивающиеся активы, чтобы выкупить облигации. По некоторым прикидкам, японские банки не смогли себе вернуть кредитов на сумму порядка 1 триллиона долларов. Поэтому, в середине 90-х, они урезали выдачу займов, и к другим проблемам японской экономики добавился хруст кредитной системы. Имея банковский сектор в состоянии кризиса, Япония не смогла избежать сползания в общеазиатский упадок, вызванный коллапсом тайской валюты, произошедшим летом 1997 г. В начале падения рост безработицы в Японии и количество банкротств достигли рекордных отметок для послевоенной эпохи. В ноябре разорились «Саньо» и «Ямаичи», два ведущих брокерских дома страны, а также «Хоккайдо Такусоку», крупный банк Северной Японии, превратив этот месяц в «один из самых страшных в анналах японской финансовой истории», как выразился один аналитик, и вызвав аналогии с банковским кризисом конца 20-х гг. XX столетия{370}. Годом позже, осенью 1998-го, некоторые оптимисты начали поговаривать, что основы японской экономики непоколебимы и что в конечном итоге ситуация изменится. Ответом им прозвучало заявление главы Агентства экономического планирования о том, что в налоговом 1997 г. (1 апреля 1997 — 31 марта 1998 г.) рост экономики составил — 0,7 % и что к началу нового тысячелетия этот показатель ухудшится. Он оказался прав. Валовой национальный продукт за один налоговый квартал, с октября по декабрь 1999 г., уменьшился на 1,4 %, а весной 2000 г. уровень безработицы достиг 4,9 %, что было наивысшим показателем за всю послевоенную эпоху. В начале эры Хэйсэй лопнул и политический пузырь ЛДП. Весной 1989 г. премьер-министр Такэсита Нобору, который был преемником Танака Какуэй на посту главы фракции ЛДП, покинул свой пост. Это произошло после того, как общественности стало известно о том, что он получил 150 миллионов йен в виде нелегальных выплат от «Рекрут Космо» — компании, занимавшейся издательским делом и торговлей недвижимостью. С новыми проблемами ЛДП столкнулось, когда начали распространяться новости о том, что преемник Такэсита, Уно Сосукэ, оплачивал услуги гейши, а затем выдал ей значительную сумму денег за то, чтобы она сохраняла в тайне пикантные подробности их длительных отношений. Уно ушел в отставку всего через 6 месяцев после того, как занял должность премьер-министра. Новым главой ЛДП и, соответственно, новым премьер-министром стал Кайфу Тосики, малоизвестный депутат парламента, главным достоинством которого было то, что он не был замешан ни в одном скандале. Хотя Кайфу неожиданно завоевал популярность у японской публики, ЛДП по окончании его второго срока на посту премьера вернулась к обычной практике и назначила своего старого сторонника, Миядзава Киичи, руководителем партии и страны. Это был неудачный выбор. В марте 1993 г. Канэмару Син — преемник Такэсита на посту главы старой фракции Танака и вице-премьер — был арестован за получение незаконных выплат от службы доставки «Сагава Кюбин». Во время обысков, проведенных полицией в его офисе и дома, под полом были найдены золотые слитки стоимостью в 1 триллион йен. Скандалы, связанные с компаниями «Рекрут» и «Сагава», вкупе с неспособностью ЛДП справиться с экономическими проблемами, подорвали доверие к партии и породили период политической нестабильности. Лишившись иллюзий относительно своих старших коллег, ряды ЛДП начали покидать молодые политики. Они создали ряд независимых партий, в том числе Японскую новую партию, Японскую партию обновления (Синсэйто) и Новую партию предвестника (Синто Сакигакэ). Избиратели также отвернулись от ЛДП, которая в результате выборов, проведенных в июле 1993 г., утратила контроль над Палатой Представителей. После сложных переговоров, Хосокава Морихиро, глава Японской новой партии, создал коалицию из семи партий и 9 августа 1993 г. стал первым премьер-министром, который не являлся членом ЛДП, со времени основания этой партии в 1955 г. Когда выяснилось, что он также мог быть замешан в делах с «Сагава Кюбин», Хосокава ушел в отставку. Вслед за ним премьерский пост занимали еще два человека, не принадлежавших к ЛДП. И лишь после этого либеральные демократы вернули кабинет под свой контроль, поставив во главе него Хасимото Рютаро. Однако во время вступления Японии в новый век будущее ЛДП остается неясным. Общественность демонстрирует невысокую степень доверия преемнику Хасимото, Обучи Кэйдзо, который сам называл себя «обладающим мягкими манерами и трудолюбивым» человеком{371}. В апреле 2000 г. с Обучи случился удар. Он был госпитализирован, но врачи зафиксировали смерть головного мозга. После этого во главе государства встал ветеран ЛДП Мори Ёсиро. Он объявил, что его администрация будет работать на «возрождение Японии» путем создания «богатого духом» общества, в котором люди «живут в безопасности», реализуя свои «мечты о будущем» и порождая «доверие со стороны остального мира»{372}. Несмотря на всю возвышенность этих целей, опросы общественного мнения показали, что большинство японцев слабо верят в способность какого бы то ни было политика вывести Японию из экономической пустыни.
Критика и поиски средств от печалей конца тысячелетия
Как свидетельствует слоганотворчество Мори, события начала эры Хэйсэй вызвали серьезные споры по поводу экономического и политического будущего Японии. Сточки зрения политики, последнее десятилетие XX в. началось с призывов вернуться к традиции «сильных» государственных деятелей, таких как Ито Хиробуми и Ёсида Сигэру, которые зачастую изображались «дальновидными и энергичными» лидерами, обладавшими очень «твердым характером»{373}. В рядах самой ЛДП Хасимото Рютаро и другие политики, которые стремились ухватить власть, любили называть себя «новыми лидерами», которые привнесут новые перспективы и обновленную энергию в процесс управления. Действуя в этом духе, кабинет Хасимото в декабре 1997 г. объявил о своих планах кардинальной реформы финансовой системы Японии. Этот план получил прозвище «японский Биг-Бен», в честь мероприятий, проведенных в 1986 г. британским премьер-министром Маргарет Тэтчер с целью освобождения британской индустрии ценных бумаг от чрезмерного регулирования. Однако кабинет оказался неспособным перевести разговоры в область практических мер, которые могли бы «спасти нацию от падения, которое кажется бесконечным», как выразился один комментатор, поэтому на японскую общественность эти планы не произвели никакого впечатления{374}. В июле 1998 г. избиратели нанесли мощный удар по ЛДП во время выборов в палату Старейшин, что привело к уходу Хасимото в отставку. Восхождение на вершину политического Олимпа Обучи и Мори, не вызывавших особого вдохновения, заставило многих японцев вслух обсуждать проблему привлечения в политику более способных личностей. Другие критики, не сосредотачиваясь на персоналиях, ставили вопросы относительно системы. Они спрашивали, не должна ли Япония обратиться к двухпартийной или многопартийной системе. Десятилетия единоличного правления ЛДП, рассуждали некоторые, породили коррупцию, заставили партийных лидеров не обращать внимания на общественное мнение и принимать решения за закрытыми дверями. Все это привело к печальному состоянию дел, при котором «робкие политики занимаются мелкими проблемами, а не глобальными темами»{375}. Более открытая конкуренция между двумя или более партиями, с этой точки зрения, выпустит на свободу «соперничество идей», способное породить энергичные политические дебаты, которые приведут к формулированию более впечатляющих политических альтернатив и заставят премьер-министра и членов парламента с большей ответственностью подходить к служению обществу{376}. В этом контексте начали развиваться мысли относительно того, сможет ли ЛДП или даже должна ли ЛДП пережить сдвиг к более плюралистической системе. Результаты выборов со всей очевидностью демонстрировали, что значительная часть японской общественности исчерпала лимит терпения по отношению к ЛДП. Неожиданно для себя, партийные функционеры оказались разделенными этим вопросом. Некоторые политики, такие как Хасимото и Обучи, однозначно надеялись на возрождение былой славы, но другие считали, что «было бы хорошо, если бы ЛДП просто объявила о само-роспуске», как сказал один ветеран партии. «Мы, пожилые люди, должны снять перчатки и уйти с ринга, продолжая гордиться нашими достижениями. Молодежь должна создать новую партию или присоединиться к уже существующей, если она этого пожелает. Дело в том, что рано или поздно партия должна исчезнуть. Если этот момент уже настал, то я бы предпочел, чтобы она сейчас сбросила балласт и осталась на плаву, вместо того, чтобы дожидаться, когда на дно пойдет весь корабль»{377}. Другие, кто наблюдал за разрушительными процессами 90-х, сосредоточили свое внимание на бюрократии. За исключением немногочисленных громких заявлений, почти все соглашались с тем, что на протяжении периодов Мэйдзи и Тайсо, а затем вновь на полстолетия — со времени оккупации до окончания эпохи Сёва — национальные министерства были средоточием «лучших и ярчайших» представителей Японии, домом для способных и добросовестных профессионалов, которые составляли экономические программы, разрабатывали образовательные системы и создали социальное законодательство, которое завоевало признание всего мира. Но в некий момент что-то пошло не так, и Касумигасэки, район деловой части города, в котором размещалось большинство основных министерств, превратился в болото, населенное лишенными воображения, самонадеянными, узколобыми тупицами, которые были озабочены лишь «сохранением статус-кво» и «защитой интересов корпораций». В результате подобных деформаций, заявляли некоторые, «все правительство» было «лишено динамизма» и более не было способно быстро реагировать на тревожные ситуации{378}. Общественное недовольство неспособностью бюрократов достигло широких масштабов после Великого землетрясения Кансин, которое 17 января 1995 г. разрушило Кобэ и его окрестности. При этом погибло более 5000 человек, более 100 000 домов повреждено, 400 000 человек лишились крова. Чиновники, которые ознакомились с ситуацией, рассмотрев ее со своих высот, расположенных в Касумигасэки, сильно ошиблись в оценке масштабов катастрофы. Премьер-министр промедлил с мобилизацией сил самообороны и национального агентства противопожарной обороны. По причине «позорных бездействия, нерешительности и инерции» части чиновничества, считали критики, пожары бушевали на протяжении нескольких дней после того, как они должны были быть потушены, и тысячи людей, остававшихся под завалами, которых еще можно было спасти, погибли{379}. По мере роста в обществе тревоги по поводу стихийного бедствия, премьер-министр Мураяма признал, что правительство не смогло действовать быстро. Но в апреле разъяренные граждане швырнули ему эти слова обратно, поскольку дети продолжали носить с собой в школу питьевую воду и запас пищи, поврежденные пути по-прежнему не позволяли возобновить движение «поездов-пуль» от Осаки до Кобэ и далее на запад, а парламент погрузился в бесконечные дебаты по поводу выделения средств на выплату компенсаций и восстановление. Роль бюрократии вновь попала в центр внимания во время обсуждения экономического недомогания. По мнению некоторых экспертов, экономический пузырь раздулся до угрожающих размеров, а затем лопнул по той причине, что «мандарины» из Касумигасэки закрывали глаза на опрометчивые действия банков и брокерских домов. Как говорили, сутью проблемы были «удобные связи между теми, кто управляет, и теми, кем управляют»{380}. Мнение, что Министерство финансов «превратилось в рассадник коррупции», окончательно оформилось в 1995 и 1996 гг., после того как чиновники министерства были признаны виновными в получении взяток от тех самых финансовых учреждений, над которыми они должны были осуществлять контроль. Расследование этих преступлений привело к аресту 4 высокопоставленных чиновников МФ, в то время как 112 человек из числа их подчиненных подверглись разнообразным «административным наказаниям» — от выговоров до временных отставок и выплаты штрафов. Все это работало на пессимистический взгляд на будущее. «Пока некомпетентные бюрократы буду оставаться у руля, отказываясь уступить свою власть, — писал один особенно разгневанный критик, — наши перспективы будут слишком мрачными даже для обсуждения»{381}. Только ленивый не высказывался относительно вариантов решения проблем бюрократической коррупции и апатии. Каждый надеялся привлечь на службу в правительство больше талантливых и моральных людей, а большинство наблюдателей соглашалось также с тем, что было бы мудрым сократить слишком раздутый, по их мнению, и поэтому неповоротливый и безответственный штат бюрократии. Так, когда Совет по административной реформе, специально сформированный из экспертов по распоряжению Хасимото, в декабре 1997 г. рекомендовал сократить количество министерств и агентств на уровне кабинета с существующих 22 до всего 12 министерств и Службы кабинета, премьер получил в свой адрес похвалы за то, что он смог разглядеть необходимость «провести жизненно важную липосакцию заплывшей жиром бюрократии»{382}. Другие приводили иной аргумент, заявляя, что ключом к будущему является восстановление «конституционного баланса». То есть следовало вернуть парламенту и правительству право контролировать чиновников, работающих в министерствах. Соответственно, когда в июле 1998 г. пост премьер-министра занял Обучи, он заявил, что допускает, что «недоверие общества к политике достигло действительно высокого уровня». Он призвал к «возрождению политической власти». Под этим он имел в виду, что для избираемых чиновников является «существенным» «осуществлять реальное политическое руководство» путем «недвусмысленного изменения баланса власти между политическими лидерами и бюрократами»{383}. Хотя банкиры и главы других финансовых организаций в 90-х гг. оказались под огнем критики, большинство других лидеров корпораций пронесли через все десятилетие чувство собственного достоинства и уважение со стороны публики. Когда продолжающийся упадок и периодические финансовые кризисы наносили очередной удар, сторонники делового сообщества выдвигали предложения относительно возможных способов оживления экономики. Разрабатывая будущие экономические направления, некоторые аналитики настаивали на том, что Япония должна обогнать Соединенные Штаты в области развития новых производств компьютерной техники и программного обеспечения. Другие предполагали, что наилучшим выбором будет продолжение курса производящей нации. В конце концов, как указывал один наблюдатель, «упадок не подорвал производительной мощи нации», и, по словам другого, японцы должны помнить, что «производство вещей — это то, что лучше всего удается их стране»{384}. События на рубеже веков, однако, вызвали большие сомнения по поводу этих предписаний. Летом 2000 г. акционеры компании по производству покрышек «Бриджстоун» потеряли половину стоимости своих акций. Это произошло после того, как люди по всему миру начали выдвигать судебные иски против ее дочерней американской компании «Фаерстоун» за ошибки, допущенные при разработке и производстве покрышек, в результате которых 50 человек погибли и сотни получили увечья. Приблизительно в то же самое время исчезло доверие общества к некогда гордому производителю автомобилей, когда дважды за одну неделю были проведены обыски в штаб-квартире «Мицубиси Моторе», чтобы обнаружить доказательства систематического скрытия компанией производственных дефектов. Вскоре после этого 15 000 человек заболели, употребив в пищу зараженные продукты, распространяемые «Сноу Бренд», ведущей фирмой по производству молочной продукции. Расследование показало, что для компании было обычным делом фальсифицировать сертификаты свежести и вновь пускать в оборот молоко, которое возвращали магазины. Этот скандал породил волну жалоб потребителей в адрес других компаний по производству пищевых продуктов. Вскоре средства массовой информации располагали огромным количеством историй о мухах в консервированных соках и дохлых ящерицах в картофельных чипсах. Кризис 90-х — «потерянное десятилетие», как его многие называли, — поставил под угрозу будущее всех японцев. И споры относительно того, как преодолеть печали конца тысячелетия, были жаркими и громкими. Но по-прежнему было важным прислушиваться к тишине и помнить то, что осталось невысказанным. Однако слишком много разногласий оставили шрамы на начальной декаде периода Хэйсэй. Лишь немногие японцы высказывали сомнения относительно того, что демократия и капитализм были подходящими путями, по которым можно было следовать в еще один новый век. Несмотря на медлительную, разочаровывающую экономику 90-х и несмотря на череду тусклых премьер-министров, некомпетентность которых угрожала стране параличом, так и не прозвучало серьезных призывов к отказу от парламентской демократии или от системы частного предпринимательства. Наоборот, практически повсеместной была вера в то, что все успехи Японии в XX столетии приходились на периоды процветания партийного правительства и рыночного капитализма и что неудачи подстерегали страну тогда, когда она сворачивала с этого пути. Когда эра Хэйсэй вступила в новое столетие, вопросы начали вращаться вокруг того, как обеспечить наилучшее функционирование конституционной системы и свободной рыночной экономики, основанной на частной собственности.Япония и мировое сообщество
На последнем этапе периода Сёва внешняя политика Японии базировалась на нескольких аксиомах. Первая, созданная руками Ёсида Сигэру и подтвержденная последующими кабинетами ЛДП с разной степенью энтузиазма, состояла в том, что Япония признает абсолютный приоритет отношений с Соединенными Штатами. Американо-японский договор о безопасности, заключенный в 1951 г. и исправленный в 1960-м, определял параметры этого союза. Он подразумевал стратегическую зависимость Японии от Соединенных Штатов и их взаимную экономическую зависимость. На практике это означало, что Япония будет строить свою экономику в соответствии с капиталистическими странами Запада, опираться на Соединенные Штаты в сфере военной защиты и не будет в открытую противостоять ведущей позиции своего ментора в случае возникновения кризисных ситуаций мирового масштаба. Попытки восстановить дипломатические отношения с соседями по Азии составляли вторую характерную черту послевоенной внешней политики Японии. Однако напряженная обстановка «холодной войны» и решение Токио спрятаться под крыло американского орла создавали массу сложностей. После того как Мао Цзэдун триумфально вошел в Пекин и в 1949 г. объявил о создании Китайской Народной Республики (КНР), Америка устранила Китай из переговорного процесса, который вылился в создание Системы Сан-Франциско. Соответственно, в тот самый сентябрьский вечер 1951 г., когда Япония подписала мирный договор, Токио заключил сепаратный мир с Тайванем и присоединился к Соединенным Штатам, признав этот островной режим официальным правительством Китая. Эти действия понравились не всем японцам. Многие считали, что в долгосрочной перспективе Японии будут необходимы хорошие отношения с собственно Китаем, независимо от политической ориентации своего правительства. Эта возможность обрела реальные черты лишь в начале 70-х, когда Организация Объединенных Наций приняла КНР в свои ряды, а Соединенные Штаты внезапно изменили свою позицию по китайскому вопросу. Вскоре после этого, в сентябре 1972 г., премьер-министр Танака отправился в Пекин, где подписал совместное коммюнике, предусматривавшее обмен консульскими чиновниками, признание КНР в качестве «единственного законного правительства Китая» и оговаривавшее «полное понимание» Японией того факта, что Тайвань является «неотъемлемой частью» суверенной территории Китая. Наконец, 12 августа 1978 г. Токио и Пекин подписали китайско-японский Договор о мире и дружбе, который подтверждал предыдущее соглашение и знаменовал собой полную нормализацию отношений. Токио и Сеул продолжали вести переговоры до июня 1965 г., когда представители двух стран наконец подписали Корейско-японский договор. Этот документ, наряду с серией дополнительных соглашений, признавал Республику Корею единственным законным правительством на полуострове, устанавливал дипломатические и консульские отношения и призывал к сотрудничеству в сфере культуры. Отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой были преданы забвению. Названная Соединенными Штатами страной-изгоем после начала Корейской войны в 1951 г., Северная Корея практически утратила в глазах Японии статус отдельного государства. Такое отношение сохранялось до конца периода Сёва. Попытки Японии подвести новую основу под взаимоотношения с Советским Союзом потребовали гораздо больших усилий. Два старинных врага 19 октября 1956 г. подписали Советско-японскую совместную декларацию, которая положила конец состоянию войны, существовавшему с 9 августа 1945 г., и восстановила официальные дипломатические отношения. Тем не менее включение Японии в оборонительный периметр Соединенных Штатов, возведенный вокруг СССР, а также проблема так называемых северных территорий — неразрешимые взаимные претензии Москвы и Токио на право владения четырьмя маленькими островами, лежащими к северу от Хоккайдо, — сочетались с долгой историей недоверия и делали установление дружественных связей практически невозможным. В связи с условиями Системы Сан-Франциско, третьим основным принципом для вершителей японской политики было как можно более быстрое отделение политики от коммерции, в результате чего Япония могла бы стать торговым партнером для всего мира. Подобные мероприятия в Западной Европе или на американском континенте не сталкивались с непреодолимыми препятствиями, даже после того, как Япония начала наращивать активный торговый баланс. Это вызвало обвинения в нечестной конкуренции в конце 80-х, когда Японии пришлось выдержать эмоциональную порку, устроенную ей западными политиками и бизнесменами. В 1990 г. в десятку крупнейших торговых партнеров Японии входили Западная Германия, Соединенное Королевство, Канада, Франция и Италия. Невероятно, но масштабы японской экспортной и импортной торговли с Соединенными Штатами практически равнялись сумме торгового оборота с девятью другими нациями, как это видно из таблицы 17.2.
В Азии восстановленная структура дипломатических связей открывала в регионе, за исключением Северной Кореи, широкие возможности перед японскими корпорациями. Еще в 1952 г. Япония заключила первое соглашение из серии торговых соглашений с КНР. Это позволило торговому обороту между странами вырасти до 1,2 миллиарда долларов к моменту нормализации отношений в 1972 г. К 1990 г. этот показатель возрос до 18,1 миллиарда долларов. Кроме того, так называемая частная торговля с Тайванем продолжала расширяться даже после того, как Токио разорвал официальные отношения. Если бы «частная торговля» входила в официальные справочники, то в 1990 г. Тайвань был бы четвертым по значимости торговым партнером Японии. В это время он импортировал японских товаров на сумму в 15,4 миллиарда долларов, получив за свои товары, проданные в Японии, 8,5 миллиарда долларов. Торговля с Республикой Кореей росла еще быстрее. В 1990 г. импорт в Японию из Кореи оставлял 11,7 миллиарда долларов, а экспорт — 17,5 миллиарда. Эти показатели делали Корею третьим по значимости торговым партнером Японии. Торговля с СССР оставалась на низком уровне. Но Россия при этом была главным рынком сбыта для японской стали и строительных производств, в то время как сибирские регионы продавали японским фирмам нефть, масло и металлы, такие как платина и никель. Неудивительно, что торговые взаимоотношения имели тенденцию развиваться со странами Юго-Восточной Азии, с большинством из которых Япония в 50-е гг. заключила дипломатические соглашения. На протяжении 60-х аванпосты японских корпораций и рекламные щиты, предлагающие все — от «Хонд» до «Сони», проникли в пейзаж городов Южной Азии — от Манилы до Сингапура. К концу периода Сёва Япония превратилась в постоянного потребителя индонезийской нефти и продуктовлегкой промышленности других стран. В свою очередь, она поставляла в регион приборы, автомобили, механическое оборудование, сталь и так далее. В 1990 г. японская торговля со странами Юго-Восточной Азии достигла показателя в 50 миллиардов долларов, хотя при этом почти все страны, за исключением Индонезии, ощущали значительный торговый дефицит во взаимоотношениях с азиатским экономическим титаном. На протяжении последних десятилетий периода Сёва в Японии не утихало обсуждение достоинств Системы Сан-Франциско. Некоторые считали, что «подчиненная независимость» служит их стране хорошую службу. Бизнесмены могли ясно видеть, как экономические взаимосвязи с Европой и американским континентом, а также восстановление мира в Азии самыми разными путями способствовали стремительному росту и впечатляющим успехам экономики страны, которыми наслаждались японцы. Антикоммунисты давали высокую оценку тем барьерам, которыми Япония была отделена от своего старого противника — Советского Союза. В то же время те, кто с отвращением относился к агрессивности своей страны 30—40-х гг., ощущали определенную уверенность в том, что сокращенное количество ее вооруженных сил, в соответствии с положениями статьи 9 конституции, делало возможность возрождения милитаризма крайне маловероятной. Критики, однако, спешили заметить, что при этом существовали и многочисленные побочные эффекты. С точки зрения психологии подчиненное положение национальных интересов Японии интересам другой страны, ее завоевателя, постоянно разрушает гордость японцев за свою нацию. Это чувство унижения углубилось, когда Договор о безопасности, подписанный в 1951 г., признал право Соединенных Штатов на непосредственное управление Окинавой. За Японией признавалось лишь «остаточное управление» этой префектурой. До того как эти острова вернулись под власть Японии, что произошло в 1972 г., правительство США вело себя на этих территориях так, будто префектура была их колониальным владением. Американские военные построили на Окинаве столько своих баз, что, по мнению некоторых, она начала напоминать гигантский авианосец. Более того, некоторые японцы навсегда сохранили скептическое отношение к заявлениям, что американские силы, находящиеся на Окинаве и по всей территории Японии, будут сдерживать внешнюю угрозу этой стране. Наоборот, они боялись, что присутствие иностранных войск втянет Японию в нежелательный конфликт или даже подставит Японию под ужасный ядерный удар во время столкновения двух противостоящих друг другу лагерей «холодной войны». Наконец, негодование, связанное с Системой Сан-Франциско, породило значительные внутренние проблемы. В 1960 г. миллионы японцев выступили против пересмотра Договора о безопасности, заставив уйти в отставку правительство Киси. С 1967 по 1970 г., за время существования движения, направленного против Вьетнамской войны, 18 миллионов японцев выходили на демонстрации, требуя остановить войну, а также вернуть Японии Окинаву. Падение Берлинской стены в 1989 г. и развал Советского Союза в декабре 1991-го определили дальнейший ход истории. Как и в Европе, эти события знаменовали собой конец «холодной войны» в Азии, и для многих японцев они также означали, что Система Сан-Франциско превратилась в анахронизм. Если смерть императора Сёва и гибель экономических и политических пузырей побудили японцев пересмотреть будущее своей страны, ранние 90-е также предоставили новую возможность подвергнуть переоценке принципы и цели внешней политики. Практически все сходились на первоочередной необходимости пересмотра отношений с Соединенными Штатами. Но и переосмысление будущей роли Японии в Азии и на мировой арене также не отодвигалось на задний план. Новое международное положение, согласно некоторым политическим фигурам, которые традиционно критиковали Систему Сан-Франциско, предоставило Японии долгожданную возможность выпутаться из союза с Соединенными Штатами и проводить более самостоятельную внешнюю политику. Другие высокопоставленные правительственные чиновники и влиятельные ученые, однако, не были настолько готовы к отделению прошлого от будущего. Наоборот, утверждали они, Японии необходимо держаться поближе к Америке, хотя бы по той причине, что сложные экономические взаимоотношения, связывающие две страны, превратили взаимное сотрудничество в залог будущего процветания обеих наций. Более того, если СССР более и не представляет собой такой угрозы, какой он являлся ранее, то в Восточной Азии пережитки «холодной войны» сохраняются более упорно, чем в любом другом регионе мира. Корейский полуостров оставался разделенным, напряженность в отношениях между Китаем и Россией достигла точки воспламенения, а только что появившаяся Российская Федерация не демонстрировала никакого желания разрешить спорную ситуацию вокруг Северных территорий. Учитывая эту нестабильную ситуацию, многие по-прежнему считали военный союз с Соединенными Штатами самой надежной гарантией того, что возникший локальный конфликт не будет распространяться, охватывая своими щупальцами Японию. Среди ведущих политиков и чиновников в Касумигасэки, желавших, чтобы Япония держалась поближе к Соединенным Штатам, многие хотели, чтобы роль их страны на международной арене более соответствовала экономическому положению. В начале периода Хэйсэй один академик отмечал, что Япония является «финансовой державой», ВНП которой на 50 % превосходит ВНП объединенной Германии. «Для страны такого масштаба оставаться второстепенным игроком в политическом и военном отношении, — писал он, — более неприемлемо»{385}. Подобные высказывания вовсе не подразумевали, что Япония должна превратиться в военную сверхдержаву. Скорее они отражали ту точку зрения, что страна могла бы способствовать укреплению глобальной безопасности, участвуя в том, что некоторые называют коллективной самообороной. В расшифрованном виде эта фраза означает, что статья 9 может быть интерпретирована в том смысле, что силы самообороны могут участвовать в операциях, организованных союзниками Японии или Организацией Объединенных Наций для поддержания международной стабильности. Наконец, некоторые японцы настаивали на том, чтобы влияние их страны в Азии стало более заметным. Для многих членов ЛДП это означало перенос внимания на темы безопасности. «Будучи азиатской страной, — отмечалось в одной партийном бюллетене, — Япония должна стремиться к сохранению мира и поддерживать стабильность в азиатском регионе, всегда при этом ища понимания и поддержки со стороны других азиатских стран{386}. Однако завоевать симпатии к себе и своей позиции мешало то, что один писатель назвал «проблемой прошлого Японии»{387}. В частности, упорное нежелание японского правительства принести извинения бывшим «женщинам для отдыха» или выплатить компенсации тем жертвам, которые выжили после этих чудовищных унижений, вызывало раздражение по всей Азии. Вдобавок соседи Японии никогда полностью не приняли официальные раскаяния по поводу войны. Когда руководители Китайской Народной Республики посетили Токио в апреле 1989 г., император Хэйсэй лично извинился за действия Японии во время войны в Китае. На государственном банкете, устроенном в мае, он поднялся со своего места, чтобы сказать президенту Кореи: «Я думаю о страданиях, выпавших на долю вашего народа в тот несчастливый период, который был вызван моей страной, и чувствую лишь огромное сожаление по этому поводу»{388}. Однако немногие азиаты верили в искренность этих слов. Председатель КНР Цзян Цзэминь во время своего государственного визита в ноябре 1998 г. сбросил покров с этого, когда он несколько раз недвусмысленно призвал Японию принести более искренние выражения сожаления. «В Японии, — заявил он на пресс-конференции, — по-прежнему есть люди, занимающие высокие посты, которые постоянно искажают историю и пытаются приукрасить агрессию. Очень важно, чтобы японцы прямо взглянули в глаза истории и извлекли из нее урок»{389}. Иногда, казалось некоторым, никакие масштабы извинений, никакие выражения сожаления о прошлом не будут приемлемы для поколения жителей Азии, которое пережило такие страдания, причиненные японской военщиной. Когда Япония стояла на пороге нового столетия, постепенная переориентация внешней политики, казалось, начала принимать конкретную форму. Правительство подтвердило свою приверженность оборонительному союзу с Соединенными Штатами. На международной арене Япония по-прежнему была менее значительной, чем другие ведущие державы. Однако представители Японии начали выходить на ведущие роли в ООН и международных финансовых организациях. Одновременно Токио начал продвигаться в сторону коллективной безопасности. В 1991 г. он послал минные тральщики в Персидский залив после завершения Войны в заливе, а в сентябре 1992 г. Япония направила подразделения самообороны в Камбоджу в контингент международных сил ООН по поддержанию мира. В Азии Япония пыталась исправить свой имидж, оказывая помощь другим странам и спонсируя научные и образовательные программы, которые позволь ли десяткам тысяч студентов из стран Азии изучать японский язык и обучаться в японских университетах.
Долг перед обществом и самореализация
В первое десятилетие эры Хэйсэй появились и новые социальные реалии. Многие стали осознавать, что Япония стремительно превращалась в «седое общество». В 2000 г. более 10 % населения было старше шестидесяти четырех лет. К 2025 г. доля людей этого возраста составит 27 %, или более 30 миллионов человек. Это превратит Японию в страну с самым пожилым населением в мире и обременит тяжелой ношей работающую часть населения. Противоположностью образу пожилой, немощной Японии был образ энергичной, знающей, чего она хочет, и более свободной женщины. В конце столетия она выбила для себя место в офисах корпораций и учреждений и придумала новые типы взаимоотношений с мужчинами в своей жизни. Молодежь также появлялась на авансцене японской жизни (как считали многие, слишком часто). Ее поведение подрывало традиционные социальные нормы, а преступления, совершаемые ею, приводили общество в ужас. Смущая и нарушая покой одних, внушая веселье и надежду в других, перемены, охватившие общество на рубеже нового тысячелетия, открыли дверь новым обсуждениям проблем пола, семьи, работы и школы. Необходимость ухода за пожилыми, в особенности — за 5,5 миллионами человек, которые, по прогнозам, в 2025 г. будут прикованы к постели или страдать психическими заболеваниями, возродила дебаты национального масштаба по поводу роли женщины. С одной стороны, изменения в демографической ситуации затрагивали все те же струны, которые звучали чуть ли не с самого начала стремления Японии к модернизации и подразумевали, что обществу необходимы домохозяйки, которые заботятся о своей семье. В масштабах, которые удивляли некоторых наблюдателей, подобные идеи продолжали определять взгляды многих домохозяек, принадлежавших к среднему классу, которые получали удовлетворение от обслуживания своей семьи. И в этом было счастье страны, поскольку, несмотря на то что большинство стариков не желали жить со своими детьми, для них практически не существовало выбора. И дочь или невестка продолжали оставаться основными сиделками во время вступления Японии в новое столетие. В целом в 1990 г. одна из пятнадцати неработающих женщин на пятом десятке лет ухаживала за пожилыми членами семьи. По прогнозам, в 2005 г. этим будет заниматься каждая пятая женщина, а в 2025-м — каждая вторая, позволяя правительству избежать крупных затрат на дома престарелых и другие мероприятия. Другие критики придерживались противоположного взгляда на женщину. Они считали, что дочери и жены должны выбираться из своих домов и отправляться работать. По прогнозам, в 2025 г. на каждого нетрудоспособного будет приходиться всего 2,3 человека рабочего возраста (от 15 до 64 лет), против 5,8 в 1990 г. Проблему усложняла еще одна новая социальная реальность. В 90-х женщины не так рано выходили замуж, как представительницы предыдущего поколения, и они не желали иметь много детей. Согласно данным, приводимым Министерством здоровья и благосостояния, в 1994 г. показатель рождаемости по отношению к количеству женщин, достигших возраста, когда можно рожать детей, упал до исторического минимума в 1,46. С 1975 г. он уменьшился приблизительно на 30 %. Это было ниже уровня, необходимого для поддержания необходимого количества населения. По подсчетам многих ученых-социологов, было совершенно ясно, что большинство женщин должны пойти на работу и платить налоги, если Япония хотела исполнять свой социальный долг по обеспечению пожилой части общества достойными пенсиями и медицинским обслуживанием. Новые концепции самосовершенствования и упор на самореализацию личности заставляли женщин самих рассматривать работу как новые возможности. Все с большей настойчивостью активистки женского движения ставили под вопрос неизбежность судьбы домохозяйки и утверждали, что женщины имеют право на выбор своего жизненного пути. В подобном духе выступала Ацуми Икуко, ученая и основательница журнала Феминисуто («Феминистка»). Она писала, что «роль мужчин основывается на производстве материальных ценностей вне дома, а роль женщин — на производстве домашней жизни. Японская феминистская теория считает обе эти роли одинаково важными. Мужчины должны быть в большей степени вовлечены в производство жизни, а женщины — в производство материальных благ. В текущий момент, — добавляла Ацуми, используя слова, которые перекликались с идеалами активистки периода Тайсо Ёсано Акико, — ставит своей целью построение такого общества, в котором женщина может быть не только независимой в экономическом плане, но также быть свободной в выборе своего жизненного пути. В подобном обществе, если она пожелает быть домохозяйкой, то для нее не возникнет никаких проблем, но если она хочет работать, то она может делать это, не подвергаясь дискриминации. Движение ищет способы изменить роли не только в семье, но и в обществе»{390}. Закон о равных возможностях при найме на работу (ЗРВНР), принятый в 1986 г., внес еще больше изменений в существующие реалии и повлиял на представления о будущем. Он призывал работодателей «приложить усилия к тому, чтобы обеспечить женщин равными возможностями» при найме на любую работу». Он также указывал, что все должны получать одинаковую зарплату за выполнение одинаковой работы. Двумя годами позже были внесены изменения в Закон о стандартах труда. Они ликвидировали ограничения, установленные в эру Тайсо, на сверхурочную работу женщин, а также на труд, который считался опасным для здоровья. Некоторые критики утверждали, что законы не достигли поставленных перед ними целей. Через 10 лет после принятия ЗРВНР зарплата японских женщин по-прежнему составляла чуть больше половины от заработка мужчин (в Соединенных Штатах этот показатель равнялся 75 %, в Австралии — 90 %). Одной выпускнице престижного университета во время собеседования по поводу ее приема на работу в одну из ведущих газет сказали следующее: «Вы уверены, что вы не захотите уйти после вступления в брак? Мы не можем взять на себя такой риск»{391}. Тем не менее ЗРВНР и новые условия труда сделали законными притязания женщин и подняли общественную сознательность относительно работы и пола. В сочетании изменения в демографической ситуации, новые общественные идеалы и пересмотр законодательных норм привели к росту числа работающих женщин. На заре XXI столетия количество женщин, постоянно занятых на работе, превышало количество домохозяек. Почти половина женщин, имеющих детей школьного возраста, ходили на работу. Если говорить точнее, то женщины были наиболее заметны на небольших семейных предприятиях и в индустрии обслуживания. В крупных корпорациях большинство работающих женщин по-прежнему являлись секретаршами или выполняли механическую работу на конвейере. В то же самое время, однако, невиданное ранее количество женщин попали в те области профессиональной деятельности, в которых прежде трудились только мужчины: они становились инженерами, архитекторами и врачами. В 1998 г. 200 из 932 инженеров гиганта электронной промышленности NEC были женщинами. Даже в головных офисах ведущих компаний можно было найти настроенных на карьеру женщин, которые карабкались вверх по иерархической лестнице. Число женщин на руководящих постах удвоилось, достигнув 8 % от всего количества управленцев. И все это было достигнуто за первые 10 лет действия ЗРВНР. Разумеется, успеха по-прежнему было нелегко достигнуть. «В Японии, — отмечала одна молодая женщина-руководитель, — стеклянные потолки находятся всего в нескольких сантиметрах от пола»{392}. Работающие женщины заставляли компании проводить реформы, чтобы соответствовать запросам новой рабочей силы. Все более настойчиво женщины требовали одинаковой зарплаты и обхождения, как это было записано в ЗРВНР. Термин сэкухара («sexual harassment») вошел в японские словари, когда женщины начали жаловаться на унижающее и дискриминирующее поведение своих коллег-мужчин и работодателей. Работающие матери пополняли списки требований своими пунктами. В частности, они настаивали на том, чтобы компании предоставляли им такие льготы, как гибкий график, предоставление времени на уход за семьей, отпуска, скоординированные со школьными каникулами, распределение работы и обеспечение рабочего места средствами ежедневной гигиены. Видение будущего подобными женщинами включало в себя вознаграждаемый труд, справедливую зарплату и возможность быть хорошими матерями в японском понимании этого слова. Они не желали быть клонами работников-мужчин. Наоборот, опираясь на наследие Ёсано Акико, они хотели признания своего права на самые разнообразные роли в этой жизни. Японские женщины в 90-е гг. также выносили на обсуждение такие темы, как отношения полов и брак. Одинокие женщины имели больше перспектив на удачное развитие карьеры. Многие обнаруживали, что они сами могут содержать себя, не прибегая ни к финансовой, ни к психологической помощи со стороны мужчины. И они начали отказываться от брака, приветствуя холостую жизнь. В 1993 г. средний возраст вступления в брак для японских женщин вырос до 27 лет. Это было почти на 5 лет больше, чем в 50-е гг… По этому показателю японские женщины заняли второе место в мире после шведок. Более того, на рубеже веков более 8 % женщин в Токио прошли через так называемый возраст выхода замуж (между 18 и 44 годами), так ни разу и не вступив в брак, считая, что одинокая жизнь превратилась в приемлемое решение для жителей крупнейших городов страны. Самодостаточность и независимость от мужского доминирования предоставляли все большему числу одиноких женщин возможность выбирать для себя свободный образ жизни, который напоминал открытость городской жизни в Японии в 20-х гг. XX столетия. Согласно одной из газет, молодые женщины 90-х желали «жить независимо, исходить из своих потребностей, заводить себе любовников и строить отношения на основе равноправия»{393}. Но, несмотря на все преимущества незамужней жизни, большинство одиноких женщин в возрасте от 20 до 30 лет — 94 %, согласно одному опросу, проведенному правительством в 1992 г., — считали, что они в конце концов выйдут замуж, займутся домашним хозяйством и будут воспитывать детей. Но у этих женщин были новые представления об идеальном браке. Достаточно неожиданным было то, что 90 % незамужних женщин, отвечавших на вопросы анкеты в 1992 г., заявили, что после вступления в брак они будут продолжать работать. Такие женщины, казалось, хотели всего и сразу — и самореализацию в карьере, и удовлетворение от семейной жизни. И они ставили перед правительством еще одну задачу: как помочь женщинам найти гармоничный подход к своим обязанностям по работе и по дому. Как оказалось, реальная встреча с трудностями карьеры и семейной жизни была более обескураживающей, чем предполагали большинство женщин до вступления в брак. В начале периода Хэйсэй около половины женщин оставили работу после рождения детей. Тот факт, что японское общество продолжало почитать «особую сферу» домохозяйки и отдавать дань уважения тем женщинам, которые были верны своему материнскому долгу, облегчал переход из офиса в дом и помогал ощутить таким женщинам удовлетворение. Тем не менее многие домохозяйки мечтали о достижении более равных, заботливых отношений со своими мужьями. В больших масштабах, чем ранее, замужние женщины, ходили ли они на работу, или оставались дома, считали важным, чтобы их мужья принимали деятельное участие в жизни семьи и добровольно делили с ними обязанности по воспитанию детей и содержанию дома. Вдобавок к получению доступа к работе, женщины использовали новые подходы к проблеме развода в качестве средства для осуществления своих требований. Количество разводов в Японии между 1970 и 1995 гг. увеличилось почти в 2 раза. В конце столетия на каждую сотню новых браков приходилось 24 развода. Для сравнения, во Франции этот показатель равнялся 32, в Великобритании — 42, в Соединенных Штатах — 55. Как и на Западе, женщины Японии, которые обладали характером и навыками, подходящими для работы, были особенно настроены прибегать к разводам, если их брак терял былую свежесть. Как отмечал один эксперт, если служащий средних лет приходил домой пьяным, а жена приветствовала его заявлением: «Я решила устроиться на работу», то ему лучше всего было выпить стакан воды и спросить: «На полную занятость или на частичную?» Если в ответ он слышал: «На полную», то он должен был бы признать, что ситуация сложилась «опасная»{394}. Едва ли эти изменения были простыми. В японской провинции мужчины, принадлежащие к старшему поколению, столкнулись с большими трудностями, пытаясь принять новые взгляды на брак. Одному фермеру, занимающемуся разведением скота в маленьком городке, затерявшемся среди холмов полуострова Миэ приблизительно в двух сотнях миль к юго-западу от Токио, задали вопрос, любит ли он свою жену, с которой прожил 33 года. Он, находясь в явном смущении, нахмурил брови и ответил: «Ну, да, я полагаю. Она подобна воздуху или воде. Вы не можете жить без них, но большую часть времени вы просто не замечаете их существования»{395}. Его 72-летняя соседка, Уэмура Юри, сказала: «Между мной и моим мужем больше нет любви», и добавила с грустью, что ее супруг за 40 с лишним лет никогда не говорил ей, что она ему нравится, не похвалил еду, приготовленную ею, не подержал ее за руку, не сделал ей ни одного подарка и не продемонстрировал свое внимание каким-либо иным способом. Он даже бил ее, вспоминала госпожа Уэмура, «так что ж, наш брак сохранился». Молодые мужчины в более крупных центрах Японии быстрее воспринимали новые реалии, но и там иногда можно было услышать ворчание: «Это кошмарное время для того, чтобы быть мужчиной»{396}. Иллюстрацией к положению мужей и отцов, принадлежавших к среднему классу, была телевизионная реклама двухкамерной стиральной машины. Аккуратно одетая домохозяйка, брезгливо зажавшая пальчиками свой нос, двумя супердлинными палочками для еды поднимала нижнее белье своего мужа и запихивала его в перегруженное отделение стиральной машины. На это ее маленькая дочь говорила: «Давай положим папочкину грязь отдельно». Но, что бы ни говорили телевизионные образы в начале периода Хэйсэй, значительное количество молодых людей приняли и даже приветствовали новые тенденции в семейной жизни. Как показал один из опросов, проведенных в 1987 г., 52 % мужчин (и 37 % женщин) были согласны с утверждением: «Мужчины работают вне дома, женщины работают дома». В середине 90-х всего 35 % мужчин и 25 % женщин придерживались этого же мнения. В значительной степени желание как молодого мужчины, так и молодой женщины вступить в брак нового типа было переплетено с продолжающейся эволюцией семьи. По всей Японии семья-ядро, которая, в определенном смысле, являлась идеалом среднего класса конца эры Сева, к концу XX столетия почти полностью уступила место семье, состоящей из нескольких поколений. В прежние времена большинство браков заключалось по расчету. И друзья, родственники и общество ожидали от семейных пар, подобных Унэмура, отставить в сторону личные чувства по отношению к супругу и использовать свой союз на благо большой семьи. В маленьких, «рассчитанных на двоих», семьях начала эры Хэйсэй отношения между мужем и женой доминировали над отношениями между разными поколениями. Вследствие этого молодые мужчины и женщины 90-х, в большей степени, чем представители нового среднего класса в 70-е и 80-е гг., рассматривали взаимную любовь в качестве первоочередной причины вступления в брак. К середине 90-х 3/4 всех пар, вступающих в брак, заявляли о том, что они совершают это «по любви». В начале 60-х такие пары составляли только половину. Современные семейные пары предпочитали больше романтики в своих отношениях, чем представители предыдущего поколения. По мере появления на рубеже веков новых взглядов на жизнь все больше и больше молодых людей можно было увидеть в супермаркетах вместе с их женами, застать их за приготовлением пищи или пеленанием детей, а также на воскресной прогулке с семьей и во время обеда в «семейном ресторане». Несмотря на рост числа разводов, большинство женщин, казалось, соглашались с подобным образом жизни, результатом которого были счастливые браки и более радостная домашняя обстановка. Как показано в таблице 17.3, в 90-х большинство японских женщин, гораздо больше, чем американок, считали, что за последние два десятилетия положение жен и матерей улучшилось. Даже госпожа Уэмара отмечала, что ее муж стал обращаться с ней лучше. «На днях он даже пытался налить мне чашку чая, — возбужденно говорила она. — Это — большая перемена. Я рассказывала об этом всем моим подругам».
Взгляды мужчин на совместную жизнь также претерпели изменения. Еще в середине 80-х некоторые комментаторы, специализирующиеся на социальных темах, отмечали появление синдзинруи, «новой породы» молодых японских рабочих, по словам человека, введшего этот термин в обращение, «с которым старшее поколение считало невозможным иметь дело»{397}. Новое поколение, заявляли критики, презирали принцип, изложенный еще Исида Байган, мыслителем эпохи Токугава, а затем неоднократно повторенный, что смысл жизни заключается в дисциплине труда. В противоположность этой мудрости, отмечали наблюдатели, квалифицированные рабочие середины 90-х отказывались выполнять работы «трех к», которые они считали китанай, кицуй, кикэн («грязными, сложными, опасными»). Недавние выпускники колледжей, проходившие собеседование в качестве претендентов на места служащих, тем временем желали более продолжительных отпусков, отсутствия сверхурочной работы и высоких заработков уже сейчас, пока они еще были молодыми. Они не хотели ждать, пока они вскарабкаются на вершину иерархической лестницы той или иной фирмы. Подтверждая новые реалии, даже наиболее престижные японские компании оказались в бедственном положении из-за того, что все большее количество молодых служащих увольнялись, проработав всего 3 или 4 года. Правительственная «белая книга по труду», изданная в июле 1990 г., демонстрировала, что молодые работники в Японии были в меньшей степени, чем их ровесники в Соединенных Штатах и Британии, удовлетворены своими заработками, продолжительностью рабочего дня, шансами карьерного роста и возможностями реализовать свои индивидуальные таланты. Некоторые комментаторы рассматривали стремление молодого поколения к большему количеству свободного времени, лучшей оплате и более комфортабельным условиям труда как реакцию на чрезмерный упор на идею полного посвящения себя работе, которую крупные компании внушали служащим-трудоголикам в конце периода Сева. Другие обвиняли общество. Служащие, отмечал один высокопоставленный чиновник, «более не пользовались уважением, как благородные воины корпорации» и, как следствие, «стали все больше стыдиться своей обычной привязанности к труду»{398}. Были и такие, кто обращал свой гнев непосредственно на молодое поколение. Поскольку они «были воспитаны в условиях материального достатка» и «росли, окруженные лаской и терпимостью», заключал один наблюдатель, то нет ничего удивительного в том, что «поколение X» желает «жить легко» и использовать ограниченность рынка рабочей силы в своих эгоистичных интересах{399}. Но если один искал виноватых, то все были уверены, что новое отношение к жизни приведет к тому, что новый век столкнется со значительными вызовами. Некоторые предвидели конец системы пожизненной занятости, в то время как другие, более встревоженные, считали, что этика, основанная на презрении к труду, означала, что в конце концов «общество зачахнет, и Япония, лишенная трудолюбивой рабочей силы, превратится во второстепенную страну».
Молодежь в беде, школы под огнем
Дети и подростки также были в центре общественного внимания в начале периода Хэйсэй. Лишь немногие могли оспаривать тот факт, что большая часть японских молодых людей были здравомыслящими, веселыми и хорошо воспитанными. При опросах общественного мнения подростки демонстрировали более тонкое ощущение социальной ответственности, чем их старшие товарищи. Они рассматривали ее как необходимое условие для превращения в хороших граждан мира, сохранения окружающей среды и повышения уровня жизни, даже ценой экономического роста. Тем не менее на протяжении 90-х старшее поколение испытывало все больше тревоги относительно неуловимого, но для них очевидного распада общественной морали, который проявлялся в отдалении детей от своих родителей, братьев и сестер, в беспорядках, в подростковом промискуитете и употреблении наркотиков. Нацию также беспокоила упрямая задиристость, или ид-зимэ. С начала 70-х драки были частью школьной жизни. Задиры обычно издевались, унижали и избивали своих жертв почти каждый день. В одном случае участники издевательств заставили одного своего одноклассника быть у них на посылках, рисовали маркером у него на лице усы, заставляли его забираться на дерево и распевать там гимн школы, в то время как другие дети смотрели на все это, и даже устраивали его мнимые похороны. Психоаналитики не удивлялись, когда узнавали, что нарушители из числа идзи-мэ часто были выходцами из неблагополучных семей, в которых алкоголизм и насилие были обычным явлением. Но они никак не могли понять менталитет самых обыкновенных учеников, которые смиренно принимали на себя роль жертв. После того как мучители-одноклассники начали регулярно требовать с него крупные суммы денег, в том числе и невероятную сумму в 120 000 йен, Окочо Киётэру, ученик восьмого уровня начальной школы в префектуре Аичи, повесился 27 ноября 1994 г. Это был лишь один подросток, который совершил в тот год самоубийство после того, как подвергся издевательствам. Длинная записка, написанная Киётэру перед самоубийством, была наполнена безжалостными фразами в свой адрес и болезненным чувством вины по поводу любого аспекта его короткой жизни. «Если бы я просто отказался платить деньги, — писал он, — то ничего подобного бы не случилось. Мне действительно очень жаль. Пожалуйста, не обвиняйте людей, которые взяли эти деньги. Обвинять следует меня, поскольку только я отдавал деньги настолько безропотно». Обращаясь к своим родителям, он писал: «Я действительно сильно сожалею о том, что был причиной вашего беспокойства. Я был таким эгоистичным ребенком. Для вас было бы и на самом деле трудно иметь такого сына, как я»{400}. Общество было обеспокоено также и ростом количества подростков, обвиненных в преступлениях. В послевоенные десятилетия преступность снижалась. С 1986 по 1996 г. количество подростков, зарегистрированных в полиции как правонарушители, уменьшилось с 1,6 миллиона до всего 800 000. Затем, в 1997 г., подростковая преступность подскочила на 20 % по сравнению с предыдущим годом. Более того, в 1997 г. подростки в возрасте от 14 до 19 лет, составлявшие всего 9 % населения страны, совершили 34 % всех убийств и ограблений, а также 45 % преступлений, связанных с насилием, таких как изнасилования и нанесение побоев. В число последних входили две с половиной тысячи хулиганских нападений на мужчин среднего возраста, которые молодые бандиты называли оядзи-гари («охота на стариков»). Для многих ученых тот факт, что большинство малолетних правонарушителей происходили из среднего класса, был гораздо более тревожным, чем рост подростковой преступности сам по себе. Можно было понять, почему дети из бедных семей шли на охоту за стариками в послевоенные годы, когда 10 000 хулиганских нападений в год никого не удивляли. В 1955 г. около половины малолетних правонарушителей происходили из неблагополучных семей. К середине 90-х, однако, около 4/5 молодых преступников жили в семьях, где были оба родителя, а около 90 % могли быть отнесены к среднему классу. Многих взрослых шокировало то, что подростки, арестованные за грабежи, заявляли, что они просто хотели раздобыть денег на развлечения. По мере того как японцы становились все более богатыми, рыдали комментаторы, они, похоже, становились духовными банкротами. Волна подростковой проституции, казалось, подтверждала это мнение. Само это явление обозначалось эвфемизмом «спонсорская дружба». Мужчины средних лет сходили с ума по молоденьким девушкам, которым надо было лишь набрать номер коммерческой голосовой службы, чтобы скинуть сообщение подобного содержания: «Я — шестнадцатилетняя ученица высшей школы. Я ищу кого-нибудь, с кем бы я могла встретиться завтра для спонсорской дружбы. Мой рост — 165 сантиметров, вес — 49 килограммов. Мне кажется, что я хорошенькая и остроумная. Моя цена — «5» [50 000 йен] за два часа»{401}. Позвонив, мужчина мог встретиться с веселой, хорошо одетой и, по всем внешним признакам, обычной ученицей, которая соглашается на секс только потому, что ей хочется сумочку авторской работы за 100 000 йен или других шикарных вещей известных брэндов, которые она не может позволить себе приобрести на деньги своих родителей. В 1995 г. Национальное полицейское агентство взяло под надзор более 5000 девушек за занятия проституцией и другие преступления, связанные с сексуальной сферой. Согласно опросу, проведенному правительством города Токио в октябре 1996 г., 4 % учениц высшей школы предлагали свою дружбу за деньги. По мере роста малолетних преступников и проституток, система образования оказалась под огнем за то, что она упустила молодежь страны. Вероятно, главной причиной того, что детская преступность так пугала нацию, было то, что, как указал один эксперт, существует «национальное мнение, что наиболее важным ресурсом Японии являются ее дети, и наиболее важной заботой нации является образование»{402}. Воздух был заполнен подобными упреками. Некоторые родители критиковали учителей, за то, что те были слишком небрежными, в то время как другие заявляли, что чрезмерно суровое обращение школьной системы с их детьми привело к стрессам, вылившимся в криминальное поведение. Учителя предпочитали показывать пальцем на родителей. «Значительная доля вины за появление эгоистичных и неподатливых учеников, — писал один учитель, — должна быть возложена на то воспитание, которое дали им взрослые. Дети были предоставлены сами себе. Целью воспитания ребенка более не является подготовка самостоятельного члена общества, а упор делается на индивидуальность»{403}. Другой обвинял родителей за отсутствие «моральной структуры в их жизнях», за то, что они балуют детей, и даже за то, что они оспаривают оценки учителя, «звоня по телефону и говоря: «Я знаю, что он заслуживает большего, чем это!»», — как гневно заявлял учитель восьмой ступени{404}. Те, кто в 90-х занимался обучением детей, сталкивались с двумя разными традициями. С одной стороны, с конца периода Мэйдзи и до окончания Великой Восточноазиатской войны, образовательная политика наибольшее значение придавала моральной тренировке и подготовке учеников к тому, чтобы они стали лояльными, ответственными гражданами, которые будут поддерживать свое правительство. С другой стороны, в конце XIX столетия такие японцы, как Миякэ Сэцурэй и Узки Эмори, утверждали, что образование должно «поощрять и подпитывать развитие врожденных способностей человека» с целью создать просвещенное и самостоятельное общество, которое должно способствовать развитию мировой культуры. Подобным образом, Основной закон об образовании, принятый в 1947 г. с подачи SCAP, заявлял, что образовательная система предназначена для того, чтобы помогать каждому ребенку полностью реализовать его или ее потенциал как личности, так, чтобы он/a могли «вносить свой вклад в дело мира на земле и благосостояние человечества, путем построения демократического и культурного государства». Двойственное наследие прошлого тяжелым грузом легло на плечи учителей в начале периода Хэйсэй. Неудивительно, что некоторые представители этой профессии призывали специалистов в области образования способствовать полному раскрытию всех способностей каждого ученика. Другие в то же время склонялись к мнению, что «реальной задачей для школьных учителей, — как было сказано во время одного обсуждения за круглым столом, — не является академическая инструкция. Она состоит в том, чтобы научить детей вести себя в школе и обществе»{405}. Споры вокруг образования отражали те же заботы по поводу приспособления брака, семьи, рабочего места к реалиям нового века. Во всех этих случаях долг перед обществом и самореализация личности выступали в качестве противоположных полюсов, стоявших по разным краям широкого спектра будущих возможностей.Вызов, брошенный меньшинствами
Ощущение гомогенности среднего класса, господствовавшее в 70-х и 80-х гг., приходилось внуком тем усилиям по воспитанию чувства национального единства, которые предпринимались в эру Мэйдзи. В то время приверженцы нового порядка говорили об особой японской индивидуальности, существующей в веках, и об определенном этическом кодексе, который был выделен из идеализированной мифоистории с целью формирования кокумин («граждан»), в которых воплотились бы коллективные цели и ожидания. Риторика военных лет превозносила чувство принадлежности японцев к «особой расе», все представители которой происходят от общих предков, разговаривают на одном языке и обладают специфическим набором религиозных верований и культурных практик, которые отличают их не только от западных людей, но и от их соседей по Азии. В 70-е гг., после двух десятилетий стремительных изменений, некоторые интеллектуалы и социологи написали большое количество работ под общей рубрикой Нихондзин рон («обсуждение, что значит быть японцем»). В этих произведениях вновь открывались сущностные черты уникальной японской культуры и единственного в своем роде национального характера. Некоторые аналитики написали серьезные и проницательные работы. Другие выдвигали грубые претензии. Среди них был министр сельского хозяйства, который настаивал на том, что Япония не должна импортировать австралийскую говядину, поскольку кишечники его соотечественников короче, чем кишечники европейцев, и поэтому они не могут переваривать мясо и другие западные продукты. Причудливые, с налетом нарциссизма, дебаты Нихондзин рон, проходившие в поздний период эпохи Сёва, способствовали возникновению мнения, что каждый, кто живет на Японских островах, принадлежит к одной расе-культуре. Разумеется, когда в 1979 г. Япония ратифицировала Международную конвенцию Объединенных Наций по гражданским и политическим правам, ее представитель докладывал: «Право каждого человека придерживаться своей собственной культуры, исповедовать и практиковать свою религию или пользоваться своим языком гарантировано японским законом. Однако меньшинств, подобных упомянутым в Конвенции, в Японии не существует»{406}. Буракумин и представители других меньшинств в Японии имели иной взгляд на эту проблему. В последние десятилетия эпохи Сёва Лига освобождения бураку, преемник довоенной Суихэйса, вновь начала борьбу за равноправие. В 50-е и 60-е гг. лига вела «административную борьбу» против местных правительств с целью улучшения условий жизни в кварталах буракумин путем улучшения жилья, мощения улиц и снабжения более чистой водой. Плоды эта кампания принесла в 1969 г., когда национальное правительство издало Закон о специальных мерах и предприятиях относительно ассимиляции. Он стал базой для ряда проектов по развитию общины. С 1969 по 1993 г. национальное и местные правительства потратили почти 14 миллиардов йен на создание канализационных систем, улучшение работы уличного освещения и противопожарных служб, строительство многоквартирных домов, школ, клиник и общинных центров на специально отведенных для этого территориях. Хотя усилия, предпринятые правительством, позволили ликвидировать в некоторых аспектах разницу между кварталами буракумин и основным сообществом, Закон о специальных мерах не предусматривал санкций, которые были бы направлены против многочисленных форм дискриминации. Соответственно, в последний период эпохи Сёва активисты выступали за введение недвусмысленных правил, запрещающих любые формы социальной нетерпимости. Некоторые лидеры общины вернулись к старой тактике угроз, чтобы бороться с неуловимыми проявлениями предубеждения. Во время одного из наиболеезначительных инцидентов, произошедших в префектуре Хьёго, сторонники Лиги освобождения бураку заперли в помещении школы 52 учителей и угрожали держать их там до тех пор, пока они не подпишут заявление с критикой в свой адрес и не пообещают создать в школе группу по изучению проблем буракумин. Когда учителя отказались сделать это, протестующие из числа буракумин подвергли их интенсивному словесному воздействию, в результате чего 43 учителя были настолько морально истощены, что были госпитализированы, и 13 из них пришлось задержаться в больнице на 6 недель. Айны, проживающие на территории Японии, также расценивали заявления о полной гомогенности как опасные заблуждения. На протяжении нескольких десятилетий в середине XX в. общины айнов продолжали жить в нищете. Дети все так же сталкивались с негативными стереотипами и дискриминацией в объединенных школах, за которые в довоенные годы боролось Общество айнов, а взрослые натыкали? на непреодолимое предубеждение, когда они пытались найти работу или вступить в брак за пределами своей общины. Перемены начались лишь в 70-е гг., когда новое поколение начало агрессивно противостоять жестокости со стороны общества. Некоторые активисты черпали вдохновение для борьбы против маргинализации в действиях буракумин. Деятельность других групп молодых айнов ориентировалась на движения туземных народов, возникавших по всему миру. События внутренней жизни, особенно празднества, устроенные в Саппоро в 1968 г. в честь столетия реставрации Мэйдзи и «истории Хоккайдо», также давали свой эффект. Проведенные под контролем императора и потребовавшие больших расходов, эти празднества не подразумевали участия в них айнов. Их режиссеры не нашли для них места ни в заново отстроенной «Деревне первопроходцев», ни в Музее развития, за исключением тех картин, где они изображались в качестве проводников и носильщиков первых исследователей. Все айны были возмущены исторической амнезией, проявившейся в 1968 г. Казалось, она отрицала само их существование. В ответ на это, некоторые группы, такие как Общество Утари [ «Нашего народа»], которое являлось преемником Общества айнов, оказывали давление на центральное правительство, чтобы выжать из него 12 миллионов йен на финансирование проектов по развитию, подобных тем, которые были осуществлены в общинах буракумин. Более радикально настроенные, и, как правило, более молодые, айны позаимствовали у буракумин тактику угроз. Они успешно добились отмены телевизионных программ, которые изображали их в негативном свете, заставили принести извинения те журналы, которые печатали на своих страницах дискриминационные карикатуры, и провели кампанию против крупнейшего бюро путешествий в стране, после того как оно начало рекламировать посещение «настоящей деревни айнов» и познакомиться с «древними обычаями и культурой знаменитых волосатых айнов»{407}. Возраставшее позитивное ощущение самоидентификации, ставшее очевидным в 70-е и 80-е, вызвало интерес к истории и культуре айнов. В огромном количестве общины начали организовывать празднества, на которых выступали носители языка айнов, декламировались произведения устного народного творчества, представлялись восстановленные танцы и демонстрировались традиционные костюмы. Активисты даже создали новую символику айнов. В 1973 г. появился флаг айнов, и люди начали с тоской говорить об айнумосири («тихое место, где обитают люди»). Это понятие обозначало одновременно и мифический золотой век, и физическое место, где айны жили коммунами в идеализированной гармонии с природой, до того как их подчинили японские колонизаторы. После перемены в самовосприятии, Общество Утари, которое заявляло, что представляет половину из 17 000 айнов, проживающих на территории Японии, сформулировало свои взгляды на будущее. Они были опубликованы 27 мая 1984 г. Этот документ, озаглавленный «Новый закон об айнах», представлял собой законопроект, который признавал этническую и экономическую «уверенность в своих силах» туземных народов Японии, позволял им сохранять свой язык и культуру, запрещал любые формы расовой дискриминации и гарантировал им основные права человека и полное участие в политическом процессе. Корейцы в конце столетия образовывали самое крупное этническое меньшинство Японии. Около 90 % из приблизительно 700 000 корейцев, проживавших в Японии, были детьми, внуками и правнуками тех мужчин и женщин, которые приехали в Японию, по своей воле или нет, во время колониального периода. После аннексии 1910 г. Япония предоставила корейцам определенные прерогативы, такие, как льготное право устраиваться на работу по всей империи. Однако когда в действие вступил Мирный договор Сан-Франциско, японское правительство лишило всех прав тех корейцев, которые оставались на территории страны. Они были низведены до статуса иностранцев, за которыми сохранялось лишь право постоянно проживать в Японии. Япония даровала гражданство только на основании принадлежности к титульной нации (jus sanguinis, «закон крови», который противопоставляется jus soli, «закону почвы»), а процесс натурализации был технически весьма сложным, который усугублялся бюрократами со стальным взглядом и язвительным языком, смотревшими свысока на запуганных просителей. Поэтому большинство корейцев, оставшихся в Японии после 1952 г., проживали там без полных гражданских прав. Это относилось и к их потомкам, несмотря на то что подавляющее их большинство родилось в Японии, провело там всю свою жизнь, закончило японские школы и говорило исключительно по-японски. Вдобавок к ограничениям в сфере прав, корейское меньшинство было вынуждено терпеть те же проявления социальной и экономической дискриминации, что и другие маргинализированные группы. Их ожидали насмешки в школьном дворе, шушуканье за спиной в супермаркете, свободная жилплощадь, которая неожиданно превращалась в уже занятую, помолвки, которые разбивались, когда родительское несогласие становилось непереносимым, отстранение от квалифицированной работы, после того как выяснялась настоящая этническая принадлежность, а также давление на успешных спортсменов и артистов, чтобы те признали себя японцами. Иногда недостаток легального положения сочетался с социальным предубеждением, и тогда корейцы оказывались в особенно уязвимом и досадном положении. В августе 1945 г. в общей сложности 17 000 корейцев находились в Хиросиме и Нагасаки. Многие из них были призваны на работы на фабрики, производящие военные материалы. Приблизительно 40 000 из них погибли во время атомных бомбардировок или в течение ближайшего года, в связи с увечьями и болезнями, полученными в результате ядерной атаки. В 1959-м, а затем снова, в 1968 г., японское правительство принимало законы относительно специальных медицинских служб, льгот по медицинскому обслуживанию и налоговому обложению для тех, кто потерял трудоспособность или заболел в результате атомных бомбардировок. Хотя ни один из этих законов не указывал на национальную принадлежность тех, на кого было направлено их действие, за 20 последующих лет менее 500 корейцев из 7000, переживших бомбардировки и по-прежнему проживавших в Японии, получили хоть какие-то выгоды. В основном это было связано с юридическими трудностями, связанными с подтверждением факта их нахождения в Хиросиме и Нагасаки во время бомбардировок. Лишившись компенсаций, они получили еще один удар, когда муниципальные власти отказались выдать им разрешение на установление стелы в память о погибших корейцах рядом с японским мемориалом в Парке Мира в Хиросиме. Подобно другим меньшинствам, корейцы присоединились к борьбе против дискриминации и предубеждений позднего периода эпохи Сева. Лидеры общины требовали, чтобы корейские кварталы были включены в список зон, где осуществляются проекты общественных работ, группы граждан обнародовали вопиющие примеры проявления нетерпимости, а отдельные корейцы подавали в суд за проявление дискриминации со стороны компаний. В 1989 г. Молодежная корейская ассоциация в Японии направила в Комиссию ООН по правам человека письмо, в котором излагались основные требования корейского меньшинства. Среди них выделялись требования предоставления прав человека корейцам как «бесспорным членам японского общества», свободы «в выборе работы и занятиях экономической деятельностью», доступ к социальному обеспечению, права голосовать на выборах в местные органы власти и выставлять на них свои кандидатуры, а также принять более действенные меры по отношению к корейцам — жертвам атомных бомбардировок. Несмотря на все беды, через которые пришлось пройти меньшинствам, даже самым радикальным активистам пришлось признать, что протесты, а также другие, более позитивные способы заявить о себе, в заключительные десятилетия XX в. смогли улучшить ситуацию. Для буракумин, айнов и корейцев, равно как и для этнических китайцев, выходцев с Окинавы, потомков японских эмигрантов, вернувшихся на родину предков, представителей других народов Азии, составлявших в Японии этнические меньшинства, жилищные условия сделались более комфортными, дискриминация — менее вопиющей, а возможности продвижения и самореализации — более широкими. Если говорить более подробно, то к середине 90-х гг. 62,7 % семей буракумин владели собственными домами (при среднем уровне по стране в 59,8 %). Процент детей буракумин, посещавших высшую школу, приблизился к этому показателю среди детей обычных японцев. 20 % молодых людей буракумин (против 28 % среди других японцев) посещали колледж, в то время как в 60-е этим могли похвастаться только 2 %. Попытки айнов обрести политический голос были услышаны международной общественностью в 1992 г., когда они были приглашены принять участие в церемонии инаугурации Международного года ООН туземных народов мира. В самой Японии в 1994 г. Каяно Сигэру стал первым айном, избранным в парламент. Отношение правительственных чиновников к этой проблеме, похоже, также начало меняться. В 90-е гг. город Нагасаки выделил значительную часть своего бюджета на оказание помощи корейцам — жертвам атомных бомбардировок, а мэр Хиросимы наконец отдал распоряжение возвести корейский мемориал в Парке Мира. К этому времени национальное правительство предоставило корейцам возможность занимать посты в системе образования и в местных администрациях. Оно также распространило на большинство из них те же социальные гарантии, которыми пользовались японцы. Даже служба натурализации наконец изменила свое отношение. Один высокопоставленный чиновник этого ведомства писал: «Безусловно, одно и то же подданство не требует от людей быть носителями одной и той же культуры и образа жизни. Только когда натурализовавшийся человек сможет сказать: «Я — японец такого-то и такого-то происхождения», не пряча свою истинную национальную принадлежность, японское общество можно будет признать 39 интернациональным изнутри»{408}. Несмотря на очевидные перемены, произошедшие в 90-е гг., наблюдатели отмечают, что еще много предстоит сделать в XXI в. Предубеждения при заключении браков и приеме на работу по-прежнему остаются реальностью. Некоторые наблюдатели отмечают, что японские власти не учитывают новые и все более изощренные формы дискриминации. Тем не менее очевидные для всех требования прав со стороны меньшинств делают невозможными любые заявления о том, что японское общество является этнически гомогенным. Подобным образом, меньшинства поставили перед японским обществом задачу сделаться более открытым и плюралистичным, как и критики однопартийного правительства, призывавшие к многопартийной и менее элитарной политической системе. Более того, утверждения буракумин и других меньшинств, что они могут вносить свой вклад в процветание всего общества, как только они получат больше возможностей для самореализации, совпадали с требованиями японской молодежи, касавшимися равноправия в браке и трудовых отношениях. Все они отвечают нуждам личности, продолжая в то же время отдавать должное тому, что считается общественными обязанностями.Вне времени и национальности
В начале XX в. многие японцы предвкушали жизнь в обществе, которое становилось все более демократичным и индустриальным. В то же самое время они надеялись на то, что Япония наконец станет частью мирового сообщества, «провинцией мира», где Генрик Ибсен и Лев Толстой «не являлись бы больше иностранцами». Никто и вообразить себе не мог, что Великая депрессия и Маньчжурский инцидент поднимут такое цунами, которое едва не уничтожат все эти мечты и ожидания. На руинах Великой Восточноазиатской войны старые надежды вернулись к жизни, и к концу столетия островная страна на далекой окраине Тихого океана создала экономическую и политическую системы, которые не отличались принципиально от парламентской демократии и промышленного капитализма, которые существовали практически повсеместно. Более того, Япония, очевидно, впитала в себя наследие мировой культуры. Повсеместно — от товаров, продаваемых в торговых рядах небольших городов, до архитектурных форм, которые можно было встретить в крупнейших центрах страны, — японцы демонстрировали сходство своей культуры с культурой наиболее развитых стран мира. Они также восприняли музыку, искусство и литературу западных наций. В какой-то мере неожиданно, празднование наступления 2000 г. практически не привлекло внимание общественности к тем качественным изменениям, которые претерпела Япония на протяжении XX в. Вместо этого нация сфокусировалась на проблемах современности. В передовице, опубликованной в новогоднем выпуске Джапэн Таймс, отмечалось, что «за последние десять лет был приобретен печальный опыт. В экономической сфере Япония превратилась из мирового лидера в колосса на глиняных ногах, искусство управления разрушилось, а нация стала свидетелем возникновения морального вакуума, когда школьные кабинеты превратились в поля сражений, а подростки стали продавать свои тела под видам «спонсированной дружбы»{409}. Никто, однако, не мог предложить надежную формулу преодоления проблем конца столетия. Туманные банальности по поводу поисков «новых целей» и «составления новых планов на грядущее столетие» наполняли страницы газет. Когда премьер-министр Обучи обратился к нации в час ночи 1 января, он бодро отрапортовал, что Япония не столкнулась с серьезными трудностями, связанными с компьютерной «проблемой-2000». Большинство японцев вступали в новый век все в той же вялой манере. Некоторые посещали буддийские храмы, где звон колокольчиков возвестил очищение от грехов прошлого года. Другие шли в синтоистские святилища, чтобы приобрести талисманы и попросить богов быть милостивыми в наступающем году. По всей стране семьи собирались вместе, чтобы отведать праздничные блюда и посмотреть «Состязание по пению между Красными и Белыми». Отсутствие каких бы то ни было призывов к кардинальном политическим переменам, вероятно, свидетельствовало о том, что большинство японцев утешали себя тем фактом, что инструменты и принципы парламентской демократии в конце концов вернут их стране хорошее управление и экономическое процветание. Тем не менее некоторые желали проложить новый культурный путь в будущее. Если большинство мужчин и женщин встречали новый, 2000 г. способом, который в конце столетия казался таким японским, то другие призвали к новому космополитизму. В начале XX столетия господствовала та точка зрения, что Япония должна учиться у других и превратиться в страну, где Ибсен и Толстой не являются более иностранцами. В противоположность ей, новый интернационализм конца XX — начала XXI столетия призывал переступить границы своей национальности, заглянуть дальше проблем текущего момента и привнести что-то новое в мировую культуру. Одним из известных сторонников нового культурализма был архитектор и городской планировщик Тангэ Кэндзо. В начале своей карьеры, в 1955 г., он разработал проект Зала Мемориала Мира в Хиросиме. Спустя десять лет он руководил реконструкцией города Скопье в Югославии, разрушенного землетрясением. Он был главным архитектором комплекса зданий правительства города Токио, строительство которого было завершено в 1991 г. Рассматривая его творческий путь, многие критики хвалили Тангэ за использование асимметрии и других принципов японской архитектуры при превращении современных материалов в оригинальные здания, которые совершили переворот в мире архитектуры, отделив функционализм от строгого геометрического стиля. Авангардный модельер Иссэй Миякэ также надеялся внести свой вклад в мировую культуру. Он отрицал любую национальную идентичность. «Вдали от моей родной страны, живя и работая в Париже, — вспоминал он однажды, — я посмотрел на себя и задался вопросом: «Что я могу сделать как японский модельер?» Затем я понял, что мой главный недостаток, а именно — отсутствие у меня западного наследия, является также и моим основным достоинством. Отсутствие западной традиции, — продолжал он, — было той самой вещью, которая мне была необходима, чтобы создать современную и универсальную моду Но, как японец, я обладал наследием богатой традиции. Уяснив для себя эти два чудесных преимущества, я воспрянул духом, — заключал Миякэ, — и именно тогда я начал эксперимент по созданию нового типа одежды, ни западного, ни японского, а стоявшего вне всякой национальности»{410}. Наконец, после долгих эпох, на рубеже двух веков, в точке слияния двух тысячелетий, появилась возможность одновременно быть и японцем, и современным человеком, и даже переступить границу национальности. В конце периода Сёва и в начале периода Хэйсэй весь мир повернулся лицом к японским вещам. По всему земному шару люди ели суши, покупали упаковки лапши быстрого приготовления в местных продуктовых магазинах, занимались дзюдо и карате, а также пели песни под караоке. Японские духовные ценности и принципы поведения также вызывали любопытство и иногда получали высокую оценку от представителей других национальностей. Когда в 60-е гг. Нобелевский комитет впервые решил присудить премию писателю из Японии, его выбор пал на Кавабата Ясунари, «чисто японского» романиста, работы которого, как считалось, передавали типично японскую меланхолию, во время исследования чувственной, хоть и хрупкой и ненадежной природы любви и человеческого существования. Ближе к концу столетия зрители в Японии и во всем остальном мире наполняли кинотеатры, чтобы посмотреть такие фильмы, как «Танпопо» («Одуванчик») и «Шэллуи дансу?» («Потанцуем?»). Первый из них представлял собой юмористические зарисовки на тему «японцы и еда». Второй изображал историю о том, как служащий средних лет пытается избавиться от одиночества своего существования, вступая в приятельские отношения с красивой инструкторшей по танцам, которая никогда не отрывалась от земли, и как его жена реагировала на возможность измены. В других случаях люди за пределами Японии были заинтригованы тем, как изображение японского образа жизни и ценностей может содержать некий универсальный смысл. Так, когда здания, построенные по проектам Тангэ, получали международное признание, вторым японцем, получившим Нобелевскую премию в области литературы, стал Оэ Кэндзабуро. Его книги описывали опыт переживания трагедии Хиросимы, противостояние обитателей горных деревень на острове Сикоку и центрального японского правительства, а также жизнь отца со своим сыном-калекой. Хотя Оэ основывал свои романы на конкретных примерах позднего периода Сева, с точки зрения одного выдающегося литературного критика, он создавал «связь между специфическими обстоятельствами и универсальной точкой зрения». Подход Оэ, продолжал он, «фокусируется не на том, как далеки японцы от других народов, а наоборот, как близки. Оэ пишет о страданиях Японии, и, таким образом, о страданиях всего современного человечества»{411}. Используя самые разные образы, телесериал Осин также привлек внимание широкой международной общественности. Он был показан в 41 стране. Вероятно, у многих появилось желание узнать что-нибудь о жизни простых японцев, после того как они посмотрели историю Осин, женщины, детство которой прошло в бедной деревушке на севере Японии, которая затем стала горничной, а затем, пройдя через ряд испытаний, стала владелицей супермаркета в Токио. Но настоящий секрет международной популярности сериала Осин, по словам одного аналитика, заключался в том, что центральный персонаж обладал качествами, выходившими за рамки языковых и культурных барьеров: «силой характера, сердечной теплотой, стойкостью, отвагой и трудолюбием»{412}. Что касается Миякэ, то журнал Elie удостоил фразы: Son style dupasse les modes («Его стиль выходит за рамки моды»), что является высшей наградой французской индустрии моды. Будущий курс нового космополитизма пока остается неясным. Не появилось возможности в свете нового столетия узнать, когда Япония найдет способ преодолеть экономические и политические сложности, да и найдет ли она его вообще. Восемьсот лет назад, в начале XIII столетия, поэт Като но Чомэй был возмущен миром, который оказался для него столь несчастливым и полным бедствий. В поисках более спокойной жизни он покинул столицу и поселился в небольшой хижине в холмах, неподалеку от Киото. Там он написал Ходзоки — короткий комментарий относительно природы существования. «Реки, — начинал Чомэй свое эссе, — текут непрерывно, и все же вода не бывает одинаковой. В стоячих прудах в то же время меняющаяся пена возникает и исчезает, не застывая ни на миг. Таковым является и человек и его жизнь»{413}. Отражая буддистскую концепцию непостоянства жизни, мысль Чомэй может выступать также в качестве метафоры, обозначающей современность. Как и его река, которая никогда не останавливает своего движения, порождая пузыри, исчезающие в мгновение ока, а затем снова возрождающиеся, узнаваемые, но уже иные, так и сегодняшние взгляды на то, что значит быть современным или что значит быть японцем, бесконечно меняются в ответ на завихрения исторических событий. Меняющиеся концепции идентичности порождают разнообразие взглядов на будущее политики, экономики и общества. На протяжении современной эры представления японцев о том, кто они такие и как они должны строить свои отношения с другими народами мира, менялись несчетное количество раз. Взгляды на себя и на нацию продолжают изменяться и сегодня. И у японцев нет единственного ответа на вопросы и вызовы, с которыми они сталкиваются по мере вступления в новый век. Историки, со своей стороны, зачастую предпочитают трактовать перемены как накапливающиеся и эволюционные, но сама история учит нас, что течение времени может сталкиваться с водопадами и порогами, которые разрывают связь между прошлым и настоящим и делают будущее практически непредсказуемым.
Глоссарий
NHK (Nihon Hoso Kyokai): японская радиовещательная корпорация, была создана в 1926 г, под контролем Министерства коммуникаций и имела монопольное право на радиовещание; в 1950 г. новые законы позволили вести коммерческое вещание и признали NHK общественной корпорацией; получая финансирование за счет ежемесячной абонентской платы, NHK в 1953 г. добавила к своему вещанию телевизионные трансляции, и в настоящее время она специализируется на образовательных программах.
Sinpu Tokubetsu Kogekitai: «Специальный атакующий корпус Божественного Ветра»; см. Пилоты камикадзе.
Айны: туземный народ, населявший Эдзочи (Хоккайдо, соседние острова Курильской гряды и Южный Сахалин). Стали гражданами Японии после реставрации Мэйдзи.
Аматэрасу Омиками: Солнечная богиня. Божество-предок японской династии Небесных Владык.
Ассоциация способствования императорскому правлению: массовая политическая организация, созданная в октябре 1940 г. для содействия достижению целей Движения за новый порядок; консерваторы находились в оппозиции АСИП, поскольку, по их мнению, оно нарушало дух конституции Мэйдзи; Министерство внутренних дел в конце концов распространило свой контроль на эту организацию и использовало ее для организации массовой поддержки Великой Восточноазиатской войны.
Бакуфу: «шатровое правительство» сёгуна. Сёгунат Токугава руководил страной с 1603.
Бунмэй Кайка: «цивилизация и просвещенность», фраза, популярная среди тех, кто желал внедрить в Японии западные культуру и идеи в 70-е гг. XIX века.
Буракумин: термин, обозначающий потомков отверженных, принятый после того, как прежние термины — эта и хинин — были запрещены законом в 1871 г.
Буси: воин, см. также самурай.
Бусидо: «Путь воина». Кодекс поведения, который определял нормы воззрений и поведения воинского сословия.
Вашингтонская конференция: проходила с ноября 1921 по февраль 1922 г.; на конференции был достигнут ряд соглашений, а именно: Договор четырех держав, Вашингтонский морской договор и Договор девяти держав, при помощи которых пытались уменьшить международные трения и соперничество путем создания баланса военно-морских сил в Тихом океане и сохранения территориальной целостности Китая.
Великая Восточноазиатская сфера совместного процветания: концепция, появившаяся летом 1940 г., согласно которой предполагалось создать политически и экономически объединенную Азию, свободную от западного владычества.
Голландское учение: общее название изучения западных науки, медицины и математики в XVIII — начале XIX в.; большинство доступных японцам текстов были написаны на голландском языке или переведены на голландский с других европейских языков.
Гото Синпэй (1857–1929): родившись в Северной Японии, Гото в 1883 г. поступил на службу в Министерство внутренних; осуществлял наблюдение за рядом проектов в области охраны здоровья; с 1898 по 1906 г. возглавлял гражданскую администрацию на Тайване. В 1906 г. стал первым президентом Южноманьчжурской железнодорожной компании, отвечал за колонизацию Квантунской территории; в 1920 г. назначен мэром Токио, в 1923 г. — министром внутренних дел. Сыграл ведущую роль во время восстановления города после землетрясения 1923 г.
Гэнрё: «старший политик», который являлся советником императора по политическим вопросам на протяжении периодов Мэйдзи и Тайсо.
Дадзокан: Большой государственный совет; центральный административный орган управления, созданный в ходе реформ Тайка; высший исполнительный орган олигархического правления с 1868 по 1885 г.
Даймё (daimyo): местные властители, которые в начале Нового времени управляли имениями, приносившими доход не менее десяти тысяч коку риса.
Движение за народные права: политическое движение национального масштаба, которое приобрело наибольшую силу в конце 70—80-х гг. XIX в.; большинство участников выступали за более либеральную конституцию и более широкую базу будущей парламентской системы, по сравнению с теми, которые виделись руководству Мэйдзи.
Движение нового порядка: объявлено в 1940 г. Коноэ Фу-маро, который хотел осуществить перестройку экономической и политической систем Японии с целью создания барьера как против империализма, так и против коммунизма; включало в себя призывы к плановой экономике и созданию массовой политической организации. Ассоциации способствования императорскому правлению, для поддержки правительства.
Дзайбацу: крупномасштабные конгломераты, включавшие в себя банки, промышленные и торговые компании; играли ключевую роль в развитии японской экономики в конце периода Мэйдзи и до Великой Восточноазиатской войны.
Дзунси: самоубийство воина после смерти его господина.
Дорога Токкайдо: «Восточная морская дорога»; дорога, протяженностью в триста миль, шедшая вдоль тихоокеанского побережья от Эдо до Киото, с ответвлением в Осаку; 53 станции вдоль дороги Токайдо обеспечивали путешественников всем необходимым.
Досикай (Риккэн): одна из двух основных партий довоенного периода; основана в 1913 г., позднее переименована в Кэнсэйкай (1916) и Минсэйто (1927); будучи в целом более либеральной, чем ее соперница, Сэйюкай, эта партия выступала за всеобщее избирательное право для мужчин, поддерживала социальное законодательство и сокращала расходы на военную сферу в бюджетах 20-х гг. XX века.
Ёсано Акико (1878–1942): родившись около Осаки, Ёсано стала известна как писатель после публикации в 1901 г. «Ми-дарэгами» («Спутанные волосы») — сборника, включавшего в себя почти четыре сотни страстных и чувственных стихотворений; позднее стала одной из ведущих феминисток, опубликовала много томов стихотворений и работ на социальные темы.
Ёсида Соин (1830–1859): активный сторонник сонно дзои; открыл школу в своем родном домене Чосю, среди его учеников были Ито Хиробуми и Ямагата Аритомо; казнен за участие в заговоре с целью убийства высокопоставленного чиновника сёгуната.
Ёсино Сакудзо (1878–1933): профессор Токийского университета, Ёсино был главным выразителем идеалов либеральной демократии в период Тайсо; предпочитал то, что он сам называл минпон суги («демократия, опирающаяся на народ»), поэтому считал кабинеты приемлемым механизмом управления, поскольку они позволяли простым людям управлять своими собственными политическими судьбами.
Закон о национальной всеобщей мобилизации: принят 1 апреля 1938 г.; этот закон давал правительству право распределять рабочую силу между секторами промышленности, организовывать все производства в картели, которые будут осуществлять задачи, спланированные правительством, а также использовать любые фабрики и земли для производства военных материалов; отменен американской оккупационной администрацией в 1945 г.
Закон об общественном порядке и полиции 1900 г.: принятый кабинетом Ямагата Аритомо в марте 1900 г., этот акт был призван ограничить деятельность антиправительственных групп, особенно зарождающегося рабочего движения; отдельные статьи ограничивали права рабочих на организации и стачки, запрещали политическую деятельность для женщин, солдат и священников и подчеркивали право полиции запрещать или разгонять любой митинг или демонстрацию; ограничения, касающиеся рабочих организаций, были ослаблены в 1919 г., положение, запрещавшее женщинам присоединяться к политическим ассоциациям, было отменено в 1922-м, а сам закон был отменен американскими оккупационными властями в ноябре 1945 г.
Ивакура Томоми (1825–1883): будучи придворным, Ивакура стал лидером антисёгунатского движения и добился капитуляции императорского дворца в Киото силам лоялистов, состоявшейся 3 января 1868 г.; возглавлял Миссию Ивакура, отправившуюся на Запад в 1871 г.; поручил Ито составить конституцию.
Императорские конференции: официальные встречи в присутствии императора, на которых решения, принятые до этого на согласительных конференциях, одобрялись и утверждались.
Императорский рескрипт об образовании: принят в 1890 г.; способствовал развитию патриотизма, преданности императору, традиционных конфуцианских ценностей, а также идеи, что страна существует по модели семьи, во главе которой стоит император; до 1945 г. ученики школ по всей Японии участвовали в периодических церемониальных чтениях рескрипта; официально был отменен в июне 1948 г.
Исивара Кандзи (1889–1949): начав свою карьеру армейским офицером, Исивара в 1928 г. поступил в штаб Квантунской армии; сыграл ведущую роль в организации Маньчжурского инцидента; в 1937 г. стал начальником оперативного отдела генерального штаба, но разногласия с генералами по поводу политики Японии в Китае привели к его изоляции, и в 1941 г. он вышел в отставку.
Исин: фраза из классической китайской философии, которая означает обновление, новое начало всех вещей, которое должно быть завершено путем объединения усилий всех сегментов общества; переводится как «реставрация» во фразе Мэйдзи исин.
Ито Ноэ (1895–1923): родившись в Кюсю, Ито училась в высшей школе в Токио; в 1915 г. стала редактором феминистского журнала «Синий чулок» («Сэйто»); будучи убежденной анархисткой, она стала членом-основателем Общества красной волны, организации женщин-социалисток, созданной в 1921 г.; вместе со своим любовником и анархистом Осуги Сакаэ была убита полицией после Великого землетрясения Канто.
Ито Хиробуми (1841–1909): родившись в домене Чосю, Ито стал активным участником движения сонно дзои; в 60-е гг. XIX века учился в Англии, по возвращении в Японию выступал в поддержку заключения договоров с западными странами; ведущий олигарх, занимался составлением конституции; в 1890 г. основал политическую партию Сэйюкай и трижды занимал пост премьер-министра; представлял Японию на переговорах, завершившихся заключением мирного договора в Симоносеки в 1895 г.; был первым генеральным резидентом Японии в Корее; убит корейским националистом в 1909 г.
Ичикава Фузаэ (1893–1981): уроженка Нагои, Ичикава была школьной учительницей и журналисткой; вместе с известной феминисткой Хирацука Райчо в 1920 г. создала Новую ассоциацию женщин; в 1924-м организовала Женскую суфражистскую лигу, с помощью которой хотела добиться избирательных прав для женщин, до 1940 г. оставалась лидером суфражистского движения; после войны организовала Новую лигу японских женщин, которая выступала за предоставление женщинам избирательных прав, пять раз избиралась в Палату Старейшин, верхнюю палату парламента.
Иэ: домовладение, в том виде, в котором оно существовало на протяжении поколений; включало в себя членов семьи, их умерших предков и будущих потомков; первичная ячейка социальной организации среди самураев и зажиточных торговых семей в начале Нового времени.
Каваками Хадзимэ (1879–1946): выпускник Токийского университета, Кававками стал авторитетом в области классической экономики, преподавая ее в университете Киото; обеспокоенный неистребимостью бедности, занялся изучением социалистической теории и в конце концов стал склоняться в пользу экономической теории Маркса; в 1932 г. вступил в ряды коммунистической партии, действовавшей в подполье, в следующем году был арестован и брошен в тюрьму; освобожден в 1937 г., из-за подорванного здоровья удалился от дел и поселился в Киото.
Кавата: см. Эта.
Кайкоку: «открытая страна»; фраза, популярная среди тех, кто в 50-е гг. XIX в. хотели установить договорные отношения с западными странами
Ками: Божественные духи, обитающие на Высокой Небесной Равнине или в природных объектах; обычно поклонение им осуществляется в святилищах синто; как правило, божества настроены доброжелательно по отношению к человеку.
Камикадзэ: «Божественный ветер», который дважды уничтожал монгольский флот, пытавшийся приблизиться к берегам Японии в конце XIII столетия, укрепив веру, что синтоистские божества защищают Японию.
Квантунская армия: подразделение японской армии, созданное в 1906 г. для обеспечения безопасности на Квантунской территории и в зоне железной дороги на полуострове Ляодун; в 20-е гг. политизированные молодые офицеры Квантунской армии выдвигали аргументы о необходимости отделения Маньчжурии от Китая и создания зоны японского контроля в Северной Азии; военнослужащие армии спровоцировали Маньчжурский инцидент, ее офицеры, фактически, осуществляли руководство Маньчжоу-Го.
Квантунская территория: название, данное оккупированной японцами стратегической зоне, расположенной на южной оконечности Ляодунского полуострова, включавшей в себя крупный порт Дайрен и главную крепость и незамерзающую военно-морскую базу Порт-Артур; передана Японии Россией по условиям Портсмутского договора.
Кидо Такаёси (1833–1877): будучи самураем низкого ранга из домена Чосю, Кидо участвовал в движении сонно дзои и работал над созданием союза Сацума и Чосю, который впоследствии уничтожил власть сёгуната; после реставрации он трудился над составлением Хартии клятвенных обещаний; руководил ликвидацией доменов и был членом Миссии Ивакура.
Киси Нобусукэ (1896–1987): выпускник Токийского университета, Киси поступил на службу в Министерство сельского хозяйства и коммерции и стал ведущим бюрократом-обновленцем; играл ключевую роль в формировании экономической политики Маньчжоу-Го в конце 30-х гг.; с 1941 по 1944 г. руководил экономической мобилизацией Японии в качестве члена кабинета Тодзо; будучи арестованным как военный преступник, он избежал обвинения и в 1953 г. был избран депутатом Палаты Представителей; два срока находился на посту премьер-министра, с февраля 1957 по июль 1960 г.; старший брат Сато Эйсаку, который трижды занимал пост премьер-министра.
Коку: мера объема, равная 180,4 литра; теоретически, такого количества риса хватало на то, чтобы прокормить одного человека в течение одного года; использовалась для подсчета выплат самураям, равно как и для определения производительных возможностей деревень и доменов даймё.
Кокумин: «национальные граждане»; термин, введенный в период Мэйдзи для определения той части населения, которая была безусловно преданна новому государству и объединена общими политическими ценностями.
Кокутай: обычно переводится как «национальная сущность»; этот термин обозначает гармоничное и уникальное смешение правления и религии, которое наполняло политическую жизнь Японии с золотого века древности, когда Небесные Владыки осуществляли церемониальное правление и заботились о благосостоянии людей.
Коноэ Фумимаро (1891–1945): сын киотского аристократа, Коноэ был принят в Палату Пэров в 1916 г., был в составе японской делегации на Парижской мирной конференции; в 20-е гг. стал известным пан-азиатистом; с июня 1937 по октябрь 1941 г. трижды становился премьер-министром; будучи премьером, Коноэ осуществлял наблюдение за боевыми действиями в Китае, создал Движение нового порядка и Ассоциацию способствования императорскому правлению, а также настаивал на создании Великой Восточноазиатской сферы совместного процветания.
Курода Киётака (1840–1900): выходец из домена Сацума, Курода в 60-е гг. участвовал в антисёгунатском движении, а в 1874 г. был назначен директором Службы колонизации Хоккайдо; будучи направленным в январе 1876 г. в Корею для ведения переговоров, он отправил в корейские воды флотилию современных боевых кораблей и заставил эту страну подписать унизительный договор в Кангхва; был замешан в скандале, связанном со Службой колонизации Хоккайдо, разразившемся в 1881 г.; в 1888 г. появился на посту премьер-министра, а позднее стал гэнрё.
Кэйрэцу: объединенная группа предприятий в послевоенную эпоху; некоторые кэйрэцу были объединениями филиалов бывших дзайбацу.
Макото: искренность; в китайском конфуцианстве искренность считалась основной добродетелью, которая должна управлять отношениями между индивидуумами; в японской синтоистской традиции макото обросло своим набором нюансов, обозначая то, что является правдивым, подлинным, чистым и честным.
Мацуката Масаёси (1835–1924): самурай из домена Сацума, Мацуката в 60-е гг. участвовал в антисёгунатском движении; после 1868 г. стал руководителем префектуры; позднее работал в правительстве в Эдо, помогал подготовить реформу поземельного налогообложения 1873 г., был министром финансов и два срока находился на посту премьер-министра.
Мацуока Ёсукэ (1880–1946): родившись в префектуре Ямагучи, Мацуока в 1900 г. окончил Школу права Орегонского университета, по возвращении домой поступил на дипломатическую службу; в конце 20-х стал вице-президентом Южноманьчжурской железнодорожной компании, а в 1930-м был избран в парламент, где стал оппонентом проводимой Сидэхара политики кооперативного империализма; в качестве японского посланника в Лиге Наций, он руководил выходом страны из этой организации после Маньчжурского инцидента; с 1937 по 1940 г. был советником кабинета, а с 1940 по 1941-й — министром иностранных дел; в это время он формулировал цели Великой Восточноазиатской сферы совместного процветания, наблюдал за продвижением Японии в Юго-Восточную Азию и осуществил дипломатическое соединение Японии с Германией и Италией; арестован как военный преступник, но был признан слишком больным, чтобы предстать перед судом; умер в июне 1946 г.
МВТП (Министерство внешней торговли и промышленности): созданное в 1949 г. на базе довоенного Министерства коммерции и промышленности (1925–1943; 1945–1949), МВТП должно было способствовать быстрому экономическому росту; в его полномочия входило внедрение новых технологий и непосредственное финансирование и распределение природных ресурсов между особыми отраслями промышленности, многие наблюдатели считали, что чиновники этого министерства весьма эффективно осуществляли индустриальную политику
Минами Дзиро (1874–1955): кадровый офицер. Минами в 1931 г. вошел в кабинет Вакацуки в качестве военного министра; в 1934 г. был назначен на пост командующего Квантунской армией и послом в Маньчжоу-Го, позднее был генерал-губернатором Кореи; обвиненный в совершении военных преступлений, был приговорен к пожизненному заключению.
Министерство внутренних дел: создано в 1873 г. с полномочиями осуществлять импорт технологий и организовывать производство в Японии; позднее стало осуществлять контроль над деятельностью префектурных и местных администраций, полицией и наблюдать за проведением голосований; ликвидировано в 1947 г.
Минобэ Тацукичи (1873–1948): профессор Токийского университета, Минобэ был главным сторонником органической теории управления, согласно которой император был только «органом» большого государства, и другие органы — парламент, бюрократия, кабинет и так далее — располагали своими специфическими прерогативами, закрепленными в конституции; в 30-е гг. представители правого фланга обвинили теорию Минобэ в оскорблении величия, заставили его покинуть свое место в Палате Пэров и запретили его книги; получив ранение во время покушения в 1936 г., Минобэ отошел от публичной деятельности, к которой он вернулся в 1946 г., когда он помогалкабинету составлять послевоенную конституцию.
Миссия Ивакура: посольство, состоявшее из руководителей правительства и студентов, организованное и возглавляемое Ивакура Томоми, которое с 1871 по 1873 г. посещало Соединенные Штаты и страны Европы; пыталось добиться пересмотра неравноправных договоров, а также занималось изучением политических и экономических систем стран Запада.
Наию гайкан: фраза Конфуция, означающая «беды изнутри и снаружи»; обозначала времена хаоса, когда курс национальной истории шел к пункту кардинального поворота.
Нарики: нувориш.
Национальное учение: движение среди ученых, появившееся в XVIII столетии; среди лидеров были Камо но Мабучи и Мотоори Норинага, которые хотели отыскать сущность японской традиции путем анализа древних текстов.
Ниномия Сонтоку (1787–1856): выдающийся специалист в области сельского хозяйства, в ряде доменов проводил мероприятия по улучшению продуктивности сельского хозяйства; Крестьянский Мудрец, как стали называть Ниномия, написал более 30 томов практических и моральных советов, адресованных крестьянам; призывал людей «отдавать долг добродетелью» — то есть упорно трудиться, быть бережливым и помогать другим, в чем заключается способ отплатить богам за их благодеяния; в 30-е гг. он упоминался в школьных учебниках как образец добродетели.
Нитобэ Инадзо (1862–1933): выпускник Сельскохозяйственного училища в Саппоро, Нитобэ продолжил учебу в Германии и Соединенных Штатах, где стал квакером; позже стал профессором колониальной политики в Токийском университете и был заместителем генерального секретаря Лиги Наций; считал себя интернационалистом и противником милитаризма, но при этом был безусловным сторонником политики правительства по отношению к айнам и защитником японской колонизации Кореи.
Нихонбаси: крупнейший торговый район в Эдо; получил свое название от моста, построенного в 1603 г.; здесь находилось начало дороги Токайдо; процветал в качестве коммерческого района в конце XIX и в XX в.
Новые религии: религиозные движения, которые развивались независимо от организованных синтоизма и буддизма, но опирались на прежние религиозные традиции; обещали верующим помощь здесь и сейчас; приобретали популярность среди самых бедных слоев общества; первая волна новых религий, включавшая в себя секты Куродзуми и Тэнри, возникла в начале XIX в., большое количество новых религий были созданы в конце периода Мэйдзи и в эпоху Тайсо.
Огури Тадамаса (1827–1868): высокопоставленный чиновник сёгуната и член посольства 1860 г. в Соединенные Штаты; руководил военной и экономической реформами сёгуната, проведенными в 1864 и 1868 гг., выступал за наказание мятежных доменов; единственный чиновник сёгуната, казненный после реставрации.
Окубо Тосимичи (1830–1878): самурай из домена Сацума, который участвовал в антисёгунатском движении 60-х гг.; после 1868 г., как ведущий олигарх, он был главным архитектором реформы поземельного налогообложения 1873 г. и способствовал развитию индустриализации; командовал войсками, помогавшими ликвидировать мятеж Сайго Такамори, и был убит сторонником Сайго в 1878 г.
Окума Сигэнобу (1838–1922): самурай из домена Мидзэн, Окума в 1868 г. присоединился к правительству Мэйдзи и помогал создавать современную денежную систему и монетный двор; в 1882 г. создал политическую партию Кайсинто, и в 1898 г. стал первым главой политической партии, ставшим премьер-министром; в 1882 г. основал школу, которая впоследствии превратилась в университет Васеда.
Острова Рюкю: архипелаг к северу от Кюсю, самым крупным островом которого является Окинава; на протяжении раннего этапа Нового времени одновременно являлись самостоятельным королевством, государством-данником Китая и находились в зависимости от домена Сацума; правительство Мэйдзи заявило о своем суверенитете над островами и в 1879 г. включило его в состав Японии в виде префектуры Окинава.
Парк Хибийя: открыт в 1903 г. на месте бывших резиденций даймё; быстро превратился в «общественное место», где в сентябре 1905 г. собрались демонстранты, чтобы выразить свой протест против Портсмутского мирного договора; позднее семьи среднего класса избрали его местом для воскресного отдыха, а в конце 30-х — первой половине 40-х правительство проводило здесь митинги в поддержку войны в Китае и на Тихом океане.
Пилоты-камикадзе: молодые добровольцы, которые пытались защитить Японию на завершающих этапах Великой Восточноазиатской войны, направляя свои самолеты на американские корабли.
Регион Кансаи: Западная Япония; традиционно, территория вокруг Киото и Осаки, включавшая провинции Оми, Ямасиро, Танба, Танго, Идзуми, Кавачи, Ямато, Кии, Исэ, Ига, Тадзима, Сэтцу, Харима и Авадзи.
Регион Канто: Восточная Япония; традиционно так обозначались семь провинций: Хитачи, Симоцукэ, Кодзукэ, Мусаси, Симоса, Кадзуса и Ава; иногда к ним добавлялась Сагами, образовывая Восемь провинций Канто.
Регион Кинаи: территория, расположенная непосредственно вокруг Киото; традиционно в него включают пять так называемых Столичных провинций: Ямато, Ямасиро, Кавачи, Сэтцу и Идзуми.
Реставрация Сёва: лозунг, популярный в среде правых радикалов в начале 30-х гг. XX столетия; отражал потребность молодых людей повторить подвиги сиси. «людей высоких намерений» 60-х гг. XIX в., свергнув коррумпированную политическую и экономическую систему (во главе которой на этот раз стояли партийные политики и капиталисты), расчистив таким образом дорогу к власти мудрым и просвещенным министрам, чтобы они руководили страной от имени императора.
Риесай кэнбо: «хорошая жена, мудрая мать»; термин, появившийся в конце XIX столетия для обозначения социальной модели, которой должны придерживаться женщины в сфере частной жизни, подразумевавший уважение к ней как к моральному оплоту семьи.
Ронин: «Блуждающий человек»; самурай без господина.
Руководства эры Кэйан: изданы сёгунатом в 1649 г.; состояли из 32 статей; в числе прочего предписывали крестьянам упорно работать, быть скромными, самим себя обеспечивать всем необходимым и быть покорными.
Сайго Такамори (1849–1877): самурай из домена Сацума, помогал создавать союз Сацума и Чосю и в 1868 г. вел армию лоялистов в бой против сил сёгуната; ушел из правительства, после того как остальные олигархи отвергли его идею о военной экспедиции в Корею в 1873 г.; в 1877 г. возглавил неудачный мятеж против правительства Мэйдзи.
Сайондзи Кинмочи (1849–1940): потомок аристократического рода из Киото, Сайондзи изучал юриспруденцию, стал близким другом Ито Хиробуми, помог основать Сэйюкай и дважды, между 1906 и 1912 гг., занимал пост премьер-министра; до самой смерти оставался влиятельным гэнрё.
Самурай: воин, в более узком смысле — воин, пользовавшийся привилегией личной преданности своему господину.
Святилище Исэ: общее название ансамбля важных святилищ синтоизма; Внутреннее святилище в Исэ, датируемое, вероятно, III веком н. э., является местом поклонения Аматэрасу Омиками, расположено в префектуре Миэ.
Сёгун: аббревиатура от сеии таи сёгун («Великий полководец, подчиняющий варваров»); с эпохи Средневековья Небесный Владыка поручал сёгуну возглавить бакуфу («шатровое правительство», сёгунат), который обладал военной и полицейской властью и был призван помогать гражданской власти; клан Токугава удерживал этот пост с 1603 по 1868 г. и настолько расширил свою власть, что сёгун превратился в национального гегемона, который управлял страной от имени Небесного Владыки.
Сёгунат: см. Бакуфу.
Сёэн: частные земельные владения, доходы с которых шли аристократам и религиозным учреждениям, владевшим ими; исчезли в XVI столетии, когда даймё укрепили свою власть над сельскими районами.
Сибусава Эиичи (1841–1931): сын зажиточного крестьянина, Сибусава присоединился к правительству Мэйдзи в 1869 г., помогал осуществлять налоговую и денежную реформы и сыграл ключевую роль в создании шелкомотальной фабрики Томиока; в 1873 г. оставил государственную службу и занялся частным бизнесом; основал Первый национальный банк, помог организовать около 300 промышленных и торговых предприятий, придерживался идеала бизнесмена, лишенного эгоизма, единственным желанием которого было способствовать благосостоянию страны.
Сидэхара Кидзуро (1872–1951): уроженец Осаки, Сидэхара окончил Токийский университет, после чего поступил на службу в Министерство иностранных дел и в 1919 г. был назначен послом в Соединенных Штатах; был представителем Японии на Вашингтонской конференции, занимал пост министра иностранных дел в кабинетах Кэнсэйкай-Минсэйто с 1924 по 1927 и с 1929 по 1930 г.; считал, что Японии будет проще отстаивать свои интересы в Азии при условии сотрудничества с другими империалистическими державами в деле поддержания баланса сил в регионе; назначен премьер-министром в октябре 1945; его кабинет принял новую конституцию.
Синто (Shinto): «Путь Богов»; японская религия.
Сиси: радикально настроенные молодые самураи, называвшие себя «людьми высоких намерений», которые поддерживали сонно дзои и прибегавшие к насильственным действиям в конце 50-60-х гг. XIX столетия с целью изгнать из Японии чужестранцев и установить императорское правление.
Система постоянного присутствия (sankin kotai): практика, которая требовала от даймё периодического проживания в Эдо (как правило, через год), а также постоянного проживания в Эдо его законной жены, непосредственных наследников и некоторых вассалов.
Служба колонизации Хоккайдо: создана правительством в 1869 г. для способствования заселению и экономическому развитию Хоккайдо; хотя она достигла весьма скромных результатов, ее деятельность лишила айнов прав на землю; ликвидирована в 1882 г., после крупного скандала, связанного с продажей имущества Службы за номинальную стоимость частным предпринимателям, имевшим связи внутри Службы.
Согласительные конференции: встречи ключевых членов кабинета и представителей военного верховного командования; проводились с конца 1937 г. с целью обсуждения политических проблем.
Солнечная Богиня: см. Аматэрасу Омиками.
Сонно дзои (sonnojoi): «Почитай императора, изгоняй варваров»; лозунг, популярный среди тех, кто желал свергнуть сёгунат в конце 50 — начале 60-х гг. XIX столетия.
Суихэйса (Общество Уравнителей): национальная организация, созданная в 1922 г. группами отверженных, выступавших за равные политические и гражданские права и за улучшение условий жизни.
Сэйюкай: основанная Ито Хиробуми в 1900 г., Сэйюкай стала одной из двух основных политических партий Японии; придерживалась консервативной ориентации и под руководством Танака Гиичи стала ассоциироваться с напористой внешней политикой и антагонизмом по отношению клевому крылу; распущена в 1940 г.
Три Метрополиса: Эдо, Киото и Осака, главные города начала Нового времени.
Тэнно: Божественный Владыка, или император; номинальный глава национального правительства и священный глава религии синто.
Тэракоя: «Храмовая школа»; частная школа в начале Нового времени.
Угаки Кадзусигэ (1868–1956): кадровый офицер, который в 20-е и начале 30-х гг., став героем правых радикалов, в ряде кабинетов занимал пост военного министра; будучи с 1931 по 1936 г. генерал-губернатором Кореи, Угаки способствовал созданию там тяжелой и военной промышленности и безжалостно подавлял сопротивление корейцев японской оккупации их страны; попав под чистку во время американской оккупации, позднее был реабилитирован и в 1953 г. избран в верхнюю палату парламента.
Установления, касающиеся военных домовладений: правила, определявшие поведение даймё и прямых потомков сёгуна; включали в себя ограничения на заключение брака, назначении наследников и строительство замков; введены в 1615 г., впоследствии подвергались периодическим изменениям.
Фукудзава Юкичи (1835–1901): родившись в семье мелкого самурая, Фукудзава изучал голландские и западные науки в Нагасаки, открыл в 1858 г. школу в Эдо (ныне — Токийский университет), самостоятельно выучил английский, трижды в 60-е гг. XIX в. путешествовал по Европе и Америке; будучи выдающимся просветителем и писателем, в 70-80-х гг. XIX в. выступил в роли основного сторонника Цивилизации и Просвещения, а также был самым активным приверженцем западной науки.
Хара Такаси (1856–1921): уроженец Северной Японии, Хара был журналистом, прежде чем в 1882 г. был принят на государственную службу; в 1900 г. помог создать политическую партию Сэйюкай; с 1906 по 1914 г. несколько раз занимал пост министра внутренних дел, при этом способствовал распространению влияния партии; после рисовых бунтов 1918 г. Хара стал первым премьер-министром, являвшимся одновременно депутатом нижней палаты парламента, при этом его партия получила в свои руки большинство министерских постов, а сам он руководил работой парламента.
Хинин: «нелюди»; отверженные, которые занимались актерским ремеслом или собирали подаяния в начале нового периода; сёгунат назначил некоторых из них для выполнения таких задач, как ассистирование при проведении казней и уход за людьми, страдавшими заразными болезнями.
Чонин: употреблялось в различных контекстах для обозначения: 1) торговцев и ремесленников, владевших землей, то есть людей, которые имели право владеть, сдавать в аренду, продавать и передавать в наследство определенные участки земли, и кто платил с них налоги; 2) торговцев и ремесленников в целом; и 3) всех несамураев, проживавших в городе.
Чониндо: «Путь торговца»; кодекс поведения, который определял нормы воззрений и поведения торговцев и ремесленников.
Эдзочи: родина айнов, включавшая в себя Хоккайдо, соседние острова Курильской гряды и Южный Сахалин.
Эмису: народы на севере Хонсю, которые оказывали сопротивление распространению власти Ямата; позднее их называли Эдзо
Эпоха Сэнгоку: период от войны годов Онин (1467–1477) до завершения войн за объединение в конце XVI столетия; в это время Япония была «Страной в войне».
Эта: отверженные, получавшие этот статус по наследству, которые занимались выделкой кож и изготовлением из них снаряжения, которым пользовались самураи в начале Нового времени; жили замкнутыми общинами, зачастую в предместьях замкового города; предпочитали, чтобы их называли кава-та (кожевенники).
Южноманьчжурская железнодорожная компания: создана императорским указом в 1906 г. для обеспечения японских экономических интересов в Южной Маньчжурии; также исполняла функции правительственного агентства, такие как операции с акциями и управление органами гражданской администрации, занимавшиеся юридическими вопросами, безопасностью, образованием и здравоохранением.
Ямагата Аритомо (1838–1922): Самурай низкого ранга из домена Чосю, Ямагата стал активным сторонником идеологии сонно дзои; после реставрации он возглавил работу по созданию армии, комплектующейся на основании всеобщей воинской повинности, вел войска на подавление мятежа Сайго Такамори; играл ключевую роль в создании системы местного управления, осуществлявшемся в конце 80-х гг. XIX в.; дважды занимал пост премьер-министра, во время русско-японской войны возглавлял генеральный штаб и был влиятельным гэнрё.
Ямакава Кикуэ (1890–1980): родившись в Токио, Ямакава стала активисткой женского движения и в 1920 г. создала Общество красной волны, социалистическую женскую организацию; в 1947 г. она стала первой руководительницей Отдела женщин и меньшинств Министерства труда.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Самураи, вооруженные западным огнестрельным оружием в битве при Нагасимо в 1575 г.

Ворота Ёмей в Никко

Гончары Ариты

Магазин «Эчигоя» в Нихонбаси в начале XIX в.

Бригады строителей возводят купеческие дома в Нихонбаси

Переполненный зал в Эдо наблюдает за представлением театра Кабуки

Прибытие португальского корабля в Нагасаки

Ученики в школе теракоя

Популярная в начале Нового времени закусочная Кавасаки Маннэнъя в Эдо

Путешественники на постоялом дворе в Акасака — одной из станции на дороге Токайдо (приблизительно 30-е гг. XIX в.)

Прибытие корейского посольства в Эдо

Басё на тропе, ведущей далеко на север

Сайго Такамори

Фукудзава Юкичи

1860 г. Первая японская дипломатическая миссия в Соединенных Штатах

Чтение Конституции, 1889 г.

Император Мэйдзи в 1872 г.

Сибусава Эиичи

Японские крестьяне высаживают рис

Молодые работницы на предприятии по производству текстиля. Цех был приведен в порядок специально для проведения фотосъемки

Студентки университета, 1907 г.

Нападение буддийских фанатиков на христиан

«Героические» японские солдаты ведут огонь по китайским войскам

Ито Хиробуми и корейский наследный принц, 1907 г.

1890 г., заседание первого японского парламента

Нитобэ Инадзо

Женщина — кондуктор автобуса

Мацуи Сумако

Семья среднего класса в парке Хибийя

Император и императрица едут вдоль новых правительственных зданий в Касумигасэки

Женщина возглавляет колонну бастующих на текстильной фабрике Фудзи, 1925 г.

Трущобы Токио в конце 1920-х гг.

Великое землетрясение Кайто

Мацуока Ёсукэ обращается к членам Лиги Наций, Женева, 1932 г.

Инцидент 26 февраля

Мост Марко Поло близ Пекина

Китайские крестьяне защищают собранный урожай от японцев

Июль 1940 г.: премьер-министр Коноэ (крайний слева) принимает у себя дома министра иностранных дел Мацуока Ёсукэ, министра военно-морского флота Ёсида Дзэнго и военного министра Тодзо Хидэки

Токийский дансинг, закрытый в соответствии с правительственным указом 31 октября 1940 г.

Студентки женского университета, добровольно работающие на фабрике

Девушки провожают пилотов-камикадзе в последний полет

Осака после бомбардировки

Жертвы атомной бомбардировки Хиросимы

Мак Артур и император

Женщины голосуют на парламентских выборах 1946 г.

Американские оккупанты кормят японцев, 1945–1946 гг.

Церемония открытия Олимпийских игр 1964 г.

Тодзо Хидэки на скамье подсудимых

Столкновение между студентами и полицией во время демонстраций протеста против добавлений к американо-японскому Договору о безопасности

Ичикава Фусаэ

Женщина, одетая в монпэ, молотит ячмень, 1946 г.

Китакюсю

Служащие по дороге на работу

Дома представителей среднего класса в пригороде Токио, 1950-е гг.
Фермер сажает рис при помощи механического приспособления, 1974 г.

Жертвы болезни Минамата

Япония и ее соседи

Япония в 1860-е гг.

Северные острова

Китайско-японская война 1894–1895 гг.
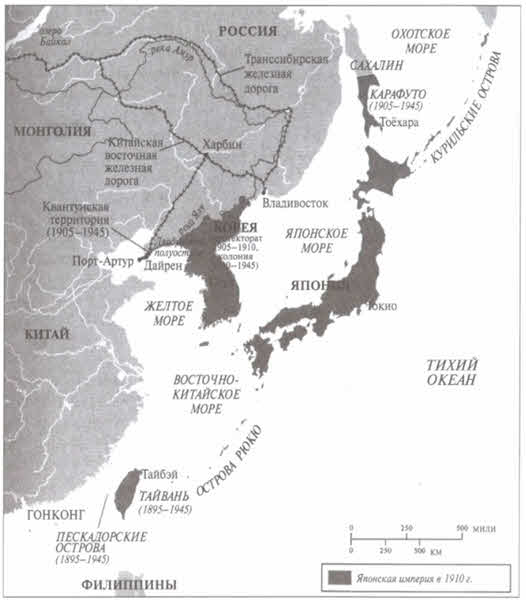
Японская империя в 1910 г.

Война в Китае, 1937–1939 гг.

Восточная Азия весной 1941 г.
INFO
УДК 94(520) ББК 63.3(5Япо) М15
Мак-Клейн, Джеймс Л. М15 Япония. От сегуната Токугавы — в XXI век / Джеймс Л. Мак-Клейн; пер. с англ. Е. А. Красулина. М.: ACT: Астрель, 2011. — 895, [1] с.: ил. ISBN 978-5-17-037223-2 (ООО «Издательство АСТ»)(История) ISBN 978-5-271-14015-0 (ООО «Издательство Астрель»)(История) ISBN 978-5-17-073958-5 (ООО «Издательство АСТ»)(Ист. Библ.) ISBN 978-5-271-35599-8 (ООО «Издательство Астрель»)(Ист. Библ.) ISBN 0-393-04156-5 (англ.)
Подписано в печать 20.05.2011. Формат 84x1081 /32. Усл. печ. л. 47,04. Доп. тираж 1 000 экз. (История). Заказ № 1470. Тираж 2 000 экз. (Ист. библ). Заказ № 1471.
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры
Джеймс Л. Мак-Клейн ЯПОНИЯ. ОТ СЕГУНАТА ТОКУГАВЫ — В XXI ВЕК
Перевод с английского Е. А. Красулина Заведующая редакцией О. В. Сухарева Научный редактор А. В. Красулина Технический редактор Т. П. Тимошина Корректор И. Н. Мокина Компьютерная верстка Е. М. Илюшиной
ООО «Издательство Астрель» 129085, Москва, проезд Ольминского, д. За
ООО «Издательство АСТ» 141100, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96 Наши электронные адреса: www.ast.ru E-mail: astpub@aha.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ООО «Полиграфиздат» 144003, г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна, д. 25
…………………..
Scan by Vitautus & Kali FB2 — mefysto, 2022

Последние комментарии
8 часов 17 минут назад
10 часов 34 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
1 день 6 часов назад
1 день 10 часов назад